С.Г. Кара-Мурза, О.В. Куропаткина, А.А. Вершинин, А.В. Каменский Порочные круги постсоветской России
ПРЕДИСЛОВИЕ КРИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ, К КОТОРЫМ НЕИЗВЕСТНО КАК ПОДОБРАТЬСЯ
Вебер, изучая состояние России в период революции 1905 г., ввел понятие «историческая ловушка» (иногда ее называют «экзистенциальной»). Это система противоречий, принимающая характер порочного круга, когда любое его раскрытие чревато катастрофой и приводит к катастрофе (в частности, революции). Суть «ловушки» в том, что любое решение запускает очень неблагоприятный процесс, результат которого предсказать в принципе невозможно. К проблемам с такой конфигурацией очень трудно подобраться, и их подолгу не решают.
Тогда, сто лет назад, в такую ловушку попала Россия, становясь периферийной страной западного капитализма. Вебер писал о положении царского правительства: «Оно не в состоянии предпринять попытку разрешения какой угодно большой социальной проблемы, не нанося себе при этом смертельный удар».
С другой стороны, парадоксальность положения кадетов (либеральной оппозиции) в России была в том, что хотя они имели успех на выборах и, казалось бы, нашли своего избирателя, это был, по выражению Вебера, «чужой избиратель», а вовсе не реальная социальная база кадетов. Он, по словам Вебера, был чужд им культурно и в дальнейшем политическом развитии постарается от них избавиться с тем, чтобы преследовать собственные интересы и идеалы, которые не имеют ничего общего с основными буржуазно-демократическими концепциями субъективной свободы, индивидуальной собственности и индивидуальных прав человека.
Те проблемы, о которых будет идти речь в наших докладах, представляют собой систему обратных связей, образующих «порочные круги». Любое изменение этой системы вначале вызывает ухудшение положения. Тех бед, которых мы избегаем и которые мы порождаем, вырываясь из ловушки, мы не можем точно взвесить и сравнить — не хватает знания и времени для исследования. Наше образование, в общем, не приучило нас выявлять и тем более чувствовать эти связи, и когда острые общественные проблемы решались с большими издержками, люди видели в этом злой умысел, коррупцию или глупость. Возникали расколы, поскольку каждый считал, что решение проблемы очевидно, но каждый видел по-разному, и договориться было трудно.
При общем дефиците ресурсов разрыв порочных кругов всегда сопряжен с потерями, особенно в моменты кризиса. Запад чаще всего снижает эти издержки за счет ресурсов, изымаемых из «буферных емкостей» периферии, но даже, несмотря на это он не раз впадал в тяжелые кризисы. В позднем СССР многие порочные круги и не пытались разорвать, а лишь «подмораживали», что и кончилось 1991 годом.
Наш первый тезис: Россия снова втягивается в новую «экзистенциальную» ловушку — как перед революциями начала и конца ХХ века. Если первая революция позволила через катастрофу вырваться из ловушки и на 70 лет обеспечить условия для независимого и быстрого развития, то «Великая капиталистическая революция» конца ХХ века оказалась для большинства системообразующих общественных институтов России «революцией регресса». За 25 лет это и создало новые порочные круги, которые к настоящему моменту складываются в историческую ловушку.
Например, чрезвычайной проблемой постсоветской России стала за 1990-е годы дезинтеграция общества («исчезновение социальных акторов»). Это деформировало все общественные процессы и резко затруднило деятельность государства.
В учебнике политологии сказано о функциях государства, как аксиома: «Прежде всего, это функция обеспечения целостности и сохранности того общества, формой которого выступает данное государство».
Об этой задаче у нас раньше не было и речи. Почему же надо прилагать специальные и компетентные усилия для целостности и сохранности общества? Разве оно не воспроизводится благодаря своим сущностным силам?
Да, в обыденных представлениях об обществе думают как о вещи — массивной, подвижной, чувственно воспринимаемой и существующей всегда. Это — наследие механицизма Просвещения, укрепленное в советское время истматом, в котором общество выглядело как взаимодействие масс, организованных в классы. Социальные группы «натурализируются» и наделяются таким же онтологическим статусом, что и «вещи», «субстанции».
Наука, напротив, рассматривает общество как сложную систему, которая не возникает «сама собой». Ее надо конструировать и создавать, непрерывно воспроизводить и обновлять. Распад общностей и утрата ими общественной и политической дееспособности — одно из явлений, ставших кошмаром социологии.
А. Турен, будучи президентом Международной социологической ассоциации, писал: «Можно утверждать, что главной проблемой социологического анализа становится изучение исчезновения социальных акторов, потерявших под собой почву… В последние десятилетия в Европе и других частях света самой влиятельной идеей была смерть субъекта».
Смерть субъекта — это новое состояние социального бытия, мы к этому не готовы ни интеллектуально, ни духовно, а осваивать эту новую реальность должны срочно. Кризис 1990-х годов потряс все элементы и связи общества. Период относительной стабилизации после 2000 года сменился в 2008 году новым обострением.
В условиях дезинтеграции общества, когда система расколов, трещин и линий конфликта является многомерной, требуется новый инструментарий для составления «карты общностей» и диагностики их состояния. Это — условие для разработки программы «сборки» российского общества на обновленной и прочной матрице. Без этого невозможно преодоление кризиса и возрождение государства.
Но широкое обсуждение этой проблемы в среде политиков, обществоведов, интеллигенции и всех ответственных граждан требует предварительно изложить эту проблему в простых понятиях с ясными доводами.
Для таких изложений мы и выбрали жанр докладов. Эти доклады готовят наши сотрудники или небольшие группы их, мы обсуждаем тексты в коллективе и издаем их небольшими брошюрами. Потом, кое-что проверив и поправив, собираем в сборники.
Вашему вниманию и предлагается здесь первый такой сборник. Мы намереваемся публиковать ежегодно по два сборника (около 20 докладов).
КРИЗИС КУЛЬТУРЫ
Введение
Под культурой, в отличие от природы, мы понимаем здесь всю совокупность материальных и духовных произведений, созданных человеком. Общности людей организованы в общество и этносы (народы), они строят и воспроизводят культуру все вместе, как общее дело. Одни предметы культуры (особенно материальные) бывают очень долговечны, другие быстро изнашиваются и заменяются. Многие из творений разума и чувства кажутся вечными (например, традиции, социальные формы или человеческие отношения), но вдруг общество переживает глубокий кризис, и очень быстро изменяется образ жизни больших масс людей.
Культура — большая система, но из контекста обычно понятно, о какой ее части идет речь. Иногда могут назвать культурой именно искусство (литературу, музыку), но при этом не забывают, что и хибарка рыбака, и его сеть, и инспектор рыбнадзора, который запрещает ему использовать это орудие лова — все это культура. Она встроена в природу, во многом подчиняется ей, но и непрерывно изменяет ее.
Тема этого доклада — изменения в культуре, происходящие в ходе кризиса общества, его и материальной, и духовной основы — но в основном именно духовной.
* * *
Во время перестройки и реформы главным объектом воздействия в сфере культуры было культурное ядро советского общества. При достаточной глубине его разрушения терял связность и волю советский народ, а значит, можно было ликвидировать СССР, сменить политическую систему, произвести передел собственности и кардинально перераспределить доходы.
Удар был нанесен столь сильный, что была повреждена культура России в целом, как система — во всех ее элементах и связях. Более того, были запущены механизмы разрушения культуры, которые вошли в режим самовоспроизводства и даже самоускорения. Этот процесс стал угрозой, чреватой перерастанием в национальную катастрофу.
Социолог и культуролог Л.Г. Ионин так писал о последствиях разрушения советской культуры: «Гибель советской моностилистической культуры привела к распаду формировавшегося десятилетиями образа мира, что не могло не повлечь за собой массовую дезориентацию, утрату идентификаций на индивидуальном и групповом уровне, а также на уровне общества в целом. В таких обстоятельствах мир для человека и человек для самого себя перестают быть прозрачными, понятными, знакомыми…
Человек видит, что мир перестает реагировать на его действия адекватным образом. Партнеры по взаимодействиям, которые раньше не представляли проблемы и притекали как бы сами собой, теперь перестают “узнавать” его; самые элементарные и привычные из них не вызывают соответствующей, столь же элементарной и привычной реакции. Человек как бы перестает отражаться в зеркале социального мира. В результате он становится неузнаваемым для самого себя, перестает знать самого себя.
Исчезает будущее, ибо исчезла содержащаяся в культуре и зафиксированная в соответствующих институтах объективная основа его планирования. Исчезает прошлое как развивающаяся система, ибо исчезло будущее как критерий его оценки и интерпретации. Прошлое превращается в неупорядоченный набор событий и фактов, не обладающий собственной внутренней целостностью. Такое разрушение биографий происходит, как правило, у людей, ориентированных на карьеру и стремящихся активно формировать свой жизненный путь. Можно сказать поэтому, что болезненнее всего гибель советской культуры должна была сказаться на наиболее активной части общества, ориентированной на успех в рамках сложившихся институтов, то есть на успех, сопровождающийся общественным признанием. Такого рода успешные биографии в любом обществе являют собой культурные образцы и служат средством культурной и социальной интеграции. И наоборот, разрушение таких биографий ведет к прогрессирующей дезинтеграции общества и массовой деидентификации.
Наименее страдают в этой ситуации либо индивиды с низким уровнем притязаний, либо авантюристы, не обладающие устойчивой долговременной мотивацией… Авантюрист как социальный тип — фигура, характерная и для России настоящего времени» [26].
Кризис культуры — процесс во многом политический. Ведь политика — это прежде всего создание, воспроизводство и сохранение политических и общественных институтов как устойчивых систем общепринятых норм (запретов). Они и связывают людей в общество и в народ (нацию). Все эти нормы — продукт культуры. Вот мысль американского философа К. Лэша: «Ядро любой культуры стоит на ее “запретах” (“глубоко впечатавшихся вето, выгравленных в превосходных и правдивых символах”)» [17, с. 175].
Разрушение советской системы и было разрушением всех ее политических и общественных институтов. Л.Г. Ионин говорит о роли в судьбе культуры события, которое даже не воспринималось как фундаментальное, — удаление из системы власти КПСС. Он пишет: «Само существование КПСС как института — независимо от того, как человек относился к партии, сохранял ли он членство или выходил из нее — играло важную роль в деле осознания индивидом собственной идентичности. Если исходить из того, что марксистская идеология в СССР постепенно превратилась в культуру, можно утверждать, что КПСС в Советском Союзе к концу ее существования превратилась из политического в культурный институт.
Представление о партии и ее роли в мире определяло, наряду со многими прочими вещами, даже структуру социализации индивида. Рост человека от ребенка до взрослого — это его приобщение к ценностям партии. Поэтому существование партии как института было крайне важным с точки зрения сохранения единства и преемственности в биографическом развитии индивидов. Она играла роль идентификационной доминанты. И это совершенно безотносительно ее политико-идеологического смысла, а только в силу ее культурной роли. Поэтому когда завершился этап перестроечного, эволюционного развития и началось систематическое разрушение институтов советского общества, запрет КПСС, бывшей ядром советской институциональной системы, сыграл решающую роль в процессах деидентификации…
В СССР на протяжении многих десятилетий не существовало иной, кроме советской, культурной модели, которая была бы представлена соответствующими институтами и при этом достаточно широко распространена и влиятельна. Поэтому распад советской культуры и соответствующих институтов ставил страну в состояние культурного опустошения» [26].
Строго говоря, перестройка и должна была стать программой, предназначенной подготовить все советские системы и институты к их максимально мягкой трансформации в ходе задуманной реформы. Этого и требовали «консерваторы». Но преобразования, начатые командой Горбачева, были столь радикальными («шоковыми»), что их было бы правильнее называть революционными. В обиход даже вошло иррациональное выражение «реформа посредством слома» — верхушка КПСС взяла курс на радикальное разрушение «отживших» институтов. В 1987 г., когда программа переделки советского государства вступила в решающую стадию, М.С. Горбачев дал определение этой программы: «Перестройка — многозначное, чрезвычайно емкое слово. Но если из многих его возможных синонимов выбрать ключевой, ближе всего выражающий саму его суть, то можно сказать так: перестройка — это революция».
Последствия этой революции для культуры Л.Г. Ионин характеризует следующим образом: «Падение советского режима означало по сути дела тотальный культурный коллапс. Выжить не могло ничего за исключением остатков той же самой советской культуры с характерными именно для нее, а не для предполагаемого нового будущего, интересами. Остается проблематичным, могла ли советская культура обеспечить преемственный переход к новым культурным формам.
Но интересный теоретически, этот вопрос уже не актуален практически» [26].
Рассмотрим ход кризиса, инструменты разрушения и типы повреждений, которые нанесены российской культуре. Подойдем прагматически, видя в культуре систему, необходимую для существования народов России и самой России как страны.
Этапы кризиса
Не будем углубляться в историю и рассматривать латентный период культурного (мировоззренческого) кризиса, начало которого можно отнести к середине 1950-х гг. Рассмотрим его «открытую фазу».
Тяжелый удар по культуре был нанесен в период перестройки, когда официальной стала концепция свободы, автономной от ограничений ответственности. Выступая в 1990 г. в МГУ, член Политбюро ЦК КПСС А.Н. Яковлев поучал: «До сих пор во многих сидит или раб, или маленький городовой, полицмейстер, этакий маленький сталин. Я не знаю, вот вы, молодые ребята, не ловите себя на мысли: думаешь вроде бы демократически, радикально, но вдруг конкретный вопрос — и начинаются внутренние распри. Сразу вторгаются какие-то сторонние морально-психологические факторы, возникают какие-то неуловимые помехи» [20].
Смысл этой декларации в том, что в сознании не должно быть никаких тормозов, на него не должны влиять никакие «морально-психологические факторы». Это — утопия освобождения разума от совести, превращения разума в интеллект. Устранение из сознания запретов нравственности ради того, чтобы «думать демократически, радикально», как раз и ведет к разрушению рациональности, ибо при устранении постулатов этики повисает в пустоте и логика, эта «полиция нравов интеллигенции».
В 1990 г. на круглом столе по проблеме свободы, организованном журналом «Вопросы философии» [21], выступили целый ряд видных интеллектуалов. Доктор юридических наук из Института государства и права АН СССР Л.С. Мамут дал такую трактовку категории свободы: «Свободу уместно рассматривать как такое социальное пространство для жизнедеятельности субъекта, в котором отсутствует внеэкономическое принуждение… Свобода никогда не может перестать быть высшей ценностью для человека. Она неделима. Всякий раз, когда ставится под вопрос та или иная свобода (не о преступниках, естественно, разговор), тем самым ставится под вопрос свобода вообще. Эта истина известна уже давно».
Отбросим предположение, что эта формула скрывает интерес в ослаблении всех форм «внеэкономического принуждения» во время грядущей приватизации и возникновения необъяснимых финансовых состояний. Но, с точки зрения логики, уже первая фраза лишает данное понятие свободы всякого смысла, ибо не существует и не может существовать «социального пространства для жизнедеятельности субъекта, в котором отсутствует внеэкономическое принуждение». Перефразируя Аристотеля, можно сказать, что в таком пространстве могут жить только боги и звери, но, видимо, все же не о них идет речь. Человек возник как общественное существо, обладающее культурой, а культура и есть прежде всего ограничение свободы животного. Рыночная экономика — вообще недавно возникший способ ведения хозяйства, и до него все виды принуждения были внеэкономическими.
Примечательна оговорка, которую вводит юрист, требуя «социального пространства, в котором отсутствует внеэкономическое принуждение» — «не о преступниках, естественно, разговор». Эта оговорка лишает смысла все рассуждение, ибо преступники существуют именно потому, что в пространстве присутствует внеэкономическое принуждение в виде запретов (законов). Человек становится преступником не потому, что совершил невыгодное действие (нарушил норму экономического принуждения). Он преступил закон, за которым стоит неподкупная сила.
Мысль, будто «свобода никогда не может перестать быть высшей ценностью для человека», очевидно неразумна. Мало того, что человечество пережило тысячелетние периоды прямых несвобод типа рабства, и эти несвободы были общепризнанной нормой и образом жизни. И в новейшее время массы людей шли и идут в тюрьму и на каторгу, т. е. жертвуют свободой ради иных ценностей — и благородных, и низменных. Кстати, в те же годы, когда проходили подобные круглые столы, многие поборники свободы любили повторять, что «Россия — тысячелетняя раба», что «в глубине души каждого русского пульсирует ментальность раба» и пр. Почти буквально утверждалось, что в России изначально поселился особый биологический вид нелюдей, внешне напоминающих человека.
Наконец, тезис о том, что «свобода неделима», просто нелеп. В любом обществе в любой исторический момент существует конкретная система неразрывно связанных «свобод и запретов», и система эта очень подвижна. Более того, в истории ХХ в. мы в разных обличьях видели общую закономерность: освобождение неминуемо сопряжено с каким-то новым угнетением. М. Фуко высказал очевидную вещь, которая, начиная с Канта, на все лады обсуждалась множеством философов: «Антиномия права и порядка лежит в основе современной политической рациональности». Свобода (право) и порядок (принуждение) находятся в неразрывной диалектической связи.
Иными словами, свобода — очень широкая категория, которая в реальности представлена динамической системой множества «делимых» свобод, которые в то же время выворачиваются в «несвободы» как само условие существования свобод. И в ходе развития общества как раз то одна, то иная свобода ставятся под вопрос, а затем и подавляются, давая место новым свободам. Сам же Кант, стараясь кратко объяснить суть Просвещения как обретения человечеством совершеннолетия и свободы разума, дал такую формулу: «Повинуйтесь, и Вы сможете рассуждать сколько угодно» [22].
В сознании элитарных интеллектуалов, похоже, произошел откат от Просвещения к безответственному отрочеству в обеих частях формулы — они отвергают повиновение и одновременно отказываются рассуждать.
Уже начало 1990-х гг. показало, как выразилась Алла Латынина, что «вообще стратегия русской демократической интеллигенции потерпела сокрушительное поражение». Это выразилось в ликвидации СССР и последовавшей за ней «грабительской» приватизации земли и промышленности.
Историк и литературный критик, «шестидесятник» и диссидент Ю.Г. Буртин писал в 1992 г.: «Русская интеллигенция, особенно со времен Чернышевского и Писарева, не жила без острого чувства ответственности перед народом, своей неоплатной “задолженностью” людям, по слову Твардовского. И вот когда это чувство, составлявшее ее духовную суть,… ослабло в нас, то мы как бы лишились иммунитета и остались беззащитными перед заразой безнравственности, бессердечия, тщеславия, поверхностности, пустозвонства, политиканства. И пошел мор» [23].
Здесь выражено ощущение самого интеллектуала. Но этот процесс изучен и социологами. Выводы их исследований определенны: интеллигенция — системообразующая для России большая специфическая общность — претерпела дезинтеграцию [24]. Она замещается в России «средним классом», новым социокультурным типом с «полугуманитарным» образованием, приспособленным к функциям офисного работника без жестких профессиональных рамок. Это — массивный неумолимый процесс, который предопределил глубокий кризис культуры, усиленный целенаправленным разрушением того культурно-исторического типа, обозначенного как советский человек.
Здесь мы будем говорить не о воздействии реформы на интеллигенцию в социальном плане, а о распаде системы ее мировоззренческих установок и норм. Перестройка и реформа подорвали ценностную платформу «элиты» интеллигенции, и общность рассыпалась.
О.К. Степанова пишет об этом: «Интеллигенция. В нашей стране названное понятие было “запущено” еще в 70-е годы XIX века популярным в то время писателем П. Боборыкиным. Понятие интеллигенции тогда и некоторое время спустя в России имело совершенно четкую духовно-политическую атрибутику — просоциалистические взгляды. Этот ее признак в начале XX века для многих был еще достаточно очевиден. В межреволюционный период вопрос о судьбе интеллигенции ставился в зависимость от ее отношения к капитализму: критическое — сохраняло ее как общественный феномен, а лояльноапологетическое — уничтожало. А вот сегодня отношение к социальной проблематике практически не упоминается среди возможных критериев принадлежности к интеллигенции» [25].
Пока неясно, может ли сохраниться при таком повороте сам феномен русской интеллигенции. Бердяев считал критерием отнесения к интеллигенции «увлеченность идеями и готовность во имя своих идей на тюрьму, на каторгу, на казнь»; при этом речь шла о таких идеях, где «правда-истина будет соединена с правдой-справедливостью». Если так, то статус интеллигенции сразу теряет та часть образованного слоя, которая в конце 1980-х гг. впала в социал-дарвинизм и отвергла ценность справедливости. А ведь это очень существенная часть, особенно в элитарных группах гуманитарной интеллигенции.
О.К. Степанова продолжает, уже конкретно относясь к интеллигенции периода реформы: «Антитезой “интеллигенции” в контексте оценки взаимоотношения личности и мира идей, в том числе — идей о лучшем социальном устройстве, являлось понятие “мещанство”. Об этом прямо писал П. Милюков: “Интеллигенция безусловно отрицает мещанство; мещанство безусловно исключает интеллигенцию”…
Интеллигенция в России появилась как итог социально-религиозных исканий, как протест против ослабления связи видимой реальности с идеальным миром, который для части людей ощущался как ничуть не меньшая реальность. Она стремилась во что бы то ни стало избежать полного втягивания страны в зону абсолютного господства “золотого тельца”, ведущего к отказу от духовных приоритетов. Под лозунгами социализма, став на сторону большевиков, она создала, в конечном итоге, парадоксальную концепцию противостояния неокрестьянского традиционализма в форме “пролетарского государства” — капиталистическому модернизму» [25].
Посвятив себя «втягиванию страны в зону абсолютного господства золотого тельца», элитарная часть той общности, которую обозначали словом «интеллигенция», совершила радикальный разрыв с этой общностью, что привело к ее дезинтеграции — «трудовая интеллигенция» пока что в новую общность собраться не может.
Более того, «либеральная интеллигенция» в большинстве своем встроилась в новые общности «победителей» — как идеологи, предприниматели, эксперты и управленцы. Они были интеллектуальным авангардом антисоветских сил и имеют право на свою долю трофеев. П. Бурдье писал: «Все заставляет предположить, что в действительности в основе изменений, случившихся недавно в России и других социалистических странах, лежит противостояние между держателями политического капитала в первом, а особенно во втором поколении, и держателями образовательного капитала, технократами и, главным образом, научными работниками или интеллектуалами, которые отчасти сами вышли из семей политической номенклатуры» (см. [14]).
Никакой программы блокирования этого процесса и восстановления поврежденных частей системы «культура» после 2000 г. не выработано — ни в государстве, ни в обществе. Сопротивление распаду носит молекулярный неорганизованный характер, и шансы на его решающий успех невелики. Для успеха требуются программа и организация. Пока что причины кризиса культуры видят только в нехватке денег.
Рассмотрим характер деформации ряда важнейших структур культуры.
Представление о человеке: антропологическая составляющая мировоззрения
Кризис культуры всегда связан с кризисом ее философских оснований. В центре любой национальной культуры — ответ на вопрос «что есть человек?». Вопрос этот корнями уходит в религиозные представления, но прорастает в культуру. На это надстраиваются все частные культурные нормы и запреты.
Человек создан (преображен из животного) миром культуры. Первое дело культуры — заставить и научить нас быть людьми. Дело культуры — дать нам знания, умения и мотивы, чтобы жить в обществе и непрерывно создавать его. Культура дает нам квалификацию — быть членом общества. Она загоняет нас в рамки дисциплины, как при обучении рабочего, врача и пр. Культура вбивает в нас множество табу и запретов, подчиняет цензуре. Культура дает нам знания и умения быть частицей народа, а не соринкой в человеческой пыли. Это сложное обучение и трудное дело.
Тысячу лет культурное ядро России покоилось на идее соборной личности. Человек человеку брат! Конечно, общество усложнялось, эта идея изменялась, но ее главный смысл оставался очень устойчивым. К нам был закрыт вход мальтузианству, отвергающему право на жизнь бедным. И вдруг культурная элита в конце ХХ в. кинулась в социал-дарвинизм, представив людей животными, ведущими внутривидовую борьбу за существование. Конкуренция — это наше все!
Кризис культуры возникает, когда в нее внедряется крупная идея, находящаяся в непримиримом противоречии с другими устоями данной культуры — люди теряют ориентиры, путаются в представлениях о Добре и Зле. И вот, авторитетные деятели культуры России стали убеждать общество, что «человек человеку волк», а элита гуманитарной интеллигенции — прямо проповедовать социальный расизм. От того, что у нас наговорили, и кальвинисты остолбенеют.
Внедрение в массовое сознание антропологической модели социал-дарвинизма велось как специальная программа. Целью ее и было вытеснение из мировоззренческой матрицы народа прежнего, идущего от православия и стихийного общинного коммунизма представления о человеке.
В разных вариациях во множестве сообщений давались клише из Ницше, Спенсера, Мальтуса такого типа: «Бедность бездарных, несчастья, обрушивающиеся на неблагоразумных, голод, изнуряющий бездельников, и то, что сильные оттесняют слабых, оставляя многих “на мели и в нищете” — все это воля мудрого и всеблагого провидения».
Очень популярен среди интеллигенции был Н.М. Амосов (в рейтинге он шел третьим после Сахарова и Солженицына). Он так излагал своё кредо: «Человек есть стадное животное с развитым разумом, способным к творчеству… За коллектив и равенство стоит слабое большинство людской популяции. За личность и свободу — ее сильное меньшинство. Но прогресс общества определяют сильные, эксплуатирующие слабых» [1].1
В прессе же самым обычным делом стали заявления совершенно в духе тяжелого социал-дарвинизма. Тогда (в 1988 г.) многих удивило высказывание одного из первых крупных бизнесменов Л. Вайнберга (владелец фирмы «Интерквадро», кажется, по продаже компьютеров): «Биологическая наука дала нам очень необычную цифpу: в каждой биологической популяции есть четыре пpоцента активных особей. У зайцев, у медведей. У людей. На Западе эти четыре процента — предприниматели, которые дают работу и кормят всех остальных. У нас такие особи тоже всегда были, есть и будут».
Кстати, это было напечатано в газете 1 мая, в День солидарности трудящихся. Но это еще было похоже на шутку. Зайцы, медведи, четыре процента…
Этот поворот был предопределен историческим выбором 1980-х гг., сделанным частью номенклатуры в союзе с частью элитарной интеллигенции. Проект имитации общественных институтов Запада и отказ от цивилизационной траектории России требовали принять и западную антропологическую модель, которая лежит в основании идеологии буржуазного общества.
Пережив Средневековье, Возрождение и Просвещение, западная культура прониклась «духом капитализма». Здесь вспомнили и модернизировали римскую формулу: «Человек человеку волк». На языке науки человек был назван индивидом. Мы тоже привыкли к этому слову и забыли, что оно означает. Ин-дивид — это перевод на латынь греческого слова а-том, что означает неделимый.
Смысл «атомизации» человека был в разрыве всех общинных связей. Индивид, как идеальный атом, свободен, самодостаточен и находится в постоянном движении. Модель индивида в отношениях с другими людьми разработал Гоббс. Природное состояние людей-атомов — «война всех против всех». У цивилизованного человека, который живет в правовом государстве, эта война принимает форму конкуренции. Атомы равны друг другу, но вот в каком смысле: «Равными являются те, кто в состоянии нанести друг другу одинаковый ущерб во взаимной борьбе».2
В русской культуре сложилось иное представление. Человек — не индивид, а личность, включенная в Космос и в братство всех людей. Она не отчуждена ни от людей, ни от природы. Личность соединена с миром — общиной в разных ее ипостасях, народом как собором всех ипостасей общины, всемирным братством людей.
Тут — главное различие культур Запада и России, остальные различия надстраиваются на это. На одной стороне — человек как идеальный атом, индивид, на другой — человек как член большой семьи. Понятно, что массы людей со столь разными установками должны связываться в народы посредством разных механизмов.
Например, русских сильно связывает друг с другом ощущение родства, за которым стоит идея православного религиозного братства и тысячелетний опыт крестьянской общины. Англичане, прошедшие через огонь Реформации и раскрестьянивания, связываются уважением прав другого. Оба эти механизма дееспособны, с обоими надо уметь обращаться.
Представление о человеке как о хищном животном на Западе то скрывалось, то выходило наружу. Ф. Ницше писал в книге «По ту сторону добра и зла»: «Сама жизнь по существу своему есть присваивание, нанесение вреда, преодолевание чуждого и более слабого, угнетение, суровость, насильственное навязывание собственных форм, аннексия и, по меньшей мере, по мягкой мере, эксплуатация».
Так дошли до идеи высших и низших рас, а потом до «человекобожия» — культа сверхчеловека. Идеолог фашизма Розенберг уже писал: «Не жертвенный агнец иудейских пророчеств, не распятый есть теперь действительный идеал, который светит нам из Евангелий. А если он не может светить, то и Евангелия умерли… Теперь пробуждается новая вера: миф крови, вера вместе с кровью защищает и божественное существо человека. Вера, воплощенная в яснейшее знание, что северная кровь представляет собою то таинство, которое заменило и преодолело древние таинства. Старая вера церквей: какова вера, таков и человек; северноевропейское же сознание: каков человек, такова и вера» (см. [4]).
В споре с этими взглядами вырабатывалась православными философами в первой половине ХХ в. «русская модель» человека как соборной личности. Она была принята за основу и советской антропологией (в других терминах). Когда во время перестройки начали со всех трибун проклинать якобы «рабскую» душу русских и требовать от них стать «свободными индивидами», это в действительности было требованием отказаться от своей культурной идентичности. Под давлением соблазнов и новой идеологии часть русских, особенно молодежи, пыталась изжить традиционное представление о человеке. Результатом становилось разрыхление связей русского народа (и даже появление прослойки людей, порвавших с нормами русского общежития — изгоев и отщепенцев).
Культура — это и есть те силы, что собирают народ. Представления о добре и зле, о человеке и его правах, о богатстве и бедности, о справедливости и угнетении — часть национальной культуры. Из этих представлений выводятся и принятые в нашей культуре нравственные нормы, ими же питается и искусство. Попытка смены смысла в ответе на главный вопрос культуры ставит под угрозу все остальные части культуры.
Красноречивый пример — изъятие из культурного ядра общества, всего за три года пропаганды, важного представления о праве человека на труд. Полная занятость в СССР была бесспорным и фундаментальным социальным благом, (в 1994 г. не были производительно заняты примерно 30% рабочей силы планеты). Отсутствие безработицы стало колоссальным прорывом к благополучию и свободе трудящегося человека. Это было достижение исторического масштаба, поднимающее достоинство человека.
Безработица в России считалась злом, это было одним из важных устоев нашей культуры. Утрата работы является для человека ударом, тяжесть которого совершенно не выражается в экономических измерениях — так же, как ограбление и изнасилование не измеряется стоимостью утраченных часов и сережек. Превратившись в безработного, человек испытывает религиозный страх — будь он хоть трижды атеист. Христианский завет вошел в наше подсознание с культурой, и слово тунеядец наполнено глубоким смыслом. Очевидно, что этого не поправить и пособиями по безработице: пособие облегчает экономическое положение, но статус отверженного не только не отменяет, а скорее подчеркивает.
В России, даже когда она в конце XIX в. разъедалась западным капитализмом, сохранялось христианское отношение к безработице. Многие крупные предприниматели (особенно из старообрядцев), даже разоряясь, не шли на увольнение работников — продавали свои имения и дома. Сильный отклик имели статьи Льва Толстого, его отвращение к тем, кто в голодные годы «не дает работы, чтобы она подешевела».
Но во время перестройки ее идеологи начали открыто говорить о благодати безработицы. Они подменили суть проблемы ее убогим суррогатом. Труд и безработица были представлены как сугубо экономические категории, так что предложение создать в советском народном хозяйстве безработицу подавалось как обычное социально-инженерное решение, не затрагивающее никаких основ нашего бытия. В действительности, труд и отлучение от труда (безработица) — проблема не экономическая и даже не социальная, а экзистенциальная. Иными словами, это — фундаментальная проблема бытия человека. Разумеется, она имеет и экономический аспект, как почти все проблемы нашего бытия, но эта сторона дела носит подчиненный, второстепенный характер.
Отказ от полной занятости увязывался исключительно с экономической эффективностью (суть которой, впрочем, никак не объяснялась). Работники, которые должны были отведать кнута безработицы, были представлены в понятиях пещерного социал-дарвинизма.
Н.П. Шмелев (экономист, работник ЦК КПСС, позже — депутат Верховного совета СССР, ныне академик РАН) писал в 1987 г.: «Не будем закрывать глаза и на экономический вред от нашей паразитической уверенности в гарантированной работе. То, что разболтанностью, пьянством, бракодельством мы во многом обязаны чрезмерно полной(!) занятости, сегодня, кажется, ясно всем. Надо бесстрашно и по-деловому обсудить, что нам может дать сравнительно небольшая резервная армия труда, не оставляемая, конечно, государством полностью на произвол судьбы… Реальная опасность потерять работу, перейти на временное пособие или быть обязанным трудиться там, куда пошлют, — очень неплохое лекарство от лени, пьянства, безответственности» [36].
С 1988 г. такие рассуждения заполонили прессу. Непрерывное повторение — на разные лады — этих рассуждений в конце концов разрушило этот элемент нашей культуры, деформировало массовое сознание. Социальный кризис соединился с культурным.
Растет или затухает угроза деградации культуры, инициированная изменением представлений о том, «что такое человек»? Видимо, динамика неблагоприятна, и нынешнее неустойчивое равновесие обманчиво. Тут наше национальное сознание дало сбой: общество не смогло ни понять угрозы, ни организоваться для защиты и укрепления важнейшего культурного устоя, посчитав, что такие вещи в усилиях по их сохранению не нуждаются.
Вопреки разуму и совести большинства, с нынешнего распутья идет сдвиг к эгоцентризму (к человеку-«атому»). Этот дрейф к утопии «Запада» как устоявшегося порядка начался в интеллигенции. Он не был понят и даже был усугублен попыткой «стариков» подавить его негодными средствами. В 1980-е гг. этот сдвиг уже шел под давлением идеологической машины КПСС. Если на нынешнее неустойчивое равновесие не воздействовать целенаправленно и умело, сдвиг продолжится в сторону распада русского и других народов России. Вопрос в том, есть ли силы, способные остановить его, пока дрейф не станет лавинообразным. Пока что культура нынешней России находится в отступлении.
Школа уже наполнена учебными пособиями, составленными на базе новой антропологической модели. Михаил Шатурин, преподающий в Канаде, пишет: «Прошлой зимой был в России и внимательно сравнил “Родную Речь” прошлого года со старой советской. Был очень удивлен, увидев, что современная — гораздо хуже, хоть составлена из кусочков несомненно ЛУЧШЕЙ литературы. Все просто: в былые времена были идеологические цели, ради них детям читали и грустные, и страшные истории (тема — “Жизнь детей до Революции”). Сейчас говорят, что идеология упразднена, огорчать детей больше незачем (“…зрелищем смерти, печали // Детское сердце грешно возмущать”, как говорил генерал у Некрасова). И вот из разных (и впрямь замечательных!) авторов надергали кусочков, которые вместе должны составить мир без горя и слез. Изо всей русской(!) литературы ухитрились извлечь только один мотив — безмятежность.
Сравнение этих двух хрестоматий в селе Поперечном Кемеровской области показывает, что у половины местных ребятишек родители пьют по-черному. Далеко не все приходят в школу сытые. Одному местному мужику прошлым годом понадобилось поехать забрать своего ребенка из Иркутска, а денег на дорогу (больше 2-х тысяч) у него, понятно, не было. Взаймы тоже никто не дал: в совхозе живых денег уже давно не видели. Ну, он покрутился-покрутился и повесился (а может и по пьяному делу, кто ж разбирать станет!). И вот этим-то детям предписано читать стихи и истории из “одного счастливого детства”. Какой же ложью должно им после этого показаться всякое искусство! Получается, что русской литературе до них тоже нет дела — если ты нищ и слаб, ты не нужен никому, даже Некрасову с Тургеневым. И вообще, надо стремиться к положительным эмоциям, где только можно извлекать все тот же “fun”. Наверное, это и есть новая идеология» [30].
Такую же безоблачную картину создают учебники обществоведения в старших классах. Они направляют социализацию юношей по ложному пути, воспитывают из них не граждан, а манипулируемого «человека массы». А что же в реальности?
Вот пример из практики аграрной реформы в богатейшем Краснодарском крае. Случай «мягкий», но красноречивый. Бывший председатель колхоза кубанской станицы Раздольная, на базе которого создан холдинг и руководителем которого он стал, рассуждает (в 2002 г.): «На всех землях нашего АО (все земли составляют примерно 12 800 га) в конце концов останется только несколько хозяев. У каждого такого хозяина будет примерно полторы тысячи га земли в частной собственности. Государство и местные чиновники должны обеспечить нам возникновение, сохранность и неприкосновенность нашего порядка, чтобы какие-нибудь… не затеяли все по-своему… Конечно, то, что мы делаем — скупаем у них пай кубанского чернозема в 4,5 гектара за две ($70) и даже за три тысячи рублей ($100) — нечестно. Это мы за бесценок скупаем. Но ведь они не понимают. Порядок нам нужен — наш порядок» [31].
Своим бывшим колхозникам он на собрании откровенно объяснил суть этого порядка: «Будет прусский путь! А вы знаете, что такое прусский путь?.. Да это очень просто: это я буду помещиком, а вы все будете мои холопы!» Такова культура нового помещика, «справного хозяина».
А вот что пишет (в 2010 г.) Лев Любимов, заместитель научного руководителя Государственного университета Высшей школы экономики — «мозгового центра», главного разработчика программ реформирования важнейших экономических и социальных систем РФ: «У нас все сильно не в порядке с сельской местностью. Эти местности — а их число несметно в Центральной России — дают в российский ВВП ноль, но потребляют из него немало. А главное — они отравляют жизнь десяткам миллионов добропорядочных россиян. Вдобавок эти местности — один из сильнейших источников социального загрязнения нашего общества.
Создавать в таких местностях рабочие места накладно и бесполезно — эти самобезработные, как уже говорилось, работать не будут “принципиально”. А принудительный труд осужден на уровне и международного, и национального права. Что же делать? Или мы вновь в культурной ловушке, из которой выхода нет?
Одно делать нужно немедленно — изымать детей из семей этих “безработных” и растить их в интернатах (которые, конечно, нужно построить), чтобы сформировать у них навыки цивилизованной жизни, дать общее образование и втолкнуть в какой-то уровень профессионального образования. То есть их надо из этой среды извлекать. А в саму среду всеми силами заманивать, внедрять нормальные семьи (отставников, иммигрантов и т. д.), создавая очаги культурной социальной структуры» [32].
Это уже такой разрыв культуры, какой, по мнению Питирима Сорокина, потенциально ведет к гражданской войне!
Вот факт из истории науки. В России дарвинизм был быстро воспринят как биологами, так и широкой культурной средой. Но идеологические воззрения этой среды в 60-70-х гг. XIX в. были несовместимы с мальтузианской компонентой дарвинизма. Произошла адаптация дарвинизма к русской культурной среде (в США об этом эпизоде в истории науки даже вышла книга «Дарвин без Мальтуса»), так что концепция межвидовой борьбы за существование была потеснена теорией межвидовой взаимопомощи (Кропоткина). Социал-дарвинизм и его идеологические продукты были так противны — не то что разуму, а даже чувству российской интеллигенции, — что о нем даже не спорили и не говорили. И вдруг, в России на пороге XXI в., под знаменем демократии — такой выброс социал-дарвинизма и социального расизма! Запад пережил его сто лет назад, теперь это там — неприличный предрассудок, а мы угодили в этот зоопарк.
От социал-дарвинизма — к идее постчеловека
Опасный нарыв вырос в одном из течений российской гуманитарной интеллигенции. Представители этого течения активны в медийном пространстве и заслуживают внимания. Их идея — постиндустриализм, для прорыва в который якобы требуется «революция интеллектуалов». Они мечтают о выведении не просто новой породы людей («сверхчеловек» — это для них уже мелко), а нового биологического вида, который даже не сможет давать с людьми потомства. Этот вид и возникнет в ходе «революции интеллектуалов», подобно тому как мессианский «класс-для-себя» должен был возникнуть в ходе пролетарской революции в странах цивилизованного Запада.
Информационное агентство «Росбалт» учредило что-то вроде школы Лонжюмо и осуществляют в Петербургском университете проект «Мировые интеллектуалы в Петербурге», в рамках которого с докладами выступают «признанные мировые интеллектуалы и лидеры влияния».
Доктор философских наук А.М. Буровский ведет там такие речи (2008): «Неандерталец развивался менее эффективно, он был вытеснен и уничтожен. Вероятно, в наше время мы переживаем точно такую же эпоху. “Цивилизованные” людены все дальше от остального человечества — даже анатомически, а тем более физиологически и психологически… Различия накапливаются, мы все меньше видим равных себе в генетически неполноценных сородичах или в людях с периферии цивилизации. Вероятно, так же и эректус был агрессивен к австралопитеку, не способному овладеть членораздельной речью. А сапиенс убивал и ел эректусов, не понимавших искусства, промысловой магии и сложных форм культуры».
Это говорит в XXI в. с кафедры Петербургского университета — цитадели русской культуры — профессор двух вузов! Читаем далее рассуждения Буровского об «интеллектуалах-люденах» и обычных людях: «Молодые люди из этих слоев вряд ли будут способны соединиться — даже на чисто биологическом уровне. Малограмотный пролетариат малопривлекателен для люденов. И для мужчин, и для женщин. Мы просто не видим в них самцов и самок, они нам с этой точки зрения не интересны. Иногда мужчине-людену даже не понятно, что самка человека с ним кокетничает. А если даже он понимает, что она делает, его “не заводит”. Поведение текущей суки или кошки вполне “читаемо” для человека, но совершенно не воспринимается как сигнал — принять участие в игре. Я не раз наблюдал, как интеллигентные мальчики в экспедициях прилагали большие усилия, чтобы соблазнить самку местных пролетариев» [9].
Все эти «лидеры влияния», которые соединились в проект «Постчеловечество», уже переносят его в плоскость политических и экономических программ. Под этот проект подводится философская база со ссылкой на Маркса и классовый подход. Такой строгий научный колорит придает этой секте В. Иноземцев (тогда главный редактор журнала «Свободная мысль»).
В телепередаче А. Гордона на НТВ в 2003 г. он кратко излагает эту концепцию так:
«Среди социальных групп особое значение приобретает группа, названная российскими учеными классом интеллектуалов. С каждым новым этапом технологической революции “класс интеллектуалов” обретает все большую власть и перераспределяет в свою пользу все большую часть общественного богатства.
В новой хозяйственной системе процесс самовозрастания стоимости информационных благ в значительной мере оторван от материального производства. В результате “класс интеллектуалов” оказывается зависимым от всех других слоев общества в гораздо меньшей степени, чем господствующие классы феодального или буржуазного обществ были зависимы от эксплуатировавшихся ими крестьян или пролетариев.
По мере того как класс интеллектуалов становится одной из наиболее обеспеченных в материальном отношении социальных групп современного общества, он все более замыкается в собственных пределах. Высокие доходы его представителей и фактическое отождествление “класса интеллектуалов” с верхушкой современного общества имеют своим следствием то, что выходцы из таких семей с детства усваивают постматериалистические ценности, базирующиеся на уже достигнутом уровне благосостояния.
Именно поэтому мы говорим не об интеллигенции, а об особом классе, занимающем доминирующие позиции в постиндустриальном обществе, о классе, интересы которого отличны от интересов иных социальных групп.
С возникновением “класса интеллектуалов” двигателем социального прогресса становятся нематериалистические цели, и та часть социума (его большинство!), которая не способна их усвоить, объективно теряет свою значимость в общественной жизни более, нежели любой иной класс в аграрном или индустриальном обществах. [Это] предполагает формирование нового принципа социальной стратификации, гораздо более жесткой по сравнению со всеми, известными истории.
Впервые в истории условием принадлежности к господствующему классу становится не право распоряжаться благом, а способность им воспользоваться, и последствия этой перемены с каждым годом выглядят все более очевидными» [10].
Это — идея сверхчеловека, несравненно более тупая и низкая, чем у Ницше. Но как научно изложена!
Вот главная статья В. Иноземцева в книге «Постчеловечество» (2007). Она называется «On modern inequality. Социобиологическая природа противоречий ХХI века». Иноземцев пишет: «Государству следует обеспечить все условия для ускорения “революции интеллектуалов” и в случае возникновения конфликтных ситуаций, порождаемых социальными движениями “низов”, быть готовым не столько к уступкам, сколько к жесткому следованию избранным курсом» [11].
Футурологические дебаты крутятся вокруг идеи создания с помощью биотехнологии и информатики постчеловека. При этом сразу встает вопрос: а как видится в этих проектах судьба просто человека, не профессора и даже не редактора? В рассуждениях применяются три сходных парных метафоры. В жестких тезисах виды «постчеловек» и «человек» представлены как «кроманьонцы и неандертальцы» (из учебника палеоантропологии). Помягче — это «элои и морлоки» (из фантазий Уэллса), совсем мягко — «людены и люди» (из фантазий братьев Стругацких). А по сути различия не слишком велики. В общем — интеллектуалы и люди.
Вот рассуждение А.М. Столярова, писателя-интеллектуала, лауреата множества премий (2008): «Современное образование становится достаточно дорогим… В результате только высшие имущественные группы, только семьи, обладающие высоким и очень высоким доходом, могут предоставить своим детям соответствующую подготовку. Воспользоваться [новыми лекарствами] сможет лишь тот класс людей, который принадлежит к мировой элите. А это в свою очередь означает, что “когнитивное расслоение” будет закреплено не только социально, но и биологически, в предельном случае разделив все человечество на две самостоятельные расы: расу “генетически богатую”, представляющую собой сообщество “управляющих миром”, и расу “генетически бедную”, обеспечивающую в основном добычу сырья и промышленное производство.
Очевидно, что с развитием данной тенденции “когнитивное расслоение” только усилится: первый максимум устремится влево — к значениям, характерным для медицинского идиотизма, что мы уже наблюдаем, в то время как второй, вероятно, все более уплотняясь, уйдет в область гениальности или даже дальше…
Современные “морлоки” с их интеллектом кретина будут неспособны на какой-либо внятный протест. Равным образом они постепенно потеряют умение выполнять хоть сколько-нибудь квалифицированную работу, и потому их способность к индустриальному производству вызывает сомнения» [12].
Эти рассуждения исходят не из маргинального кружка, а элитарной общности, принадлежащей к российскому «креативному классу», на который реформаторы возлагают большие надежды. Но этот демарш идеологов «класса интеллектуалов» показал, в каком плохом состоянии находятся наше общество, культура и государство.
Пройдем по некоторым другим сферам культуры, которые подвергаются деформации на наших глазах.
Ложь как коррупция культуры
Реформа привела к важному провалу в культуре, о котором не принято говорить. Он из тех, которые тянут на дно, как камень на шее — пока не сбросишь, не выплывешь. Речь о том, что элита присвоила себе право на ложь. Общество, где утверждено такое право, слепо. Оно не видит реальности, и с каждой ложью в нем слепнут и поводыри. Ложь элиты скрывает ее отход от ценностей, которым следует большинство. Под прикрытием лжи нарастает разность потенциалов на ценностных полюсах общества, и в пределе это ведет к гражданской войне того или иного рода.
Есть преуспевающие «пиратские страны», стоящие на принципе «Не в правде Бог, а в силе». В век Просвещения этот принцип был прикрыт ложью, ушел в молчание круговой поруки — ложь была направлена вовне, а не против своей же нации. У нас произошел другой поворот — элита стала лгать именно «своему» народу.
Стратегия реформ изначально строилась на лжи. Сейчас уже невозможно делать вид, что «мы не знали». Уход от рефлексии загоняет болезнь все глубже, ложь формирует особый тип рациональности. Обман стал социальной нормой реформаторской элиты России — вот главное.
Перестройка шла под лозунгом «Больше социализма, больше справедливости!» — а наши интеллектуалы зачитывались фон Хайеком. Но едва ли не во всех своих трудах он в разных выражениях предупреждал, что рыночная экономика несовместима с социальной справедливостью. О.Т. Богомолов напоминает о таком его постулате: «Имеет ли какой бы то ни было смысл понятие социальной справедливости в экономической системе, основанной на свободном рынке? Категорически нет» [38].
Знали — и обманывали! Ну как с такой интеллектуальной элитой может не впасть в кризис страна? Эти интеллектуалы, выведенные на авансцену, передают обществу расщепление своего сознания. Мы уж не говорим о тех циничных представителях номенклатуры, которые после 1991 г. пустились во все тяжкие, занялись коррупцией и глумятся над доверчивыми людьми.
Конечно, служение интеллектуала власти — одна из сложнейших проблем философии. Ведь интеллектуалу при осмыслении вариантов политических решений приходится постоянно находить баланс между несоизмеримыми ценностями. Де Токвиль писал: «Мой вкус подсказывает мне: люби свободу, а инстинкт советует: люби равенство». Отсюда и переживания.
Но ведь в «культуре перестройки» и представление о свободе было деформировано ложью! Свобода представляет собой вовсе не гармоничный набор благ, а систему конкурирующих между собой и даже несоизмеримых свобод. Есть ситуации, в которых «не существует пристойного, честного и адекватного решения», и это не зависит от воли или наклонностей [13]. Может ли политик пожертвовать адекватностью решения? Да, если он в этом конфликте выше адекватности поставит свою репутацию «пристойного, честного» человека. Но будет ли это честным? Эти драматические ситуации — реальность.
Но эти ситуации не были обдуманы ни в обществе, ни даже в российской философии. В результате большая часть гуманитарной интеллигенции стала осознавать себя как двуличную, а затем и приняла двуличие и обман как норму. Очень многие впали и в цинизм.
Какую роль сыграл этот обман, вошедший в норму? Приняв логику обмана, элита отошла от рациональности. Позже стало возможным игнорировать фактическую информацию, в том числе количественную. Общество утратило инструменты для познания реальности. Лжец теряет контроль над собой, как клептоман, ворующий у себя дома. Речь идет о сдвиге в мировоззрении, подрыве жизнеспособности нашей культуры. Это произошло в самой доктрине реформ и за эти годы стало элементом «культурного ядра» общества. Это программа-вирус нашего сознания.
Мягкий вариант лжи — умолчание, но оно часто наносит вред больший, чем прямой обман. Вот, 16 ноября 1999 г. по всем каналам телевидения прошел сенсационный репортаж: в Российскую академию наук вернулся подлинник рукописи романа М. Шолохова «Тихий Дон». Взахлеб говорилось о том, как подло травили Шолохова «в советские времена», утверждая, что будто не он автор романа. Это говорилось так, будто Шолохова подло травили фигуры вроде Жданова, Суслова, Андропова — в общем, «большевики». Ни разу не было даже упомянуто имя самого авторитетного организатора этой кампании 1970-х гг. — А.И. Солженицына. Не было сказано и о том, что эта кампания носила политический, антисоветский характер (мол, СССР дал миру одного крупного писателя, да и тот — плагиатор). Понятно, что Солженицыну было невмоготу выйти к микрофону и как-то объясниться. Но зачем было превращать окончательное установление авторства Шолохова в антисоветскую акцию — почти так же, как антисоветской акцией были и обвинения в плагиате.
Свидетельством большого и резкого изменения в культуре стал тот факт, что в идеологическую борьбу активно включились ученые, обладающие «удостоверением» разумного беспристрастного человека (иногда завоевавшего доверие и своей профессиональной работой). Это подрывало систему престижа, важную опору культуры. Поток ложных утверждений заполнил все уголки массового сознания и создавал ложную картину буквально всех сфер бытия России. Наше общество просто контужено массированной ложью.
Тяжелый удар по культуре нанесла ложь, которой был пропитан весь идеологический дискурс перестройки, представляющий ее переходом к демократии и правовому государству. Для тех, кто лично общался с этими идеологами и читал их тексты, эта ложь стала очевидной уже в 1989-1990 гг., но основная масса населения искренне верила в лозунги и обещания — общество действительно доросло до общей потребности в демократии. И стоило ликвидировать СССР и его политический порядок, как те же идеологи стали издеваться над обманутым населением с удивительной глумливостью.
А.С. Панарин говорит о катастрофических изменениях в жизнеустройстве и добавляет: «Но сказанного все же слишком мало для того, чтобы передать реальную атмосферу нашей общественной жизни. Она характеризуется чудовищной инверсией: все то, что должно было бы существовать нелегально, скрывать свои постыдные и преступные практики, все чаще демонстративно занимает сцену, обретает форму “господствующего дискурса” и господствующей моды» [15].
Язык — фундаментальный элемент культуры
В языке записываются, воспроизводятся и развиваются все смыслы мировоззрения. Как говорят, «человек видит и слышит лишь то, к чему его сделал чувствительным язык его народа». Поэтому та деформация языка, которую мы наблюдаем в последние двадцать лет, — вовсе не следствие безграмотности. Это — операция той холодной гражданской войны, в состоянии которой мы находимся.
Язык обладает огромной силой: «Словом останавливали солнце, словом разрушали города».3 В русской культуре использование слова было сопряжено с большой ответственностью («Слово гнило да не исходит из уст ваших»). Тут есть латентный конфликт с идеей «свободы слова» в ее западном понимании.
Недавно в вагонах московского метро был расклеен плакат: «Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли». И подпись: Макиавелли, итальянский мыслитель. Это — замечательное признание наших новых духовных пастырей. Ведь Макиавелли заострил вопрос до предела, утвердив дезинформацию как важное средство власти. Он признался в одном письме от 17 мая 1521 г.: «Долгое время не говорил я того, во что верю, никогда не верю я и в то, что говорю, и если иногда случается так, что я и в самом деле говорю правду, я окутываю ее такой ложью, что ее трудно обнаружить». Вот у каких «мыслителей» заставляют сегодня учиться народ России.
Деформируется не только словарь языка, но и строение фразы, ритм. Послушайте многих телеведущих или дикторов радио — они говорят как будто уже не по-русски. Язык слабеет как средство взаимопонимания людей, их соединения через музыку речи, передачу тонких смыслов интонациями. Тургенев сказал о русском языке: «В дни сомнений, в дни тягостных раздумий ты один мне поддержка и опора…». Эту опору, данную нам культурой, можно утратить, и угроза этого вполне реальна. Значит надо язык защищать — сознательно и умело.
С введением ЕГЭ уровень культуры русского языка стал быстро падать. Вот что рассказала доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Анастасия Николаева в конце 2009 г.: «Установочные диктанты для выявления уровня знаний первокурсников мы пишем каждый год. Обычно с ними не справляются 3-4 человека. Но результаты этого года оказались чудовищными. Из 229 первокурсников на страницу текста сделали 8 и меньше ошибок лишь 18%. Остальные 82%, включая 15 стобалльников ЕГЭ, сделали в среднем по 24-25 ошибок. Практически в каждом слове по 3-4 ошибки, искажающие его смысл до неузнаваемости. Понять многие слова просто невозможно. Фактически это и не слова, а их условное воспроизведение.
Ну что такое, например, по-вашему, рыца? Рыться. Или, скажем, поциэнт (пациент), врочи (врачи), нез наю (не знаю), гени-рал, через-чюр, оррестовать. Причем все это перлы студентов из сильных 101-й и 102-й групп газетного отделения.
Так сказать, элита. А между тем 10% написанных ими в диктанте слов таковыми не являются. Это скорее наскальные знаки, чем письмо. Знаете, я 20 лет даю диктанты, но такого никогда не видела. По сути дела, в этом году мы набрали инопланетян. Суровый, бесчеловечный эксперимент, который провели над нормальными здоровыми детьми, и мы расплатимся за него полной мерой. Ведь люди, которые не могут ни писать, ни говорить, идут на все специальности: медиков, физиков-ядерщиков. И это еще не самое страшное. Дети не понимают смысла написанного друг другом. А это значит, что мы идем к потере адекватной коммуникации, без которой не может существовать общество. Мы столкнулись с чем-то страшным…
С некоторыми, например, мы писали диктант в виде любовной записки. Девчонки сделали по 15 ошибок и расплакались».
Корреспондент спрашивает: «У вас и правда был такой слабый набор?». Ей отвечает доцент: «В том-то и дело, что формально сильный: средний балл по русскому языку — 83. То есть не просто “пятерка”, а “суперпятерка”, поскольку отличная оценка по русскому языку в этом году начиналась с 65 баллов. Это национальная катастрофа!» [29].
В заявлении Ученого совета филологического факультета МГУ сделан исключительно тяжелый вывод: «Несколько лет подряд отдельные представители гуманитарного сообщества предупреждали о возможности катастрофы как в школьном образовании вообще, так и в его гуманитарном сегменте в частности. Ситуация изменилась качественно: катастрофа произошла, и русская классическая литература более не выполняет роль культурного регулятора образовательного процесса.
Политика российских властей в области образования обусловлена совокупностью причин; назовем некоторые, наиболее очевидные:
а) стремление власти окончательно уничтожить советскую составляющую “постсоветского” образования, в случае с русской классической литературой — резко ограничить обсуждение и, тем более, усвоение ее ценностей, чуждых современной политической и экономической элите, а также той части “среднего класса”, которая ориентирована на обслуживание этой элиты» [27].
К этому выводу и предположению о причинах такого хода событий надо отнестись внимательно, отставив в сторону конъюнктурные идеологические мотивы. Проблема несравненно весомее, чем эти преходящие мотивы. Неразумно ломать структуры и рвать связи в культуре только потому, что они сложились в советский период и несли на себе следы эпохи. Это и называется «выплеснуть с грязной водой ребенка». Глупо воевать с призраками, надо с благодарностью встраивать новые системы в созданные ранее структуры. Реформа образования в гуманитарной сфере как будто специально шла наперекор этим простым правилам.
Надо сказать, что это заявление «О реформе образования, ее итогах и перспективах» было подписано всеми членами Ученого совета — «Принято единогласно на заседании Ученого совета филологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 22 ноября 2012».4
Это, пожалуй, первое такое событие в истории России — манифест, подписанный авторитетными представителями институционально оформленного научного сообщества лучшего университета страны! Такие наказы и приговоры подписывали все до одного лишь участники общинных сельских сходов в революцию 1905-1907 гг., а профессора, если и писали петиции, то подписывали их маленькими группами.
Известно, что в советской школе введение подростков и юношей в большую культуру осуществлялось с опорой на классическую русскую литературу. Она давала всему поколению общий язык символов, этических формул, аллюзий. Школьная реформа шаг за шагом устраняет это средство. В заявлении филологов МГУ сказано: «В результате введения ЕГЭ, резкого сокращения часов на преподавание литературы в школе, а в последнее время и упразднения самого предмета русская литература (согласно стандарту второго поколения, сейчас в средней школе есть предмет “русский язык и литература”) резко, на порядок упал уровень преподавания русской литературы, уровень знания, уровень ее эмоционального, ценностного, культурно-психологического воздействия на учащихся, фактически лишенных возможности осмыслить литературную культуру прошлого как духовную почву для саморазвития…
С отменой сочинения произошли иные, качественные изменения в характере преподавания: учащийся более не рассматривается как самостоятельно мыслящая личность, наделенная аналитическими способностями и умеющая реализовать их на практике в форме связного текста; теперь он должен лишь воспроизводить некоторую часть полученной информации; естественно предположить, что цель такого среднего образования — создание потребителя, управляемой массы…
Ситуация катастрофического обрушения уровня гуманитарного школьного образования усугубляется массовым закрытием школ в российской провинции и резким сокращением числа бюджетных мест, выделяемых филологическим факультетам вузов, а вместе с тем политикой слияния и закрытия самих вузов. Фактически это означает, что в самое ближайшее время будут аннулированы достижения советской образовательной системы, а вместе с тем будут окончательно преданы забвению традиции русской дореволюционной школы. Это национальная катастрофа, чреватая сломом механизмов исторической преемственности и прерыванием самой национальной культурной традиции» [27].
Нравственное чувство людей оскорбляла начатая еще во время перестройки интенсивная кампания по внедрению в язык «ненормативной лексики» (мата). Его стали узаконивать в литературе и прессе, на эстраде и телевидении. Появление мата в публичном информационном пространстве вызывало общее чувство неловкости, разъединяло людей.
Это была важная диверсия в сфере языка. Ведь для каждого его средства есть своя ниша, оговоренная выработанными в культуре нравственными и эстетическими нормами. Разрушение этой системы вызывает тяжелую болезнь всего организма культуры.
Опросы 2004 г. показали, что 80% граждан считали использование мата на широкой аудитории недопустимым [6, с. 258]. Но ведь снятие запрета на использование мата было на деле частью культурной политики реформаторов! Это был акт войны, сознательная диверсия против одной из культурных норм, связывающих народ. Недаром 62% граждан одобрили бы введение цензуры на телевидении [6, с. 80].
Отмена запрета на публичное использование мата наложилась на культурную травму детей, нанесенную социальным кризисом. Нецензурщина вошла в детский лексикон. В 1994 г. социологи исследовали состояние сознания школьников Екатеринбурга по двум возрастным категориям: 8-12 и 13-16 лет. Выводы таковы: «Дети школьного возраста полагают, что жизнь современного россиянина наполнена страхами за свое будущее: люди боятся быть убитыми на улице или в подъезде, боятся быть ограбленными. Среди страхов взрослых людей называют и угрозу увольнения, и страх перед повышением цен.
Сами дети также погружены в атмосферу страха. На первом месте у них стоит страх смерти: “Боюсь, что не доживу до 20 лет”, “Мне кажется, что я никогда не стану взрослым — меня убьют”. Российские дети живут в атмосфере повышенной тревожности и испытывают недостаток добра. Матерятся в школах все: и девочки и мальчики. Как говорят сами дети, мат незаменим в повседневной жизни. В социуме, заполненном страхами, дети находят в мате некий защитный механизм, сдерживающий агрессию извне» [28].
Разрыв непрерывности в культуре
Это — состояние всей культуры как системы. В самых разных срезах культуры в ходе разрушения жизнеустройства, которое казалось таким устойчивым в советский период, произошел какой-то сбой в процессе воспроизводства. Возникли разрывы, как будто во все элементы культуры какими-то диверсантами были заложены мины, подорванные почти одновременно.
Так, произошел разрыв большой части художественной интеллигенции с траекторией русской культуры, с корпусом художественных образов, которыми питалось наше самосознание. Это фундаментальное проявление кризиса, но политики и деятели культуры сводят его к нехватке денег. Столь вульгарный материализм — плохой признак. Рвется связь с главной нитью мысли и душевного поиска Пушкина и Толстого, Достоевского и Чехова, Платонова и Шолохова! Оставить такое наследство ради чечевичной похлебки масс-культуры — в такой духовный и эстетический провал невозможно поверить, это не могло быть ни рациональным, ни эмоциональным выбором. Тут серия аварий, природы которых мы не поняли.
Поднявшаяся наверх вместе с новой властью новая художественная элита исходила из небывалой в истории культуры установки необратимого разрыва непрерывности, полного отрицания культуры нескольких прежних поколений. Такие радикальные течения раньше быстро подавлялись и распадались даже в больших революциях (как это произошло с Пролеткультом и РАППом в русской революции). Но в антисоветской революции 1980-1990-х гг. обрыв корней производился систематически при поддержке государства.
Разрывом в культуре стала широкая и планомерная программа подрыва строя символов, связанных с Великой Отечественной войной. Она вызвала тяжелые душевные страдания у большинства населения, и это было хорошо известно. Известный английский военный историк Дж. Эриксон отмечал, что во время перестройки в СССР возник «капитулянтский курс на демонтаж принципиальных итогов войны». Один из способов подрыва авторитета символов войны — пробуждение симпатий или уважения к тем, кто во время войны действовал на стороне гитлеровцев против СССР. Долго пытались обелить фигуру Власова — он, мол, боролся со сталинизмом.
Надо заметить, что эта кампания переживалась бы легче, если бы она велась только откровенными «западниками», давно обиженными Россией. Тяжело воспринималось участие в ней «патриотов». Роман Г. Владимова, обеляющий предателя Власова («Генерал и его армия»), получил Букеровскую премию — ну и ладно, это их дело. Но он еще получил знак патриотического качества в виде высокой похвалы от В. Бондаренко, редактора газеты «День». В. Бондаренко, завоевав авторитет атакой на генетика-невозвращенца Тимофеева-Ресовского, занялся реабилитацией целой категории предателей. Да еще с какой патетикой! Речь о писателях, которые пережили ужасный «двадцатилетний опыт советчины» и наконец-то, благодаря приходу оккупантов, смогли заговорить.
Вот как это трактует В. Бондаренко: «Замкнув свои уста в довоенный период, оказавшись по разным причинам на оккупированной территории, поэты здесь дерзнули заговорить открыто, зная, что после этого назад пути нет… Многие из них работали в русских газетах на оккупированной территории».
Что ж, у каждого свое оружие — одни партизан вешали, другие в «русской» газете, издаваемой немцами, трудились. Причем, скорее всего, добровольно, а не под угрозой расстрела или голодной смерти, как большинство простых власовцев. И с какой жалостью пишет об их судьбе после Победы наш патриотический идеолог: «А пока вернемся к несчастным беженцам, ненужным западной демократии, вылавливаемым советскими спецкомандами… Полиция всех стран помогала смершевцам вылавливать русских беженцев. Особенно изощрялись англичане, не уступавшие подручным Берии и Гиммлера» [46].
Какая изощренная логика! Ведь эти «русские беженцы», которых вылавливали «советские спецкоманды», как раз и были «подручными Гиммлера». Чуть ли не прославляя явных предателей и активных сотрудников врага, одновременно громя Тимофеева-Ресовского, который прямо в делах фашистов не участвовал (почему немцами и был расстрелян его сын), В. Бондаренко не только подпиливал символы Отечественной войны, но и подрывал способность людей взвешивать, измерять явления — а на этой способности держится здравый смысл.
Писатель В. Ерофеев, деятель культуры, в редкостной по ненависти статье «Поминки по советской литературе» пишет: «Итак, это счастливые похороны, совпадающие по времени с похоронами социально-политического маразма» [7].
Самонадеянность и детская радость В. Ерофеева тому, что значительная часть стариков (можно было бы сказать, «ветеранов войны и тыла») страдают от тех перемен, которые происходили в стране, кажется патологией. Он пишет «о настоящей шекспировской трагедии, происшедшей с частью пожилого поколения, которое к семидесяти годам осознает бессмысленность своего земного существования, отданного ложным идеалам». О ком он это пишет? О поколении тех, кому в 1941 г. было по 20 лет. Они почти все полегли на фронте — и теперь литератор из номенклатурной семьи приписывает им «осознание бессмысленности своего земного существования».
Так началось лавинообразное обрушение всех структур культуры. Этика любви, сострадания и взаимопомощи ушла в катакомбы, диктовать стало право сильного. Оттеснили на обочину, как нечто устаревшее, культуру уживчивости, терпимости и уважения. Мы переживаем реванш торжествующего хама — в самых пошлых и вызывающих проявлениях. Это и архитектура элитарных кварталов и заборов, и набор символических вещей (вроде «джипов»), и уголовная эстетика на телевидении, и повсеместное оскорбление обычаев и приличий. Это и открытое растление коррупцией символических фигур нашей общественной жизни — милиционера и чиновника, офицера и учителя… Все это — следствие культурной революции двух последних десятилетий.
Средства, которые применялись при подавлении «старой» культуры, зачастую преступны. Из духовного пространства России удалены целые пласты культуры — Блока и Брюсова, Горького и Маяковского, многие линии в творчестве Льва Толстого и Есенина, революционные и большинство советских песен и романсов. Каков масштаб опустошения культурной палитры, которое произвели «хозяева» господствующих институтов культуры за двадцать лет!
За эти последние двадцать лет художественная элита России стала «играть на понижение». Как будто что-то сломалось в ее мировоззрении. В отношении внешних норм приличия российские СМИ «американизировались». Вот небольшой штрих. Долгие годы во всем мире пробным камнем, на котором проверялись нравственные установки политиков и газет, было отношение к войне США во Вьетнаме. Эта война трактовалась гуманитарной интеллигенцией как аморальная. Ее и представляли с этой точки зрения, как символ кризиса культуры.
С середины 1990-х гг. телевидение России стало предоставлять экран для голливудских фильмов, обеляющих и даже прославляющих эту войну. Почему? Разве узнали что-то новое о той войне? Нет, изменились критерии благородства. Стиль, конечно, свой, а тип тот же.
Дикторы телевидения заговорили с ёрничеством и улыбочками, программы наполнились невежеством и дешевой мистикой. По отношению к «чужим» для США фигурам (Кастро, Чавес, Лукашенко) — ирония и плохо скрытое хамство. Наше телевидение стало говорить на том же языке, с теми же ужимками, что на Западе. Но там в личных разговорах интеллектуалы сами признают, что с падением СССР Запад «оскотинился». Это понимание — шаг к выздоровлению. У нас такого понимания не видно. На телевидении возникла особая мировоззренческая и культурная система, шаг за шагом снижающая уровень. Экран испускает поток пошлости, в которой тонет проблема добра и зла. На этот поток нельзя опереться, в нем захлебывается сам вопрос о бытии. Произошло совмещение того, что должно быть разделено.
Телевидение долго крутило лицензионные игровые шоу типа: «Слабое звено», «За стеклом», «Последний герой». Каков идейный стержень этих программ? Утверждение социал-дарвинистских принципов борьбы за существование как закона жизни общества. Неспособные уничтожаются, а приспособленные выживают в процессе «естественного отбора». Умри ты сегодня, а я — завтра!
Социологи пишут, что в этих программах «знания и эрудиция участников все более уходят на второй план. Акцент делается на возможностях победы над противником через подкуп, сговор, активизацию темных, находящихся в глубине души инстинктов. Практически во всех программах прослеживается идея, что для обладания материальным выигрышем — т. е. деньгами, хороши любые средства. Таким образом, программы ориентируют зрителя на определенный вариант жизни, стиль и способ выживания» [8].
В отношении отодвинутой от «праздника жизни» половины населения России наша официальная культура ведет себя, как в отношении низшей расы. Ее просто не замечают, как досадное явление природы, а если и упоминают, то с «романтической» или глумливой подачей. Социальная драма миллионов людей не вызывает минимального уважения. Гастарбайтеры! Бомжи! Пьяницы! — Вот колоритные фигуры российского телевидения!
И ведь такое отношение распространяется на близких! Возникло неожиданное для российской культуры явление геронтологического насилия. Традиционно старики были в России уважаемой частью общества, а в последние десятилетия советского периода — и вполне обеспеченной его частью; но в ходе реформы социальный статус престарелых людей резко изменился. Большинство их обеднели, большая их часть оказались в положении изгоев, ненужных ни семье, ни обществу, ни государству. Крайним проявлением дегуманизации стало насилие по отношению к старикам, которое приобрело масштабы социального явления.
Это явление наблюдается во всех социальных слоях. Изучение проблемы показало, что «социальный портрет» тех, кто избивает и мучает стариков, отражает общество в целом. В составе «субъектов геронтологического насилия» 23,2% имеют высшее образование (плюс студенты вузов — 3%), 36,7% — среднее, 13,5% — среднее техническое, 4,9% — начальное, у 13,4% образовательный уровень неизвестен. 67% насильников — родственники, 24% — друзья и соседи, 9% — «посторонние» [42].
Достоевский сказал странную фразу: «Красота спасет мир». В ней надежда на то, что в последний момент невидимые и слабые силы поддержат человека, не дадут ему упасть. Сейчас красоте явно не справиться. Но вспомним и другие невидимые и слабые силы. Вместе они были бы для нас большой опорой. Но их начали вытравливать из общественного пространства, сживать со света. Есть такая вещь, которая когда-то была привычной и обыденной, — благородство. Теперь о нем говорить не принято, это вещь чуть ли не реакционная.
Наш «средний класс», рожденный реформами, будто переборол старые нормы чести и достоинства. Личная совесть, конечно, осталась, но она без социально контролируемых норм не столь уж действенна. Да, человек в душе раскаивается, а общество сползает в грязь. А ведь без того, чтобы восстановить обязательный минимальный уровень благородства, ни о каком сплочении для выхода из кризиса и речи быть не может.
Иногда кажется, что как только государство и его службы (например, цензура) бросили культуру на произвол судьбы, сразу разорвалась наша связь с культурой модерна, Просвещения. Как будто мы до нее не доросли и без надзора государства сразу разбежались.
Л.Г. Ионин на этот счет пишет: «Тенденция многих систем и групп к закрытости, сознательно культивируемая эзотеричность означают просто нежелание расколдовываться, то есть сознательный вызов духу модерна. Сюда же можно отнести расцвет и приумножение иррационалистических движений, сект, кругов именно в конце XX столетия, когда, как казалось, и должен восторжествовать модернистский рационализм.
Меняется и содержание культуры. Казавшаяся когда-то прочной культурная иерархия исчезает. Скорее, бывшая “высокая культура” обретает субкультурный статус. Культура дифференцируется на мало зависимые, или вовсе независимые друг от друга культурные стили, формы и образы жизни. Культурная индустрия, которая раньше рассматривалась как производительница непрестижной и “дешевой” массовой культуры, оказывается приобретающей новую, не присущую ей ранее функцию — функцию производителя и распространителя не просто “легкой музыки” и эстрадных песенок, а жизненных форм и жизненных стилей. В этой же функции к ней присоединяются масс-медиа» [43].
Например, русской массовой культуре ХХ в. были присущи любовь к книге и умение читать ее, вступая в диалог с текстом. Это — сильное и ценное свойство, важный ресурс устойчивости в грядущие бурные полвека. Сегодня этот элемент культуры сильно поврежден, большинство населения лишено к нему доступа.
Разрывом непрерывности стала в России и деградация культуры мышления. Как будто была проведена большая целенаправленная кампания по разрушению рационального сознания и механизмов его воспроизводства. Да, было оказано сильное воздействие на все каналы социодинамики культуры — на школу и вузы, на науку и СМИ, на армию и искусство. Но не верится, что оно было целенаправленным! Мы просто плохо знаем сложную систему культуры и, потеряв бдительность и осторожность, можем допустить ее разрушение, как это произошло на Саяно-Шушенской ГЭС.
Гёте сказал: «Нет ничего страшнее деятельного невежества». Да, во всех революциях невежество также освобождается от оков (прежде всего от «оков просвещенья»). М.М. Пришвин записал в дневнике 2 июля 1918 г. (вероятно, неточно повторив фразу Гёте): «Есть у меня состояние подавленности оттого, что невежество народных масс стало действенным». Мы должны открыть глаза и признать: именно большевики и Советы тогда обуздали «деятельное невежество». Будучи тесно связаны с народными массами, они не нуждались в том, чтобы заискивать перед ними, но и оставить их в невежестве не могли. Вот первый результат культурной политики 1930-х гг. — высокая адаптивность и массовое умение учиться. Это проявлялось на разных уровнях. В образованном слое удивительно быстро были поняты и встроены в собственную культуру смыслы и нормы Просвещения — прежде всего европейской науки. Это — опыт нетривиальный: тип научного мышления органично встраивается отнюдь не во все культуры традиционных обществ.
А сегодня, в результате антисоветской революции, невежество стало действенным! Оно узаконено, подкреплено потоком алогичных, антирациональных утверждений, противоречащих и знанию, и мере, и здравому смыслу. Замечу, что репрессировано и религиозное сознание — его вытесняют оккультизм и суеверия. Оно страдает и оттого, что значительная часть прильнувшей к религии интеллигенции пытается сочетать религиозное сознание с рациональным и даже научным, создавая нежизнеспособный гибрид.
Можно предположить, что культура России — страны множества народов и верований — гораздо сложнее, чем мы думали. Ее «моностилистическая» оболочка (выражение Л.Г. Ионина) нас обманывала. Эта культура не устоялась, и после взрыва русской революции она развивалась по многим траекториям, за которыми мы не могли уследить. Тем более мы не могли знать, как повлияет на всю эту систему множество структурных изъятий, совершенных в 1980-1990-е гг.
Примерно об этом говорил Конрад Лоренц еще в 1966 г. (в статье «Филогенетическая и культурная ритуализация»): «Молодой “либерал”, достаточно поднаторевший в критическом научном мышлении, но обычно не знающий органических законов, которым подчиняются общие механизмы естественной жизни, и не подозревает о катастрофических последствиях, которые может вызвать произвольное изменение [культурных норм], даже если речь идет о внешне второстепенной детали. Этому молодому человеку никогда бы не пришло в голову выкинуть какую либо часть технической системы — автомобиля или телевизора — только потому, что он не знает ее назначения. Но он запросто осуждает традиционные нормы поведения как предрассудок — нормы как действительно устаревшие, так и необходимые. Покуда сформировавшиеся филогенетически нормы социального поведения укоренены в нашей наследственности и существуют, во зло ли или в добро, разрыв с традицией может привести к тому, что все культурные нормы социального поведения угаснут, как пламя свечи» [44].
Наши либералы «с научным мышлением» приложили огромные усилия, чтобы разрушить культурное ядро общества силами интеллигенции.
Л.Г. Ионин говорит о цинизме как фоне нынешней культуры: «Негативность. Отрицание или равнодушное непризнание существующего социально-культурного порядка занимает место позитивного отношения к нему, характерного для моностилистической культуры».
Он видит в этом состоянии опасность фундаментализма: «Необходимо подчеркнуть — развитие к политической культуре в переходный период таит в себе опасные тенденции будущего культурного фундаментализма… Известно, что фундаменталистские процессы крепнут как раз в переходные моменты — пору разложения моностилистической и формирования полистилистической культуры. Во времена, трудные для человека, теряющего жизненные ориентиры, они предоставляют легчайшие возможности культурной идентификации и, тем самым, обретения твердой почвы под ногами. Именно такая ситуация сложилась в нынешней России. Если добавить к этому неразработанность правовой базы культурных взаимодействий и отсутствие прочных общественных навыков толерантности, то шансы фундаменталистических течений можно счесть, к сожалению, благоприятными» [45].
Первая угроза — фундаментализм деятельного невежества.
От внеморальности государства к деморализации общества
Скажем о простой, внешней скорлупе этой стороны жизни — элементарных нормах общественных отношений, о приличиях, без которых невозможен даже минимальный порядок.
Йохан Хейзинга писал, что принцип внеморальности государства — «открытая рана на теле нашей культуры, через которую входит разрушение». Замена всеобщей («тоталитарной») этики законами устраняет понятие греха. «Разрешено все, что не запрещено законом!»
Первые инъекции безнравственности делало телевидение, еще государственное и подконтрольное органам КПСС — ради политической целесообразности. Вот пример. Первая передача телепрограммы «Ступени» в 1988 г. была посвящена детскому дому, в котором директор была «сталинисткой» (и даже имела дома портретик Сталина). Требовалось показать, что и она, и не восставшие против нее педагоги — изверги. И вот, дама с ТВ вытягивает, как клещами, у 10-12-летних мальчиков нелепые и неприличные сплетни о преподавателях и воспитателях. Совершив свой удар по хрупкой структуре детского дома, журналисты с ТВ отбыли к своим семьям. Аморальное дело было сделано хладнокровно, как технологическая операция.
Внеморальность государства быстро осваивается и негосударственными организациями, и широкими массами. Она легко перерождается в аморальность как особую часть культуры (или антикультуры), которая отвергает установленные общей этикой ценности, устраняет традиции и «расковывает» мышление, способное оправдать любое действие. Все это было хорошо известно в среде нашей гуманитарной элиты, но она в момент неустойчивого равновесия перестройки подтолкнула процесс в этот коридор.
Резкое расширение ниши аморальности — средство размягчения культурного ядра, необходимое, согласно учению А. Грамши, для подрыва гегемонии «тирана» и установления гегемонии «манипулятора». Разрушение традиционной морали и перманентная «сексуальная революция» — важнейшие условия устранения психологических защит против соблазнов.
Массовая «аморализация» среднего человека произошла на Западе, когда самодеятельность узкого круга аморальных художников стала профессией и была превращена в часть масс-культуры. Сто лет назад пресса и литература могли «аморализовать» только часть культурного слоя общества — читающую публику. Сегодня донести продукт индустрии аморальности до каждого дома взялось телевидение.
Так произошло и в программе развала СССР. Важное место в перестройке сознания заняла сексуальная революция. Разрушая отрицательное отношение к демонстративной половой распущенности и проституции, ставшее в советском обществе важным нравственным стереотипом, пресса расшатывала «культурное ядро» общества. Поначалу эта пропаганда вызывала шок. Особенно необъяснимым и непонятным был неожиданный поворот молодежной прессы. В 1986-1987 гг. массовая газета «Московский комсомолец» вдруг начала печатать большую серию статей, пропагандирующих оральный секс. Это казалось абсурдом. Потом пошли «письма читателей» (вероятно, фальшивые), в которых девочки жаловались на своих мам, отнимавших и рвавших в клочки их любимую газету. К концу перестройки началась прямая пропаганда проституции.
Идеологические работники не просто оправдывали ее как якобы неизбежное социальное зло, они представляли проституцию чуть ли не благородным делом, способом борьбы против социальной несправедливости. Актриса Е. Яковлева (исполнительница главной роли в фильме П. Тодоровского «Интердевочка») так объяснила, что такое проституция: «Это следствие неприятия того, что приходится исхитряться, чтобы прилично одеваться, вечно толкаться в очередях и еле дотягивать до получки или стипендии, жить в долгах… Проституция часто была для девочек формой протеста против демагогии и несправедливости, с которыми они сталкивались в жизни».
Проституция как форма протеста девочек против демагогии! Какое оправдание. Во время перестройки началось издание большого числа книг, возводящих половую распущенность в принцип, в признак элитарности.
Специалисты из Академии МВД пишут в 1992 г.: «Росту проституции, наряду с социально-экономическими, по нашему глубокому убеждению, способствовали и другие факторы, в частности, воздействие средств массовой информации. На начальном этапе содержание их материалов носило сенсационный характер. Отдельные авторы взахлеб, с определенной долей зависти и даже восхищения, взяв за объект своих сочинений наиболее элитарную часть — валютных проституток, живописали их доходы, наряды, косметику и парфюмерию, украшения и драгоценности, квартиры и автомобили и пр.. Массированный натиск подобной рекламы не мог остаться без последствий. Она непосредственным образом воздействовала на несовершеннолетних девочек и молодых женщин. Примечательны в этом отношении результаты опросов школьниц в Ленинграде и Риге в 1988 г., согласно которым профессия валютной проститутки попала в десятку наиболее престижных» [39].
Видный юрист призывает (в 1988 г.) легализовать в СССР проституцию на том основании, что ликвидировать ее путем запретов не удается: «Пока существуют товарно-денежные отношения, будет и проституция. И никакие призывы и заклинания не смогут ее ликвидировать, равно как и запреты, которые лишь загонят явление в более глубокое подполье… Только нашим удивительным пренебрежением к истории, разуму и науке можно объяснить слепую веру в силу запрета, репрессий и морализаторства. Может ли торговля телом преследоваться сильнее, нежели торговля духом (интеллектом)?.. Недопустима для социалистического общества и политика регламентации проституции. Думается, наиболее приемлем аболиционизм — отмена запретов» [40].
Трудно сказать, где здесь кончается демагогия и начинается искреннее желание либерализации морали. Например, сравнение «торговли телом» и «торговли духом» — явная демагогия (это все равно что уподобить убийство выстрелом в затылок «убийству словом»). Почему регламентация какого-то социального зла «недопустима для социалистического общества»? Видимо, тоже демагогия. А вот то, что «вера в силу запретов и морали» вызвана якобы нашим уникальным пренебрежением к разуму, есть, возможно, искренняя утопия.
В своем стремлении разрушить «тоталитарные моральные нормы» наши интеллектуалы, в том числе из академической среды, доходили до гротеска. Вот социологическое исследование (лето 1994 г.) лагеря «натуризма», т. е. нудизма — разгуливания нагишом. Автор патетически восклицает: «Что же отличает внутренний мир обнаженной девушки? Прежде всего выделяется чувство свободы. Мы видим, во-первых, свободу как освобождение от одежды, а значит и от табу одной из культурных норм. Человек как бы вылезает не только из своей одежды, но и из своего сознания» [41]. Одна из нудисток якобы даже сказала исследователю «внутреннего мира обнаженной девушки»: «Нудизм действует как святое причастие». Даже здесь святое причастие помянули — вот какой ренессанс религиозности!
Чем-то потусторонним казалась статья в «Независимой газете» (17 июля 1999 г.) о II Международной эротической выставке в Петербурге. Автор — Бесик Пипия. Вот пассажи из этой восторженной статьи: «Наибольший интерес у посетителей выставки вызывали живые “экспонаты” — русские красотки с величаво грациозными, обезоруживающими фигурами, божественно роскошными телами, вкусными, зовущими губами. Мужчины всегда собирались там, где красавицы демонстрировали груди… Сияющие глаза женщин можно было видеть у стенда, где были выставлены около 200 видов заменителей мужчин, которые “всегда могут”». Корреспондент «НГ» задал вопрос организатору выставки, заведующему кафедрой сексологии и сексопатологи Государственной еврейской академии имени Маймонида, секретарю ассоциации сексологов РФ, профессору Льву Щеглову: «Какова цель выставки?» Тот ответил: «Формирование у населения эротической культуры, которая блокирует тоталитарность».
Здесь все интересно — и «государственный»!) характер академии, взявшей на себя роль идеолога сексуальной революции, и ее место в борьбе с «тоталитаризмом», и упомянутая вскользь национальная принадлежность «красоток с вкусными, зовущими губами» на международной выставке.
Чуть раньше в Петербурге возникла напряженность в связи с выпуском в продажу видеофильма «Школьница-2» (студия «SP Company» порнодельца Сергея Прянишникова, официально зарегистрированная; да и сам С.В. Прянишников был зарегистрирован как кандидат на выборы мэра Петербурга). Об этом рассказала газета «Трибуна» (19 февраля 2003 г.). В анонсе на обложке кассеты говорилось: «Старшеклассница приходит в новую школу. У нее все при всем в смысле внешности. В новой школе своеобразные педагогические приемы, в чем новенькая убеждается в первый же день на переменках. Для получения достойных отметок нужно для начала сексуально удовлетворить педсостав. А потом был день рождения одноклассника, где она уже по-настоящему вливается в коллектив».
Возмущение вызвал тот факт, что съемки фильма проводились в конкретной школе № 193 в Гродненском переулке Центрального района. Педагоги, ученики и их родители увидели на экране знакомые кабинеты и классы, стенгазету на стене, выставку детских рисунков. Увидели парты и столы, на которых разыгрывались порнографические сцены.
А к юбилею Петербурга студия «SP Company» подготовила цикл порнофильмов «Белые ночи Санкт-Петербурга», в которых половые акты совершаются на фоне исторических памятников — Медного всадника, Казанского собора и т. д. Съемки проходили открыто, на глазах прохожих, детей, милиционеров. Милиция там присутствовала не для того, чтобы пресечь наглое издевательство над нормами морали и права, а чтобы охранять мерзавцев от публики.
Попытки общественных организаций протестовать ни к чему не привели. Фильмы отправили на экспертизу главному специалисту — уже упомянутому Льву Щеглову. Он заявил, что «сцены половых актов с детальной демонстрацией физических деталей» считаются жесткой эротикой, а она не запрещена. В Министерстве культуры РФ эксперты сделали лишь одно замечание — съемки порнофильмов на фоне православного храма Спаса на Крови могут оскорбить чувства верующих.
И это — уже не в «лихие 90-е годы».
Преобразование системы потребностей
Человек живет в искусственном мире культуры. Важная его часть — мир вещей. Он неразрывно связан с миром идей и чувств: человек осознает себя, свое положение в мире и в обществе по тому, какими вещами владеет и пользуется. Вещи — символы отношений. Воздействуя на отношение людей к вещам, можно изменить и их отношение к людям, к стране, к своей собственной жизни. Отношение людей к вещам — один из главных фронтов борьбы за души людей.
Последние двадцать лет граждане России были объектом небывало мощной и форсированной программы по созданию и внедрению в общественное сознание новой системы потребностей. В ходе этой программы сначала культурный слой и молодежь, а потом и основную массу граждан втянули в то, что называют «революцией притязаний». То есть добились сдвига к принятию российскими гражданами постулатов и стереотипов западного общества потребления.
Масса людей стала вожделеть западных стандартов потребления и считать их невыполнение в России невыносимым нарушением «прав человека». Так жить нельзя! — вот клич человека, страдающего от невыполнимых притязаний. Чтобы получить шанс, пусть эфемерный, на обладание вещами «как на Западе», надо было сломать многие устои российской цивилизации, отбросить многие заданные ею нравственные ограничения.
В обыденном сознании укоренилось представление, что потребности даны человеку объективно, что они естественны. Человеку нужны пища, одежда, жилище и т. д. Слово «объективно» можно принять с оговорками — если учесть, что имеется в виду объективность социального бытия, выскочить далеко за рамки которого отдельный человек не может. Но «естественными» потребности человека считать никак нельзя. Это ошибочное представление.
Человек создан культурой, и его потребности — также продукт культуры. Биологические потребности человека как живого существа очень невелики. Они даже «подавляются» культурой — большинство людей скорее погибнет от голода, чем станут людоедами.
На самых ранних стадиях развития человеческого общества люди жили собирательством и охотой. Материальные потребности у них были еще неразвиты, и на их обеспечение было достаточно потратить около двух часов в день. Это был «век изобилия», и люди имели много времени для досуга, который использовали, чтобы созерцать мир, совместно создавать большие мифологические системы и музыку, заниматься наскальной живописью.
Новые материальные потребности создавались обществом в его развитии как стимул для более интенсивного и продолжительного труда в выполнении общих задач. Они не были предписаны природой человека, а были обусловлены социально, исходя из целей данного конкретного общества в данный исторический момент. Как писал Маркс, «потребности производятся точно так же, как и продукты и различные трудовые навыки».
В любом обществе круг потребностей меняется, идет обмен вещами и идеями с другими народами. Это создает противоречия, разрешение их требует развития и хозяйства, и культуры. Уравновешивают этот процесс разум и совесть людей, их исторический опыт, отложившийся в традициях. Любой народ, чтобы сохраниться, должен обеспечить безопасность «национального производства потребностей» от вторжения чужих «программ-вирусов». Обновление системы потребностей как части национальной культуры должно происходить в соответствии с критериями, которые нельзя отдавать на откуп «чужим».
Между тем именно навязывание другому народу специально созданной, наподобие боевого вируса, системы потребностей является одним из главных средств ослабления и подчинения этого народа. Так, например, англичане произвели захват Китая в XIX в. Все попытки соблазнить китайцев западными товарами были безуспешны — от имени императора послов и купцов благодарили за подарки и хвалили эти «занимательные штучки», но отвечали, что надобности в них у китайцев нет. Англичанам пришлось вести тяжелые войны, чтобы заставить Китай разрешить на его территории торговлю опиумом, который для этого стали производить в Индии. С этого и началось — с сильного наркотика, потом пошли в ход более слабые (граммофоны, чайники со свистком и пр.). Как известно, «животное хочет того, в чем нуждается, а человек нуждается в том, чего хочет».
Проблему потребностей глубоко изучал Маркс, создавая свою теорию революции. Из опыта буржуазных революций он сделал вывод: «Радикальная революция может быть только революцией радикальных потребностей». Быстрое изменение системы потребностей (и материальных, и духовных) толкает общество к революционному изменению жизнеустройства, вплоть до самоотречения народа. Оно и порождает смуты как самые тяжелые кризисы.
Капитализм (рыночная экономика) — первая цивилизация, которая не может существовать без экспансии, как акула не может дышать, не двигаясь. Поэтому капитализм нуждается в непрерывном расширении и обновлении потребностей, чтобы жажда потребления становилась все более жгучей и ненасытной.
У себя дома Запад создал тупиковую ветвь культуры — «общество потребления».
Это очень необычный тип бытия. Будучи одержимо идеей прогресса, индустриальное общество создавало все новые и новые вещи и налаживало их массовое производство. Изучение их потребления показало, что здесь кроется мощный способ господства. Возникла технология рекламы, позволяющая внушить людям страстное желание иметь ту или иную вещь (был обнаружен парадокс: «ненужные вещи нужнее людям, чем нужные»). В молодом буржуазном обществе, в век Просвещения говорилось: «Я мыслю, значит, я существую». Сейчас, на нисходящей ветви жизненного цикла, в обществе потребления говорят: «Иметь — значит быть».
Но для нас важнее тот факт, что буржуазное общество создало целую индустрию производства потребностей на экспорт. Доктрина этого экспорта была отработана в «опиумных войнах».
Потребности стали интенсивно экспортироваться Западом через разные механизмы — грубо говоря, и с помощью кино, и с помощью канонерок (теперь авианосцев). Разные народы по-разному закрывались от этого экспорта, сохраняя баланс между структурой потребностей и теми реально доступными ресурсами для их удовлетворения, которыми они располагали. При ослаблении этих защит происходит, по выражению Маркса, «ускользание национальной почвы» из-под производства потребностей, и они начинают полностью формироваться в центрах мирового капитализма. Такие народы он сравнил с аборигенами, чахнущими от европейских болезней. Западных источников дохода нет, западного образа жизни создать невозможно, а потребности — западные.
В «Коммунистическом Манифесте» Маркса и Энгельса сказано: «Буржуазия быстрым усовершенствованием всех орудий производства и бесконечным облегчением средств сообщения вовлекает в цивилизацию все, даже самые варварские, нации. Низкие цены ее товаров — вот та тяжелая артиллерия, с помощью которой она разрушает все китайские стены и принуждает к капитуляции самую упорную ненависть варваров к иностранцам. Под угрозой вымирания она заставляет все народы ввести у себя то, что она называет цивилизацией, то есть самим стать буржуазными. Одним словом, она создает мир по своему образу и подобию».
Таким образом, «экспорт потребностей» — одно из важных средств в войне цивилизаций. «Слаборазвитость» и есть такое состояние культуры, когда элита становится «компрадорской», т. е. тратит национальные ресурсы на покупку заграничных товаров для собственного потребления, а массы с таким положением соглашаются, потому что надеются вкусить хоть немного от заграничных благ.
Сейчас в России продолжается большая программа по превращению наших граждан в чахнущих аборигенов, начатая в перестройку. Эта программа выводится почти буквально из формулы «Коммунистического Манифеста» — считается, что внушив страх перед «угрозой вымирания без западных товаров», наша романтическая буржуазия заставит народ ввести у себя то, что она называет «цивилизацией», т. е. самим стать буржуазными. Одним словом, она создаст Россию по тому образу и подобию, какой желает.
Тут Маркс ошибся, а наши реформаторы отнеслись к нему некритически. «Китайские стены» буржуазия разрушала не товарами, а самой обычной артиллерией и подкупом элиты; а динозавры вымерли не от нехватки западных товаров, а от холода. Нам такая участь тоже грозит — не от нехватки иномарок, а от кризиса теплоснабжения.
В прошлом сильнейшим барьером, защищавшим местную («реалистичную») систему потребностей, являлись сословные и кастовые рамки культуры. Таким барьером, например, было закрыто крестьянство в России. Крестьянину и в голову бы не пришло купить сапоги или гармонь до того, как он накопил на лошадь и плуг, — он ходил в лаптях. Так же в середине XIX века было защищено население Индии и в большой степени — Японии. Позже защитой служил мессианизм национальной идеологии (в СССР, Японии, Китае). Были и другие защиты — у нас, например, осознание смертельной внешней угрозы, формирующей потребности «окопного быта».
Процесс внедрения «невозможных» потребностей протекал в СССР, начиная с 1960-х гг., когда ослабевали указанные выше защиты. Они были обрушены обвально в годы перестройки, под ударами всей государственной идеологической машины. При этом новая система потребностей была воспринята населением не на подъеме хозяйства, а при резком сокращении местной ресурсной базы для их удовлетворения. Это привело к быстрому регрессу хозяйства — с одновременным культурным кризисом и распадом системы солидарных связей. Монолит народа рассыпался на кучу песка, зыбучий конгломерат мельчайших человеческих образований — семей, кланов, шаек.
В ходе довольно длительной культурной кампании в наше общество были импортированы и внедрены в сознание потребности, якобы удовлетворенные на Западе. При помощи прямых подлогов и недоговоренностей было внушено также убеждение, что этот комплекс потребностей может быть удовлетворен и в России — надо только «перестроить» наш дом, главные структуры жизнеустройства. В дальнейшем это убеждение обрушилось и превратилось в более хищную, но реалистичную формулу: «кое-кто в России может потреблять так же, как на Западе». Но потребности остались, они обладают большой инерцией.
Реальность нам известна: дом «перестроили» так, что отдали хозяйство на разорение. За годы реформы в России в три раза сократилось число тракторов и в три раза увеличилось число личных легковых автомобилей.
В результате множество людей не могут удовлетворить даже самые обычные, традиционные жизненные потребности. Но при этом и несбыточные остались! И оттого, что несбыточность их очевидна, но в то же время отвергается сердцем, люди испытывают сильный стресс, который и разрушает структуры сознания. «Хочу “форд” любой ценой!» — это коверкает душу, толкает к разрыву со здравым смыслом и совестью. Многие не выдерживают и скатываются к принятию принципа «человек человеку волк». Рушатся солидарные связи, соединявшие население в народ.
Если «форд» надо «любой ценой», то не жалко продать ни Курильские острова, ни русских девушек в публичные дома, ни ракеты «Игла» Басаеву… И люди, и отдельные чиновники, и целые организации становятся подобны наркоману, который тащит из дому, — какая уж тут суверенная демократия. Не может быть суверенитета у тех, кто клянчит займы и кредиты, а вместо тракторов производит «форд-фиесту».
Когда идеологи и «технологи» планировали и проводили эту акцию, они преследовали, конечно, конкретные политические цели. Но удар по здоровью страны нанесен несопоставимый с конъюнктурной задачей — создан порочный круг угасания народа. Система потребностей, даже при условии ее более или менее продолжительной изоляции, обладает инерцией и воспроизводится, причем, возможно, во все более уродливой форме.
Поэтому даже если бы удалось каким-то образом вновь поставить эффективные барьеры для «экспорта соблазнов», внутреннее противоречие не было бы разрешено. Ни само по себе экономическое «закрытие» России, ни появление анклавов общинного строя в ходе нынешней ее архаизации не подрывают воспроизводства «потребностей идолопоклонника». Таким образом, у нас есть реальный шанс «зачахнуть», превратившись в слаборазвитое общество.
Возникает вопрос: не оказались ли мы в новой «экзистенциальной» ловушке — как и перед революцией начала ХХ в.? До начала ХХ в. почти 90% населения России жили с уравнительным крестьянским мироощущением («архаический аграрный коммунизм»), укрепленным православием (или уравнительным же исламом). Благодаря этому культуре было чуждо мальтузианство, так что всякому рождавшемуся было гарантировано право на жизнь.
Даже при том низком уровне производительных сил, который был обусловлен исторически и географически, ресурсов хватало для жизни растущему населению. В то же время было возможно выделять достаточно средств для развития культуры и науки — создавать потенциал модернизации. Это не вызывало социальной злобы вследствие сильных сословных рамок, так что крестьяне не претендовали на то, чтобы «жить как баре».
В начале ХХ в. под воздействием импортированного зрелого капитализма это устройство стало разваливаться, но кризис был разрешен через революцию. Она сделала уклад жизни более уравнительным, но мессианским и в то же время производительным. Жизнь улучшалась, но баланс между ресурсами и потребностями поддерживался благодаря сохранению инерции «коммунизма» и наличию психологических и идеологических защит против неадекватных потребностей. На этом этапе так же, как раньше, в культуре не было мальтузианства и стремления к конкуренции, так что население росло и осваивало территорию.
В 1970-1980-е гг. большинство населения обрело тип жизни «среднего класса». В массовом сознании стал происходить сдвиг от советского коммунизма («архаического крестьянского») к социал-демократии, а потом и либерализму. В культуре интеллигенции возникли компонент социал-дарвинизма и соблазн выиграть в конкуренции. Из интеллигенции социал-дарвинизм стал просачиваться в массовое сознание. Право на жизнь (например, в виде права на труд и на жилье) было поставлено под сомнение — сначала неявно, а потом все более громко. Положение изменилось кардинально в конце 1980-х гг., когда это отрицание стало основой официальной идеологии.
Одновременное снятие норм официального коммунизма и иссякание коммунизма архаического (при угасании православия) изменило общество так, что сегодня, под ударами реформы, оно впало в демографический кризис, обусловленный не только и не столько социальными, сколько мировоззренческими причинами. Еще немного — и новое население России ни по количеству, ни по типу сознания и мотивации уже не сможет не только осваивать, но и держать территорию. Оно начнет стягиваться к «центрам комфорта», так что весь облик страны будет быстро меняться. Такие проекты уже предлагаются.
Таким образом, опыт последних десяти лет заставляет нас сформулировать тяжелую гипотезу: русские до сих пор могли быть большим народом и населять Евразию с одновременным поддержанием высокого уровня культуры и темпом развития только в двух вариантах. Или при комбинации православия с аграрным коммунизмом и феодально-общинным строем, или при комбинации официального коммунизма с большевизмом и советским строем. При капитализме — хоть либеральном, хоть криминальном — они стянутся в небольшой народ Восточной Европы с утратой статуса державы и высокой культуры. Значит, надо искать новые социальные и культурные формы жизнеустройства, а не имитировать западный капитализм (который к тому же и сам в прежних формах не существует).
Переход к импортированным из иного общества «несбыточным» потребностям — это социальная болезнь. Болезнь эта страшна не только страданиями, но и тем, что порождает порочный круг, ведущий к саморазрушению организма. Разорвать этот круг нельзя: ни потакая больному (частично удовлетворяя его несбыточные потребности за счет сограждан), ни улучшая понемногу «все стороны жизни». Противоречие объективно чревато катастрофой — раскол общества и расщепление каждой личности создают напряжение, которое может разрядиться и ползучей («молекулярной») гражданской войной, и войнами нового, незнакомого нам типа. России грозит гражданская война «постмодерна», порожденная «революцией притязаний».
Исход зависит от того, сможет ли та часть интеллигенции, что осознала опасность и сохранила силы для действия, собрать осколки культурного ядра России, чтобы составить из них то зеркало, в котором каждый из нас сможет увидеть себя как судьбу, как частицу судьбы народа. Тогда будет у нас шанс испытать катарсис, вспомнить свой долг перед нашими мертвыми и нашими потомками — и начать восстанавливать свой дом, хотя бы уже с землянки и барака.
Рынок, культура и преступность
За последние двадцать лет в России в основном завершилась смена общественного строя. Новое жизнеустройство представило свои принципиальные признаки. Что произошло при этом переходе с одним из главных условий безопасности основной массы людей — их защищенностью от преступника? Произошло событие аномальное — в одной из самых благополучных в этом смысле стран мира раскрутился маховик жесткой, массовой, организованной преступности.
Как упустили из виду (а в какой-то мере и взрастили) эту угрозу? Ведь это — новое явление. Был у нас в 1960-1970-е гг. преступный мир, но он был замкнут, скрыт, он маскировался. Он держался в рамках теневой экономики и воровства, воспроизводился без расширения масштабов. Общество — и хозяйство, и нравственность, и органы правопорядка — не создавало питательной среды для взрывного роста этой раковой опухоли.
В СССР существовала довольно замкнутая и устойчивая социальная группа — профессиональные преступники. Они вели довольно размеренный образ жизни (75% мужчин имели семьи, 21% проживали с родителями), своим преступным ремеслом обеспечивали довольно скромный достаток: 63% имели доход на одного члена семьи в размере минимальной зарплаты, 17% — в размере двух минимальных зарплат.
У советских преступников (и мужчин, и женщин, и несовершеннолетних) из всех мотивов преступных деяний «жажда наживы» была на самом последнем месте. У взрослых главными были — «стремление выйти из материальных затруднений наиболее легким путем» и «склонность к легкой жизни» [35].
Нынешняя экономическая реформа породила совершенно особый новый тип преступника — профессионального расхитителя государственной собственности, бандита и мошенника, обирающего обывателей. По уровню доходов и своей экономической мощи эта новая социальная группа не имеет никакого родства со старой советской преступностью.
Причины ее нынешнего роста известны, и первая из них — социальное бедствие, к которому привела реформа. Из числа тех, кто совершил преступление, более половины составляют теперь «лица без постоянного источника дохода». Большинство из другой половины имеют доходы ниже прожиточного минимума. Изменились социальные условия! Честным трудом прожить трудно, на этом «рынке» у массы молодежи никаких перспектив, реформа в 1990-е гг. «выдавила» эту массу в преступность.
Но только от бедности люди не становятся ворами и убийцами — необходимо было еще и разрушение нравственных устоев. Оно было произведено, и сочетание этих причин с неизбежностью повлекло за собой взрыв массовой преступности. В России возникли новые культурные условия жизни, когда множество молодых людей шли в банды и преступные «фирмы» как на нормальную работу.
Преступность — процесс активный, она затягивает в свою воронку все больше людей; преступники и их жертвы переплетаются, меняя всю ткань общества. Бедность одних ускоряет обеднение соседей, что может создать лавинообразную цепную реакцию. Люди, впавшие в крайнюю бедность, разрушают окружающую их среду обитания. Этот процесс и был сразу запущен одновременно с реформой. Его долгосрочность предопределена уже тем, что сильнее всего обеднели семьи с детьми, и множество подростков стали вливаться в преступный мир. В 2005 г., по отношению к 2000 г., распространенность алкоголизма среди подростков увеличилась на 93%, а алкогольных психозов — на 300% [16].
Это — массивный социальный процесс, который не будет переломлен ни ростом доходов «среднего класса», ни небольшой «социальной» помощью бедным. Должно измениться само жизнеустройство страны — хозяйство, культура и нравственность как единая система. А что мы видим? Уголовные дела висят над министрами, над руководителями спорта и космических разработок, над ректорами вузов и председателем ВАК; зам. министра нанимает бандитов, чтобы убить неугодного депутата, а ведущий артист Большого театра — плеснуть кислотой в глаза балетмейстера. Это — признак тяжелого культурного кризиса.
Но главная проблема в том, что преступное сознание заняло важные высоты в экономике, искусстве, на телевидении. Культ денег и силы! На Западе уже в середине неолиберальной волны был сделан вывод, что цена ее оплачивается прежде всего детьми и подростками. Американский социолог К. Лэш пишет в книге «Восстание элит»: «Телевизор, по бедности, становится главной нянькой при ребенке… [Дети] подвергаются его воздействию в той грубой, однако соблазнительной форме, которая представляет ценности рынка на понятном им простейшем языке. Самым недвусмысленным образом коммерческое телевидение ярко высвечивает тот цинизм, который всегда косвенно подразумевался идеологией рынка» [17, с. 79].
Растлевающее воздействие телевидения образует кооперативный эффект с одновременным обеднением населения. В ходе рыночной реформы в России сильнее всего обеднели именно дети (особенно семьи с двумя-тремя детьми). И глубина их обеднения не идет ни в какое сравнение с бедностью на Западе. А вот что там принесла неолиберальная реформа: «Самым тревожным симптомом оказывается обращение детей в культуру преступления. Не имея никаких видов на будущее, они глухи к требованиям благоразумия, не говоря о совести. Они знают, чего они хотят, и хотят они этого сейчас. Отсрочивание удовлетворения, планирование будущего, накапливание зачетов — все это ничего не значит для этих преждевременно ожесточившихся детей улицы. Поскольку они считают, что умрут молодыми, уголовная мера наказания также не производит на них впечатления. Они, конечно, живут рискованной жизнью, но в какой-то момент риск оказывается самоцелью, альтернативой полной безнадежности, в которой им иначе пришлось бы пребывать… В своем стремлении к немедленному вознаграждению и его отождествлении с материальным приобретением преступные классы лишь подражают тем, кто стоит над ними» [17, с. 169].
Без духовного оправдания преступника авторитетом искусства не было бы взрыва преступности. Особенностью нашего кризиса стало включение в этическую базу элиты элементов преступной морали — в прямом смысле. Какие песни сделали В. Высоцкого кумиром интеллигенции? Те, которые подняли на пьедестал вора и убийцу. Преступник стал положительным лирическим героем в поэзии! Высоцкий, конечно, не знал, какой удар он наносил по культуре, он «только дал язык, нашел слова» — таков был социальный заказ элиты культурного слоя. Как бы мы ни любили самого Высоцкого, этого нельзя не признать.
Откуда это в наших аристократах духа? Этот тяжелый вопрос поднял Достоевский: как вышедший из аристократов Ставрогин так легко нашел общий язык с уголовником-убийцей? А ведь эта наша субкультурная элита оказалась не только в «духовном родстве» с грабителями. Порой «инженеры человеческих душ» выпивали и закусывали на ворованные, а то и окровавленные деньги. И они говорят об этом не только без угрызений совести, но с удовлетворением. Вот писатель Артур Макаров вспоминает в книге о своем друге Высоцком: «К нам, на Каретный, приходили разные люди. Бывали и из “отсидки”… Они тоже почитали за честь сидеть с нами за одним столом. Ну, например, Яша Ястреб! Никогда не забуду. Я иду в институт (я тогда учился в Литературном), иду со своей женой. Встречаем Яшу. Он говорит: “Пойдем в шашлычную, посидим”. Я замялся, а он понял, что у меня нет денег. “А-а, ерунда!” — и вот так задирает рукав пиджака. А у него от запястья до локтей на обеих руках часы!.. Так что не просто “блатные веянья”, а мы жили в этом времени. Практически все владели жаргоном — “ботали по фене”, многие тогда даже одевались под блатных… Мы были знакомы с такой знаменитой компанией “урки с Даниловской слободы”. Или точнее — евреи-урки с Даниловской слободы — профессиональные “щипачи”» [33].
И тут же Артур Макаров гордится тем, что: «Меня исключали с первого курса Литературного за “антисоветскую деятельность” вместе с Бэлой Ахмадулиной».
Чтобы особый дух уголовной культуры навязать, хоть на время, большой части народа, трудилась целая армия поэтов, профессоров, газетчиков. Первая их задача была — устранить из нашей жизни общие нравственные нормы, которые были для людей неписаным законом.
Экономист Н.П. Шмелев призывал: «Мы обязаны внедрить во все сферы общественной жизни понимание того, что все, что экономически неэффективно, — безнравственно и, наоборот, что эффективно — то нравственно» [37].
Да, промысел Яши Ястреба был экономически эффективнее труда колхозника или учителя. Но как же могла наша либеральная элита попасть в эту ловушку? Ведь они мечтали устроить в России капитализм, а его основоположники, философы либерализма, специально предупреждали: «совесть — выше выгоды!». Или то, что безнравственно — неэффективно. Потому-то они и смогли усмирить «дикий капитализм», хотя и с большими трудностями и рецидивами.
Тяжелое следствие (и причина) кризиса культуры — легитимизация преступника. Сращивание «светлой» культуры с культурой уголовной — одна из самых драматических сторон культурного кризиса России последних тридцати лет. Это — особая сторона современной национальной трагедии, о ней скажем подробнее.
Уже в XIX в. осознавалась, в том числе и в России, опасность для общества распространения криминальной субкультуры среди массы граждан. Как пишут криминологи, человек как социальное существо развивается или в группе законопослушных людей — или «в преступной шайке, у членов которой есть устойчивая система ценностей, отличающаяся от системы ценностей, существующей в большом обществе. Личность в такой среде развивается в соответствии с ценностями и нормами своего окружения, не воспринимая ценностей культуры в целом». Академик В.Н. Кудрявцев, говоря о «нравах переходного общества», уже на первом этапе реформ предупреждал, что «преступная субкультура — не экзотический элемент современных нравов, а опасное социально-психологическое явление, способное самым отрицательным образом воздействовать на многие стороны общественной жизни».
Криминолог И.М. Мацкевич пишет об этой стороне реформы: «В последние десятилетия произошли существенные перемены в отношении общества к преступности и ее проявлениям. Криминальная субкультура, о которой раньше предпочитали не говорить, в настоящее время получила легальный статус наряду с общей культурой. Некоторые утверждают, что это часть общей культуры и нет ничего страшного в том, что общество будет знать некоторые постулаты криминальной субкультуры. Между тем, не учитывается самое главное — криминальная субкультура — это не часть общей культуры, а ее прямой антипод. Кроме того, по своей природе она социально агрессивна.
Представители криминальной субкультуры не жалеют ни сил, ни средств для того, чтобы вытеснить лучшие вековые традиции культурного наследия человечества и подменить их суррогатом сомнительных произведений так называемого тюремного искусства. При этом подмена понятий происходит в завуалированных формах, откровенно уголовные песни называются почему-то “бытовыми” песнями, уголовный жаргон и терминология — “бытовым” разговором. Никого не удивляет, что ведущие журналисты разговаривают со своими читателями на страницах газет и по телевидению на полублатном языке… Я уже не говорю о том, что массовыми тиражами выходят книги, написанные на матерном языке. В игровых фильмах актеры позволяют себе нецензурно выражаться, чтобы, как говорят режиссеры, приблизить экранную жизнь героев к реальной» [18].
Выпустив из бутылки джинна криминальной субкультуры, государство не защитило от него даже собственные силовые структуры. Социолог из Минобороны РФ С.В. Янин писал в 1993 г.: «В воинские коллективы вливается все больше молодых людей, усвоивших нормы преступного мира. Своим привычкам они стремятся следовать и в армии, что не может не сказываться на нравственно-психологическом климате…
Падение общей культуры, пренебрежительное отношение к нормам общественного поведения, правилам воинского этикета серьезно осложнили нравственно-психологический климат в воинских коллективах. Как итог, в войсках увеличилось количество случаев аморального поведения: бесчинств по отношению к местному населению, хулиганств и драк, хищений личного и государственного имущества. Возросла преступность среди всех категорий военнослужащих. В процессе реформирования Вооруженных сил практически оказалась разрушенной система нравственного стимулирования воинского труда» [34].
Криминализованный «рынок» соблазнил даже деятелей высокой культуры. Вот один из последних примеров — сериал «Сонька — Золотая Ручка», который снял Виктор Иванович Мережко. Он восхищен ею — «талантливая воровка». В этой воровке, которая действовала в составе банды, он видит героя, востребованного нынешним обществом: «Она уже легенда. И войдет в число женщин-героинь обязательно! Это наша Мата Хари. Но не шпионка, а воровка». Национальная героиня России! В этих похвалах Мережко поддерживает телеканал «Россия»: «Ее таланту и авторитету в уголовном мире не было равных».
В русском фольклоре с уважением отзывались о мятежниках, иногда и о разбойниках с трагической судьбой, но не о профессиональных ворах и грабителях. Мережко говорит о том, что его побудило прославлять Соньку: «Уникальность и романтичность личности. Другой такой в нашей истории не было. Она не бандит вроде Пугачева или Разина». Вот теперь о ком надо слагать народные песни типа «Есть на Волге утес» — о воровке, опоэтизированной искусством.
Режиссера спросили: хотелось ли бы ему встретиться с живой Сонькой? В ответ: «Конечно! Обязательно выразил бы ей свой восторг, уважение». Уважение! Мережко воровку уважает и детей учит: «Мы с дочкой даже сходили на Ваганьковское кладбище, где, по легенде, лежит Золотая Ручка. Нашли мраморный памятник, цветочки положили.» [19].
В результате сегодня одним из главных препятствий на пути возврата России к нормальной жизни стало широкое распространение и укоренение преступного мышления. Это нечто более глубокое, чем сама преступность. Этот вал антиморали накатывает на Россию и становится одной из фундаментальных угроз.
Заключение: генезис культурного кризиса на исходе СССР
Преодоление нашего культурного кризиса возможно лишь в рамках цивилизационного проекта. Кто же автор и носитель такого проекта? Н.Я. Данилевский представил плодотворную модель — надклассовую и надэтническую абстрактную общность, которую назвал «культурно-исторический тип» [47].
Данилевский предложил признаки для различения «локальных» цивилизаций, носителем главных черт которых и является культурно-исторический тип. Цивилизация представляется как воображаемый великан, «обобщенный индивид». Данилевский видел в этом типе очень устойчивую, наследуемую из поколения в поколение сущность — народ, воплощенный в обобщенном индивиде. Он считал невозможной передачу главных принципов («смыслов») цивилизации одного культурно-исторического типа другому.
Однако и русская революция, и перестройка конца ХХ в. с последующей реформой показали, что в действительности цивилизация является ареной конкуренции (или борьбы, даже вплоть до гражданской войны) нескольких культурно-исторических типов, предлагающих разные цивилизационные проекты. Один из этих типов (в коалиции с союзниками) становится доминирующим в конкретный период и «представляет» цивилизацию.
Реформы Петра, несмотря на все нанесенные ими России травмы, опирались на волю культурно-исторического типа, сложившегося в XVII-XVIII вв. в лоне российской цивилизации и начинавшего доминировать на общественной сцене. Модернизация и развитие капитализма во второй половине XIX в. вызвали кризис этого культурно-исторического типа и усиление другого, вырастающего на матрице буржуазно-либеральных ценностей. Это было новое поколение российских западников.
На короткое время именно этот культурно-исторический тип возглавил общественные процессы в России и даже осуществил бескровную Февральскую революцию 1917 г. Но он был сметен гораздо более мощной волной советской революции. Движущей силой ее был культурно-исторический тип, который стал складываться до 1917 г., но оформился и получил имя уже как «советский человек» после Гражданской войны. Все цивилизационные проекты для России были тогда «предъявлены» в самой наглядной форме: культурно-исторические типы, которые их защищали, были всем известны и четко различимы, все они были порождением России.
Трудный ХХ в. Россия прошла, ведомая культурно-историческим типом, получившим имя «советский человек» (в среде его конкурентов бытует негативный, но выразительный термин homo sovieticus). Советские школа, армия, культура помогли придать этому культурно-историческому типу ряд исключительных качеств. В критических для страны ситуациях именно эти качества позволили СССР компенсировать экономическое и технологическое отставание от Запада.
Общности, которые являлись конкурентами или антагонистами советского человека, были после Гражданской войны «нейтрализованы», подавлены или оттеснены в тень — последовательно одна за другой. Они, однако, пережили трудные времена и вышли на арену, когда советский тип стал переживать кризис идентичности (в ходе послевоенной модернизации и урбанизации). Среди этих набирающих силу общностей вперед вырвался культурно-исторический тип, проявивший наибольшую способность к адаптации. Его можно назвать, с рядом оговорок, мещанством.
К 1970-м гг. мещанство сумело добиться культурной гегемонии над большинством городского населения и эффективно использовало навязанные массовой культурой формы для внедрения своей идеологии. Советский тип вдруг столкнулся со сплоченным и влиятельным «малым народом», который ненавидел все советское жизнеустройство и особенно тех, кто его строил, тянул лямку. Никакой духовной обороны против них государство уже и не пыталось выстроить.
Видные западные советологи уже в 1950-е гг. разглядели в мировоззрении мещанства свой главный плацдарм в холодной войне. Крупный философ И. Бохенский считал, что рост мещанства станет механизмом перерождения советского человека в обывателя, поглощенного стяжательством. Как и любой общественный процесс, этот сдвиг мог быть перепрофилирован в направлении, не подрывающем главный вектор развития. Но этого не было сделано (см. [48]).
Суть философии мещанства — «самодержавие собственности». Но этот идеал собственности, в отличие от Запада, не стал буржуазным и не был одухотворен протестантской этикой. Мещанин — это антипод творчества, прогресса и высокой культуры. Ему противно любое активное действие, движимое идеалами. Герцен отмечал, что мещанство не столько максимизирует выгоду, сколько стремится «понизить личность».
В отличие от богатого меньшинства дореволюционной России, мещанство пронизывало всю толщу городского населения и жило одной с ним жизнью. Доведенные до крайности установки мещанства были художественно собраны в образе Смердякова. В разных формах этот культурный тип представлен в русской литературе очень широко, став на переломе веков едва ли не самым главным образом. Достоевский и Толстой, Чехов и Горький, Маяковский и Платонов — все оставили художественную летопись эволюции русского мещанства.
Революцию мещанство «пересидело». Составляя значительную часть образованного населения, мещанство быстро овладело знаками советской лояльности и стало заполнять средние уровни хозяйственного и государственного аппарата. Социальный лифт первого советского периода поднял статус мещанства, и уже тогда возникли ниши, где негласно стали господствовать его ценности.
Война сильно выбила творческую, активную часть общества. Мещанство, напротив, окрепло, обросло связями и защитными средствами — и стало повышать голос. Агрессивная аполитичность мещанства, демонстративный отказ от участия в любом общественном деле были действительно важным фактором социальной атмосферы — целостной позицией, которая стала подавлять позицию гражданскую.
Для подрыва жизнеспособности России важен тот факт, что, подняв к власти и собственности мещанство, государство подорвало (если не пресекло) воспроизводство интеллигенции. Мещанство — ее антипод, экзистенциальный враг.
В общем, советский культурно-исторический тип сник в 1970-1980-е гг., а потом был загнан в катакомбы. Господствующие позиции заняло мещанство, в том числе криминализованное. Эта смена культурно-исторического типа и предопределила резкую утрату жизнеспособности России как цивилизации.
Ход утраты культурной гегемонии советским типом — важный урок истории и актуальная для России проблема обществоведения. Наше обществоведение было и осталось проникнуто эссенциализмом, который делает государство и общество слепыми. Казалось, что заданное нам культурой представление о человеке очень устойчиво, что в нем есть как будто данное свыше жесткое ядро. Послевоенный период приоткрыл, а кризис показал, что оно подвижно и поддается воздействию образа жизни, образования, телевидения. Культура — это огромная машина, которая чеканит нас в основном по чертежу, заложенному в нее сильными мира сего. Мы, конечно, сопротивляемся, подправляем чертеж, изменяем чеканку своей низовой культурой. Но диапазон угроз широк, возможностей уклониться от них часто не хватает.
В массе своей советские люди исходили из того представления о человеке, которым был проникнут общинный крестьянский коммунизм. Они считали, что человеку изначально присущи качества соборной личности, тяга к правде и справедливости, любовь к ближним и инстинкт взаимопомощи. В особенности, как считалось, это было присуще русскому народу. Как говорилось, таков уж его «национальный характер». А поскольку все эти качества считались сущностью русского характера, данной ему изначально, то они и будут воспроизводиться из поколения в поколение вечно. Была такая неосознанная уверенность.
Эта вера породила ошибочную в важной своей части антропологическую модель, положенную в основание советского жизнеустройства. Устои русского народа и братских народов России, присущие им в период становления советского строя, были приняты за их природные свойства. Задача «модернизации» этих устоев в меняющихся условиях (особенно в обстановке холодной войны) не только не ставилась, но и отвергалась с возмущением. Как можно сомневаться в крепости устоев?!
Эффективности крестьянского коммунизма как мировоззренческой матрицы народа хватило в советский период на четыре-пять поколений. Люди рождения 1950-х гг. вырастали в новых условиях, их культура формировалась под влиянием кризиса массового перехода к городской жизни. Одновременно шел мощный поток образов и соблазнов с Запада. К концу 1970-х гг. на арену выдвинулось поколение, в культурном отношении отличное от предыдущих поколений.
Если бы советское общество исходило из реалистичной антропологической модели, то за 1950-1960-е гг. вполне можно было выработать и новый язык для разговора с грядущим поколением, и новые формы жизнеустройства, отвечающие новым потребностям. А значит, Россия преодолела бы кризис и продолжила развитие в качестве независимой страны на собственной исторической траектории культуры.
С этой задачей советское общество не справилось, оно потерпело поражение. Надо признать, что для этого были предпосылки, которые корнями уходят в XIX в., в то влияние, которое оказал на русскую интеллигенцию романтизм классической немецкой философии. В советское время это влияние было закреплено марксизмом. В результате в мышлении (точнее, в когнитивной структуре) советской гуманитарной интеллигенции была сильна вера в наличие некоторых устойчивых сущностей, отвечающих объективным законам исторического развития. Эта вера подавляла беспристрастный рациональный подход.
Г.С. Батыгин писал: «Советская философская проза в полной мере наследовала пророчески-темный стиль, приближавший ее к поэзии, иногда надрывный, но чаще восторженный. Философом, интеллектуалом по преимуществу считался тот, кто имел дар охватить разумом мироздание и отождествиться с истиной. Как и во времена стоиков, философ должен был быть знатоком всего на свете, в том числе и поэтом… В той степени, в какой в публичный дискурс включалась социально-научная рационализированная проза, она также перенимала неистовство поэзии» [5].
В результате, гуманитарная культура не смогла в должной мере интегрироваться с социально-научной рациональностью, вследствие чего после смены поколений в 1960-1970-е гг. «мы не знали общества, в котором живем».
Следствием этого срыва являются не только разрушение СССР и массовые страдания людей в период разрухи, но и риск полного угасания нашей культуры и самого народа. Ибо мы сорвались в кризис в таком состоянии, что он превратился в «ловушку». Прежняя траектория исторического развития опорочена в глазах молодых поколений, и в то же время никакой из мало-мальски возможных проектов будущего не получает поддержки у массы населения.
* * *
Российское общество подходит к пороговому моменту в исчерпании ресурсов советской культуры. При этом никаких ресурсов альтернативной культуры (например, «западной») не появилось. До сих пор даже и антисоветская мысль в России питалась советской культурой и была ее порождением, а теперь и она — как рыба, глотающая воздух на песке.
Обрезав советские корни, жители России не обрели других и становятся людьми ниоткуда, идущими в никуда. Но исход вовсе не предопределен. Если молодежь России хочет выжить как большая культурная общность, она еще имеет время, чтобы хладнокровно рассмотреть все варианты будущего и определиться. Главные устои культуры быстро не исчезают, а лишь уходят вглубь, становятся сокровенными и теряют качества активных социальных факторов. Нужны усилия, чтобы их «оживить».
Доклад подготовлен С.Г. Кара-Мурзой
Литература
1. Амосов Н.М. Мое мировоззрение // Вопросы философии. 1992. № 6.
2. Ципко А.С. Можно ли изменить природу человека? // Освобождение духа. М.: Политиздат, 1991. С. 73-90.
3. Sahlins M. Uso y abuso de la biologla. Madrid: Siglo XXI Ed., 1990.
4. Булгаков С.Н. Расизм и христианство // Протоиерей Сергий Булгаков. Христианство и еврейский вопрос. Paris: YMCA-Press, 1991. URL: http:// . html.
5. Батыгин Г.С. «Социальные ученые» в условиях кризиса: структурные изменения в дисциплинарной организации и тематическом репертуаре социальных наук // Социальные науки в постсоветской России. М.: Академический проект, 2005. С. 43.
6. Как мы думали в 2004 году: Россия на перепутье. М.: Алгоритм-ЭКСМО, 2005.
7. Ерофеев В. Поминки по советской литературе // Апрель. 1990. Вып. 2.
8. Иванов В.Н., Назаров М.М. Массовая коммуникация в условиях глобализации // СОЦИС. 2003. № 10.
9. Буровский А.М. После человека // Постчеловек. М.: Алгоритм, 2008. С. 208.
10. О классе интеллектуалов и интеллектуальном капитале — экономист Владислав Иноземцев // НТВ. 24 сентября 2003 г. URL: / programs/publicistics/gordon/index. jsp?part=Archive&pn=3.
11. Иноземцев В. On modern inequality. Социобиологическая природа противоречий XXI века // Постчеловечество. М.: Алгоритм, 2007. С. 71.
12. Столяров А.М. Розовое и голубое // Постчеловек. М.: Алгоритм, 2008. С. 26, 31.
13. Грей Дж. Поминки по Просвещению. М.: Праксис, 2003. С. 143.
14. Качанов Ю.Л., Шматко Н.А. Как возможна социальная группа (к проблеме реальности в социологии) // СОЦИС. 1996. № 12.
15. Панарин А.С. Народ без элиты. М.: Алгоритм-ЭКСМО. 2006. С. 297.
16. Иванец Н.Н., Кошкина Е.А., Киржанова В.В., Павловская Н.И. Демографические последствия роста наркомании и алкоголизма // Россия: предпосылки преодоления системного кризиса. М.: ИСПИРАН, 2007.
17. Лэш К. Восстание элит и предательство демократии. М.: Логос-Прогресс, 2002.
18. Мацкевич И.М. Криминальная субкультура // Российское право в Интернете. 2005. № 1. URL: http://www. rpi.msal.ru/prints/200501criminology1. html.
19. Романов Н. Сонька на скорую руку // Литературная газета. 16-22 мая 2007 г. № 20 (6120). URL: / Polosy/10_1.htm.
20. Яковлев А.Н. Муки прочтения бытия. Перестройка: надежды и реальности. М.: Новости, 1991. С. 79.
21. Право. Свобода. Демократия (Материалы «Круглого стола») // Вопросы философии. 1990. № 6.
22. Фуко М. Что такое Просвещение? // Интеллектуалы и власть. М.: Прак-сис, 2002.
23. Буртин Ю. Важные государственные дела // Независимая газета. 1992. 21 апреля.
24. Кара-Мурза С.Г. Кризисное обществоведение: В 2 т. М.: Научный эксперт, 2012. Т. 2. С. 157-164.
25. Степанова О.К. Понятие «интеллигенция»: судьба в символическом пространстве и во времени // СОЦИС. 2003. № 1.
26. Ионин Л.Г. Идентификация и инсценировка (к теории социокультурных изменений) // СОЦИС. 1995. № 4.
27. О реформе образования, ее итогах и перспективах. Заявление Ученого совета филологического факультета МГУ // URL: . ru/pdfs/o-reforme-obrazovaniya_philol2012.pdf.
28. Мошкин С.В., Руденко В.Н. За кулисами свободы: ориентиры нового поколения // СОЦИС. 1994. № 11.
29. Лемуткина М. 100 баллов за ЕГЭ — это «через чюр» // Московский комсомолец. 2009. 2 ноября.
30. Шатурин М. «Все граждане равны, но некоторые равнее». Записки русского эмигранта // URL: #555.
31. Никулин А.М. Кубанский колхоз — в холдинг или асьенду? // Социологические исследования. 2002. № 1.
32. Любимов Л. Право на безделье // Ведомости. 2010. 13 сентября. № 171. URL: # ixzz1VJIyikZc.
33. Макаров А.С. Живая жизнь. Штрихи к биографии Владимира Высоцкого: Сб. М.: Петит. 1992. С. 3.
34. Янин С.В. Факторы социальной напряженности в армейской среде // СОЦИС. 1993. № 12.
35. Тайбаков А.А. Профессиональный преступник (опыт социологического исследования) // СОЦИС. 1993. № 8.
36. Шмелев Н. Авансы и долги // Новый мир. 1987. № 6.
37. Шмелев Н. Новые тревоги и надежды // Новый мир. 1988. № 4.
38. Богомолов О.Т. Экономика и общественная среда // Экономика и общественная среда: неосознанное взаимовлияние. М.: Институт экономических стратегий. 2008. С. 21.
39. Карпухин Ю.Г., Торбин Ю.Г. Проституция: закон и реальность // СОЦИС. 1992. № 5.
40. Гилинский Я.И. Эффективен ли запрет проституции? // СОЦИС. 1988. № 6.
41. Камалов Р.М. Метаморфозы стыдливости // СОЦИС. 1995. № 11.
42. Пучков П.В. Вы чье, старичье? // СОЦИС. 2005. № 10.
43. Ионин Л.Г. Культура и социальная структура // СОЦИС. 1996. № 3.
44. Lorenz K. La action de la Naturaleza y el destino del hombre. Madrid. Alianza. 1988. Р. 164.
45. Ионин Л.Г. Культура на переломе (механизмы и направление современного культурного развития в России) // СОЦИС. 1995. № 2.
46. Бондаренко В. Казненные молчанием // Слово. 1991. № 10.
47. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М.: Книга, 1991.
48. Новиков А.И. Мещанство и мещане. Л.: Лениздат, 1983.
АНОМИЯ В РОССИИ: ПРИЧИНЫ И ПРОЯВЛЕНИЯ
Мы представляем колоссальный кризис России как систему, рассматривая разные его «срезы». Его интегральную, многомерную рациональную модель сложить в уме пока трудно, приходится довольствоваться художественными образами. С языком для описания образа этой катастрофы дело пока обстоит плохо — страшно назвать вещи «своими именами». Приходится ограничиваться эвфемизмами. Говорим, например, «кризис легитимности власти». Разве это передает степень, а главное, качество отчуждения, которое возникло между населением и властью? Нет, перед нами явление, которое в учебниках не описано.
Разработка аналитического языка для изучения нашей Смуты — большая задача, к которой почти еще не приступали. Надо хотя бы наполнять термины из общепринятого словаря западной социологии нашим содержанием. Ведь почти все понятия, обозначаемые этими терминами, требуют большого числа содержательных примеров из реальности именно нашего кризиса.
В этом докладе рассмотрим один срез нашего кризиса, который можно назвать аномия России. Аномия (букв. беззаконие, безнормность) — такое состояние общества, при котором значительная его часть сознательно нарушает известные нормы этики и права. Это тяжелая социальная болезнь и глубокий кризис культуры.
В советское время понятие «аномия» применялось редко, представление о советском человеке было проникнуто верой в устойчивость его ценностной матрицы (как в сословном обществе царской России была сильна вера в монархизм православного русского крестьянина). Считалось немыслимым, чтобы в советском обществе целые социальные группы могли сознательно отвергнуть привычные установленные нормы, т. е. вести двойную жизнь. Преступный мир, который существовал как бы в параллельном мире («подполье»), считался антисоциальной группой, и его системное перемешивание с законопослушными социальными общностями не допускалось как аномалия. Аномия — это двойная жизнь как норма. Кроме того, это необходимая сторона жизни общества в целом.
Маргинальные группы, проявляющие склонность к девиантному и криминальному поведению, есть в любом обществе и в любой момент времени. Конечно, и в советском обществе были проявления аномии (например, мелкое воровство «несунов», массовая мелкая коррупция и пр.), но это считалось болезненными формами девиантного поведения, которое не приобретало системообразующего характера.
Советское обществоведение отвергало предупреждения вроде того, что сделал К. Лоренц: «Молодой “либерал”… даже не подозревает о том, к каким разрушительным последствиям может повести произвольная модификация норм, даже если она затрагивает кажущуюся второстепенной деталь.. Подавление традиции может привести к тому, что все культурные нормы социального поведения могут угаснуть, как пламя свечи» [1]. Вся перестройка прошла под аплодисменты таких «молодых либералов», воспитанных советским обществоведением.
Постсоветское обществоведение тоже медленно осваивает познавательные возможности представлений об аномии. В течение 20 лет едва ли не половина статей в «СОЦИС» затрагивает проблему аномии той или иной социокультурной общности в России, но даже само понятие, обозначающее это явление, почти не применяется. На 2-3 тыс. статей по проблеме аномии российского общества едва наберется десяток имеющих в заглавии этот термин.
Некоторые социологи видят в концепции аномии развитие идей К. Маркса об отчуждении (алиенации). Так, В.О. Рукавишников пишет об отчуждении кризисного российского общества от политики власти как об одной из сторон аномии, порожденной реформами, которые свели идею модернизации к вестернизации: «Политическая алиенация в нашей стране связана с кризисом ценностной структуры общества, равно как изменениями в экономической, политической и культурной среде жизнедеятельности россиян. Для старших возрастных групп ее индикаторы коррелируют с негативным отношением к экономической политике и приверженностью традиционным ценностям и неприятием западных культурных стандартов, навязываемых реформаторами. Алиенация связана и с представлениями о том, что в условиях безудержной коррупции, преступности и растущей дифференциации доходов личного успеха можно достичь только противозаконными средствами. Увы, кризис морали и нравственности в период падения благосостояния масс является неизбежным побочным продуктом вестернизации, по крайней мере, обратной зависимости до сих пор не обнаружено ни в одной из стран» [2].5
Но сведение аномии к одной из форм отчуждения непродуктивно. Отчуждение — категория размытая и исключительно туманная. В русском толковом словаре слово отчуждение означает отделение, удаление, разрыв, отбирание. В этом же смысле оно перешло из латыни (alienatio) в европейские языки, правда, с добавлением значения беспамятство, психическое расстройство.
Понятие «аномия» — вполне конкретное и жесткое, обозначает оно тяжелую социальную болезнь, в которой отчуждение служит лишь легким симптомом. Приведем высказывания философа и социолога: «Идеи Дюркгейма об аномии… лишь незначительная, но зловещая прелюдия» (К. Вольфф); «Аномия есть тенденция к социальной смерти; в своих крайних формах она означает смерть общества» (Р. Хилберт) (цит. [44]).
Мы будем говорить об аномии как социальном явлении. Его отличают от аномического состояния индивидов (хотя, очевидно, оно связано с обстановкой в общества).
В обзоре 1992 г. сказано: «“Психологическая аномия”, по Макайверу, — это “состояние сознания”, в котором чувство социальной сплоченности — движущая сила морали индивида — разрушается или совершенно ослабевает. Макайвер определяет аномию как “разрушение чувства принадлежности индивида к обществу”: “человек не сдерживается своими нравственными установками, для него не существует более никаких нравственных норм, а только несвязные побуждения, он потерял чувство преемственности, долга, ощущение существования других людей. Аномичный человек становится духовно стерильным, ответственным только перед собой. Он скептически относится к жизненным ценностям других. Его единственной религией становится философия отрицания. Он живет только непосредственными ощущениями, у него нет ни будущего, ни прошлого”.
Макайвер связывает это явление с тремя “проблемными характеристиками современного демократического общества: конфликтом культур, капиталистической конкуренцией и стремительностью социальных изменений”» [44].
Эти проблемные характеристики присущи и нашему нынешнему «демократическому обществу», но аномия накрыла Россию так плотно и всеобъемлюще, что сравнение с современным Западом нам мало что дает. Аномия — это такое явление, что, глядя через него, можно рассмотреть и понять почти все сферы и срезы бытия нынешней России. Сегодня к любому процессу или событию в российском обществе надо подходить, вооружившись знаниями об аномии как пробным камнем.
В российском обществоведении наибольшее внимание аномии уделяют социологи и криминалисты. Для социологов аномия — важнейший фактор, определяющий динамику структуры общества, поскольку человеческие общности, являющиеся структурными единицами общества, скрепляются прежде всего общими ценностями и нормами.
П. Сорокин, говоря об интеграции людей в общность или ее дезинтеграции, исходил именно из наличия общих ценностей, считая, что «движущей силой социального единства людей и социальных конфликтов являются факторы духовной жизни общества — моральное единство людей или разложение общей системы ценностей».
Перемена устоявшихся порядков — всегда болезненный процесс, но когда господствующие политические силы начинают ломать всю систему жизнеустройства, это наносит народу столь тяжелую травму, что его сохранение ставится под вопрос. Целые социальные группы в таком состоянии перестают чувствовать свою причастность к обществу, происходит их отчуждение, новые социальные нормы и ценности отвергаются членами этих групп. Неопределенность социального положения, утрата чувства солидарности ведут к нарастанию отклоняющегося и саморазрушительного поведения. Это и есть аномия.
Более жестко, чем социологи, подходит к формулировке проблемы аномии криминолог В.В. Кривошеев: «Дезорганизация, дисфункциональность основных социальных институтов, патология социальных связей, взаимодействий в современном российском обществе, которые выражаются, в частности, в несокращающемся числе случаев девиантного и делинквентного поведения значительного количества индивидов, т. е. все то, что со времен Э. Дюркгейма определяется как аномия, фиксируется, постоянно анализируется представителями разных отраслей обществознания. Одни социологи, политологи, криминологи полагают, что современное аномичное состояние общества — не более чем издержки переходного периода… Другие рассматривают происходящее с позиций катастрофизма, выделяют определенные социальные параметры, свидетельствующие, по их мнению, о необратимости негативных процессов в обществе, его неотвратимой деградации. Своеобразием отличается точка зрения А.А. Зиновьева, который полагает возможным констатировать едва ли не полное самоуничтожение российского социума.
На наш взгляд, даже обращение к этим позициям свидетельствует об определенной теоретической растерянности перед лицом крайне непростых и, безусловно, не встречавшихся прежде проблем, стоящих перед нынешним российским социумом, своего рода неготовности социального познания к сколь-нибудь полному, если уж не адекватному, их отражению» [3].
Эту «неготовность социального познания» к пониманию конкретного явления современной российской аномии надо срочно преодолевать.
Э. Дюркгейм, вводя в социологию понятие аномии (1893 г.), видел в ней продукт разрушения солидарности традиционного общества при задержке формирования солидарности общества гражданского. Это пережил Запад в период становления буржуазного общества при трансформации общинного человека в свободного индивида.
Череда революций при возникновении современного Запада (Реформация, Научная и Промышленная революции, великие буржуазные революции) вызвала в Европе не просто всплеск психических расстройств, но и наследуемые физиологические изменения, ставшие этническими маркёрами, присущими народам этого региона, например расщепление сознания (историк науки Джозеф Нидэм называл его «характерной европейской шизофренией»).
Историк психиатрии Л. Сесс пишет: «Шизофренические заболевания вообще не существовали, по крайней мере в значительном количестве, до конца XVIII — начала XIX в. Таким образом, их возникновение надо связывать с чрезвычайно интенсивным периодом перемен в направлении индустриализации в Европе, временем глубокой перестройки традиционного общинного образа жизни, отступившего перед лицом более деперсонифицированных и атомизированных форм социальной организации» (см. [4]).
На материале американского общества середины ХХ в. понятие аномии развил Р. Мертон в очень актуальном для нынешней России аспекте («Порок и преступление — “нормальная” реакция на ситуацию, когда усвоено культурное акцентирование денежного успеха, но доступ к общепризнанным и законным средствам, обеспечивающим этот успех, недостаточен» [5]).
От аномии человек защищен в устойчивом и сплоченном обществе. Атомизация общества, индивидуализм его членов, одиночество личности, противоречие между «навязанными» обществом потребностями и возможностями их удовлетворения — вот условия возникновения аномии. Атомизированное общество не озабочено жизненными целями людей, нравственными нормами поведения, даже социальным самочувствием. Целые социальные группы перестают чувствовать свою причастность к данному обществу, происходит их отчуждение, новые социальные нормы и ценности отвергаются членами этих групп. Неопределенность социального положения, утрата чувства солидарности ведут к нарастанию отклоняющегося и саморазрушительного поведения. Аномия — важная категория общей теории девиантного поведения.
Причины, порождающие аномию, являются социальными (а не личностными и психологическими) и носят системный характер. Воздействие на сознание и поведение людей оказывают одновременно комплексы факторов, обладающие кооперативным эффектом. Поэтому можно принять, что проявления аномии как результат взаимодействия сложных систем будут мало зависеть от структуры конкретного потрясения, перенесенного конкретной общностью. Это потрясение можно обозначить метафорой «культурная травма», которую ввел польский социолог П. Штомпка.
Он пишет: «Травма появляется, когда происходит раскол, смещение, дезорганизация в упорядоченном, само собой разумеющемся мире. Влияние травмы на коллектив зависит от относительного уровня раскола с предшествующим порядком или с ожиданиями его сохранения…
Что конкретно поражает травма? Где можно обнаружить симптомы травмы? Травма действует на три области; следовательно, возможны три типа коллективных (социальных) травматических симптомов. Во-первых, травма может возникнуть на биологическом, демографическом уровне коллективности, проявляясь в виде биологической деградации населения, эпидемии, умственных отклонений, снижения уровня рождаемости и роста смертности, голода и т. д..
Во-вторых, травма действует на социальную структуру. Она может разрушить сложившиеся каналы социальных отношений, социальные системы, иерархию. Примеры травмы структуры — политическая анархия, нарушение экономического обмена, паника и дезертирство воюющей армии, нарушение и распад семьи, крах корпорации и т. п..
Культурная травма,… как все феномены культуры, обладает сильнейшей инерцией, продолжает существовать дольше, чем другие виды травм, иногда поколениями сохраняясь в коллективной памяти или в коллективном подсознании, время от времени, при благоприятных условиях, проявляя себя.
Вследствие стремительного, радикального социального изменения “двойственность культуры” проявляется своеобразно: травматические события, сами по себе несущие определенный смысл, наделяются смыслом членами коллектива, нарушая мир смыслов, неся культурную травму. Если происходит нарушение порядка, символы обретают значения, отличные от обычно означаемых. Ценности теряют ценность, требуют неосуществимых целей, нормы предписывают непригодное поведение, жесты и слова обозначают нечто, отличное от прежних значений. Верования отвергаются, вера подрывается, доверие исчезает, харизма терпит крах, идолы рушатся» [6].
Другими словами, радикальные социальные изменения, несущие «свой смысл», наделяются дополнительным смыслом как ответ культуры той общности, которая испытала травму. Культурная травма, нанесенная народу, привела к культурному шоку. Он вызвал тяжелый душевный разлад у большинства граждан. В начале 1990-х гг. 70% опрошенных относили себя к категории “людей без будущего”. В 1994 г. “все возрастные группы пессимистически оценивали свое будущее: в среднем только 11% высказывали уверенность, тогда как от 77 до 92% по разным группам были не уверены в нем”. Летом 1998 г. (до августовского кризиса) на вопрос “Кто Я?” 38% при общероссийском опросе ответили: “Я — жертва реформ” (в 2004 г. таких ответов 27%)” [15].
В целях анализа мы прибегнем к абстракции, выделяя изменения в образе жизни (социальных прав, доступа к жизненным благам и пр.) и изменения в духовной сфере (оскорбление памяти, разрушение символов и пр.), но будем иметь в виду, что обе эти сферы связаны неразрывно. Приватизация завода для многих не просто экономическое изменение, но и духовная травма, как не сводится к экономическим потерям ограбление в темном переулке.
Для краткости мы будем описывать травмирующие социальные изменения в России и результирующие проявления аномии, не пытаясь установить корреляции между этими двумя структурами.
В социологической литературе гораздо большее внимание уделяется изменениям в образе жизни, даже, скорее, в экономической, материальной стороне жизнеустройства. Здесь мы будем в какой-то мере компенсировать этот перекос собственными соображениями о травмах в духовной сфере.
Вот взгляд извне с обобщающей формулировкой. Президент Международной социологической ассоциации М. Буравой пишет: «Россия поляризуется… Центр интегрируется в передовые сети глобального информационного общества, провинции бредут в противоположном направлении к неофеодализму. Невероятно глубокое разделение общества по имущественному положению повлекло за собой отчужденность. Разрушительной формой протеста стало пренебрежение к социальным нормам. В социальной структуре распадающегося общества возник значительный слой “отверженных” — люмпенизированных лиц, в общности которых процветают преступность, алкоголизм и наркомания» [7].
Заведующий кафедрой социологии Российской академии государственной службы при Президенте РФ В.Э. Бойков пишет в 2004 г.: «Одной из форм социально-психологической адаптации людей к действительности стала их мимикрия, т. е. коррекция взглядов, ценностных ориентаций, норм поведения и т. д. в соответствии со стандартами новых взаимоотношений. Нередко это приспособление выражается в амбивалентности моральных воззрений: в несогласованности между исповедуемыми идеями и принципами нравственности, с одной стороны, и реальным уровнем моральных требований к себе и окружающим, с другой. Такие явления, как ловкачество, беспринципность, продажность и другие антиподы морали, все чаще воспринимаются в обыденном сознании не как аномалия, а как вполне оправданный вариант взаимоотношений в быту, в политической деятельности, бизнесе и т. д. Например, две трети опрошенных респондентов, по данным исследования 2003 г., не видят ничего зазорного в уклонении от уплаты налогов, более того, 36,7% убеждены, что такого рода обман государства морально оправдан» [13].
А вот взгляд из российской глубинки (Ивановская обл.): «Депрессивная экономика, низкий уровень жизни и высокая дифференциация доходов населения сильнее всего сказываются на представителях молодежной когорты, порождая у них глубокий “разрыв между нормативными притязаниями. и средствами их реализации”, усиливая аномические тенденции и способствуя тем самым росту суицидальной активности в этой группе.
Бесконечные реформы, результирующиеся в усиление бедности, рост безработицы, углубление социального неравенства и ослабление механизмов социального контроля, неизбежно ведут к деградации трудовых и семейных ценностей, распаду нравственных норм, разрушению социальных связей и дезинтеграции общественной системы. Массовые эксклюзии рождают у людей чувство беспомощности, изоляции, пустоты, создают ощущение ненужности и бессмысленности жизни. В результате теряется идентичность, растет фрустрация, утрачиваются жизненные цели и перспективы. Все это способствует углублению депрессивных состояний, стимулирует алкоголизацию и различные формы суицидального поведения. Общество, перестающее эффективно регулировать и контролировать повседневное поведение своих членов, начинает систематически генерировать самодеструктивные интенции» [8].
Возьмем крайнее выражение аномии — рост преступности (особенно с применением насилия) и числа самоубийств. На рис. 1 видно, какой всплеск разбоев и грабежей вызвало потрясение от начала реформ в конце 1980-х гг. Лишь после 2000 г. началось сокращение числа этих преступлений — произошла и адаптация общества, и «выгорание» потенциала радикальной преступности.
Рис. 1. Число зарегистрированных случаев разбоя и грабежа в России, тыс. за год
Однако положение, несмотря на очень благоприятную экономическую конъюнктуру 2000-2008 гг., остается тяжелым. По официальным данным (Росстат), в 2008 г. от преступных посягательств пострадало 2,3 млн человек, из них 44 тыс. погибли (без покушения на убийство) и 48,5 тыс. был нанесен тяжкий вред здоровью, зарегистрировано 280 тыс. грабежей и разбоев. Выявлено 1,26 млн лиц, совершивших преступления. Число тяжких и особо тяжких преступлений уже в течение многих лет колеблется на уровне около 1 млн в год (к тому же сильно сократилась доля тех преступлений, которые регистрируются и тем более раскрываются).6
Это значит, что официально примерно в 5% семей в России ежегодно кто-то становится жертвой тяжкого или особо тяжкого преступления! А сколько еще близких им людей переживают эту драму. Сколько миллионов живут с изломанной душой преступника, причинившего страшное зло невинным людям! Только в местах заключения постоянно пребывает около 1 млн человек (в 2008 г. — 888 тыс.). Таким образом, жертвы преступности, включая саму вовлеченную в нее молодежь, ежегодно исчисляются миллионами.
В настоящее время многие из совершаемых тяжких преступлений с применением насилия оказываются не выявленными. В диссертации А.В. Ревягина (2010 г.) сказано: «В России масса таких преступлений ежегодно пополняется на 1 млн посягательств. В результате общее число общественно опасных посягательств, за совершение которых виновные должны понести уголовную ответственность на начало 2010 г. превысило 17 млн. Свыше 1/4 из них приходится на особо тяжкие и тяжкие преступления, основную часть из которых составляют насильственные посягательства.
При этом уровень раскрываемости большинства насильственных преступлений не превышает 60%. В результате на начало 2010 г. общая численность убийств, требующих своего раскрытия, превысила 40 тыс., причинений различной тяжести вреда здоровью — 250 тыс… Если дополнить приведенные показатели данными о преступлениях, не подвергнутых официальному учету, можно утверждать, что надлежащей защиты граждане, находящиеся на территории России, от преступного насилия по-прежнему не получают, а многие преступники остаются ненаказанными» [50].
В.В. Кривошеев исходит из классических представлений о причинах аномии — распад устойчивых связей между людьми под воздействием радикального изменения жизнеустройства и ценностной матрицы общества. Он пишет: «Аномия российского социума реально проявляется в условиях перехода общества от некоего целостного состояния к фрагментарному, атомизированному… Общие духовные черты, характеристики правовой, политической, экономической, технической культуры можно было отметить у представителей, по сути, всех слоев, групп, в том числе и национальных, составлявших наше общество. Надо к тому же иметь в виду, что несколько поколений людей формировались в духе коллективизма, едва ли не с первых лет жизни воспитывались с сознанием некоего долга перед другими, всем обществом.
Ныне общество все больше воспринимается индивидами как поле битвы за сугубо личные интересы, при этом в значительной мере оказались деформированными пусть порой и непрочные механизмы сопряжения интересов разного уровня. Переход к такому атомизированному обществу и определил своеобразие его аномии» [3].
Не углубляясь, отметим методологическую трудность, присущую нашей теме, — трудность измерения аномии. Само это понятие нежесткое, все параметры явления подвержены влиянию большого числа плохо определенных факторов. Следовательно, трудно найти индикаторы, пригодные для выражения количественной меры. Легче оценить масштаб аномии в динамике, через нарастание болезненных явлений. А главное, надо грубо взвешивать смысл качественных оценок.
Можно утверждать, что аномия охватила большие массы людей во всех слоях общества, болезнь эта глубокая и обладает большой инерцией. Видимо, обострения и спады превратились в колебательный процесс — после обострения люди как будто подают друг другу сигнал, что надо притормозить (это видно, например, по частоте и грубости нарушений правил дорожного движения — они происходят волнами). Но надо учитывать также, что наряду с углублением аномии непрерывно происходит восстановление общественной ткани и норм.
Р. Мертон также подчеркивал: «Вряд ли возможно, чтобы когда-то усвоенные культурные нормы игнорировались полностью. Что бы от них ни оставалось, они непременно будут вызывать внутреннюю напряженность и конфликтность, а также известную двойственность. Явному отвержению некогда усвоенных институциональных норм будет сопутствовать скрытое сохранение их эмоциональных составляющих. Чувство вины, ощущение греха и угрызения совести свойственны состоянию неисчезающего напряжения» [5].
Таким образом, несмотря на глубокую аномию состояние российского общества следует считать «стабильно тяжелым», но стабильным. Общество пребывает в условиях динамического равновесия между процессами повреждения и восстановления, которое сдвигается то в одну, то в другую сторону, но не катастрофично.
Об инерционности аномии говорят сообщения самого последнего времени, в которых дается обзор за несколько лет. Авторы обращают внимание на то, что даже в годы заметного улучшения экономического положения страны и роста доходов зажиточных групп населения степень проявления аномии снижалась незначительно.
Вот вывод психиатра, заместителя директора Государственного научного центра клинической и судебной психиатрии им. В.П. Сербского (2010 г.): «Затянувшийся характер негативных социальных процессов привел к распаду привычных социальных связей, множеству мелких конфликтов внутри человека и при общении с другими членами общества. Переживания личного опыта каждого человека сформировали общую картину общественного неблагополучия. Переосмысление жизненных целей и крушение устоявшихся идеалов и авторитетов способствовало утрате привычного образа жизни, потере многими людьми чувства собственного достоинства. Отсюда — тревожная напряженность и развитие “кризиса идентичности личности”… Развиваются чувство неудовлетворенности, опустошенности, постоянной усталости, тягостное ощущение того, что происходит что-то неладное. Люди видят и с трудом переносят усиливающиеся жестокость и хамство сильных» [9].
В этом суждении важное место занимает травма, нанесенная духовной сфере людей: крушение устоявшихся идеалов, потеря чувства собственного достоинства, оскорбительные жестокость и хамство сильных.
Вот недавняя оценка состояния молодежи, также включающая в себя социально-психологические факторы: «Для установок значительной части молодежи характерен нормативный релятивизм — готовность молодых людей преступить социальные нормы, если того потребуют их личные интересы и устремления. Обычно такая стратегия реализуется вследствие гиперболизации конфликта с окружением, его переноса на социум в целом. При этом конфликт, который может иметь различные источники, приобретает в сознании субъекта ценностно-ролевой характер и, как следствие этого, ярко выраженную тенденцию к эскалации» [10].
В большом числе статей делается тревожное предупреждение о том, что в последние годы рост средних доходов населения сопровождался относительным и даже абсолютным ухудшением положения бедной части общества (частично из-за массового ухудшения здоровья этой части населения, частично из-за критического износа материальных условий жизни, унаследованных от советского времени).
Можно привести такой вывод (2010 г.): «Хотя в условиях благоприятной экономической конъюнктуры за последние шесть лет уровень благосостояния российского населения в целом вырос, положение всех социально-демографических групп, находящихся в зоне высокого риска бедности и малообеспеченности, относительно ухудшилось, а некоторых (неполные семьи, домохозяйства пенсионеров и т. д.) резко упало» [11].
Если сохранять чувство меры и делать скидку на то волнение, с которым социологи формулируют свои выводы из исследований социального самочувствия разных социальных и гендерных групп, то массив статей «СОЦИС» за 1990-2010 гг. можно принять за выражение экспертного мнения большого научного сообщества. Важным измерением этого коллективного мнения служит и длинный временной ряд — динамика оценок за все время реформы. В этих оценках сообщество социологов России практически единодушно. Статьи различаются лишь в степени политкорректности формулировок. Как было сказано, подавляющее большинство авторов в качестве основной причины аномии называют социально-экономические потрясения и обеднение большой части населения. Нередко указываются также чувство несправедливости происходящего и невозможность повлиять на ход событий.
Вот как В.А. Иванова и В.Н. Шубкин характеризуют мнение респондентов в 1999 и 2003 г.: «Наибольшее число опрашиваемых в 1999 г. назвали среди самых вероятных [угроз] социально-экономические потрясения и проблемы, связанные с общим ощущением бесправия: снижение жизненного уровня, обнищание (71%), беззаконие (63%), безработица (60%), криминализация (66%), коррупция (58%)…
Усиливается ориентация на готовность к социальному выживанию по принципу “каждый за себя, один Бог за всех”. 30% считают, что даже семья, близкое окружение не сможет предоставить им средств защиты, адекватных угрожающим им опасностям, т. е. чувствуют себя абсолютно незащищенными перед угрозам катастроф. Анализ проблемы страхов россиян позволяет говорить о глубокой дезинтеграции российского общества. Практически ни одна из проблем не воспринимается большей частью населения как общая, требующая сочувствия и мобилизации усилий всех» [12].
Дезинтеграция общества, распад человеческих связей с сохранением только семей и малых групп — это и есть выражение и следствие аномии. Примерно так же описывал ситуацию В.Э. Бойков в 2004 г.: «Состояние массовой фрустрации иллюстрируется данными социологических опросов различных категорий населения. Согласно результатам опроса 2003 г., 73,2% респондентов в той или мной степени испытывают страх в связи с тем, что их будущее может оказаться далеко не безоблачным; 74,6% опасаются потерять все нажитое и еще 10,4% заявили, что им уже нечего терять; 81,7% не планируют свою жизнь или планируют ее не более чем на один год; 67,4% считают, что они совсем не застрахованы от экономических кризисов, которые опускают их в пучину бедности, и 48,3% чувствуют полную беззащитность перед преступностью; 46% полагают, что если в стране все будет происходить как прежде, то наше общество ожидает катастрофа. Заметим, тревожность и неуверенность в завтрашнем дне присущи представителям всех слоев и групп населения, хотя, конечно, у бедных и пожилых людей эти чувства проявляются чаще и острее» [13].
Здесь указан важный признак аномии — люди «не планируют свою жизнь или планируют ее не более чем на один год». Эту тему развивает В.В. Кривошеев в 2009 г.: «Социальное беспокойство, страхи и опасения людей за достигнутый уровень благополучия субъективно не позволяют людям удлинять видение своих жизненных перспектив. Известно, например, что ныне, как и в середине 1990-х гг., почти три четверти россиян обеспокоены одним: как обеспечить свою жизнь в ближайшем году.
Короткие жизненные проекты — это не только субъективная рассчитанность людьми жизненных планов на непродолжительное физическое время, но и сокращение конкретной продолжительности “социальных жизней” человека, причем сокращение намеренное, хотя и связанное со всеми объективными процессами, которые идут в обществе. Такое сокращение пребывания человека в определенном состоянии (“социальная жизнь” как конкретное состояние) приводит к релятивности его взглядов, оценок, отношении к нормам и ценностям. Поэтому короткие жизненные проекты и мыслятся нами как реальное проявление аномии современного общества…
В состоянии социальной катастрофы особенно сильно сказалось сокращение длительности жизненных проектов на молодом поколении. В условиях, когда едва ли не интуитивно все большее число молодых людей понимало и понимает, что они навсегда отрезаны от качественного жилья, образования, отдыха, других благ, многие из них стали ориентироваться на жизнь социального дна, изгоев социума. Поэтому-то и фиксируются короткие жизненные проекты молодых» [14].
В массиве статей журнала «СОЦИС» дается описание широкого спектра проявлений аномии, от самых мягких (конформизма и мимикрии) до немотивированных убийств и самоубийств. Эти проявления начались на ранних стадиях реформы, и российские социологи были к ним не готовы. Результатом стал провал социологических опросов и прогнозов перед выборами в декабре 1993 г. Социолог Б.А. Грушин сделал такое замечание в оценке этого провала. В своей статье «Фиаско социальной мысли» он написал, что российское общество в его нынешней изменчивой форме представляет неподдающиеся измерению проблемы для социальных наук. Он отметил, что «острое недоверие масс к власти, нежелание иметь любые контакты с правительством и факт, что опросы идентифицировались с властью, объясняют, почему многие россияне не понимают роль опросов общественного мнения и не хотят быть искренними с интервьюерами». В январе 1994 г. Б.А. Грушин вышел из Президентского совета, потому что «он ощутил несовместимость своей позиции с ролью независимого организатора опросов».
Большое число работ посвящено специфическим формам аномии в молодежной среде. В.В. Петухов пишет, выделяя вывод курсивом: «Сформировалось поколение людей, которое уже ничего не ждет от властей и готово действовать, что называется, на свой страх и риск. С другой стороны, происходит индивидуализация массовых установок, в условиях которой говорить о какой бы то ни было солидарности, совместных действиях, осознании общности групповых интересов не приходится» [16].
Культурная травма, нанесенная большинству студентов, обладает большой инерцией. Это видно по динамике признаков, приведенных в табл. 1 [17].
Таблица 1
Жизненные позиции российских студентов (% к числу опрошенных)
Самыми незащищенными перед волной аномии оказываются дети и подростки. Они тяжело переживают бедствие, постигшее их родителей, а потом целые контингенты их оказываются беспризорными или безнадзорными, лишенными всякой защиты от преступных посягательств и втянутыми в преступную среду.
В 1994 г. социологи исследовали состояние сознания школьников Екатеринбурга двух возрастных категорий: 8-12 и 13-16 лет. Выводы авторов таковы: «Наше исследование показало, что ребята остро чувствуют социальную подоплеку всего происходящего. Так, среди причин, вызвавших появление нищих и бездомных людей в современных больших городах, они называют массовое сокращение на производстве, невозможность найти работу, высокий уровень цен… Дети школьного возраста полагают, что жизнь современного россиянина наполнена страхами за свое будущее: люди боятся быть убитыми на улице или в подъезде, боятся быть ограбленными. Среди страхов взрослых людей называют и угрозу увольнения, страх перед повышением цен.
Сами дети также погружены в атмосферу страха. На первом месте у них стоит страх смерти: “Боюсь, что не доживу 20 лет”, “Мне кажется, что я никогда не стану взрослым — меня убьют”… Российские дети живут в атмосфере повышенной тревожности и испытывают недостаток добра. Матерятся в школах все: и девочки, и мальчики. Как говорят сами дети, мат незаменим в повседневной жизни. В социуме, заполненном страхами, дети находят в мате некий защитный механизм, сдерживающий агрессию извне» [18].
Как показал ход реформы, для большинства обедневших семей их нисходящая социальная мобильность оказалась необратимой. Сильнее всего это ударило по детям — произошла их сегрегация от благополучных слоев общества [19]. В 2004 г. социологи делают следующий вывод (выделение авторов): «Чрезмерная поляризация общества, прогрессивное сужение социальных возможностей для наиболее депривированных его групп, неравенство жизненных шансов в зависимости от уровня материальной обеспеченности начнет в скором времени вести к активному процессу воспроизводства российской бедности, резкому ограничению возможностей для детей из бедных семей добиться в жизни того же, что и для большинства их сверстников из иных социальных слоев.
Собственно, уже сейчас бедным как четко обозначенной социальной группе довольно редко вообще удается добиться каких-либо существенных изменений своего положения, решить какую-то сложную семейную проблему, остановить падение уровня жизни, вырваться из круга преследующих их неудач. За последние три года только 5,5% из них удалось повысить уровень своего материального положения (по населению в целом — 22,7%)» [20].
Без защиты семьи и государства большое число подростков гибнет от травм, насилия и душевных кризисов. В исследовании причин подростковой смертности сказано: «В последние 5 лет смертность российских подростков в возрасте 15-19 лет находилась в пределах 108-120 на 100 000 населения данного возраста. Этот показатель в 3-5 раз выше, чем в большинстве стран Европейского региона. Главной причиной смертей являются травмы и отравления (74,4% в 2008 г.).
Реальные масштабы подростковой смертности от травм и отравлений заметно превышают ее официально объявленный уровень за счет неточно обозначенных состояний, маскирующих внешние причины, а также сердечно-сосудистых заболеваний, с латентной смертностью наркоманов. Реальные масштабы смертности от убийств, суицидов и отравлений существенно выше официально объявленных за счет повреждений с неопределенными намерениями…
По уровню самоубийств среди подростков Россия на первом месте в мире: средний показатель самоубийств среди населения подросткового возраста более чем в 3 раза превышает средний показатель в мире. И эти страшные цифры не учитывают случаев попыток к самоубийству» [21].
Вообще, смертность от внешних причин (особенно от травм и отравлений) достигла в России очень больших размеров. Вот выводы одного из диссертационных исследований: «Смертность от травм и отравлений в совокупности ее количественной динамики и структурных особенностей (возрастных, гендерных и нозологических) может выступать маркером развития социальной ситуации в стране. В России… возобладали негативные тенденции, вследствие чего уровни травматической смертности российских мужчин в настоящее время более чем вчетверо выше, чем во Франции и США, и более чем в 8 раз выше, чем в Великобритании.
По самым предварительным оценкам в среднем по России половина смертности 20-39-летнего населения от повреждений с неопределенными намерениями определялась латентными убийствами (53,2% у мужчин и 50,4% у женщин), соответственно 16,4 и 17,9% — латентными самоубийствами и 17,5 и 19,1% — отравлениями разного рода химическими веществами (что также косвенно может быть отнесено к суицидам)» [22].
Преступное насилие, как и преступность в целом, — острое и радикальное проявление аномии. Главной причиной ее всплеска, по единодушному мнению социологов, стали социальные изменения в ходе реформы. Само по себе это, однако, не объясняет масштабов волны преступности. В этом В.В. Кривошеев видит необычность воздействия реформы 1990-х гг. на связность общества: «Специфика аномии российского общества состоит в его небывалой криминальной насыщенности. Аномия в решающей мере выступает в наших отечественных условиях в форме криминализации социума… Криминализация общества — это такая форма аномии, когда исчезает сама возможность различения социально позитивного и негативного поведения, действия. Преступный социальный мир уже не находится на социальной обочине, он на авансцене общественной жизни, оказывает существенное воздействие на все ее грани.
Кроме того, криминализация означает появление таких поведенческих актов, которые прежде лишь в единичных случаях фиксировались в нашей стране либо не отмечались вовсе. Речь идет, к примеру, о заказных убийствах, криминальных взрывах, захвате заложников, открытом терроре против тех представителей власти, которые не согласны жить по законам преступного социального мира. Криминализация на поведенческом уровне выражается и в ускоренной подготовке резерва преступного мира, что связывается нами с все большим вовлечением в антисоциальные действия молодежи, подростков, разрушением позитивных социализирующих возможностей общества…
Роль среднего класса в наших условиях фактически играют определенные группы преступного социального мира. Традиционные группы, из которых складывается средний слой (массовая интеллигенция, верхние слои других групп наемного труда и т. д.), к сожалению, в российском обществе ни по своему статусному, ни по своему материальному положению не могут претендовать на позицию в нем. Сказанное и позволяет нам определить криминализацию современного российского общества как весьма специфичную форму такого социального феномена как аномия» [3].
Мощным генератором аномии стало созданное реформой «социальное дно». Оно сформировалось в России к 1996 г. и составляло около 10% городского населения, или 11 млн человек. В состав его входят нищие, бездомные, беспризорные дети и уличные проститутки. Отверженные выброшены из общества с поразительной жестокостью. О них не говорят, их проблемами занимается лишь МВД, в их защиту не проводятся демонстрации и пикеты. Их не считают ближними.
Имеется в виду даже не аномия самих обитателей «дна» (хотя и это массивный элемент всей проблемы), а необходимость для всех социальных групп переступить через нравственные и гражданские нормы, чтобы сосуществовать с «дном», видеть его каждый день и «не пускать» в свое сознание, чтобы не сойти с ума.
Н.М. Римашевская пишет: «Бедность, безработица, экономическая и социальная нестабильность, несбыточность надежд, крушение планов интенсифицируют процесс маргинализации населения. В результате появляется социальный слой пауперов как следствие усиливающейся нисходящей социальной мобильности, нарастающей по своей интенсивности. Так формируется и укрепляется социальное дно, которое фактически отторгается обществом, практически не знающим даже его истинных размеров.
Представители “социального дна” имеют сходные черты. Это люди, находящиеся в состоянии социальной эксклюзии, лишенные социальных ресурсов, устойчивых связей, утратившие элементарные социальные навыки и доминантные ценности социума. Они фактически уже прекратили борьбу за свое социальное существование… “Социальное дно” в России находится вне рамок законов и норм Конституции. “Большое” общество исключает его из орбиты социальных связей; контакты с ним ведутся только по линии правоохранительных органов, процесс эксклюзии реализуется в наиболее полном виде…
В обществе действует эффективный механизм “всасывания” людей на “дно”, главными составляющими которого являются методы проведения нынешних экономических реформ, безудержная деятельность криминальных структур и неспособность государства защитить своих граждан.
Представители бедных не ждут от жизни ничего хорошего; для их мироощущения характерен пессимизм и отчаяние. Этим психоэмоциональном напряжением беднейших социально-профессиональных слоев определяется положение “придонья”… “Придонье” — это зона доминирования социальной депрессии, область социальных катастроф, в которой люди окончательно ломаются и выбрасываются из общества. Процесс формирования придонного слоя связан чаще всего с объективными причинами и показывает, как происходит “втягивание” людей, образованных и необразованных, квалифицированных и неквалифицированных, в среду “социального дна”. “Придонный” слой формируется как бы помимо воли людей, как результат экономического реформирования, крушащего надежды вполне профессионально состоятельных групп населения» [23].
Крайняя степень депривации — бездомность. Она стала крупномасштабным социальным явлением в постсоветской России. Исследователи пишут: «Начавшееся в 1990-е гг. реформирование российского общества породило резкую социальную дифференциацию… Нынешняя российская действительность возвратила нас в мир, где бездомность приобрела характер социального бедствия, не только в силу многочисленности этой категории, но и из-за явной тенденции ее роста.
Индивид, оказавшийся за пределами первичной социальной группы и не имеющий жилья, приобретает специфические черты поведения, характерного для бездомных, он интериоризирует нормы и ценности, принятые среди этой категории населения.
Каковы же причины роста бездомности? Одними из основных причин являются резкое ухудшение социально-экономического положения в стране, трудности или невозможности адаптации части ее населения к новым условиям жизнедеятельности… Объективно способствует росту бездомности проведенная в начале 1990-х гг. приватизация и создание рынка жилья, возможность его купли-продажи. Среди воспользовавшихся этой возможностью были безработные люди, которые, продав свою квартиру или дом, оказались на улице, а вырученные деньги попросту пропивали» [24].
Государственная помощь бездомным столь ничтожна по масштабам, что это стало символом отношения к изгоям общества. К концу 2003 г. в Москве действовали 2 «социальных гостиницы» и 6 «домов ночного пребывания», всего на 1600 мест при наличии 30 тыс. официально учтенных бездомных. Зимой 2003 г. в Москве замерзло насмерть более 800 человек.
И вот выводы социологов: «Всплеск бездомности — прямое следствие разгула рыночной стихии, “дикого” капитализма. Ряды бездомных пополняются за счет снижения уровня жизни большей части населения и хронической нехватки средств для оплаты коммунальных услуг. Бездомность как социальная болезнь приобретает характер хронический. Процент не имеющих жилья по всем показателям из года в год остается практически неизменным, а потому позволяет говорить о формировании в России своеобразного “класса” людей, не имеющего крыши над головой и жизненных перспектив. Основной “возможностью” для прекращения бездомного существования становится, как правило, смерть или убийство» [25].
Общество терпит тот факт, что крайне обедневшая часть населения лишена жизненно важных социальных прав, и в этой нравственной и правовой норме аномия российского общества тотальна. Преступление совершается на наших глазах. Ведь формулировки социологов абсолютно ясны и понятны: «Боязнь потерять здоровье, невозможность получить медицинскую помощь даже при острой необходимости составляют основу жизненных страхов и опасений подавляющего большинства бедных» [20].
Своей бесчувственностью социальная политика создала предпосылки для аномии, которая перемалывает российское общество.
Признаком аномии стало неожиданное для российской культуры явление геронтологического насилия. Традиционно старики были в России уважаемой частью общества, а в последние десятилетия советского периода и вполне обеспеченной частью, но в ходе реформы социальный статус престарелых людей резко изменился. Большинство их обеднели, большая их часть оказались в положении изгоев, не нужных ни семье, ни обществу, ни государству. Крайним проявлением дегуманизации стало насилие по отношению к старикам, которое приобрело масштабы социального явления.
Это явление наблюдается во всех социальных слоях. Изучение проблемы показало, что «социальный портрет» тех, кто избивает и мучает стариков, отражает общество в целом. В составе «субъектов геронтологического насилия» 23,2% имеют высшее образование (плюс студенты вуза — 3%), 36,7% — среднее, 13,5% — среднее техническое, 4,9% — начальное. У 13,4% образовательный уровень неизвестен. 67% насильников — родственники, 24% — друзья и соседи, 9% — «посторонние» [26].
Геронтологическое насилие было узаконено уже в самом начале реформы, потому что новый политический режим видел в старших поколениях советских людей своего противника. К старикам сразу была применена демонстративная жестокость в самой примитивной форме — массовое показательное избиение ветеранов ВОВ на улицах Москвы 23 февраля 1992 г.
Одновременно СМИ провели кампанию глумления над избитыми. Обозpеватель «Комсомольской пpавды» Л. Никитинский писал в репортаже (25.02.1992): «Вот хpомает дед, бpенчит медалями, ему зачем-то надо на Манежную. Допустим, он несколько смешон и даже ископаем, допустим, его стаpиковская настырность никак не соответствует дpяхлеющим мускулам — но тем более, почему его надо теснить щитами и баррикадами?»
Совокупность всех этих социальных изменений породила массовый пессимизм — предпосылку аномии. Начатые в 1980-е гг. и продолжающиеся в настоящее время исследования социального самочувствия обнаружили, по словам авторов, «мощную доминанту пессимизма в восприятии будущего России».
В обзорной статье 2010 г. Л.И. Михайлова пишет: «Анализ показывает, что значительная часть респондентов (58,4%) нуждается в социальной защите. 30,6% живут с чувством бесперспективности, подавленности, у многих состояние социальной защиты вызывает злость и раздражение, лишь очень незначительная часть населения (14,6%) удовлетворена ею… Низкое социальное самочувствие россиян, характеризующееся беспокойством, тревогой, подавленностью, отражается и на восприятии будущего. Оно представлено, скорее, пессимистично, почти по всем исследованным сферам жизнедеятельности доминируют позиции, связанные с сомнениями в возможности решить социальные проблемы» [27].
В 2011 г. Институт социологии РАН опубликовал аналитический доклад «Двадцать лет реформ глазами россиян (опыт многолетних социологических замеров)”. Выводы таковы:
«Единственное, в чем сходятся практически все опрошенные, так это в том, что командой Б. Ельцина был осуществлен наихудший вариант реформирования экономики и всех других сфер жизни общества. Лишь 6% согласились с суждением, что “реформы следовало проводить именно так, как они проводились”. Даже среди либералов этого утверждения придерживаются всего 11%.
В результате ошибок, неверно выбранной модели экономического и социального реформирования или по каким-то иным причинам в 1990-е гг., по мнению россиян, произошло ухудшение практически во всех основных сферах жизни общества и государства. Негативная динамика характерна прежде всего для уровня жизни населения (77% опрошенных фиксируют ухудшение), морального состояния общества (76%), экономики страны в целом (73%), социальной сферы — здравоохранения, образования, культуры (71%), межнациональных отношений (70%). Менее явное, но тоже значительное ухудшение наблюдалось в эти годы в сферах борьбы с коррупцией, обеспечения законности и правопорядка, борьбы с терроризмом и даже международного положения страны. Пожалуй, единственным направлением, где опрошенные отмечают не только “минусы”, но и “плюсы”, стала ситуация в области прав и свобод, развития демократии; в этом направлении 28% респондентов фиксируют улучшение, а 34% — ухудшение» [28].
Это и вызвало тотальную культурную травму населения России.
Еще более важен следующий вывод:
«Рассмотрим ситуацию с негативно окрашенными чувствами и начнем с самого распространенного по частоте его переживания чувства несправедливости всего происходящего вокруг.
Это чувство, свидетельствующее о нелегитимности в глазах россиян самого миропорядка, сложившегося в России, испытывало в апреле 2011 г. хотя бы иногда подавляющее большинство всех россиян (свыше 90%), при этом 46% испытывали его часто. Учитывая роль справедливости — несправедливости в российской культуре, где она выступает своего рода каркасом национального самосознания, это очень серьезный «звонок», сигнализирующий о неблагополучии в этой области…
Кроме того, на фоне остальных негативно окрашенных эмоций чувство несправедливости происходящего выделяется достаточно заметно, и не только своей относительно большей распространенностью, но и очень маленькой и весьма устойчивой долей тех, кто не испытывал соответствующего чувства никогда — весь период наблюдений этот показатель находится в диапазоне 7-10%. Это свидетельствует не просто о сохраняющейся нелегитимности сложившейся в России системы общественных отношений в глазах ее граждан, но даже делегитимизации власти в глазах значительной части наших сограждан, идущей в последние годы…
Что же это за особенности социально-психологического состояния наших сограждан, которые, также как и приведенные выше данные, вызывают тревогу? В первую очередь в этой связи стоит упомянуть чувство стыда за нынешнее состояние своей страны. Стыд за страну в условиях ее достаточно прочного внешнеполитического положения и в целом успешного и стабильного прохождения наиболее острой фазы глобального экономического кризиса последних лет связан с отрицанием сложившегося в России порядка вещей, правил игры и т. п., которые представляются людям не просто несправедливыми, но и позорными. Правомерность такой интерпретации подтверждает тот факт, что теснее всего чувство стыда за свою страну связано с чувством несправедливости происходящего вокруг и чувством, что дальше так жить нельзя. Фактически три эти чувства образуют внутренне целостный, единый компонент мировоззрения значительной группы россиян, при том что лишь 3% их не испытывают трех анализируемых чувств практически никогда…
Новой тенденцией последних лет является при этом практически полное исчезновение связи чувства стыда за свою страну и всего блока негативных чувств с доходом. Если еще пять лет назад наблюдалась отчетливая концентрация испытывающих соответствующие чувства людей в низкодоходной группе, то сейчас они достаточно равномерно распределены по всем группам общества, выделенным с учетом их среднедушевых доходов. Это значит, что если тогда эти чувства вытекали прежде всего из недовольства своей индивидуальной ситуацией, то сейчас это следствие несовпадения реальности с социокультурными нормами, широко распространенными во всех слоях россиян, что также говорит об идущих процессах делегитимизации власти» [28].
Здесь сказано о той травме, которую населению, реформа нанесла в духовной сфере. Массу людей оскорбила несправедливость. Однако можно говорить о системе оскорбительных действий, особой стороне той культурной травмы, которая погрузила общество в аномию.
Коротко пройдем по главным элементам этой системы.7
Ложь элиты — источник аномии
Принципиальный дефект той мировоззренческой структуры, на основе которой производилось целеполагание реформ, — этический нигилизм, игнорирование тех ограничений, которые «записаны» на языке нравственных ценностей. Реформа привела к важному провалу в культуре, о котором не принято говорить. Он из тех, которые тянут на дно, как камень на шее, пока не сбросишь, не выплывешь. Речь о том, что элита присвоила себе право на ложь. И дело не только в этике. Общество, где утверждено такое право, слепо. Оно не видит реальности, и с каждой ложью в нем слепнут и поводыри.
Бывают периоды, когда преуспевают страны, стоящие на принципе «Не в правде Бог, а в силе». В век Просвещения этот принцип ушел в молчание круговой поруки гражданского общества — ложь была направлена вовне, а не против своей же нации. В проекте Просвещения при разработке идеи Общественного договора был сформулирован принцип, который следовал золотому правилу нравственности: «Поступайте по отношению к другим так, как вы хотели бы, чтобы другие поступали по отношению к вам». И. Кант назвал это правило основным моральным законом, его категорический императив гласил: «Поступай так, чтобы максима твоей воли в то же самое время могла иметь силу принципа всеобщего законодательства». Его следствием является запрет на ложь. Этот принцип был заложен в основу права Нового времени. Было принято, что Общественный договор (в принципе, как и любой контракт) не может быть достигнут, если одна сторона заранее готовится обмануть другую сторону.
Но стратегия перестройки и реформ в России изначально строилась на лжи. Сейчас уже невозможно делать вид, что «мы не знали». Уход от рефлексии загоняет болезнь все глубже, обман стал социальной нормой реформаторской элиты России — вот главное.
А.Н. Яковлев, «архитектор перестройки», писал в «Черной книге коммунизма»: «После XX съезда в сверхузком кругу своих ближайших друзей и единомышленников мы часто обсуждали проблемы демократизации страны и общества. Избрали простой, как кувалда, метод пропаганды “идей” позднего Ленина. Надо было ясно, четко и внятно вычленить феномен большевизма, отделив его от марксизма прошлого века. А потому без устали говорили о “гениальности” позднего Ленина, о необходимости возврата к ленинскому “плану строительства социализма” через кооперацию, через государственный капитализм и т. д.
Группа истинных, а не мнимых реформаторов разработала (разумеется, устно) следующий план: авторитетом Ленина ударить по Сталину, по сталинизму. А затем, в случае успеха, Плехановым и социал-демократией бить по Ленину, либерализмом и “нравственным социализмом” — по революционаризму вообще» [29].
По иерархической лестнице быстрее всего стали продвигаться люди двуличные. Некоторые из них были талантливыми, другие посредственными, но важно, что они приняли нормы двоемыслия, что деформировало всю структуру сознания элиты. Она впала в цинизм — особый тип аномии. Лжец теряет контроль над собой, как клептоман, ворующий у себя дома. Речь шла о сдвиге в мировоззрении, в массовое сознание была внедрена программа-вирус. Так созревала тяжелая культурная травма.
М. Горбачев поднялся по номенклатурной лестнице КПСС до ее вершины. На каждой ступеньке он клялся в верности СССР и даже давал ему присягу на верность. Но прошло всего два года, и он в своей лекции в Мюнхене 8 марта 1992 г. сказал: «Мои действия отражали рассчитанный план, нацеленный на обязательное достижение победы… Несмотря ни на что историческую задачу мы решили: тоталитарный монстр рухнул» [45].
Мыслимое ли дело — услышать от президента страны такое признание!
Об этом своем плане М. Горбачев вплоть до конца 1991 г., будучи Президентом СССР, не обмолвился ни словом. Он его обсуждал с ближайшими соратниками, с А.Н. Яковлевым и Э.А. Шеварднадзе, но и они молчали. Значит, власть заранее готовилась обмануть общество (партнера по Общественному договору!) и готовила ликвидацию социализма и СССР. Нынешняя власть не отмежевалась от этого обмана и этим углубила аномию.
Перестройка воспринималась именно как заключение нового Общественного договора. Суть была сформулирована следующим образом: «Больше справедливости! Больше социализма». На поверку оказалась, что вся ее доктрина была обманом. Достоинство людей было оскорблено. Элита реформаторов воспользовалась доверчивостью граждан, а после «победы» стала над этой доверчивостью издеваться.
Вот откровение А.Н. Яковлева, сделанное в 2003 г.: «Для пользы дела приходилось и отступать, и лукавить. Я сам грешен — лукавил не раз. Говорил про “обновление социализма”, а сам знал, к чему дело идет. Есть документальное свидетельство — моя записка Горбачеву, написанная в декабре 1985 г., т. е. в самом начале перестройки. В ней все расписано: альтернативные выборы, гласность, независимое судопроизводство, права человека, плюрализм форм собственности, интеграция со странами Запада. Михаил Сергеевич прочитал и сказал: рано. Мне кажется, он не думал, что с советским строем пора кончать» [46].
Подойдем с другой стороны. В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 2004 г. В.В. Путин говорил: «С начала 1990-х годов Россия в своем развитии прошла условно несколько этапов. Первый этап был связан с демонтажем прежней экономической системы… Второй этап был временем расчистки завалов, образовавшихся от разрушения “старого здания”… Напомню, за время длительного экономического кризиса Россия потеряла почти половину своего экономического потенциала».
Но ведь реформа 1990-х гг. представлялась обществу как модернизация отечественной экономики — а теперь оказывается, что это был ее демонтаж, причем грубый, в виде разрушения «старого здания». На это согласия общества не спрашивали, а разумные граждане никогда бы не дали такого согласия. Ни в одном документе 1990-х гг. не было сказано, что готовился демонтаж экономической системы России, власть следовала тайному плану. Она заведомо лгала обществу, отвергла категорический нравственный императив — и аномия накрыла Россию!
Вот несколько примеров «второго уровня». Во время перестройки многие авторы, включая академиков, доказывали, что строительство «рукотворных морей» и стоящих на них ГЭС было следствием абсурдности плановой экономики и нанесло огромный ущерб России. Н.П. Шмелев, депутат Верховного Совета, ответственный работник ЦК КПСС, ныне академик, пишет в важной книге: «Рукотворные моря, возникшие на месте прежних поселений, полей и пастбищ, поглотили миллионы гектаров плодороднейших земель» [47]. Но это неправда! Водохранилища отнюдь не «поглотили миллионы гектаров плодороднейших земель», при их строительстве в СССР было затоплено 0,8 млн га пашни из имевшихся 227 млн га — 0,35% всей пашни. Зато водохранилища позволили оросить 7 млн га засушливых земель и сделали их действительно плодородной пашней.8
Поток подобных утверждений заполнил все уголки массового сознания и создавал ложную картину буквально всех сфер бытия России. Наше общество было контужено массированной ложью. Этот социально-психологический климат порождал и углублял аномию.
Тяжелый удар нанесла ложь, которой была пропитана идеологическая риторика, представлявшая реформу переходом к демократии и правовому государству. Основная масса населения искренне верила в эти лозунги и обещания, но стоило ликвидировать СССР и его политический порядок, как те же идеологи стали говорить с удивительной глумливостью. Валерия Новодворская писала в 1993 г.: «Я лично правами человека накушалась досыта. Некогда и мы, и ЦРУ, и США использовали эту идею как таран для уничтожения коммунистического режима и развала СССР. Эта идея отслужила свое, и хватит врать про права человека и про правозащитников. А то как бы не срубить сук, на котором мы все сидим… Я всегда знала, что приличные люди должны иметь права, а неприличные (вроде Крючкова, Хомейни или Ким Ир Сена) — не должны. Право — понятие элитарное. Так что или ты тварь дрожащая, или ты право имеешь. Одно из двух» [48].
Ложью обосновывалась приватизация, которая стала небывалым в истории случаем теневого соглашения между бюрократией и преступным миром. Две эти социальные группы поделили между собой промышленность России и нанесли по стране колоссальный удар, и неизвестно еще, когда она им переболеет.
Приведем заключение криминалистов о результатах приватизации в этом аспекте (по состоянию на начало первого десятилетия XXI в.): «В криминальные отношения в настоящее время вовлечены 40% предпринимателей и 66% всех коммерческих структур. Организованной преступностью установлен контроль над 35 тыс. хозяйствующих субъектов, среди которых 400 банков, 47 бирж, 1,5 тыс. предприятий государственного сектора. Поборами мафии обложено 70-80% приватизированных предприятий и коммерческих банков. Размер дани составляет 10-20% от оборота, а нередко превышает половину балансовой прибыли предприятий… По некоторым данным примерно 30% состава высшей элиты в России составляют представители легализованного теневого капитала, организованной преступности» [30].
Ложью были обещания власти не допустить безработицы в результате реформы. Вот что говорил А.Н. Яковлев в выступлении 4 мая 1990 г.: «Сейчас в общественный обиход пущены идеи, утверждающие, что в стране сильно возрастет безработица, упадет жизненный уровень и т. д… Рыночная экономика вводится не для того, чтобы ухудшить положение трудящихся, а для того, чтобы поднять жизненный уровень народа» [31].
В мае 1990 г. было уже прекрасно известно, что в результате реформы как раз «сильно возрастет безработица, упадет жизненный уровень и т. д.». Уже были сделаны и опубликованы расчеты, которых А. Яковлев просто не мог не знать.
Разрушение символов как источник аномии
Массированная ложь применялась в целях подрыва всего строя символов, связанных с Великой Отечественной войной. Образ этой войны — один из немногих сохранившихся центров сосредоточения связей общенациональной основы. Надо подчеркнуть, что эта кампания ведется несмотря на то, что власти России прекрасно понимают значение образа Великой Отечественной войны для поддержания сплоченности общества.
Одна из тем — доведенное до абсурда преувеличение потерь Красной армии в Великой Отечественной войне. Возможности опровергнуть ложь несравнимо меньше, чем у тех сил, кто занимается фальсификацией. Эту кампанию мы наблюдаем каждый год. Вот, канун праздника 60-летия Победы, 3 апреля 2005 г., телепередача В.В. Познера «Времена». В качестве эксперта был приглашен президент Академии военных наук генерал армии М.А. Гареев, который в 1988 г. возглавлял комиссию Министерства обороны по оценке потерь в ходе войны.
Ведущий, В.В. Познер, заявляет: «Вот, поразительное дело — мы до сих пор не знаем точно, сколько погибло наших бойцов, солдат, офицеров в этой войне».
И это — на Первом канале центрального российского телевидения! В.В. Познер, человек сведущий, не мог не знать, что в 1966-1968 гг. подсчет людских потерь в Великой Отечественной войне вела комиссия Генерального штаба, возглавляемая генералом армии С.М. Штеменко. Затем в 1988-1993 гг. сведением и проверкой материалов всех предыдущих комиссий занимался коллектив военных историков под руководством генерал-полковника Г.Ф. Кривошеева. Было осуществлено большое комплексное статистическое исследование архивных документов и других материалов, содержащих сведения о потерях в армии и на флоте, в пограничных и внутренних войсках НКВД. Этот коллектив имел возможность изучить рассекреченные в конце 1980-х гг. материалы Генерального штаба и главных штабов видов Вооруженных сил, МВД, ФСБ, погранвойск и материалы архивных учреждений СССР. Результаты этого фундаментального исследовании потерь личного состава и боевой техники советских Вооруженных сил в боевых действиях за период с 1918 по 1989 г. были опубликованы в 1993 г.
В этой книге сказано: «По результатам подсчетов, за годы Великой Отечественной войны (в том числе и за кампанию на Дальнем Востоке против Японии в 1945 г.) общие безвозвратные демографические потери (убито, пропало без вести, попало в плен и не вернулось из него, умерло от ран, болезней и в результате несчастных случаев) советских Вооруженных сил вместе с пограничными и внутренними войсками составили 8 млн 668 тыс. 400 чел.». Соотношение по людским потерям Германии и ее союзников на Восточном фронте было 1:1,3 в пользу нашего противника.
Государство должно было не допустить заявлений по центральному телевидению, подобных заявлению В.В. Познера. Согласно европейским законам о телевидении он был обязан сначала сообщить аудитории официальные данные, а уже затем высказывать свое личное мнение с обоснованием своих сомнений в этих официальных данных.
На той телепередаче М.А. Гареев пытался сообщить известные и проверенные данные, но на них просто не обратили внимания, отмахнулись. Ему, главному эксперту по обсуждаемому вопросу, не дали говорить! Но показали видеоинтервью с писателем, который заявил, что «немцы в общей сложности потеряли 12,5 млн человек, а мы на одном месте потеряли 32 млн, на одной войне». Это подтвердил А.Н. Яковлев в интервью «Аргументам и фактам». Его спрашивают: «Сколько на самом деле погибло наших солдат в войне с Германией?». Он отвечает: «В войне с Германией погибло не менее 30 млн человек. И как за это можно хвалить великого полководца всех времен и народов Сталина? Это было преступление».
М.А. Гареев на реплику В.В. Познера вставляет слово: «Называли и цифру 60 млн. Вот Володарский [киносценарист] недавно сказал, что наши потери в войне составляют 56 млн. Ведь можно что угодно изобрести». В.В. Познер парирует: «Это вместе с гражданскими». Он прекрасно знает, что общие потери в войне вместе с гражданскими лицами оцениваются в 26,6 млн человек. Знает, но вставляет эту реплику. Разве можно допускать, чтобы на телевидении сидели люди, ведущие информационно-психологическую войну против «страны пребывания»! Другое важное направление — кино. Уже после 2000 г. был снят целый ряд фильмов с заведомой ложью о войне — и в основном на деньги из государственного бюджета! Ложь разоблачалась и военными специалистами, и непосредственными участниками событий, но эти разоблачения трибуны не получали.
Надо отметить, что сегодня атака на образ ВОВ ведется вне зависимости от отношения к СССР или советскому общественному строю. Миф о том, что «русские не умели воевать и пришлось завалить немцев трупами» — политический инструмент дезинтеграции нынешнего российского общества. Он производит аномию в основном в среде молодежи.
А.С. Панарин говорит о катастрофических изменениях во всем жизнеустройстве России и добавляет: «Но сказанного все же слишком мало для того, чтобы передать реальную атмосферу нашей общественной жизни. Она характеризуется чудовищной инверсией: все то, что должно было бы существовать нелегально, скрывать свои постыдные и преступные практики, все чаще демонстративно занимает сцену, обретает форму “господствующего дискурса” и господствующей моды» [49].
Это и есть источник аномии.
Подрыв культурных устоев
Фактором дезинтеграции общества стали в 1990-е гг. действия государства в сфере культуры. Нравственное чувство людей оскорбляла начатая еще во время перестройки кампания по внедрению в язык «ненормативной лексики» (мата). Его стали узаконивать в литературе и прессе, на эстраде и телевидении. Появление мата в публичном пространстве разъединяло людей, отравляло сознание. Для каждого средства языка есть своя ниша, оговоренная нравственными и эстетическими нормами. Разрушение этой системы вызывает тяжелую болезнь всего организма культуры. Опросы 2004 г. показали, что 80% граждан считали использование мата на широкой аудитории недопустимым [35]. Но ведь эта диверсия была частью культурной политики государства!
Культурное ядро общества разрушалось вестернизацией кинематографа. Мало того, что рынок проката был сдан Голливуду, по голливудским штампам стали сниматься отечественные фильмы. Главный редактор журнала «Искусство кино» Д.Б. Дондурей говорил: «Рейтинг фильмов, снятых в ельцинскую эпоху, т. е. после 1991 г., у советских граждан в 10-15 раз ниже, чем у выпущенных под эгидой отдела пропаганды ЦК КПСС. Созданная нашими режиссерами вторая реальность массовой публикой отвергается. Наши зрители сопротивляются той тысяче игровых лент “не для всех”, которые были подготовлены в 1990-е годы, герои которых по преимуществу преступники, наркоманы, инвалиды, проститутки, номенклатурная дрянь с отклонениями в поведении» [36].
Именно «тысяча игровых лент 1990-х годов» продуцирует аномию, а противодействуют ей фильмы, «выпущенные под эгидой отдела пропаганды ЦК КПСС», — вот кризис культуры, а не нехватка денег. Из духовного пространства России удалены целые пласты культуры: Блок и Брюсов, Горький и Маяковский, многие линии в творчестве Льва Толстого и Есенина, революционные и большинство советских песен и романсов. Каков масштаб ампутации! То опустошение культурной палитры, которое произвел «новый режим» за 20 лет — национальная катастрофа. Это механизм воспроизводства аномии.
Исследователи отмечают, что рост подавляющего числа патологических социальных явлений обуславливается не только экономическими и политическими потрясениями, но и культурными факторами, в частности воздействием СМИ. Так, с начала перестройки они целенаправленно развращали молодежь. Социологи из МВД пишут: «Отдельные авторы взахлеб, с определенной долей зависти и даже восхищения, взяв за объект своих сочинений наиболее элитарную часть — валютных проституток, живописали их доходы, наряды, косметику и парфюмерию, украшения и драгоценности, квартиры и автомобили и пр., а также места их “работы”, каковыми являются перворазрядные отели, рестораны и бары. Эти публикации вкупе с известными художественными и документальными фильмами создали красочный образ “гетер любви” и сделали им яркую рекламу, оставив в тени трагичный исход жизни героинь.
Массированный натиск подобной рекламы не мог остаться без последствий. Самое печальное, что она непосредственным образом воздействовала на несовершеннолетних девочек и молодых женщин. Примечательны результаты опросов школьниц в Ленинграде и Риге в 1988 г., согласно которым профессия валютной проститутки попала в десятку наиболее престижных, точнее — доходных, профессий» [37].
Телевидение много лет крутило игровые шоу типа «Слабое звено», «За стеклом», «Последний герой». Их идейный стержень — утверждение социал-дарвинизма как закона жизни в России. Неспособные уничтожаются, а приспособленные выживают в «естественном отборе». Умри ты сегодня, а я завтра! Социологи пишут: «Акцент делается на возможностях победы над противником через подкуп, сговор, активизацию темных, находящихся в глубине души инстинктов. Практически во всех программах прослеживается идея, что для обладания материальным выигрышем, т. е. деньгами, хороши любые средства. Таким образом, программы ориентируют зрителя на определенный вариант жизни, стиль и способ выживания» [38].
Но ведь превращение телевидения в генератор аномии было тогда культурной политикой государства!
Культурной диверсией стала и вестернизация потребностей, которая производит аномию буквально «по учебнику». Запад создал целую индустрию производства потребностей на экспорт. Доктрина этого экспорта была отработана еще в «опиумных войнах» против Китая. Это стало мощным средством господства. Различные народы по-разному закрывались от этого экспорта, сохраняя баланс между структурой потребностей и теми ресурсами для их удовлетворения, которыми они располагали. При ослаблении этих защит происходит, по выражению К. Маркса, «ускользание национальной почвы» из-под производства потребностей, и они начинают полностью формироваться в центрах мирового капитализма. Такие народы он сравнил с аборигенами, чахнущими от европейских болезней. Западных источников дохода нет, западного образа жизни создать невозможно, а потребности западные.
В течение последних 20 лет граждане России были объектом мощной программы по внедрению в сознание новой системы потребностей. Сначала культурный слой и молодежь, а потом и основную массу граждан втянули в «революцию притязаний», добились сдвига к принятию стереотипов западного общества потребления.
Масса людей стала вожделеть западных стандартов потребления и считать их невыполнение в России невыносимым нарушением «прав человека». Так жить нельзя! — вот клич человека, страдающего от неутоленных притязаний. Чтобы получить шанс на обладание вещами «как на Западе», надо было сломать многие нравственные и правовые ограничения. Это, по оценке Р. Мертона, и есть главный механизм аномии в рыночном обществе.
Преднамеренное оскорбление граждан
В антисоветском мышлении уже с 1960-х годов стало созревать отношение к трудящимся как «иждивенцам и паразитам» — чудовищный выверт элитарного сознания. Возникла идея «наказать паразитов» безработицей, а значит, голодом и страхом. Но открыто об этом стали говорить во время перестройки. Близкий к М. Горбачеву экономист Н.П. Шмелев писал: «Не будем закрывать глаза и на экономический вред от нашей паразитической уверенности в гарантированной работе. То, что разболтанностью, пьянством, бракодельством мы во многом обязаны чрезмерно полной (!) занятости, сегодня, кажется, ясно всем. Надо бесстрашно и по-деловому обсудить, что нам может дать сравнительно небольшая резервная армия труда, не оставляемая, конечно, государством полностью на произвол судьбы… Реальная опасность потерять работу, перейти на временное пособие или быть обязанным трудиться там, куда пошлют, — очень неплохое лекарство от лени, пьянства, безответственности» [32].
В Концепции закона о приватизации (1991 г.) в качестве главных препятствий ее проведению называются следующие: «Мировоззрение поденщика и социального иждивенца у большинства наших соотечественников, сильные уравнительные настроения и недоверие к отечественным коммерсантам (многие отказываются признавать накопления кооператоров честными и требуют защитить приватизацию от теневого капитала); противодействие слоя неквалифицированных люмпенизированных рабочих, рискующих быть согнанными с насиженных мест при приватизации».
Сама фразеология этого официального документа оскорбительна. Большинство (!) соотечественников якобы имеют «мировоззрение поденщиков и социальных иждивенцев» (трудящиеся — иждивенцы, какая бессмыслица). Рабочие — люмпены, которых надо гнать с «насиженных мест». Эти выражения свидетельствуют о том, что влиятельная часть либеральной интеллигенции впала в тот момент в мальтузианский фанатизм времен «дикого капитализма». Такой антирабочей фразеологии не потерпела бы политическая система ни одной капиталистической страны, даже в прессе подобные выражения вызвали бы скандал, а у нас ее применяли в законопроектах.
Власть и в настоящее время настойчиво представляет «патерналистские настроения» большинства граждан России как иждивенчество. Это нелепая и оскорбительная установка. Она дополнила социальный конфликт мировоззренческим, ведущим к разделению населения и государства как враждебных этических систем.
Идеологи российских реформ принципиально отвергли государственный патернализм как одну из сторон социального порядка. Эта установка сохранилась и после ухода Б. Ельцина.
Строго говоря, без государственного патернализма не может существовать никакое общество: государство и возникло как система, обязанная наделять всех подданных или граждан некоторыми благами на уравнительной основе. Государственный патернализм — это и есть основание социального государства, каковым называет себя Российская Федерация.
Западные консерваторы видят в государственном патернализме заслон против разрушительного для любого народа «перетекания рыночной экономики в рыночное общество». Один из зачинателей институциональной политэкономии, А. Кайе пишет: «Если бы не было Государства-Провидения, относительный социальный мир был бы сметен рыночной логикой абсолютно и незамедлительно» [33]. Непрерывные попреки власти и угрозы «прекратить государственный патернализм» уже не оскорбляют, а озлобляют людей и вызывают холодное презрение.
Социальным фактом стало глумление «социальной базы» реформ над тем большинством, которое в ходе реформ было обобрано. Это глумление происходит при благожелательном попустительстве государства (нередко с использованием государственных СМИ). Это механизм воспроизводства аномии.
Вот пример из практики аграрной реформы в богатейшем Краснодарском крае. Бывший председатель колхоза кубанской станицы Раздольная, на базе которого создан холдинг и руководителем которого он стал, рассуждает: «На всех землях нашего АО (все земли составляют примерно 12 800 га) в конце концов останется только несколько хозяев. У каждого такого хозяина будет примерно 1500 га земли в частной собственности. Государство и местные чиновники должны обеспечить нам возникновение, сохранность и неприкосновенность нашего порядка, чтобы какие-нибудь… не затеяли все по-своему… Конечно, то, что мы делаем — скупаем у них пай кубанского чернозема в 4,5 гектара за две ($70) и даже за три тысячи рублей ($100) — нечестно. Это мы за бесценок скупаем. Но ведь они не понимают. Порядок нам нужен — наш порядок». Бывшим колхозникам он так объяснил суть этого порядка: «Будет прусский путь! А вы знаете, что такое прусский путь?. Да это очень просто: это я буду помещиком, а вы все будете мои холопы!» [34].
Особой общностью, которой была нанесена и продолжает наноситься глубокая культурная травма, является «советский человек». Численность этой группы определить трудно, но она составляет большинство населения, независимо от идеологических (даже антисоветских) установок отдельных ее частей. Скорее всего, со временем эта численность сократится из-за выбытия старших возрастов, хотя этот тезис дискуссионный: судя по ряду признаков, «либеральная» молодежь, взрослея и создавая семьи, вновь осваивает «советские ценности».
С 1989 г. ВЦИОМ под руководством Ю.А. Левады вел наблюдение за тем, как изменялся в ходе реформы советский человек. В заключительной четвертой лекции об этом исследовании, 15 апреля 2004 г., Ю.А. Левада говорил: «Работа, которую мы начали делать 15 лет назад, — проект под названием “Человек советский” — последовательность эмпирических опросных исследований, повторяя примерно один и тот же набор вопросов раз в пять лет… Было у нас предположение, что мы, как страна, как общество, вступаем в совершенно новую реальность, и человек у нас становится иным. Оказалось, что это наивно. Мы начали думать, что, собственно, человек, которого мы условно обозвали “советским”, никуда от нас не делся. И люди нам, кстати, отвечали и сейчас отвечают, что они то ли постоянно, то ли иногда чувствуют себя людьми советскими. И рамки мышления, желаний, интересов почти не выходят за те рамки, которые были даже не в конце, а где-нибудь в середине последней советской фазы. У нас сейчас половина людей говорит, что лучше было бы ничего не трогать, не приходил бы никакой злодей Горбачев, и жили бы, и жили» [39].
Итак, «советский человек никуда от нас не делся». Он просто «ушел в катакомбы». Там он подвергается жесткой идеологической обработке, зачастую с примесью культурного садизма. Любой тип, выходящий на трибуну или к телекамере с антисоветским сообщением, получает какой-то бонус. Антисоветская риторика узаконена как желательная, что и обеспечивает непрерывность «молекулярной агрессии» в массовое сознание населения.
Способов углубить аномию и стравить расколотые части общества много. К ним, например, относится профанация праздников, которые вошли в жизнь подавляющего большинства общества и давно уже стали национальными. В России ведется настоящий штурм символического смысла праздников, которые были приняты и устоялись в массовом сознании советских людей. Кто-то придумал праздновать 7 ноября «годовщину военного парада 7 ноября 1941 г.». Парад в честь годовщины парада! А в честь чего был тот парад, говорить нельзя. Такие вещи даром не проходят, веет аномией.
Уход государства от выполнения сплачивающей функции, ценностный конфликт с большинством населения разрывают узы «горизонтального товарищества» и углубляют аномию. Это фундаментальная угроза для России.
Вот рассуждения ведущего программы на канале «Культура», В. Ерофеева, по поводу того, что в проекте «Имя России» лидировал Сталин: «Любовь половины родины к Сталину — хорошая причина отвернуться от такой страны, поставить на народе крест. Вы голосуете за Сталина? Я развожусь с моей страной! Я плюю народу в лицо и, зная, что эта любовь неизменна, открываю циничное отношение к народу. Я смотрю на него как на быдло, которое можно использовать в моих целях… Сталин — это смердящий чан, булькающий нашими пороками. Нельзя перестать любить Сталина, если Сталин — гарант нашей цельности, опора нашего идиотизма. Нам нужен колокольный звон с водкой и плеткой, иначе мы потеряем свою самобытность» [40].
Так идеологический работник того меньшинства, которое, как считается, победило «советского человека», реагирует на слабый жест побежденных. Может ли власть не видеть, что вручила инструмент культурного господства поджигателю гражданской войны? Но для начала он создает аномию.
Наконец, реформаторская культурная элита постоянно провоцирует ненависть просто людей. В Санкт-Петербургском университете идет проект «Мировые интеллектуалы в Санкт-Петербурге». С кафедры этого университета делают доклады «признанные мировые интеллектуалы и лидеры влияния». Профессора и писатели предвидят «революцию интеллектуалов» и рассуждают о выведении не просто новой породы людей, а нового биологического вида, который даже не сможет давать с людьми потомства. В. Иноземцев пишет: «Государству следует обеспечить все условия для ускорения “революции интеллектуалов” и в случае возникновения конфликтных ситуаций, порождаемых социальными движениями “низов”, быть готовым не столько к уступкам, сколько к жесткому следованию избранным курсом» [41].
А вот рассуждения А.М. Столярова, видного писателя, лауреата множества премий: «Современное образование становится достаточно дорогим… В результате только высшие имущественные группы, только семьи, обладающие высоким и очень высоким доходом, могут предоставить своим детям соответствующую подготовку… Воспользоваться [новыми лекарствами] сможет лишь тот класс людей, который принадлежит к мировой элите. А это, в свою очередь, означает, что “когнитивное расслоение” будет закреплено не только социально, но и биологически, в предельном случае разделив все человечество на две самостоятельные расы: расу “генетически богатую”, представляющую собой сообщество “управляющих миром”, и расу “генетически бедную”, обеспечивающую в основном добычу сырья и промышленное производство.
Современные “морлоки” с их интеллектом кретина будут неспособны на какой-либо внятный протест. Равным образом они постепенно потеряют умение выполнять хоть сколько-нибудь квалифицированную работу, и потому их способность к индустриальному производству вызывает сомнения» [42].
Конечно, российские «морлоки» таких книг не читают, но эти идеи просачиваются в СМИ, и их молекулярный поток омывает разум страдающих от стресса жителей России. Какую аномию он вызывает.
Каких норм поведения могут ждать власть и господствующее меньшинство от людей, если они освоят новые средства самоорганизации?
Заключение
Глубокий и небывало затяжной кризис постсоветской России требует еще больших усилий для постановки достаточно полного диагноза. Описаний симптомов собрано уже много, но их еще надо систематизировать. Если бы было время взять весь массив такого журнала, как «Социологические исследования», за 1989-2011 гг., и прочитать его весь, номер за номером, читателю открылась бы потрясающая и величественная в своем драматизме картина дезинтеграции нашего общества. И в этой эпохальной драме только сейчас становится видно, какое сложное и динамичное общество было разрушено.
Но прочитать две-три тысячи статей «СОЦИС» сразу, чтобы сложилась эта панорама, очень мало кто может: у одних нет времени, у других — интереса да и привычки вникать в частности. Ведь каждая статья — это маленький осколок стекла, который еще нескоро найдет себе соседа в мозаике. Все ждут Откровения, краткого катехизиса. Но уповать на него бесполезно. Тотализирующего учения типа марксизма, которое бы нам все объяснило, сейчас нет и в обозримом будущем быть не может — все находятся в поиске и сомневаются почти во всем. Человечество переживает общий кризис картины мира и мировоззренческой основы. У нас в ХХ в. изменения были очень быстрыми, сомнения мучительными, и мы оказались более «открыты» этому кризису. Он нам дорого обходится, но, может быть, это как-то вознаградится. Любой фундаментализм в такой буре — лишь щель, где можно пересидеть грозу, но двигаться по его компасу нельзя. Значит, надо собирать мозаики знания и намечать путь коллективно, в том числе в диалоге с противниками и справа, и слева, и сзади.
Правда, процесс дезинтеграции общества очень затрудняет различение «своих» и «противников»: и те, и другие предстают в сознании как идеальные типы, а в реальности почти в каждом есть что-то от «своего» и что-то от «противника». Это один из симптомов болезни нашего общества.
Есть также много сложных болезненных явлений, которые метафорически можно назвать синдромами общей болезни: например, коррупция чиновников, всплеск преступности разного типа, мошенничество бизнеса и пр. Но для диагноза главного заболевания желательно найти элементарные причины, которые являются общими для многих синдромов и симптомов, хотя они проявляются по-разному в разных условиях, в разных «органах и тканях». Если следовать этой грубой аналогии, то корпус российской социологической литературы как раз указывает на такой элементарный и общий болезнетворный фактор — аномию.
Общество (как и народ) соединено ответственностью каждого перед каждым: в кругу семьи, ближних, знакомых и друзей, предков и потомков, односельчан и соотечественников, перед государством и перед своей совестью. Ответственность — это неявно данная еще где-то в отрочестве присяга, взятая на себя обязанность следовать нравственным и правовым нормам, принятым в данном обществе и государстве в данный исторический период. Эти нормы предписывают обязательные действия (заботиться о семье, идти в армию и пр.) и запрещают действия, наносящие вред обществу, государству и даже самому себе (он — тоже достояние страны). Ясно, что массовое невыполнение норм — аномия — сразу разрывает множество связей между людьми и делает страну уязвимой: и перед кризисами, и перед внешними угрозами, и перед своими же бандами воров и мародеров. В России тяжелое поражение начала 1990-х гг. на наших глазах привело к аномии не только массовой, но и очень разнообразной по структуре.
Аномия связана с дезинтеграцией общества диалектическими отношениями — причина и следствие при анализе этих явлений непрерывно меняются местами. Был ли приступ массовой аномии вызван демонтажем советского общества в ходе перестройки или успешный демонтаж несущих конструкций советского общества удался благодаря нараставшей с 1970-х гг. аномии? Вряд ли мы найдем ответ на этот вопрос, потому что налицо автокатализ, кооперативное взаимодействие обоих процессов, так что новая порция аномии ускоряет дезинтеграцию, а разрыв нового пучка связей человека с обществом углубляет его аномию. В 1990-е гг. мы наблюдали уже лавинообразный процесс. Он всех потряс своей мощью и неумолимостью, но и то, что происходило почти незаметно в инкубационный период, важно для диагноза. Здесь большое поле для исследований.
Этот доклад — только очень краткая «история болезни», причем уже в открытой форме. Возбудителя болезни мы не знаем. Но и это первое приближение позволяет сформулировать ряд предположений и поставить вопросы. Скоро ли наше обществоведение поставит надежный диагноз и предложит средства лечения, сказать трудно. Следовательно, в ожидании хорошей теории придется действовать методом проб и ошибок. Чем более внимательно и хладнокровно мы обдумаем то эмпирическое знание, которое уже накоплено, тем меньше травм нанесет лечение дорогому нам пациенту.
В настоящее время на общественную арену вышло совершенно новое поколение — первое постсоветское и постимперское. Оно представляет собой общность с неизвестным в России типом рациональности и потребностей, несбыточными притязаниями и комплексами, почти утратившую коммуникации с государством и старшими поколениями. Тем не менее возникла новая и неустойчивая система, которую можно сравнительно небольшими усилиями толкнуть в коридор, ведущий к существенному оздоровлению общества. Следовательно, на выходе из этого коридора на следующий перекресток из этой молодежи уже может возникнуть социокультурная общность, способная стать влиятельным культурно-историческим типом и изменить вектор хода событий в России. Если будет на то политическая воля государства, этот процесс можно довести и до этапа «сборки» других рассыпанных аномией социокультурных групп.
Как показала политическая турбулентность 2012 г., недовольство еще не достигло степени, при которой люди превращаются в разрушительную толпу, но уже побудило к самоорганизации, хотя и рыхлой. Задача — конструктивно использовать потенциал этой самоорганизации, охлаждая при этом выбросы иррациональной энергии. В противном случае есть риск сорваться в «молекулярную» вражду и борьбу.
Ясно, что в течение последних трех лет вся система РФ нестабильна, многое надо менять (давно пора). Страна — на перепутье. Одни считают, что сдвиг надо производить в сторону восстановления хозяйства и к более социально ориентированной политике. Задача, которую большинство смутно излагает в социологических опросах, очень сложна: создать снова сплоченное справедливое общество с большим потенциалом развития и без мещанской тупости норм позднего СССР. В чем сложность этой задачи? В том, что когда ослабевает тоталитарная идеократия (а она вырождается быстро), значительная часть образованных и умелых людей сдвигается к социал-дарвинизму. Даже если таких людей 10-15%, они побеждают остальное «мирное население» — оно само не может организоваться.
Однако все же эта задача разрешима. И зарубежная, и российская социология предлагают для этого робкие, но обнадеживающие подходы. Уже сейчас видно, что многие из них реалистичны, хотя и требуют доработки соответственно конкретным социальным и культурным условиям. Чтобы их систематизировать и обсудить, требуются интеллектуальные и организационные усилия и скромные ресурсы. Должен быть собран рабочий научный коллектив, способный отрешиться от механистических догм как исторического материализма, так и либерализма, принять нынешнюю социальную реальность в ее сложности, не пытаясь упростить ее модели, уповая на мудрость старых учебников.
Излечение столь обширной аномии будет нелинейным процессом, его успех будет зависеть от возможности собрать хотя бы очень небольшие «сгустки» людей с необходимыми социокультурными параметрами. Если на то будет воля государства, эти «сгустки» быстро обрастут людьми и станут центрами кристаллизации жизнеспособных общностей с потенциалом роста и развития.
Доклад подготовлен С.Г. Кара-Мурзой
Литература
1. Lorenz K. La action de la Naturaleza y el destino del hombre. Madrid: Alianza, 1988.
2. Рукавишников В.О. Социологические аспекты модернизации России и других посткоммунистических обществ // СОЦИС. 1995. № 1.
3. Кривошеев В.В. Особенности аномии современного российского общества // СОЦИС. 2004. № 3.
4. Могильнер М.Б. Трансформация социальной нормы в переходный период и психические расстройства // СОЦИС. 1997. № 2.
5. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура // СОЦИС. 1992. № 2.
6. Штомпка П. Социальное изменение как травма // СОЦИС. 2001. № 1.
7. Буравой М. Транзит без трансформации: инволюция России к капитализму // СОЦИС. 2009. № 9.
8. Мягков А.Ю., Смирнова Е.Ю. Структура и динамика незавершенных самоубийств: региональное исследование // СОЦИС. 2007. № 3.
9. Александровский Ю.А. Социальные катаклизмы и психическое здоровье // СОЦИС. 2010. № 4.
10. Бабинцев В.П., Реутов Е.В. Самоорганизация и «атомизация» молодежи как актуальные формы социокультурной рефлексии // СОЦИС. 2010. № 1.
11. Лежнина Ю.П. Социально-демографические факторы, определяющие риск бедности и малообеспеченности // СОЦИС. 2010. № 3.
12. Иванова В.А., Шубкин В.Н. Массовая тревожность россиян как препятствие интеграции общества // СОЦИС. 2005. № 2.
13. Бойков В.Э. Ценности и ориентиры общественного сознания россиян // СОЦИС. 2004. № 7.
14. Кривошеев В.В. Короткие жизненные проекты: проявление аномии в современном обществе // СОЦИС. 2009. № 3.
15. Беляева Л.А. Социальный портрет возрастных когорт в постсоветской России // СОЦИС. 2004. № 10.
16. Петухов В.В. Новые поля социальной напряженности // СОЦИС. 2004. № 3.
17. Староверова И.В. Факторы девиации сознания и поведения российской молодежи // СОЦИС. 2009. № 11.
18. Мошкин С.В., Руденко В.Н. За кулисами свободы: ориентиры нового поколения // СОЦИС. 1994. № 11.
19. Бреева Е.Б. Социальное сиротство в социально ориентированном государстве // СОЦИС. 2004. № 4.
20. Давыдова Н.М., Седова Н.Н. Материально-имущественные характеристики и качество жизни богатых и бедных // СОЦИС. 2004. № 3.
21. Смертность подростков в Российской Федерации. М.: БЭСТ-принт, 2010.
22. Антонова О.И. Региональные особенности смертности населения России от внешних причин // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. М., 2007.
23. Римашевская Н.М. Бедность и маргинализация населения (социальное дно) // СОЦИС. 2004. № 4.
24. Осинский И.И., Хабаева И.М., Балдаева И.Б. Бездомные социальное дно общества // СОЦИС. 2003. № 1.
25. Алексеева Л.С. Бездомные как объект социальной дискредитации // СОЦИС. 2003. № 9.
26. Пучков П.В. Вы чье, старичье? // СОЦИС. 2005. № 10.
27. Михайлова Л.И. Социальное самочувствие и восприятие будущего россиянами // СОЦИС. 2010. № 3.
28. Двадцать лет реформ глазами россиян (опыт многолетних социологических замеров). Аналитический доклад. М.: Институт социологии РАН, 2011.
29. Яковлев А.Н. Большевизм социальная болезнь XX века / С. Куртуа и др. // Черная книга коммунизма. Преступления, террор, репрессии. М.: Три века истории, 2001. С. 14.
30. Голик Ю.В. Преступность — планетарная проблема / Ю.В. Голик, А.И. Коробеев. СПб.: Юридический центр, 2006.
31. Яковлев А.Н. Муки прочтения бытия. Перестройка: надежды и реальности / А.Н. Яковлев. М.: Новости, 1991. С. 170.
32. Шмелев Н. Авансы и долги // Новый мир. 1987. № 6.
33. Бенуа А. де. Против либерализма. // Русское время. 2009. № 1.
34. Хагуров А.А. Земельная реформа на Кубани: региональный срез // СОЦИС. 2004. № 5.
35. Как мы думали в 2004 году: Россия на перепутье. М.: Алгоритм ЭКСМО, 2005. С. 258.
36. Дондурей Д.Б. О конструктивной роли мифотворчества // Куда идет Россия? Альтернативы общественного развития. М.: Аспект-Пресс, 1995. С. 275.
37. Карпухин Ю.Г., Торбин Ю.Г. Проституция: закон и реальность // СОЦИС. 1992. № 5.
38. Иванов В.Н., Назаров М.М. Массовая коммуникация в условиях глобализации // СОЦИС. 2003. № 10.
39. Левада Ю. «Человек советский» // ‹http://www. polit.ru/lectures/2004/04/15/ levada. html›.
40. Ерофеев В. Похвала Сталину // Огонек. 2008. № 29 // ‹http://www. ogoniok. com/5055/13/›.
41. Иноземцев В. On modern inequality. Социобиологическая природа противоречий ХХ! века / В. Иноземцев // Постчеловечество. М.: Алгоритм, 2007. С. 71.
42. Столяров А.М. Розовое и голубое / А.М. Столяров // Постчеловек. М.: Алгоритм, 2008. С. 26, 31.
43. Кара-Мурза С.Г. Аномия в России: причины и проявления / С.Г. Кара-Мурза. М.: Научный эксперт, 2013.
44. Феофанов К.А. Социальная аномия: обзор подходов американской социологии // СОЦИС. 1992. № 5.
45. Горбачев М. Декабрь-91. Моя позиция / М. Горбачев. M.: Изд-во «Новости», 1992. С. 193.
46. Яковлев А. О перестройке, демократии и «стабильности» // Независимая газета. 2003. 2 декабря.
47. Шмелев Н. На переломе: перестройка экономики в СССР / Н. Шмелев, В. Попов. М.: Агентства печати Новости, 1989. С. 140.
48. Новодворская В. Прощание славянки / В. Новодворская. М.: Захаров, 2009. С. 307.
49. Панарин А.С. Народ без элиты / А.С. Панарин. М.: Алгоритм-ЭКСМО, 2006. С. 297.
50. Ревягин А.В. Нераскрытые насильственные преступления: криминологическая характеристика и детерминация // Автореферат диссертации на соискание уч. степени канд. юр. наук. Челябинск, 2010.
РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЩНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ИХ КОНСОЛИДИРУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ
Введение
В современном российском обществе продолжается дезинтеграция тех социокультурных общностей, которые сложились в советское время и стали разрушаться при смене общественно-политического строя. В этом серьезный вызов для нациестроительства — невозможно строить большую общность, объединяющую множество этносов и групп, если эти сообщества сами рассыпаны. В этой связи возникает вопрос о религиозных общностях — группах людей, связанных общим мировоззрением, ценностями, образом жизни и традициями общинности. Что они из себя представляют? Каков их потенциал в раздробленном и в большинстве случаев далеком от религии российском обществе? Ничтожен ли он, учитывая невоцерковленность большинства россиян (см. ниже), или наоборот, на основе религиозных общностей (например, православных) можно построить новую общегражданскую идентичность? Попытке ответить на эти вопросы и посвящен предлагаемый доклад.
Сначала будет проанализировано состояние религиозности россиян в целом, состояние религиозных общностей и их виды, затем — их консолидирующий потенциал для малых этносов и социальных групп и, наконец, факторы функционирования деятельности религиозных общностей, работающие как на объединение, так и на дезинтеграцию российской нации. Отметим, что будут отмечаться противоположные тенденции (например, высокий уровень доверия власти и тенденции к отчуждению от нее, стремление к межконфессиональному миру и межконфессиональные конфликты), что показывает сложность и неоднозначность общественной деятельности религиозных сообществ. В конце будут сделаны предварительные выводы об общенациональном консолидирующем потенциале религиозных общностей.
Религиозность в современной России и социология российских религий
По данным Института социологии РАН, большинство населения России составляют по вероисповеданию и этнокультуре православные (89-92%), за ними следуют мусульмане (6-9%). В сумме этнические православные и мусульмане охватывают 97-98% населения России.9
Однако при определении степени религиозности россиян выяснилось, что российское общество скорее светское. По данным соцопроса Института социологии РАН, проведенного в 2009 г., около половины опрошенных (47%) в целом не религиозны, порядка пятой части респондентов колеблются при определении меры своей религиозности и лишь 3,3%, по собственным оценкам, глубоко религиозны.10
Религиозность молодежи, наиболее приоритетной для всех религий, отличается нетрадиционностью и синкретичностью. Молодежь меньше остальных групп населения верит в Бога (54 против 58% от общего числа), но чуть больше — в колдовство, магию (8 против 5%), сверхъестественную силу (16 против 13%) и в НЛО (6 и 5% соответственно).11
Таким образом, в целом российское общество довольно безразлично к религии (прежде всего к ее организованным формам); место религиозного сознания занимают оккультные и парарелигиозные представления.
Что касается численности практикующих верующих, то государственной статистики в этой сфере не существует, есть данные экспертной оценки. Так, по данным социологов религии С. Филатова и Р. Лункина, практикующих верующих — от православных до представителей новых религиозных движений — 12-24 млн человек. Как и везде, лидирует православие: диапазон его последователей, по разным подсчетам, — от 3 до 15 млн человек; затем следуют мусульмане (около 3 млн), протестанты всех деноминаций (около 1,5 млн). Последователей многочисленных новых религиозных движений (НРД) — не более 300 тыс. Довольно малочисленны представители старых русских сект: молокане — около 40 тыс., духоборы — около 15 тыс., субботники — 5-6 тыс.
В России представлены следующие религиозные направления и религиозные объединения.
Православные (РПЦ, альтернативные православные юрисдикции, старообрядцы, древние восточные церкви).
Католики.
Протестанты (лютеране, реформаты, пресвитериане, баптисты, евангельские христиане, методисты, церкви уэслианской традиции (Армия Спасения), Общество друзей (квакеры), Новоапостольская церковь, адвентисты, пятидесятники).
Мусульмане.
Иудаисты.
Буддисты.
Езиды.
Язычники.
Новые религиозные движения (НРД):
— НРД христианского происхождения: Свидетели Иеговы, Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны), Церковь Божией Матери Державная (Богородичный центр, богородичники);
— НРД восточного происхождения: Международное общество сознания Кришны (кришнаиты), Трансцендентальная медитация, Международный фонд Ошо Раджниша;
— НРД оккультного происхождения (Нью Эйдж): теософские и антропософские общества (в частности, движение Рерихов), Церковь сайентологии, Новый Акрополь, движения «Звенящие кедры России» — анастасийцы и «Радастея»;
— НРД неоязыческого происхождения: славянское и скандинавское неоязычество, Викка;
— НРД синкретического происхождения: Церковь объединения Сан Мен Муна (муниты), Белое братство, Церковь Последнего Завета (виссарионовцы).
Сравнительная характеристика религиозности различных групп верующих
По данным исследования ИКСИ РАН, проведенного в 2004 г., чаще всего посещают еженедельное богослужение протестанты (81,1%), за протестантами следуют иудаисты (52,7%) и католики (50%). Существенно от них отстают мусульмане и православные — 19 и 15% соответственно. Основные религиозные обряды и предписания в большей степени, в сравнении с другими, исполняют также протестанты (49%), за ними следуют католики (46,4%), иудаисты (33,6%), мусульмане (31,6%). Показатель у православных ощутимо ниже — 19,8%.12
Если сравнивать религиозность представителей христианских конфессий, то получается, что и там лидерство держат протестанты (данные соцопроса 2012 г.): они намного чаще ежедневно молятся (54% против 17% православных и 25% католиков), в их среде гораздо больше тех, кто прочел Евангелие (50% против 15% католиков и 8% православных), они намного реже верят в приметы (2% против 13% православных и 11% католиков).13
Социолог религии Ю. Синелина, сравнивая религиозность православных и мусульман, отмечает: «Мусульмане реже, чем православные посещают храм, но более прилежны в молитве и чтении Корана. Мусульмане лучше знакомы с шахадой, чем православные с Символом веры. Среди мусульман выше доля респондентов, никогда не бывавших в храме (мечети) и никогда не читавших Коран, чем среди православных доля респондентов, никогда не посещавших храм и никогда не читавших Евангелие. С другой стороны, среди мусульман ниже доля немолящихся, чем среди православных… Мусульмане больше склонны к суевериям и несколько более активному суеверному поведению, чем православные, однако эта разница невелика. И среди православных и среди мусульман мизерна доля практикующих колдовство, астрологию и экстрасенсорику. Более всего православные и мусульмане подвержены воздействию примет и увлечению гаданиями».14
Виды религиозных общностей
Среди таких общностей первостепенное значение имеет семья: именно там наиболее активно передается религиозная традиция — от теоретических «основ веры» до практики повседневной религиозной жизни (молитвы, посты, чтение священных писаний). Абсолютное большинство верующих (особенно молодежь) основных конфессий пришли к вере благодаря родственникам; исключение составляют только представители новых религиозных движений.15 Значимая часть общин — в частности, православных, мусульман и вайшнавов (кришнаитов) — семейные люди.16
Отметим, что верующим в определенной степени удается воспитать своих детей если не в вере, то в умении противостоять давлению сверстников: так, например, верующие школьники употребляют алкоголь значительно меньше, чем их неверующие ровесники.17 Однако проблема преемственности остается: 75% православных подростков уходят из РПЦ; практически не передается религиозная традиция детям молокан, духоборов и старообрядцев (у коми) — молодежь уходит из этих сообществ; Армянская апостольская церковь привлекает только 25% армянских подростков; только у 44,8% наиболее активных протестантов-пятидесятников, согласно данным исследования по ХМАО, есть верующие дети.18
Следующая по значимости создаваемая общность — это религиозная община. К ядру православных общин относятся только 1% россиян, всего в такие общины вовлечено 7-10% населения; в дагестанских тарикатах (суфийских орденах) насчитывается, по разным оценкам, 25-30 тыс. человек.19
В целом общины можно разделить следующим образом:
1) этноконфессиональные сообщества;
2) общины-общежития (монастыри, поселения, реабилитационные центры);
3) общины-приходы (к ним примыкают малые — домашние — группы);
4) общины, созданные для выполнения внебогослужебных (социальных, культурных и просветительских) задач (ордена, братства, движения с полусетевой структурой).
У православных и мусульман наиболее развиты «внебогослужебные» общины, у протестантов — общины-приходы.
В общинах очень высок авторитет лидера — духовного лица, вокруг которого она собирается: в православных общинах — священника (в монастырях — игумена и старцев), в староверческих — наставников (у коми — женщин-наставниц, у карел — женщин-книжниц), в мусульманских — имамов (Башкортостан), шейхов (Дагестан), лидеров вирдовых братств (Чечня и Ингушетия).20 Священнослужитель довольно часто становится во главе социальной, культурной и просветительской работы.
Помимо сплоченных общин существуют религиозные благотворительные организации (например, «Каритас» у католиков), общественные организации, ассоциации и профессиональные сообщества (например, Общество православных врачей, Адвентистская медицинская ассоциация), созданные верующими людьми (в которых лидируют православные и протестанты),21 а также культурно-просветительские центры, оказавшиеся самыми миссионерски эффективными: «дхарма-центры» — у буддистов, школы и лектории — у иудаистов и Нового Акрополя, музеи у последователей Рерихов, клубы славянских единоборств у неоязычников и «расширения бизнеса» у сайентологов, центры гимнастики у Фалуньгун и т. д.22 В ряде случаев такие общества интегрируют и представителей государственной власти и бизнеса — как, например, буддийское культурно-просветительское общество «Манджушри» в Тыве.23
Культурно-просветительская работа ведется также через фольклорные ансамбли (старообрядцы, язычники), фестивали (кришнаиты), выставки (буддисты).
К образовательно-социализирующим проектам относятся учебные учреждения и детские организации.
Большое распространение получают сообщества сетевого типа. Во-первых, это общероссийские форумы — для православных это Рождественские чтения, для протестантов — Евангельский собор.
Во-вторых, это новая форма православных сообществ, сходная с индуистским «ашрамом» (маленький центр с харизматичным гуру и большая «периферия» его почитателей, которые зачастую не связаны непосредственно друг с другом, но связаны с наставником, чьи книги и проповеди они читают). Обычно такой «ашрам» базируется на одном-двух приходах, однако его влияние намного шире — через передачи, чтение литературы, семинары и т. д., проводимые почитаемым наставником. Члены «ашрамов», находясь формально в рамках одной организации, могут не только не общаться друг с другом, но и вообще не считать православных, членов других «ашрамов», единоверцами.24
В-третьих, это интернет-сообщества, связанные только чтением книг и общением в Интернете. Через такие структуры новые религиозные движения «Анастасия — Звенящие кедры России» и «Радастея» объединяют десятки тысяч человек.25
Консолидирующий потенциал религиозных общностей: малые этнические и социальные группы
Религиозные общности могут играть роль настоящего «маяка» для небольших этносов и быть:
— главным этническим идентификатором (православие для кряшен, старообрядчество для тихвинских карел);
— пробудителем этнического самосознания (язычество для марийцев, удмуртов, алтайцев и т.д.);
— идеологией светских движений (ислам для аварцев, кумыков, даргинцев);
— хранителем этнических и общинных традиций (суфийские общины — вирдовые братства для чеченцев и ингушей);
— консолидирующим признаком для «разбросанного» по регионам этноса (буддизм для бурят);
— консолидирующим признаком для диаспоры (ислам для азербайджанцев и народов Центральной Азии);
— «собирателем» разрозненных родов в этнос (шаманизм для нанайцев);
— общей «матрицей» для разделенного этноса (иудаизм для различных еврейских групп, шаманизм для западных и восточных бурят);
— примирителем во внутриэтнических конфликтах (буддизм для тувинцев в 1990-е годы);
— стимулом культурного обмена (распространение ремесел, народное прикладное искусство) — старообрядчество для якутов;
— стимулом для выживания — получение работы, отказ от вредных привычек и т.д. (протестантизм для эвенков и кетов (Красноярский край), коряков и чукчей) и т. д.;
— «социальным лифтом» (протестантизм для башкирских, татарских, марийских женщин из мусульманских семей);
— могут существовать преимущественно в виде этического кодекса (язычество для черкесов и абазин).26
Отметим особую этноконсолидирующую роль язычества. Многие языческие деятели становятся яркими выразителями и трансляторами культуры своего народа: так, шаманы сохраняют традиционные народные знания (традиционная астрология, горловое пение, традиционные промыслы), а также собирают фольклор и исследуют шаманские практики.
Религиозные общности стремятся консолидировать не только этносы, но и различные социальные группы:
— этнокультурные сообщества — казаки (православие для русских казаков, старообрядчество — для казаков-некрасовцев, буддизм — для калмыцких казаков);
— национальная интеллигенция — язычество для народов Поволжья и Крайнего Севера (шаманы и культурные деятели), буддизм для тувинцев и калмыков;
— профессиональные сообщества (врачи, ученые) — православные братства;
— социально-экономические общности (у северокавказских народов богатые люди обычно принадлежат к тарикату накшбандийя, а бедных объединяет тарикат кадирийя);
— сообщества «риска» — бывшие наркоманы (пятидесятническое объединение «Исход», которое объединяет реабилитационные центры и церкви — новые церкви создаются из «костяка» реабилитантов, которые привлекают к реабилитации новых наркоманов).27
Ряд общностей были созданы интеллигенцией «с нуля» и стали для нее своеобразной «отдушиной» — русский ислам, русский буддизм, славянское неоязычество; интеллигенция составляет основной костяк в русском католичестве, лютеранстве и методизме, а также в целом ряде новых религиозных движений — у мормонов, кришнаитов, анастасийцев, богородичников, в «Радастее» и «Новом Акрополе».
Факторы функционирования религиозных общностей, способствующие общенациональной консолидации
К самым существенным факторам относятся социальное служение и патриотизм религиозных объединений, а также определенное доверие к ним со стороны светского общества.
Социальное служение
Верующие проявляют большее желание, чем россияне в целом по стране, сделать что-либо для общего блага. Впрочем, православные (в силу размытости самой самоидентификации) не сильно «отрываются» от россиян в целом, в отличие от более консолидированных мусульман и протестантов: желание поучаствовать в общем деле выше всего у мусульман — 20% (у православных и неверующих — по 11%), у протестантов — готовность к благотворительности (39% против 13% православных и 11% россиян в целом) и созданию многодетной семьи (21% против 12% православных и 11% россиян в целом).28
Социальное служение — одно из проявлений желания служить людям. В РПЦ на 2012 г. было 150 сестричеств, 100 детских приютов, 30 богаделен, 80 домов временного пребывания, 30 центров защиты материнства.29 У протестантов почти каждая церковь из 6-7 тыс. имеющихся занимается социальным служением.30 Активны в социальном служении и кришнаиты — проект «Пища для жизни» (бесплатные обеды для бездомных и нуждающихся) действует более чем в 40 городах России, за 1991-2008 гг. было роздано около 5 млн обедов.31
Язычники, старообрядцы и мусульмане занимаются социальной деятельностью в тех ареалах, где они исторически сосредоточены; причем, как правило, язычники и старообрядцы сосредотачиваются на спонсировании и организации культурно-просветительских проектов. У иудаистов почти в каждом регионе широко представлены как благотворительные, так и культурно-образовательные проекты, однако они, как правило (но не всегда), распространяются только на евреев.
У православных, протестантов и католиков широко распространена самая разнообразная благотворительная деятельность. Православные больше других занимаются помощью малообеспеченным, инвалидам, пожилым людям и домам престарелых, оказывают психологическую помощь и организуют работу телефонов доверия, устраивают благотворительные обеды и столовые, а также занимаются реабилитацией бывших заключенных. Католики больше других участвуют в создании благотворительных организаций (самая многочисленная — организация «Каритас») и фондов, протестанты — в реабилитации алкоголиков и наркоманов. Отметим, что помимо иных причин, в этой специфике играют роль конфессиональные особенности благотворительности: православная более личностна и адресна; у католиков благотворительность ведется через организации, собирающие волонтеров; протестанты же видят свою главную цель в восстановлении и социализации человека.32
Верующие — от православных до представителей новых религиозных движений — практически единодушны в том, что религиозным общинам необходимо заниматься социальным служением и следует с уважением относиться к общественно-полезной деятельности других конфессий (хотя, к сожалению, 34,8% сталкивались с противостоянием представителей других религий во время своего социального служения).33
Патриотизм
Православные в большей степени, чем все остальные группы населения (религиозного и нерелигиозного), считают себя гражданами России (64%) и говорят о своем государственничестве, а любовь к Родине с ними одинаково разделяют и протестанты (60 и 61% соответственно).34 Немногие из верующих христиан хотели бы жить в другой стране: в этом признались только 8% православных и 15% протестантов.35 Это показывает «вписанность» патриотизма в мировоззренческую систему многих христиан, считающих заботу о земном Отечестве в том числе и средством достижения Царства Небесного.
В «ядре» православных общин патриотами себя считают 90%, но при этом — в равной степени, что и неверующие — считают заботу о благе страны задачей не первого порядка (важнее — ответственность за себя, семью, друзей).36 При этом православные и мусульмане в большей степени, чем неверующие, считают происходящее в стране почти таким же важным для себя, как отдых и развлечения.37
Отметим, что при несомненной ценности патриотического настроя, остается вопрос: что люди вкладывают в понятие «патриотизм», есть ли там место «проекту будущего»? Кроме того, у православных сильны этнонационалистические настроения (см. ниже), что может делать их патриотизм не благом, а угрозой для страны.
Доверие к религиозным институтам со стороны светского общества
Деятельность верующих и/или исторически сложившийся авторитет религиозных институтов создают им со стороны общества определенный кредит доверия: по данным соцопроса группы «Среда», в 2011 г. церкви доверяли 68% россиян, и этот показатель стабилен на протяжении уже нескольких лет.38 77% россиян заявили, что необходимо сотрудничество государства и Русской православной церкви для повышения уровня межрелигиозной и этнической терпимости.39
По данным исследования 2012 г., важнейшая роль церкви, по представлениям светских россиян, — это поддержка нравственности (38%). Интересно, что эту функцию за РПЦ признают и члены новых религиозных движений — даже в большей степени, чем их светские сограждане (48%).40
Отношение к иным христианским объединениям в целом положительное: к католикам хорошо относятся 61% россиян; несмотря на то, что самые многочисленные протестантские деноминации (баптисты и пятидесятники) вызывают у россиян негатив (53 и 52% соответственно — данные 2005 г.), результаты соцопроса по Забайкалью позволяют уточнить, что социальные практики протестантов, в отличие от их мировоззрения и культовых практик, вызывают очень позитивное отношение.41
Отметим, что ряд непривычных для населения религиозных групп завоевали авторитет и уважение в светском обществе благодаря своей хорошо известной просветительской и социальной деятельности: старообрядцы — в Татарстане и Оренбургской области; католики — в Иркутске, Красноярске, Оренбурге, Владивостоке, Астрахани, Пятигорске; лютеране — в Омске, республиках Карелия и Мордовия; пятидесятники — в Дагестане (церковь «Осанна») и Благовещенске (церковь «Новое поколение») и даже новое религиозное движение — Церковь Последнего Завета — в Красноярском крае.42
К второстепенным, но важным факторам также относятся:
— несколько больший уровень доверия к людям у верующих по сравнению со всеми остальными (25% православных и 31% протестантов против 23% россиян в целом);43
— стремление многих верующих к гармонизации этноконфессиональных отношений (иногда общий язык находится не только у «традиционных» конфессий — как, например, у православных и мусульман в Поволжье, православных и буддистов в Бурятии, Калмыкии и Туве, — но и у «традиционной» конфессии с «нетрадиционной»: так, пятидесятническая церковь «Осанна» в Махачкале, которая состоит из представителей этнических мусульман, сумела наладить отношения и с властями Дагестана, и — что более важно — с родственниками новообращенных и населением в целом);
— относительно высокий уровень гражданской солидарности (группа воцерковленных была на первом месте по готовности прибегнуть к «жестким» мерам в деле защиты своих интересов);44
— светская ориентация российского общества, снижающая риски этноконфессиональных конфликтов (57% россиян выступают за светское государство,45 65% высказались против участия религиозных деятелей в политике);46
— стремление государства в ряде случаев учитывать много-конфессиональность страны. Был создан Совет по взаимодействию с религиозными объединениями, куда входят основные российские конфессии; подобные советы существуют во многих субъектах Федерации. Что касается российских органов местного самоуправления, то в большинстве субъектов РФ они поддерживают РПЦ как первую конфессию, однако редко соглашаются на исключительно «проправославную» политику.47 Там, где мусульман, буддистов и язычников традиционно больше, чем православных, местная власть оказывает первостепенную поддержку именно этим религиям;
— доверие верующих к ряду государственных институтов. Мусульмане и (в меньшей степени) православные поддерживают Президента РФ значительно больше, чем неверующие,48 что говорит о притягательности фигуры «сильного лидера» для верующих.
Отметим, что последний фактор «работает в плюс» в том случае, если государственная власть намерена проводить созидательную для страны политику: в данном случае она может опираться, в том числе, на большой кредит доверия со стороны верующих. Однако если власть будет проводить иную политику, то поддержка ее со стороны религиозных общностей только усилит общее недовольство и подорвет авторитет религии как института в целом.
Факторы функционирования религиозных общностей, препятствующие общенациональной консолидации
К самым существенным факторам относятся — раздробленность самих верующих, их этнонационализм и неоднозначное отношение к российскому проекту нациестроительства, а также несбалансированность государственной политики по отношению к религиозным объединениям.
Раздробленность самих верующих
Одна из главных проблем — уход верующих из сообществ. «Расцерковление» коснулось даже такой активной и сплоченной общности, как протестанты. 76% ушедших из протестантских церквей несли в них какое-то служение, т. е. оттуда уходят активные прихожане. В качестве основных причин верующими были названы личные, внутрицерковные и межконфессиональные отношения.49 Таким образом, главная проблема — не столько кризис личной веры, сколько неудовлетворенность сложившейся системой взаимоотношений в религиозном сообществе, которое далеко не всегда способно предложить, а главное — воплотить такую систему связей между людьми, которая существенно отличалась бы от той, что сложилась в постсоветском обществе в целом.
Другая проблема — конфликты, порой непримиримые, маленьких сообществ внутри крупного. Один из ярких примеров — упомянутые выше «ашрамы» в русском православии, между которыми очень часто происходит жесткая конкуренция и обмен проклятиями. Присутствуют и конфликты этнических сообществ — в частности, у мусульман — чувашских и казанских татар (Хакасия), татар и северокавказских мусульман (Астрахань), карачаевцев и ногайцев с азербайджанцами, ногайцев с даргинцами (Ставропольский край), аварцев, занимающих привилегированное положение в Духовном управлении мусульман, и других дагестанских народов (Дагестан).50
Сложно складываются отношения разных структур одной вероисповедной принадлежности, особенно у мусульман, для которых характерно противостояние двух крупнейших организаций, а также конкуренция между тарикатами на Северном Кавказе.
Подобные трения могут стать серьезной проблемой: этническое способно поглотить религиозное, что может привести к утрате религиозным институтом статуса межэтнического интегратора.
Этнонационализм
Слабость общегражданской идентичности. Идея о предоставлении русским больше прав как государствообразующему народу тоже разделяется в основном православными (около трети), однако частично ее поддерживают католики, протестанты и иудаисты. Россию считают общим домом для всех народов представители всех конфессиональных групп, однако если мусульман, разделяющих такую позицию, свыше 90%, то православных — чуть больше половины.51 Таким образом, следует констатировать слабость общегражданской идентичности у ведущей конфессии страны, что может серьезно осложнить будущее нациестроительство.
Этническая неприязнь у большинства религиозных общностей. Социологи отмечают, что в сфере влияния национального фактора на межличностные отношения наиболее толерантны протестанты — даже в случае собственного брака показатель толерантности в их группе самый высокий. На втором месте — иудаисты, они наиболее толерантны при выборе места жительства. На третьем — буддисты, которые наиболее толерантны при выборе круга друзей и личном знакомстве, хотя в других ситуациях они демонстрируют гораздо меньшую степень терпимости. На четвертом месте — мусульмане, проявляющие наиболее низкий уровень толерантности в семейно-брачной сфере, особенно в случае собственного брака. На пятом месте — православные, наименее толерантные при выборе места жительства, что резко выделяет их среди других конфессиональных групп. Последнее место занимает группа католиков, которые в ситуациях личных знакомств и выбора круга друзей указывают на существенно большее влияние национального фактора в сравнении со всеми остальными группами.
Неверующие в ситуации личного знакомства по уровню толерантности опережают католиков, иудеев и православных; при выборе круга друзей они отстают лишь от буддистов и протестантов; а при выборе места жительства опережают православных, буддистов и католиков. При вступлении в брак родственников и в случае собственного брака они отстают только от протестантов, а по общему уровню межнациональной толерантности на личностном уровне находятся между протестантами и буддистами.
Православные (23%) и протестанты (21%) чуть в большей степени настороженно относятся к трудовым мигрантам, чем россияне в целом.52 Помощь мигрантам в редких случаях оказывают католики (через «Каритас»), лютеране и пятидесятники.
Таким образом, принадлежность к религии в российских условиях зачастую обостряет неприязнь к иным этническим группам, поскольку религиозный фактор усиливает этническую (а не общегражданскую) самоидентификацию, потребность в которой в постсоветском обществе, практически лишенном крепких связей, очень велика.
Сепаратизм. Ислам довольно часто становится знаменем сепаратистов: так, во время первой чеченской войны их идеологией был тарикат кадирийя, во время второй — салафизм.53
Религиозный потенциал язычества используется сепаратистскими группировками в Мордовии, Удмуртии, Чувашии и Якутии. Однако отождествлять этнический сепаратизм и локальные верования неверно. В тех случаях, когда власти удается наладить позитивный диалог с представителями языческих верований и включить их в легальную систему взаимодействия, язычники ограничиваются сохранением собственной этнической самобытности, не посягая на сложившиеся федеральные отношения — как, например, в Республике Алтай, Бурятии, Марий Эл, Тыве и Хакасии.54
Неоднозначное отношение верующих к российскому проекту нациестроительства
Для православных этническая и гражданская идентичность менее существенны, чем идентичность «духовная» — связанность с людьми, близкими по духу. Разительно от неверующих и православных отличаются приоритеты идентичности мусульман. Для них определяющие идентичность основания составили согражданство, национальная, языковая и профессиональная общности. Очевидно, что для опрошенных мусульман этническая идентичность имеет значительно больший «вес», чем для православных и неверующих.55
Своеобразно формируется протестантская «надэтническая» идентичность, существенная для общегражданской. Благодаря деятельности протестантских миссионеров были созданы межэтнические и моноэтнические церкви. Как правило, в них особое внимание уделяется этнической идентичности; обычно новообращенные не меняют традиционный образ жизни и создают новое этноконфессиональное сообщество. Как отмечает социолог религии Ю.С. Ковальчук, в таких группах, тем не менее, нивелируется культурная самобытность «через формирование над-этнической, протестантской идентичности».56
Что касается интегративного проекта нациестроительства, актуализации общих ценностей и т. д., то в среде верующих он, как правило, встречает неоднозначное и даже настороженное отношение.
Как отмечает проф. В.В. Симонов, христианство возникло в строго национальном субстрате (как ересь в иудейской общине), однако быстро переросло национальные рамки и конституировалось как универсальная религия, отрицающая национальные перегородки («нет ни Еллина, ни Иудея, но всё и во всем Христос» — Кол. 3:11).
В социально-политической системе Византийской империи христианство играло роль религиозной базы гражданства более, чем национальность. И в дальнейшем в истории «национализация» христианских церквей всегда являлась функцией политического процесса. Рецепция элементов национальных культур (к которым, в частности, относится перевод Библии на национальные языки) в христианском богословии допустима, но поощряется прежде всего для миссионерских целей и при условии, что «небесное гражданство» всегда важнее и гражданских, и этнических интересов.
Степень вовлеченности христианина в мирские дела, обязательность патриотизма являются предметом споров христианских богословов, однако общим остается приоритет «Царства не от мира сего». Среди православных спор о небесном и земном гражданстве и их соотношении остается очень острым; нет согласия и среди тех, кто заинтересован в собирании страны и считает это своим христианским долгом: отсутствует единое мнение — следует ли строить, в разных формах, «православное русское государство» (таких большинство) или формально светское общество с христианскими ценностями, где церковь будет отделена от государства, но при этом останется активным и авторитетным институтом.
Что касается католиков и протестантов, то они часто апеллируют прежде всего к христианскому универсализму. Однако в связи с тем, что их воспринимают как «чужих» для русской традиции, они вынуждены формулировать какие-то ответы на вызов «национальной идеи». Для католиков этот ответ — либо формирование этноконфессиональной общности, слабо или почти не связанной с российской гражданской нацией (в случае этнических поляков или немцев), либо воплощение идеи В. Соловьева о вселенском единстве через приобщение русской культуры к католичеству. В таком случае отвергается изоляционизм русской цивилизации и акцентируется ее связанность с общехристианской культурой и традицией. Такая позиция, в силу ряда причин, консолидирует только часть интеллигенции, настроенную прозападно.
Для протестантов вариантов восприятия национальной идеи может быть несколько:
— создание, как и у католиков, этноконфессиональной общности, не связанной с общероссийскими интересами (немецкие лютеране и меннониты, а также молокане и духоборы);
— попытка рецепции русской культуры и русского православного богословия для того, чтобы, признавая и уважая историческую «Россию православную», строить (точнее, по их мнению, восстанавливать) «Россию евангельскую». Между этими двумя Россиями находятся общие точки («евангельское» было и у православных святых, которые могут считаться единомышленниками), однако фактическое противопоставление «России православной» и «России евангельской» остается, что может стать источником конфликтов;
— признание России особой страной, где «…после жесточайшего времени тьмы и гонений в России начнется последнее пробуждение, свет которого осветит многие народы»;
— попытка встроить Россию в «цивилизованный мир» путем обращения к западным ценностям демократии, прав и свобод личности и т. д. Интересно, что при этом протестанты часто осуждают Запад за измену христианским ценностям;
— сплачивание нации путем утверждения христианских ценностей милосердия, благотворительности, социального служения.
Эти варианты могут быть и компонентами разных комбинаций.
Для российских мусульман характерно, как правило, совмещение двух тенденций: ориентации на свои этнические ценности — татарские, башкирские, чеченские, черкесские и др. и восприятия себя как части полуторамиллиардного «мусульманского мира». Современные идеологи Казани, Уфы и других исламских центров выступают за неприкосновенность местной этнокультурной самобытности и ориентируются на духовное сближение с мусульманскими кругами Саудовской Аравии, Египта и Турции. План выстраивания «общероссийской национальной идеи» их совершенно не привлекает. Более того, этот проект представляется местным исламским нерусским элитам весьма опасным «ассимиляционным» замыслом Москвы.57
Иудаисты в РФ по-прежнему ориентированы на сохранение замкнутости единственно праведной еврейской общины. В наши дни они не выступают против получения русскоязычного образования в его светском формате.58 Однако в их элите сильно недоверие к лозунгу «общероссийской национальной идеи».
Для российских буддистов — бурят, калмыков и тувинцев — прежде всего важны бурятский, калмыцкий и тувинский варианты «национальной» идеи. Этнические буддисты также готовы к восприятию русской культуры и просвещения, но исключительно в их светском прочтении. Разговоры об общероссийской «национальной» идее вызывают обеспокоенность в среде буддийской элиты, которая прежде всего ждет от ее реализации проявления русификаторско-ассимиляторских великодержавных начал.
Можно констатировать, что планы продвижения общероссийской национальной идеи вызывают неоднозначное отношение у христиан разных конфессий, а в среде элит отечественных буддистов, иудаистов и мусульман — по сути даже негативное, и изменить эту ситуацию крайне сложно.
Несбалансированность государственной политики по отношению к религиозным объединениям
Чиновники довольно часто поддерживают рабочие отношения с католиками и протестантами; однако нередко, в угоду православным епархиям, чинят им препятствия в возвращении, строительстве и аренде богослужебных зданий и т. д. То же самое относится и к старообрядцам. В данном случае очевидно, что власть вовлекается в межконфессиональные конфликты и не выдерживает свою роль арбитра, которую она должна играть в многоконфессиональной стране.
Что касается новых религиозных движений, с которыми возникает большее количество проблем, то трудности с их контролем вытекают из того, что, как замечает доцент кафедры религиоведения РАГС В.В. Кравчук, статья 14 Закона о свободе совести указывает недостаточно конкретные основания для ликвидации, которые могут быть применимы к большинству так называемых «традиционных» религий («принуждение к разрушению семьи» — монашество, «нанесение ущерба собственному здоровью» — строгие посты и т. д.). Откровенно сектантские же группировки, оппозиционные и обществу, и государству, есть и в Русской православной церкви, и в других «традиционных» организациях, и к ним далеко не всегда применяются какие-то санкции. Однако провести жесткую грань между экстремизмом отдельных лиц и экстремизмом как неотъемлемой частью системы далеко не всегда возможно.
Даже в тех случаях, когда организация действительно имела и имеет достаточно выраженные экстремистские проявления, собрать адекватную доказательную базу крайне сложно и не всегда возможно. Чаще всего, как отмечает В. Кравчук, потерпевшие, даже покинувшие организацию, предпочитают не иметь дела со следственными и судебными органами.59
Наконец, с НРД связана сложнейшая проблема: разрешение противоречий между уважением права каждого человека на свободу совести и недопущением дискриминации по религиозному признаку — с одной стороны, и защитой национальнокультурной самобытности страны и преодоление экстремистских, деморализующих, иных антисоциальных тенденций в религиозной сфере в целом и в НРД в частности — с другой стороны.
К второстепенным, но важным факторам также относятся:
— конфликты активных мирян и рядовых священнослужителей с религиозной бюрократией, которые ослабляют внутренние связи организации и подрывают ее авторитет в целом;
— зависимость от зарубежных идеологов (особенно характерна для протестантов, мусульман и буддистов). Впрочем, и мусульмане, и буддисты стремятся постепенно избавляться от подобной зависимости, прежде всего — путем создания собственных учебных заведений. Протестанты же стремятся получить образование (всё чаще — гуманитарное), изучать культуру и традиции России, чтобы трансформировать свое практическое богословие под русские особенности, налаживают отношения с Русской православной церковью и другими «традиционными» конфессиями;60
— межконфессиональные конфликты, которые возникают по сугубо вероучительным основаниям, по социально-политическим причинам и очень часто — из-за межэтнических конфликтов. Религиозный фактор выступает одним из стимулов внутриэтнического противостояния и даже расхождения сложившихся этносов: по линии «язычество — христианство» (луговые и горные марийцы, эрзяне и мокша — у мордвы) и «православие-ислам» (иронцы и дигорцы — у осетин);
— недостаток доверия к общностям в целом (верующие люди, как и все остальные, склонны доверять прежде всего родственникам и друзьям; только 16% православных доверяют единоверцам, а 14% мусульман — людям одинаковой этнической принадлежности);61
— отчуждение верующих от ряда государственных институтов. Полное недоверие правительству более характерно для неверующих и православных (34,7 и 30,8% — данные опроса 2005 г.).62 Отметим, что наиболее «недоверчивую» позицию по отношению к власти занимает самая многочисленная и «традиционная» часть верующих — православные; это говорит о том, что и в «ядре» религиозного сообщества имеет место то же отчуждение от власти, которое существует у большинства населения. У мусульман же отмечается наибольший процент неопределившихся в своем отношении к Российскому государству (33%), что говорит о том, что у представителей ислама общероссийский патриотизм вызывает затруднения, в том числе из-за того, что современная российская власть не соответствует их ожиданиям и представлениям о «сильном государстве».63 В этом — серьезный вызов для государства, которое отходит, особенно в проблемных регионах, от своих функций (в частности, от обеспечения защиты населения и правопорядка).
Скептическое отношение светского общества к духовенству и «клерикализации». Довольно жесткой критике — в частности, в СМИ — подвергаются духовенство и высшая религиозная бюрократия, что затрудняет консолидацию вокруг религиозных общностей, поскольку они формируются именно вокруг священнослужителей. Россияне, относясь к религиозным общностям в целом благожелательно, предъявляют к ним практические и нравственные требования; ряд ожиданий показывает непонимание специфики религии как таковой: так, от священнослужителя ждут «услуг» психолога или выполнения только ритуально-бытовых действий, а не собственно духовного наставничества.
Неприятие влиятельных этноконфессиональных общностей со стороны части светского общества. 40% россиян связывают «ислам и терроризм» (против 43%, которые не видят между этими явлениями ничего общего).64 Исламофобские настроения в российском обществе способствуют, в частности, культурному отчуждению от народов Северного Кавказа, что не может не представлять угрозы для целостности страны.
Православные и протестанты: оценка общенационального консолидирующего потенциала
Подлинно всероссийским охватом, способностью интегрировать самые разные этносы и социальные группы и большей готовностью откликнуться на общегражданский проект обладают православные и протестанты (православные — в силу своей многочисленности и «традиционности», протестанты — в силу наибольшей консолидированности своих общин и миссионерских успехов).
К сильным сторонам православных можно отнести:
— православие является традиционной конфессией для государствообразующего русского народа и хранительницей национальных традиций;
— именно православие оказало наибольшее воздействие на культуру и менталитет русских;
— значительно большее число верующих, чем во всех остальных конфессиях;
— наибольшее доверие со стороны светского общества и представителей других конфессий;
— приоритетная государственная поддержка;
— большие материальные ресурсы;
— умение находить поддержку бизнес-сообщества;
— широкое взаимодействие со светскими общественными организациями;
— привлечение интеллигенции и создание своего собственного слоя образованных людей;
— разнообразная работа с детьми и молодежью;
— патриотизм большинства практикующих верующих, который понимается ими обычно как способствование возрождению сильного православного государства (у консерваторов) или строительство общества с христианскими ценностями и через это — возрождение России как христианской страны (у либералов);
— «почвенническая» ориентация многих православных, совпадающая с политическими предпочтениями большинства населения.
Однако имеются и слабые стороны:
— религиозность и мотивированность большинства православных гораздо слабее, чем у других конфессий;
— уровень профессиональной подготовки священнослужителей остается средним;
— социальная структура, которая помогала бы включать каждого новообращенного, пока только создается;
— существует негласное противостояние между высшей церковной иерархией и сообществами мирян, созданными вокруг священнослужителей, что вносит раздробленность в структуру организации и подрывает ее авторитет;
— внутри православного сообщества существует раздробленность и нетерпимость к другим — следствие «ашрамизации»;
— нет свободного обмена мнениями по внутрицерковным и общероссийским проблемам;
— многие православные заражены этнонационализмом, что мало способствует установлению общероссийской солидарности;
— патриотизм православных, в основном направленный в прошлое и попытки его воссоздать, страдает непониманием принципиально новых современных условий, что затрудняет предложение православными реальных социальнополитических проектов;
— во многих нерусских регионах (особенно — языческих) отношение к православию у этнических элит и интеллигенции скептическое или резко отрицательное, и православному сообществу нечасто удается преодолеть этот негатив и обвинения в «русификаторстве»;
— стремление к совместным действиям на благо общества у православных меньше, чем у других конфессий;
— существует латентный конфликт между православными и светской интеллигенцией, в котором православные далеко не всегда умеют внятно и спокойно объяснить свою позицию и невольно поддерживают имидж верующих как авторитарных мракобесов;
— сращивание высшей церковной бюрократии с властью подрывает ее реальный духовный авторитет и мобилизационный потенциал, хотя никак не влияет на уважение к церкви как оплоту национальной традиции и не ведет к реальной клерикализации государственного аппарата.
К сильным сторонам протестантов относятся:
— наибольшая религиозность и воцерковленность в сравнении со всеми остальными религиозными группами;
— сравнительно высокая консолидированность протестантского сообщества на межденоминационном уровне — при наличии трений между разными деноминациями и союзами;
— заметное количество активной молодежи;
— традиция крепких многодетных семей;
— умение создавать новые этноконфессиональные сообщества, не порывающие с этническими традициями;
— сплоченные общины с возможностью быстрой интеграции в них новых людей;
— современные методы проповеди;
— широкая благотворительная деятельность;
— умение добиваться поддержки и признания в изначально враждебном и настороженном окружении;
— наибольшая толерантность к разным этническим группам в сравнении с другими религиозными сообществами;
— умение создавать и воплощать конкретные и реалистичные проекты;
— патриотизм большинства практикующих верующих, который понимается как строительство общества с христианскими ценностями (часто — с ориентацией на Запад, но с неизменным осуждением размывания там христианской нравственности) и социально ответственного государства.
К слабым сторонам протестантов относятся:
— восприятие светским обществом как «сектантов» и адептов западной (американской) культуры;
— латентные или «горячие» конфликты в регионах с влиятельным православным и мусульманским духовенством;
— конфликтный потенциал в ряде нерусских регионов — обвинения новообращенных протестантов в разрыве с традициями предков, а миссионеров — в подрыве этнической идентичности;
— поддержка (хотя и не всеми протестантами) непопулярного у населения либерализма (пусть и умеренного его варианта, при условии защиты «традиционных христианских ценностей» вроде семьи);
— западническая ориентация в целом, не пользующаяся поддержкой большинства населения;
— до сих пор сильна зависимость от зарубежных (чаще всего американских) идеологов, хотя в ряде случаев она преодолевается;
— национальное протестантское богословие, адекватное российским реалиям и традициям, только создается;
— патриотизм протестантов, направленный в будущее, страдает пренебрежением историческим прошлым страны, ее традициями и культурой;
— уровень профессиональной подготовки священнослужителей остается весьма средним;
— протестанты в целом менее образованы, чем представители других конфессиональных групп (католики и православные).
Заключение и выводы
Российское общество — светское, практикующих верующих в нем немного. Место религиозного сознания, особенно у интеллигенции, занимают оккультные и парарелигиозные представления. Религия в основном воспринимается как национальная традиция, причем для русского народа важность религиозной принадлежности как части идентичности менее существенна, чем для нерусских народов.
Наиболее религиозны протестанты и мусульмане, православные же значительно меньшее значение придают своей вере. Это объясняется ортопраксическим характером ислама и протестантизма (сосредоточенностью не на догматике, а на праведном образе жизни, состоящем из конкретных дел), большей социализированностью протестантских и мусульманских общин, а также этническим возрождением у традиционно мусульманских этносов, где религия играет важную роль, и «нетрадиционностью» протестантизма для российского общества, что способствует приходу в протестантские церкви преимущественно тех, кто искренне убежден в истинности такого выбора и готов выдерживать давление и непонимание со стороны окружающих.
Происходит инкультурация ряда сообществ, бывших только этноконфессиональными. Так, буддизм обретает межэтнический характер благодаря активной включенности в него русских; протестантизм, включающий в себя почти все российские этносы, легко приспосабливается к этническим особенностям малых народов и начинает трудный процесс аккультурации в русский менталитет и культуру.
Создаются и новые этноконфессиональные сообщества. Народы Северного Кавказа и Крайнего Севера активно включаются в зону влияния протестантизма и создают новые этноконфессиональные сообщества — этнические группы с новыми религиозными связями взамен привычных ислама или языческих верований. Закрытые этноконфессиональные сообщества, похожие на гетто (что тоже — большая проблема для государства) создали мигранты-мусульмане из Центральной Азии и северокавказская диаспора.
Народы Поволжья и Сибири, в меньшей степени — Крайнего Севера, испытывая «взрыв этничности», переживают возрождение или создание фактически с нуля языческих верований, которые дают идентичность малым этносам, зачастую враждебную российской гражданской идентичности. Растет влияние салафитского течения в исламе, враждебного как государству, так и традиционным для России мазхабам65 и тарикатам,66 и выступающего под откровенно сепаратистскими лозунгами.
Важнейшее значение имеет семья — большая часть верующих стали таковыми благодаря своим родственникам, многие из них стремятся продолжить эту традицию, передавая ее своим детям. Однако с преемственностью в большинстве случаев даже у протестантов возникают проблемы — подростки чаще всего уходят из религиозных сообществ.
Из традиционных форм общностей наиболее эффективными в плане объединения активных людей оказываются как этно-конфессиональные сообщества и группы типа орденов и братств, так и сообщества неиерархического и сетевого типа, что показывает две противоположные тенденции в российском обществе — и желание обрести общину, которая давала бы четкую идентичность, понятные цели и защищала бы от остального мира, и желание дистанцироваться от общинного и административного давления и сохранить индивидуальность и анонимность. Сетевая структура показала свою эффективность у радикальных салафитов.
Наиболее же распространенная форма — община — приход — находится в кризисе у православных и мусульман, для которых более привлекательны внеприходские братства, и хорошо выстроена у протестантов, где практически в каждой такой общине имеются тесные связи между прихожанами и есть возможность для служения — церковного и социального.
Подлинно всероссийским охватом обладают только православные и протестанты. Однако, при их несомненном консолидирующем потенциале, и у тех, и у других имеются серьезные препятствия к тому, чтобы стать ведущим межэтническим интегратором. Попытки российской власти сделать ставку на религиозный фактор как объединяющий провальны: в условиях рыхлой общегражданской идентичности любое искусственное усиление и без того сплоченных общностей со своими ценностями, интересами, особой субкультурой приведет к угрозе для большого и пока что инертного сообщества, породит противостояние этих малых групп и/или приведет к возникновению гетто на их основе.
Новая общероссийская гражданская идентичность, проект которой государство еще не предложило обществу, должна строиться на светской основе, объединяющей и верующих, и неверующих. Однако серьезный консолидирующий потенциал религиозных общностей нельзя игнорировать в будущем проекте нациестроительства. Религиозные сообщества можно привлекать к помощи в нравственном воспитании детей, подростков и молодежи, благотворительности и в целом — к объединению активных граждан. Отдельный вопрос — построение отношений с теми религиозными сообществами, которые консолидируют малые этносы и группы часто в ущерб общероссийской идентичности. Здесь необходимо умение государственной власти проводить интеграционную политику без жесткого ущемления этнорелигиозных чувств.
В целом привлечение активных верующих к участию в нациестроительстве должно происходить на основе уважения к специфике и независимости религиозных институтов.
Доклад подготовлен О.В. Куропаткиной
Литература
1. 43% россиян не видят ничего общего между терроризмом и исламом — опрос общественного мнения. Статья // ‹-rossiyan-ne-vidyat-nichego-obshhego-mezhdu-terrorizmom-i-islamom-opros-obshhestvennogo-mneniya/›.
2. Алов А.А., Владимиров Н.Г. Иудаизм в России. Монография. М., 1996.
3. Андреева Л.А. Феномен секуляризации в истории России: цивилизационноисторическое измерение. Монография. М.: Ин-т Африки РАН, 2009.
4. Антонова О.И. Социальное служение религиозных общностей в современной России: опыт социологического исследования. Автореф. дис… канд. социол. наук. Екатеринбург, 2009.
5. Асеев О.В. Язычество в современной России: социальный и этнополитический аспекты. Автореф. дис… канд. филос. наук. М., 1999.
6. Астэр И.В. Современное русское православное монашество как социокультурный феномен. Автореф. дис… канд. филос. наук. СПб., 2009.
7. Атлас современной религиозной жизни России. В 3 т. / Отв. ред. М. Бур-до, С. Филатов. М., СПб.: Летний сад, 2005-2009.
8. Боева Е.С. Нетрадиционные религиозные организации в российском обществе: факторы роста и оценки населения. Автореф. дис.. канд. со-циол. наук. Хабаровск, 2012.
9. Булгакова Т.Д. Шаманство в традиционной нанайской культуре: системный анализ. Автореф. дис… докт. культурологии. СПб., 2001.
10. Власова В.В. Старообрядческие группы коми: конфессиональные особенности социальной и обрядовой жизни. Монография. Сыктывкар: Коми научный центр УрО РАН, 2010.
11. Гаврилов Ю.А., Кофанова Е.Н., Мчедлов М.П., Шевченко А.Г. Сфера политики и межнациональные отношения в восприятии религиозных общностей. Статья // СОЦИС. 2005. № 6.
12. Гаврилов Ю.А., Шевченко А.Г. Ислам и православно-мусульманские отношения в России в зеркале истории и социологии. Монография. М.: Культурная революция, 2010.
13. Дарханова А.И. Шаманизм бурят Предбайкалья в постсоветский период: социальные функции, традиции и новации. Автореф. дис.. канд. ис-тор. наук. Улан-Удэ, 2010.
14. Денильханов М.-Э.Х. Шариат и светское право в общественном сознании народов Северного Кавказа. Монография. М.: Воробьев А.В., 2011.
15. Забаев И.В., Орешина Д.А., Пруцкова Е.В. Три московских прихода: основные социально-демографические показатели и установки представителей общин крупных приходов. Монография. М.: Изд-во ПСТГУ, 2012.
16. Заболотнева В.В. Социальные учения и социальная деятельность новых религиозных объединений в современной России. Автореф. дис… канд. филос. наук. М., 2012.
17. За кого будут голосовать верующие? Статья // ‹http://www. pravmir.ru/ za-kogo-budut-golosovat-veruyushhie/›.
18. Зомонов М.Д. Бурятский шаманизм как целостная мировоззренческая система. Автореф. дис… докт. филос. наук. СПб., 2003.
19. Зубанова С.Г. Социальное служение. Учебное пособие. М.: Лика, 2012.
20. Иваненко С.И. Вайшнавская традиция в России: история и современное состояние: учение и практика, социальное служение, благотворительность, культурно-просветительская деятельность. Монография. М.: Философская книга, 2008.
21. Иваненко С.И. Саентология и бизнес: у каждой эпохи — своя религия. СПб.: Древо жизни, 2011.
22. Казьмина О.Е. Русская Православная Церковь и новая религиозная ситуация в современной России: этноконфессиональная составляющая проблемы. Автореф. дис… докт. истор. наук. М., 2007.
23. Каргина И.Г. Самоидентификация верующих: социальная мотивация. Статья // СОЦИС. 2004. № 1.
24. Клюева В.П., Поплавский Р.О., Бобров И.В. Пятидесятники в Югре (на примере общин РО ЦХВЕ ХМАО). Монография. СПб.: РХГА, 2013.
25. Кнорре Б. Социальная миссия РПЦ МП: успехи, упущения и идейные парадоксы. Статья // ‹http://www. keston. org.uk/_russianreview/edition46/02-knorre-church-social-work. htm›.
26. Кобзева Н.А. Религиозность студенческой молодежи в трансформируемой России: социологический анализ. Автореф. дис.. канд. социол. наук. М., 2006.
27. Ковальчук Ю.С. Стратегии евангелизации этнических сообществ в протестантской миссиологии в ХХ в.: от теории к практике. Статья // Религиоведение. 2008. № 1.
28. Кондакова Н.С. Протестантизм на конфессиональном поле Забайкальского края. Автореф. дис… канд. филос. наук. Чита, 2010.
29. Кравчук В. Проблемы взаимоотношений государства и НРД в современной России. Статья // ‹http://www. religare.ru/print5942.htm›.
30. Лункин Р. Нехристианские народы России перед лицом христианства. Статья // ‹http://www. keston. org.uk/encyclo/19%20Mission%20in%20 national%20regions. html›.
31. Лункин Р. Религия Радастеи: запланированное счастье человека-луча. Статья // ‹http://www. keston. org.uk/_russianreview/edition32/02lunkin-about-radasteya. html›.
32. Лункин Р. Христиане на карте России: вера в Бога в постправославной стране. Статья // ‹-lunkin-hristiane-na-karte-rossii-vera-v-boga-v-postpravoslavnoy-strane›.
33. Лункин Р. Церковь Виссариона: божество с человеческими страстями. Статья // ‹http://www. keston. org.uk/_russianreview/edition31/03vissarion. html›.
34. Мирзаев С.Б. Суфизм на Северо-Восточном Кавказе: причины возникновения, сущность и особенности функционирования. Автореф. дис… канд. филос. наук. М., 2012.
35. Мирзаханов Д.Г. Особенности политизации исламской общины Дагестана на современном этапе. Автореф. дис… канд. филос. наук. Махачкала, 2005.
36. Михалева А.В. Мусульманские общины в политической жизни немусульманских регионов: сравнительный анализ России и Германии. Автореф. дис… канд. полит. наук. Пермь, 2004.
37. Моисеева В.В. Религиозность как социальный ресурс профилактики наркотизации в молодежной среде. Автореф. дис… канд. социол. наук. М., 2009.
38. Мчедлов М.П., Гаврилов Ю.А., Кофанова Е.Н., Шевченко А.Г. Вероисповедные различия в социальных ориентациях. Статья // Религия и право. № 1. 2005.
39. Мчедлова М.М. Роль религии в современном обществе. Статья // СО-ЦИС. 2009. № 12.
40. Национальная идея России. В 6 т. Т. 3. Монография / Под общ. ред. С.С. Сулакшина. М.: Научный эксперт, 2012.
41. Почему дети в оцерков ленных родителей уходят из Церкви? Беседа с протоиереем Георгием Тарабаном, священником Виталием Шатохиным и иеромонахом Макарием (Маркишем) // ‹http://www. pravoslavie.ru/ guest/39176.htm›.
42. Резниченко С. Ашрамы и гуру в русском православии. Статья // ‹http:// www. apn.ru/publications/article23380.htm›.
43. Религия в самосознании народа (религиозный фактор в идентификационных процессах). Монография / Отв. ред. М.П. Мчедлов. М.: ИС РАН, 2008.
44. Родикова С.Ю. Старообрядчество в социокультурной системе современного мира: на примере Якутии. Автореф. дис… канд. культурологии. М., 2006.
45. Рязанова С.В., Михалева А.В. Феномен женской религиозности в постсоветском обществе (региональный срез). Пермь: Изд-во Пермского государственного национального университета, 2011.
46. Силантьев РА. Ислам в современной России. Энциклопедия. М.: Алгоритм, 2008.
47. Синелина Ю.Ю. Православные и мусульмане: сравнительный анализ религиозного поведения и ценностных ориентаций. Статья // СОЦИС. 2009. № 4.
48. Синяева Ю. РПЦ вплотную подступилась к столичному образованию. Статья // ‹›.
49. Современная религиозная жизнь России. Энциклопедия. В 4 т. Т. 1 / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: Логос, 2003-2006.
50. Социологический ответ на национальный вопрос: пример Республики Башкортостан. Информационно-аналитический бюллетень Института социологии РАН. М., Уфа: Восточная печать, 2012.
51. Сулакшин С.С., Каримова Г. Г., Куропаткина О.В. и др. Благотворительность в России и государственная политика. Монография. М.: Научный эксперт, 2013.
52. Тагиров И.Р. История национальной государственности татарского народа и Татарстана. Монография. Казань, 2008.
53. Уланов М.С. Буддизм в социокультурном пространстве России. Монография. Элиста: Изд-во Калмыцкого ун-та, 2009.
54. Фаликов Б. Ржавые скрепы недоверия. Статья // ‹http://www. gazeta.ru/ comments/2013/05/27_a_5349605.shtml›.
55. Филатов С. Христианские религиозные сообщества России как субъект гражданского общества. Статья // ‹http://www. strana-oz.ru/2005/6/ hristianskie-religioznye-soobshchestva-rossii-kak-subekt-grazhdanskogo-obshchestva›.
56. Фишман О.М. Жизнь по вере: тихвинские карелы-старообрядцы. Монография. М.: Индрик, 2003.
57. Хабибуллина З.Р. Мусульманское духовенство Башкортостана на рубеже XX-XXI веков. Автореф. дис… канд. истор. наук. Ижевск, 2012.
58. Чапнин С.В. Церковь в постсоветской России: возрождение, качество веры, диалог с обществом. М.: Арефа, 2013.
59. Чеснокова И.А. Влияние сект, культов и нетрадиционных религиозных организаций на личность и ее жизнедеятельность. Автореф. дис.. канд. психол. наук. М., 2005.
60. Шапиро В.Д., Герасимова М.Г. Отношение к религии и конфессиональная толерантность подростков. Статья // Россия реформирующаяся. Ежегодник Вып. 7 / Отв. ред. М.К. Горшков. М.: Институт социологии РАН, 2008.
61. Якунин В.И., Сулакшин С.С., Симонов В.В. и др. Социальное партнерство религиозных организаций и государства. Монография. М.: Научный эксперт, 2009.
62. Яхиев С.-У.Г. Суфизм на Северном Кавказе: история и современность. Автореф. дис.. канд. филос. наук. М., 1996.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ИЗБРАННЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАКТИК
«Ибо в конечном счете в сфере политики есть лишь два рода смертных грехов: уход от существа дела и … безответственность»
Макс ВеберВведение
В начале мая 2013 г. в ходе президентского совещания с министрами Правительства РФ Владимир Путин высказался о необходимости введения «публичной, политической, персональной ответственности» каждого из министров. Сделанное Президентом заявление стало, пожалуй, единственным за последнее время, прозвучавшим из уст российского политика столь высокого ранга и затрагивавшим вопрос о политической ответственности.
Артикуляция проблематики политической ответственности вызывает у каждого из нас массу сложностей с определением природы рассматриваемого явления. Хаотическое использование в средствах массовой информации, общественными организациями, отдельными гражданами термина «политическая ответственность» привносит еще большую неразбериху. Прежде всего возникают вопросы о том, что такое политическая ответственность? за какие действия, каким образом и перед кем несут ответственность политики? должен ли политик в той или иной ситуации нести политическую ответственность? является ли она достаточной в контексте совершенного «нарушения»? необходим ли сам факт «нарушения» для ее наступления? Отвечает ли политик исключительно за свою политическую деятельность, либо его действия, как частного лица, выходящие за пределы публично-политической сферы, также являются основанием для политической ответственности? Иными словами, может ли политический деятель вообще действовать неполитически? Да и вправе ли мы рассуждать исключительно об ответственности профессиональных политиков или в современном обществе политически ответственным является каждый из нас, участвуя в выборах, политических митингах и другим образом вступая в сферу политики?
Еще больше сложностей возникает в случае, если мы обращаемся к событиям реальной российской и зарубежной политической жизни, в том числе последних лет. Какой субъект призывает к ответственности лишенного мандата за осуществление предпринимательской деятельности по решению коллег депутата: его политическая партия, избиратели, проголосовавшие в свое время за соответствующего депутата, Государственная Дума как орган государственной власти или противостоящая политическая партия? Кто является ключевым (доминирующим) «выгодоприобретателем» политической ответственности и каким образом последний реализует свои «полномочия»? Какой субъект обладает приоритетом в своей позиции? Или, например, вправе ли мы называть ответственность глав регионов, неоднократно избиравшихся в результате народного голосования и освобожденных Президентом РФ от должностей в связи с «утратой доверия», политической? Вправе ли глава государства выступать «авторитетом» ответственности? Является ли сам Президент в России политически ответственным?
Латентность отношений ответственности между различными субъектами и их взаимное пересечение зачастую может приводить к замещению одних отношений ответственности иными отношениями. Так, необходимая ответственность перед обществом и судом может замещаться ответственностью перед руководящими политическими фигурами, ответственность перед избирателями — ответственностью перед политической партией и др. Соответствующие случаи приводят к «скандализации» политических отношений, существенно подрывая доверие к органам государственной власти, а также ощущение легитимности власти. Хотя зачастую каждый из нас, обсуждая события общественно-политической жизни, не утруждает себя даже их более или менее серьезным анализом. Объявить политика ответственным за любую неудовлетворительную ситуацию становится при таких обстоятельствах делом весьма несложным. Эмоциональные решения являются неотъемлемой составляющей современной демократии, однако всегда ли они правомерны?
Хотя в западных странах термин «политическая ответственность» весьма распространен, аналогичные сложности с осознанием этого феномена как комплексного и сложного явления общественно-политической жизни свойственны и для западной науки. Для России же вопрос о политической ответственности имеет особую актуальность, поскольку именно в нем в дореволюционный период и в современной России либеральная часть российского общества видела и видит решение если не всех, то большинства проблем в сфере взаимоотношений общества и власти. Однако даже имеющиеся разработки в области зарубежной юридической и политической науки вряд ли могут использоваться нами в качестве универсальных. Институт политической ответственности эволюционировал в различных странах совершенно различным образом, обретая в каждом случае свое самостоятельное и уникальное содержание. Отсутствие в России института политической ответственности, с содержательной точки зрения аналогичного институту, сформировавшемуся, к примеру, в Западной Европе, нисколько не означает, что политической ответственности в России до революции или в советское время не существовало вообще. Да и в зарубежных странах вышеуказанный институт не является абсолютно однородным.
В настоящем докладе экспертами Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования предпринята попытка представить ключевые теоретические аспекты, без которых понимание политической ответственности стало бы невозможным, а также отразить некоторые аспекты практического функционирования данного института в России и зарубежных странах. Следует сразу оговориться, что ответить на все поставленные выше вопросы нам не позволит формат доклада, однако авторы постараются наметить критерии и основные подходы к их успешному решению.
Эволюция института политической ответственности
Если под политической ответственностью понимать наступление каких-либо неблагоприятных последствий для правителя в связи с его политическими действиями и решениями, не соответствующими господствующим и определяющим его должное поведение нормам (не ограничиваясь лишь формальным рассмотрением политической ответственности), можно прийти к совершенно обоснованному выводу о том, что ее история весьма и весьма обширна. Само понимание ответственности правителя изменялось с течением времени и во многом предопределялось религиозной традицией, игравшей важнейшую роль в определении функций и образа политического лидера, а также понимании того, перед чем/кем и за что отвечает правитель. Хотя с формальной точки зрения о политической ответственности как особом виде ответственности стали вести речь не слишком давно (см. ниже), практику подобной ответственности можно обнаружить в весьма отдаленных временах.
Так, из истории церкви известно о конфликте императора Феодосия и епископа Амвросия Медиоланского (Миланского) (IV в.). Император Феодосий приказал избить восставшее население в Салониках, не исключая женщин и детей. Епископ Амвросий обличил его и потребовал отмены указа, однако отмена пришла слишком поздно, и множество невинных жителей пострадали. Епископ Амвросий отправил императору письмо, в котором требовал публичного покаяния. Император долго колебался, однако ему пришлось сдаться перед авторитетом епископа и явиться для принесения покаяния у входа в храм без императорских одежд [51].
Известны случаи изгнания князей из русских городов, одним из которых стало изгнание в 1136 г. Всеволода Мстиславича из Новгорода. Как пишет С.М. Соловьев, «вины Всеволода так означены в летописи: 1) не блюдет смердов; 2) зачем хотел сесть в Переяславле; 3) в битве при Ждановой горе прежде всех побежал из полку; 4) вмешивает Новгород в усобицы…» [53, с. 507]. Изгнание князя стало его политической ответственностью перед новгородским вече. История Европы периода Средних веков и раннего Нового времени также знает примеры попыток призвать политическую власть к ответственности. На данном этапе соответствующие механизмы как и раньше не носили формализованный характер, однако сам принцип ответственности вполне явно выделялся. Он определялся идеей соответствия действий политической власти неким фундаментальным принципам государственного устройства. Всевластию монархов средневековья имелось два важных ограничения. Во-первых, социальные и политические традиции; во-вторых — божественная санкция, которая не только освящала власть монарха, но и ограничивала ее. «Эталон» абсолютистского режима — монархия Бурбонов во Франции — на самом деле являлась сложной системой взаимосвязей между короной и сословиями, которые уже в сочинениях Ж. Бодена начинают отождествляться с понятием «нация». В том случае, если король шел против «органических законов» государства, его политических традиций, «нация» призывала короля к политической ответственности за это. Попытка призвать к ответственности короля Генриха IV, нарушившего одну из основополагающих традиций французской монархии и отошедшего от католицизма, привела к витку религиозных войн во Франции в конце XVI в. В XVII-XVIII вв. наступление королей на права сословий приводило к попыткам парламентов призвать их к ответственности, что вылилось сначала в бунт Фронды, а в 1789 г. спровоцировало революцию. Ответственность монарха являлась важной темой в политической жизни средневековой Германии. По всей видимости, первым заметным случаем привлечения германского императора к политической ответственности является конфликт Генриха IV с папой Григорием VII, в ходе которого немецкий монарх покусился на основополагающую для той эпохи идею примата духовной власти над светской. Впоследствии, его преемники также неоднократно несли ответственность за свои попытки сломать основополагающий для Священной Римской империи принцип «первого среди равных» и подчинить своей власти немецких князей.
Вышеизложенные исторические факты позволяют убедиться в совершеннейшей многогранности исследуемого явления. Осознавая важность тщательного изучения, осмысления и систематизации соответствующих событий, нам, однако, ввиду формата доклада, хотелось бы сосредоточиться на истории возникновения в литературе самого понятия политической ответственности и описании ее формирования как впервые признаваемого всеми субъектами конституционно-политического обычая (традиции). Произошло это в Англии, бывшей исключением, однако ставшей примером для множества других стран на длительное время. Именно Англия подарила миру систему, в рамках которой политические действия и решения политика (министра) оценивались на основе исключительно прагматичных критериев, а смена носителей политической власти не рассматривалась как нечто экстраординарное и революционное. Речь о министерской ответственности перед парламентом, о которой впервые и заговорили как о политической.
Теоретические исследования вопроса об ответственности политических деятелей возникли, по историческим меркам, совсем недавно — около двух столетий назад. В фокусе внимания исследователей оказалась министерская ответственность, сущность которой определялась и ее теоретическое обоснование давалось множеством французских, немецких, английских, а позднее и русских ученых с начала XIX в. вплоть до настоящего времени [3, с. 6-64; 5, с. 72-210]. Особенностью вышеуказанных исследований, с нашей точки зрения, стало первоначальное рассмотрение института политической ответственности исключительно в контексте министерской (парламентской) ответственности. Однако сама практика министерской ответственности возникла существенно раньше, и связана она со становлением конституционно-монархического строя и возникновением представительного органа (парламента).
Механизм власти в конституционной монархии определялся наличием и постоянной борьбой трех основных сил, а именно — народного представительства (парламента), правительственной бюрократии и монарха [2, с. 658-660; 29, с. 96-97]. В абсолютистских государствах советники монарха, исполняя или нарушая законы, исполняли или нарушали волю государя и являлись ответственными лишь перед ним. Подобный квазиправительственный орган представлял собою, по сути, закрытый коллегиальный совещательный (консультативный) совет под личным руководством всесильного монарха. Однако развитие двух других сил (бюрократии и народного представительства) вело ко все более или менее формальному статусу монарха в системе государственной власти. Исходя из такой расстановки сил в обществе возможны несколько принципиально различных типов коалиций.
Первый из них представлен английским вариантом конституционной монархии, являющем собой в своей сути завуалированную форму парламентской республики. Второй тип конституционной монархии определяется как дуалистическая форма правления, при которой парламент и монарх имеют одинаковые прерогативы в области законодательной, а отчасти и исполнительной власти, осуществляют взаимный контроль и сдерживание. Данный режим возникал в ряде государств Западной и Центральной Европы как результат неустойчивого компромисса после крупных революционных потрясений и имел тенденцию эволюционизировать в направлении укрепления монархической власти. Третий тип конституционной монархии представлял собой так называемый монархический конституционализм. В нем в полной мере реализовывалась коалиция монарха и бюрократии против парламента. Историческая функция данного типа состояла фактически в сохранении монархической системы в новых условиях путем изменения структуры власти и формы правления без изменения ее существа. Вышеуказанный тип конституционной монархии, реализовавшийся преимущественно в странах Центральной и Восточной Европы, в России и государствах Азии, в наибольшей степени соответствует представлениям о «мнимом конституционализме» (выражение и приведенная классификация принадлежат А.Н. Медушевскому).
Именно механизм распределения власти в конституционной монархии в рамках того или иного государства предопределял существование института министерской (парламентской) ответственности и его конкретное содержание. Как явление политической жизни вышеуказанный институт возник в Англии еще в XIII-XIV вв. [4, с. 7, 10]. История становления и развития министерской ответственности в Англии [3, с. 165-217] предполагала в первоначальном виде ее уголовно-правовой характер, в частности, через реализацию процедуры импичмента за совершение уголовных преступлений либо собственноручное парламентское «правосудие» с обратной силой (деяние не признавалось преступным до его совершения) в отношении определенного «советника короны» (bill of attainder) [1, с. 15; 4, с. 11-14]. Таким образом, первоначальным основанием для применения ответственности к будущим членам кабинета было именно нарушение ими законов, однако с течением времени возник вопрос о возможности реализации ответственности в случае «нецелесообразных», «вредных для государства» действий, формально не являющихся правонарушением. Подобная ответственность, рассматривавшаяся именно в качестве политической, предполагала оценку парламентом направленности деятельности правительства и отдельных его членов.
Вопрос о политической ответственности правительства впервые возник в период английской революции середины XVII в. В ремонстрации, поданной королю Карлу I, так называемой великой ремонстрации 1641 г., парламент потребовал чтобы король управлял через советников, пользующихся доверием парламента, и удалял бы из своего совета тех лиц, которые подобным доверием не пользуются. Во второй ремонстрации 1642 г. парламент непосредственно жаловался на решение государственных дел в советах кабинета лицами неизвестными и не обладающими общественным доверием. Вышеуказанные действия парламента можно воспринимать как первую реальную попытку народного представительства в осуществлении контроля за формированием и политическими действиями «кабинета». В 1678 г. в ходе процедуры импичмента в отношении лорда-казначея Дэнби впервые получила свое выражение формулировка «honesty, justice and utility», предполагающая масштаб оценки действий советника английской короны как с точки зрения законодательства, так и их целесообразности [36, с. 662].
Дальнейшая политическая борьба привела к постепенному ослаблению статуса монарха и подчинению исполнительной власти парламенту. После различных конфигураций формирования правительства и последней, предпринятой в 1812 г., попытки сформировать кабинет из представителей различных партий (считается, что о «парламентаризации» исполнительной власти можно вести речь примерно с 1760 г.) в английской конституционной практике сложилось и закрепилось ключевое правило, согласно которому король не может удержать министров, лишившихся доверия большинства нижней палаты, а в вопросе выбора новых министров стеснен тем, что последний должен быть из среды парламентского большинства. Англия стала образцом парламентарной формы правления с точки зрения доминирования представительного органа над исполнительной властью.
Существовавшая абсолютная связь между парламентским большинством и составом правительства дополнялась выработанными в качестве конституционных обычаев основаниями политической ответственности кабинета и его членов перед парламентом. Дореволюционный русский ученый А.А. Жилин выделял четыре вышеуказанных основания: недоверие со стороны палаты общин, порицание министерской деятельности, непринятие законопроекта, инициированного правительством, либо принятие закона, в отношении которого существовало возражение со стороны исполнительной власти, а также неодобрение палатой важной меры кабинета либо отдельного его члена.
С теми или иными модификациями министерская ответственность и особая «политическая» ее форма как воплощение определенного механизма власти под влиянием английского образца распространились позже в иных странах в ходе революционных преобразований XVIII в. — начала XX в., хотя трактовка ответственности правительства приобрела различное содержание в разных государствах, обусловленное уровнем общественного развития и сложившимися социальными условиями и традициями.
Как отмечалось выше, сущность министерской ответственности стала предметом обсуждения множества европейских ученых. Однако в начальном виде в научной литературе дискутировался исключительно вопрос реализации юридической ответственности правительства либо отдельных его членов. Возникновение вопроса о возможности ответственности министра за целесообразность тех или иных его действий вызвало еще более серьезную научную дискуссию. Одним из первых представителей подобного взгляда, оказавшим большое влияние на дальнейшее развитие вопроса в соответствующем направлении благодаря своему высокому научному авторитету, стал знаменитый германский государствовед И. Блюнчли. Его воззрения стали развивать и другие ученые, также сходившиеся во мнении, что министерская ответственность не может ограничиваться исключительно нарушением законов, поскольку опасность для государства его «закономерных» действий может быть даже большей, нежели противозаконных. Еще столетие назад обсуждался вопрос о том, какой вред может причинить министр торговли, заключивший невыгодные для государства торговые соглашения, или военный министр, оставивший без внимания вопросы обороны и вооружения [3, с. 85-86]. Ключевым выводом стало обоснование трансформации «инстанции» ответственности министров — единственный авторитет в лице монарха уступил место органу народного представительства, выражающему волю и интересы общества и призванному контролировать как соблюдение издаваемых им законов со стороны исполнительной власти, так и содержание ее деятельности [1, с. 13; 3, с. 62; 5, с. 184].
Формат доклада не позволяет нам останавливаться на мнениях ученых, но отметим, что само обоснование вышеуказанного процесса было совершенно различным — от признания непогрешимости монарха и невозможности совершения им зла в отношении своих подданных и, соответственно, порочности его советников (английская формула «Король не может делать зла» — «King do not wrong») до необходимости фокусирования ответственности на ближайших сподвижниках монарха ввиду политической нецелесообразности привлечения к ответственности его самого (германская «теория фикции» — «Fiktionstheorie»). Соответствующие теоретические объяснения феномена министерской ответственности варьировались от государства к государству, следуя во многом за развитием национальных политических практик.
В течение еще длительного времени дискурс о политической ответственности продолжал развиваться в Европе в контексте именно министерской ответственности. Однако происходившие общественно-политические изменения расширили постановку соответствующего вопроса. Идентификация монархического государства с властвовавшим субъектом предопределяла особый ореол «непогрешимости и святости» вокруг принимаемых им решений, ставила его во «вненормативное» пространство, а также способствовала возложению ответственности на сподвижников главы государства — советников-министров. Последующая демократизация общества привела в европейских государствах в большинстве случаев либо к отказу от монархической формы правления, либо к преобразованию их в парламентские монархии. Однако даже в сохранившихся в настоящее время европейских монархиях произошла утрата собственного права монархов, сделавшая их в своей сути номинальными в большинстве европейских государств [37, с. 194]. Поскольку в большинстве современных государств народ провозглашается в качестве единственного источника власти (понятие «народного суверенитета»), предоставление народом субъекту определенной власти базируется на соответствующем акте и обуславливает возникновение весьма обширных обязанностей соответствующего лица по отношению к народу. К примеру, в немецком государственном праве сформировалась теория «персональной легитимации», заключающаяся в том, что власть каждого руководящего политика основывается на цепочке «назначенческих» актов, восходящей к воле народа («Legitimationskette» — легитимирующая цепочка). Исходя из этого, каждое решение снабженного властью субъекта абсолютно свободно в его общественной оценке и является основанием для соответствующей ответственности [5, с. 2, 37, с. 292]. Тем самым, завершился процесс формирования принципиальной безличности современной власти, в результате которого правители стали «слугами», «должностными лицами» (М. Дюверже). Ж. Бюрдо, называя правителей «агентами» государства, формулирует наиважнейшую мысль: отделение правителя от права командовать позволило подчинить процесс управления заранее оговоренным условиям [49, с. 120-121]. Назовем их нормами и, пользуясь выражением Г. Йонаса, скажем: власть «над» превратилась во власть «для», составляя существо ответственности [21, с. 177]. Смена «агентов» государства перестала иметь отпечаток революционности и приобрела характер неотъемлемой составляющей нормальной политической жизни. Важнейшей категорией стало «отношение доверия», представляющее собой определенную связь между избирателями и избираемыми (или даже назначаемыми), а наряду с «ординарными» процедурами (к примеру, выборами либо реализаций представительным органом своих «контрольных» полномочий) именно общественное мнение, формируемое через средства массовой информации, стало каналом «обратной связи» с политиками. Политик, утративший доверие общества, обречен.
Примером совершенно другого сложившегося механизма власти в рамках конституционной монархии стали общественно-политические преобразования в России, в которой монарх объединился с бюрократией для борьбы с народным представительством (парламентом). В России самодержавный строй сохранялся до начала XX в. Вопрос о том, можно ли Россию отнести к числу конституционных монархий, возник после опубликования манифеста 17 октября 1905 г., однако весьма сложно найти единство мнений относительно природы политического строя и формы правления в России до революции 1917 г. Российская конституционная монархия занимает особое место в общей типологии современных политических режимов, претендуя на характер «мнимого конституционализма» ввиду использования политических и юридических форм западноевропейского монархического конституционализма для легитимации сугубо традиционалистского института — самодержавия [34].
Дореволюционная Государственная Дума изначально рассматривалась в качестве исключительно совещательного учреждения, встроенного в административную вертикаль власти. Вышеуказанное воззрение на роль парламента сохранялось в своей сути в каждом случае подготовки законодательных документов, определявших правовой статус представительного органа в России, хотя некоторые из разработчиков считали его законосовещательный характер временным (переходным). Речь об ответственности министров перед парламентом даже не велась, хотя в своем ответном адресе на тронную речь государя императора (по образу и подобию западных парламентов) первая Государственная Дума выставила одним из первых условий «умиротворения страны» ответственность министров [29, с. 2; 33, с. 654].
Отметим, что соответствующие предложения (правда, в весьма ограниченном масштабе) содержались, к примеру, в проекте Конституции, подготовленном Государственной канцелярией, но в ходе последующей конституционной работы их исключили. Николай II рассматривал министров как своих доверенных лиц, управлявших под его общим руководством центральными ведомствами. Они непосредственно ему подчинялись и входили к монарху со всеподданнейшими докладами [42, с. 39, 108].
Следует сказать лишь в общих словах об основаниях вышеуказанного конфликта. Так, развитие российского конституционализма имело совершенно другие социальные основания в сравнении с его европейскими аналогами [29, с. 124]. В отличие от истории становления института парламентаризма в Европе, в огромной крестьянской стране с многовековыми патримониальными традициями импульс народного представительства рос не столько как органичный обществу императив, вызревавший в его толще, сколько как результат реакции интеллектуальной и политической элиты на внешние вызовы (прежде всего — либеральной). По мере углубления всех кризисных ситуаций другая — причем большая — часть населения уповала, как правило, на правление твердой руки [32, с. 117]. С другой стороны, император Николай II искренне полагал «вредным для вверенного [ему] Богом народа» представительный образ правления, а под общественным мнением, полагавшим необходимым проведение преобразовательных политических действий, считал мнение горстки «интеллигентов», предлагая «вычеркнуть это иноземное слово из словаря русской речи». Опыт развития европейских представительных учреждений игнорировался оппозиционными кругами русского общества, считавшими воплощением своих политических идеалов парламентарный строй современных им Англии и Франции; демонстрируя стремление к немедленному разрыву с вековым прошлым России, они требовали безотлагательного введения парламентской ответственности министров и выборов на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. По замечанию А.Ф. Смирнова, оппозиции XX в. недоставало понимания того, что политическое устройство Англии и Франции начала XX в. явилось результатом длительного и сложного процесса развития. Да и развитие в этих двух странах шло своими, далеко не тождественными путями и отнюдь не в порядке преобразования их государственного строя [42, с. 30, 33, 159].
В результате, отношения в треугольнике «парламент — правительство — монарх» складывались так, что ослабления власти главы государства (как в Англии) вследствие борьбы с парламентом не произошло; объединение с правительством, ответственным лишь перед монархом, вело к последовательному усилению положения последнего, а существование парламента воспринималось исключительно в качестве некоторой уступки со стороны административной власти.
Однако за происходившими трансформациями и внешними объяснениями скрывалась ключевая причина отсутствия западных аналогов отношений ответственности в рамках складывавшейся политической системы. Дело в том, что власть в России исконно понималась как самодостаточная ценность (по выражению С.Н. Сыромятникова, «Власть есть самое драгоценное, что вырабатывает государство»). Если в европейских государствах эволюция приводила к понятию «народного суверенитета», формуле «власть от народа (общества)», в России власть брала свое начало от Власти (выражение Ю.С. Пивоварова). Именно верховная Власть рассматривалась в качестве защитника выраженной народной воли (В.С. Ключевский), опирающаяся на административный аппарат, в рамках которого разделение властей имело исключительно функциональное значение («посредствующие власти» — по выражению дореволюционного правоведа А.Д. Градовского). «Народное представительство возникло у нас не для ограничения власти, а чтобы найти и укрепить власть — в этом его отличие от западноевропейского представительства» (В.С. Ключевский) [49, с. 13-15, 18-21, 84]. В результате, в России произошел переход к специфической четырехзвенной модели разделения властей, когда наряду с тремя традиционными ветвями власти (и над ними) предполагается четвертая — верховная власть, персонифицированная в фигуре главы государства [31, с. 67]. Подобная конструкция разделения властей послужила основой для последующей «авторитаризации» власти в руках правителя и создала условия для перехода к диктатуре вождистского типа [29, с. 45], сохранив свои черты и в российское время. При такой конструкции «сувереном» выступает (в отличие от западноевропейских обществ) глава государства (император, президент, генеральный секретарь и др.), определяющий «должное» и возлагающий ответственность в случае нарушения соответствующего порядка.67 Власть носит ярко выраженный персонифицированный характер, обязательно предполагая определенного ее носителя [49, с. 17]. Поэтому в вопросах назначения своих советников глава государства в России пользуется исключительно своими личными пристрастиями и вправе не считаться с мнением представительного органа и общественного мнения («власть от Власти»). Аналогичным образом и ответственность советников базируется на нормах, обусловленных личностью правителя. Если в западноевропейских странах именно общество формулирует «норму поведения», политический ориентир для политика, в России их источником являются воля суверена в лице главы государства и именно его представления о «народном благе». Соответственно, и народ рассматривает это право суверена как имманентно присущее ему.
Изменить существующее положение вещей стремились приверженцы возникших радикальных политических течений. В отличие от европейских стран, в которых импульс политической ответственности реализовывался в основном через механизм народного представительства, а общественное мнение служило дополнительным каналом взаимодействия общества и власти, в России он канализировался в деструктивных формах — прежде всего в форме политического (революционного) терроризма (или террора). Во-первых, из-за отсутствия до XIX в. прослойки в виде интеллигенции; во-вторых, ввиду ее антагонизма по отношению к власти. Разумеется, политический террор имел место и в европейской истории, однако именно в России он превратился в единственно возможное средство влияния на правительственную власть со стороны появившихся политических партий. Во втором, дополнительном, томе словаря Брокгауза и Ефрона (1907 г.) в статье «Террор в России» под последним как раз понималась «система борьбы против правительства, состоявшая в организации убийства отдельных высокопоставленных лиц…». Как отмечает О.В. Будницкий, «терроризм должен был способствовать дезорганизации правительства; в то же время он являлся своеобразной формой “диалога” с ним — угрозы новых покушений должны были заставить власть изменить политику». Хотя идеологическое обоснование индивидуального террора в дореволюционной России было различным, условия, приводившие к возрождению террористических идей и к возобновлению террористической борьбы, оставались в России неизменными на протяжении четырех десятилетий после начала реформ 1860-х гг.: разрыв между властью и обществом, незавершенность реформ, невозможность для образованных слоев реализовать свои политические притязания, жесткая репрессивная политика властей по отношению к радикалам при полном равнодушии и пассивности народа толкали последних на путь терроризма [47, с. 11, 45, 339]. Представители радикальных политических течений рассматривали себя в качестве представителей народа и выразителей его воли, однако, как хорошо известно, находились «в плену» многочисленных иллюзий в отношении народа.
Вновь возвращаясь к широкому пониманию политической ответственности, о котором шла речь в самом начале раздела, отметим, что индивидуальный террор в отношении представителей правительства (наряду с революционными событиями) можно рассматривать как крайнюю форму политической ответственности, претендовавшую на замещение традиционной конструкции политической ответственности, «замыкавшейся» на фигуре главы государства.
Сохранение авторитарных традиций делало невозможным становление и развитие института политической ответственности в его западноевропейском понимании и в советскую эпоху. Хотя вопрос о политической ответственности в системе социалистического народовластия в самом конце существования СССР поднимался в научном дискурсе [8, с. 10], без возможности сменяемости власти — а значит, свободных демократических выборов, политического плюрализма и функционирующей системы разделения властей, — политическая ответственность могла существовать лишь в совершенно иной (по сравнению с Западной Европой) вариации. Так и случилось. Сохраняя все свои неизменные черты, система власти в советском обществе обеспечила сохранение конструкции политической ответственности, лишь модернизировав ее формальные механизмы.
Так, советский исследователь вопросов политической ответственности А.М. Черныш, цитируя слова В.И. Ленина об «ответственности перед партией каждого отдельного ее члена», рассматривал именно марксистско-ленинскую партию в качестве центрального звена в механизме политической ответственности [8, с. 68, 73-74, 77-81]. Коммунист, совершивший проступок, отвечает за него прежде всего перед партийной организацией. Партия освобождается от лиц, нарушающих Программу, Устав КПСС и компрометирующих своим поведением «высокое звание коммуниста». Однако еще более важное значение имеют следующие слова. Решающим направлением деятельности КПСС является руководство институтами политической системы. И формулируется наиважнейший тезис: «Партийное руководство субъектами политической системы означает прерогативу партии на подбор руководящих кадров». И вновь ссылка на высказывание В.И. Ленина: «Если у ЦК отнимается право распоряжаться распределением людей, то он не сможет направлять политику». Таким образом, карьерное продвижение в аппарате управления непосредственно связывалось с отношениями в рамках партийной иерархии [50].
Принцип номенклатурности определял существование набора правил (формальных и неформальных) политического поведения, внутренних моральных норм, образа жизни, правил рекрутирования, сложившейся практики регулирования деятельности и др. Ключевой формой политической ответственности являлась ответственность перед партией. Именно перед ней несли политическую ответственность функционеры советского государства, формальным выражением которой являлись исключение из коммунистической партии как высшая мера партийного наказания или, к примеру, выговор. Существовали и особые формы политической ответственности, одним из выражений которых стало развенчание «культа личности» в 1956 г., происходившее именно перед партией. Аналогичным образом развивались события в 1964 г. с отставкой Н.С. Хрущева, также понесшего формальную ответственность перед партийной организацией.
На сегодняшний день «партия власти» в лице «Единой России» выполняет во многом схожую функцию организации членов правящей элиты [49, с. 44] (претендентом на ее замещение является ОНФ). «ЕР» выполняет формализующую функцию для политической ответственности, институционализируя ее. Однако если в советские времена все же действовал ряд моральных и иных запретов, которые с определенными оговорками можно характеризировать как некое подобие неписаного «кодекса морали», на смену ему пришел не более совершенный кодекс, а практически полный моральный вакуум [52, с. 139]. С точки зрения именно политической ответственности как ограничителя власти, советская система представляется даже более предпочтительной, нежели современная система отношений ответственности. Сохранив все свои исконные черты, российская власть стала демонстрировать лишь формальное движение к западноевропейским нормам, определяющим конструкцию политической ответственности, полностью отказавшись от преемственности их содержания.
Обрисовав в самых общих чертах историю становления института политической ответственности, попробуем проанализировать его теоретические аспекты в целях конструирования абстрактной «матрицы» политической ответственности. Вместе с тем отметим, что такая задача сама по себе весьма нелегка, учитывая большую вариативность института политической ответственности. Кроме того, нам придется большей частью опираться на западный политологический материал, ввиду отсутствия в российской политической науке соответствующих исследований.
Политическая ответственность как вид социальной ответственности
Ключевым словом в термине «политическая ответственность», от которого следует отталкиваться в понимании природы рассматриваемого феномена, является, разумеется, слово «ответственность». Действительное понимание политической ответственности без осознания природы социальной ответственности в ее философско-социологическом понимании, взаимосвязи с отдельными ее видами невозможно.
В научной литературе не существует единого мнения о природе ответственности, разброс мнений весьма велик — от ответственности как свойстве личности до объективного отношения зависимости. Само собой разумеется, в рамках настоящего доклада невозможно разрешить многолетние теоретические противоречия в понимании социальной ответственности. Следует обратиться лишь к наиболее важным для понимания именно политической ответственности аспектам социальной ответственности и прежде всего к ее определению.
Наиболее близким нам определением социальной ответственности, из которого следует исходить, в том числе, при конструировании понятия политической ответственности, является ее восприятие как обязанности субъекта общественных отношений осознанно выбирать варианты поведения в соответствии с требованиями социальных норм, а в случае совершения поступков, противоречащих требованиям общества, претерпевать неблагоприятные последствия морального, физического, имущественного и иного характера [12, с. 16]. В представленном определении, как видно, акцентируется внимание как на ответственности за будущее поведение (позитивный аспект), так и на ответственности за прошлое поведение лица (негативный аспект). Достоинством вышеуказанного определения является сочетание различного понимания «ответственности». Так, нельзя сводить ответственность лишь к неблагоприятным последствиям после неисполнения порученного дела («отвечать» перед соответствующим субъектом). Быть «ответственным» означает относиться с самого начала должным образом к своим обязанностям и поручениям, а также быть открытым для соответствующей оценки своей деятельности. Таким образом, назначение ответственности состоит, с одной стороны, в разрешении уже возникшего конфликта, а с другой стороны — в недопущении его возникновения [13, с. 60; 15, с. 25 и др.]. Взяв за основу вышеуказанное определение, попробуем проанализировать сущность политической ответственности.
В современном общественно-политическом дискурсе термин «политическая ответственность» традиционно применяется к отставкам министров, глав государств, парламентариев и иных должностных лиц органов государственной власти. К политической ответственности обращаются также в связи с проведением выборов в государственные органы — в частности, на пост главы государства либо в представительные органы. Таким образом, выражение «политик несет политическую ответственность», прежде всего означает его отставку с соответствующего поста либо неудачное выступление на очередных выборах. Однако исчерпывается ли подобным подходом содержательное наполнение политической ответственности? Думается, нет. Прежде всего отметим, что вопрос о понятии политической ответственности возникал с самого начала длительных поисков ее теоретического обоснования [3, с. 67-68] и продолжает возникать до сих пор [6]. Термин «политическая ответственность» используется различными авторами в неодинаковом значении: политическая ответственность разграничивается с моральной и правовой ответственностью (хотя с оговорками об их неизбежном пересечении); некоторые авторы разделяют политическую ответственность (более узкое понятие) и ответственность политических деятелей (более широкое). Именно ввиду вышеуказанных сложностей нам необходимо, в первую очередь, уделить внимание теоретическому осмыслению политической ответственности и ее соотношению с другими видами ответственности.
Как правило, во всех источниках подчеркивается, что конструкция социальной ответственности предполагает наличие нескольких обязательных элементов. Хотя перечень элементов является предметом научного спора, на наш взгляд, ключевыми (и наиболее «бесспорными») являются следующие:
а) субъект как носитель ответственности (кто отвечает?);
б) масштаб оценки ответственности (как должен поступать?);
в) объект ответственности (за что отвечает?);
г) инстанция ответственности (перед кем отвечает?).
Рассмотрим, хотя бы «бегло», каждый из элементов этой конструкции.
Общепризнанно, что субъектом ответственности могут признаваться как индивид, так и «корпоративные» (коллективные) субъекты [13, с. 44, 46]. В первую очередь, у каждого из нас в ходе размышления о субъектах политической ответственности возникают фигуры главы государства, руководителей политических партий и депутатов представительных органов, министров. Однако, как кажется, условным субъектом политической ответственности должен быть каждый участвующий в политике субъект. Что же означает подобная трактовка? В своем известнейшем труде «Политика как призвание и профессия» М. Вебер охарактеризовал политику как «стремление к участию во власти или к оказанию влияния на распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри государства, между группами людей, которые оно в себе заключает». Исходя из вышеуказанного понимания политики, германский социолог приходил к следующему выводу: можно заниматься «политикой» как в качестве политика «по случаю», так и в качестве политика, для которого это побочная или основная профессия. Политиком «по случаю» является каждый из нас, когда опускает свой избирательный бюллетень или совершает сходное волеизъявление — например, рукоплещет или протестует на «политическом» собрании, произносит «политическую» речь и др. У многих людей подобными действиями и ограничивается их отношение к политике. Политиками «по совместительству» являются все те лица, которые — по общему правилу — занимаются этой деятельностью лишь в случае необходимости, и она не становится для них первоочередным «делом жизни» ни в материальном, ни в идеальном отношении [2, с. 646, 652]. Аналогичную позицию можно обнаружить и в современной (в том числе западной) литературе. Германский юрист К. Штайн в своей работе к субъектам ответственности причисляет «политических акторов», под которыми понимает индивидов (индивидуальные акторы), группы или организации (коллективные акторы), целенаправленно и с определенным шансом на успех принимающих участие в политических процессах. При вышеуказанном подходе сформулированным признакам удовлетворяют парламент, правительство, глава кабинета министров, депутаты и отдельные политические чиновники, а также политические партии, частные союзы, функционирующие, в том числе, с политическими целями, отдельные избиратели или участники политических демонстраций [5, с. 19]. В российской науке во многом схожие воззрения высказывал Ю.А. Нисневич, также причисляя к субъектам политической ответственности граждан и общественные объединения [26, с. 83-84].
Вышеуказанные подходы полностью соответствуют нашим представлениям. Однако каждый из перечисленных субъектов (в особенности политики «по совместительству») является субъектом политических отношений, вступая в политические отношения в определенном объеме, в определенных случаях, с определенными целями. В связи с этим, очевидной становится необходимость в дифференциации ответственности в зависимости от идентификации субъекта, поскольку участие в политике каждого субъекта не является однородным.
Тем не менее, следует подчеркнуть, что политическая ответственность — это прежде всего ответственность определенных государственных деятелей. Вспоминая, однако, разделение на политическую власть и бюрократию (М. Вебер), отметим, что бюрократический аппарат субъектом политической ответственности не является. Немецкий социолог писал о необходимости разделения чиновников-специалистов и политиков. «Подлинной профессией настоящего чиновника… не должна быть политика», — пишет М. Вебер [2, с. 660-662, 666]. Именно для политиков — и прежде всего политического вождя — свойственна борьба, а их деятельность подчиняется совершенно иному принципу ответственности. «Честь политического вождя, т. е. руководящего государственного деятеля, есть прямо-таки исключительная личная ответственность, отклонить которую или сбросить ее с себя он не может и не имеет права».
Знаменитое высказывание Ф. Искандера о том, что настоящая ответственность бывает исключительно личной, поскольку человек краснеет один, не утратило своей актуальности. Однако для сферы политики весьма важен вопрос о том, ответственен ли определенный человек за деятельность некоего коллективного субъекта (группы людей), к которой он принадлежит, даже если не совершает «виновных» действий? Или отвечает ли соответствующая группа за действия, совершаемые таким индивидом? Следует ответить положительно на вышеуказанные вопросы.
Различные обоснования корпоративной (коллективной) ответственности известны в течение весьма длительного времени [38], получив свое теоретическое обоснование даже в сфере уголовного права [40]. Наиболее очевидным в политической практике случаем является коллективная ответственность кабинета министров в Великобритании, предполагающая, в том числе, обязанность активной поддержки всеми членами правительства решений, принятых кабинетом министров. Важное значение этого правила для Великобритании подтверждается тем, что несоблюдение его как в публичных выступлениях, так и при голосовании в парламенте, как правило, приводит к отставке соответствующих министров [24; 3, с. 193]. Лежащим «на поверхности» примером служит также ответственность политической партии как целого за действия отдельных своих членов. Очевидным выводом является необходимость подробнейшего рассмотрения в ходе будущих исследований критериев, делающих коллективную ответственность необходимой и возможной.
Масштаб оценки ответственности предполагает наличие определенного правила поведения (нормы), несоблюдение которого является основанием для наступления негативных последствий для субъекта. Социальные нормы могут, как известно, воплощаться в юридических нормах, установленных или санкционированных государством и обеспечиваемых государственным принуждением, могут оставаться исключительно в моральной плоскости, приобретать характер обычаев, традиций (неформальные нормы). Вышеуказанный подход исходит из универсальности соответствующих норм для всего общества и существования единой системы ценностей, их предопределяющих. Хотя в учебной литературе в сфере теории государства и права политические нормы выделяются как разновидность социальных норм в одной классификации с правовыми нормами [17], представляется, что с формально-юридической точки зрения подобное вряд ли возможно. Справедливым, на наш взгляд, является следующий подход. Политика представляет собою совокупность общественных отношений, складывающихся в результате взаимодействия групп по поводу завоевания, удержания и использования государственной власти в целях реализации своих общественно значимых интересов [18, с. 36]. Соответственно, определенная часть вышеуказанных отношений в современном обществе урегулирована правовыми нормами, в то время как иная часть находится в исключительной сфере действия иных социальных регуляторов. Таким образом, некоторые политические отношения являются одновременно правоотношениями, в результате чего политическая ответственность также может обретать форму юридической ответственности либо оставаться за пределами правового регулирования. Конституционная ответственность как вид юридической ответственности во всех случаях есть ответственность политическая, однако последняя не тождественна конституционной ответственности и может реализовываться через различные виды юридической ответственности, в том числе — уголовно-правовую как наиболее серьезную. Схожее восприятие соотношения политической и юридической ответственности можно обнаружить как в документах международных организаций [19, с. 4], так и в научной литературе [20, с. 22-23; 27, с. 72-73]. Юридическое выражение политической ответственности становится наглядным ввиду особого форума — судебного органа (как правило, это суд, однако возможна реализация квази-судебных функций, к примеру, парламентом) [5, с. 23; 27, с. 78]. Однако не в каждом случае можно ставить знак равенства между юридической и политической ответственностью. Если конституционно-правовая ответственность является изначально политической, к примеру, уголовная ответственность (тем более, гражданско-правовая) таковой будет далеко не всегда.
Хотя термин «политическая норма» встречается лишь в некоторых источниках с весьма размытым определением, нам кажется, можно было бы выдвинуть в качестве гипотезы с определенными оговорками (см. раздел о сложностях политической ответственности) наличие политических норм, определяющих правила взаимоотношений общества и власти и в рамках самой власти. В том случае, если исходить из абстрактного понимания «политической нормы», они должны складываться в ходе объективного развития общества и отражать уровень сложившейся политической культуры. Думается, абсолютно правильным также будет констатация максимально широкой трактовки политической ответственности, включающей элементы публично-правовой и профессиональной этики политиков (парламентариев, министров, иных общественно значимых фигур), статус которых накладывает на них определенные обязательства и ограничения, не распространяющиеся на другие категории населения. Эта сторона дела регулируется не законами, а этическими кодексами профессиональных групп [25, с. 96]. Иными словами, политические нормы подразделяются на два вида, среди которых выделяются нормы, предусматривающие обязанность соблюдения определенных профессиональных ограничений при реализации собственной политической функции, а также нормы, регулирующие поведение политического актора в рамках политических отношений. Вышеуказанная классификация основывается на выделении позитивного и негативного аспектов социальной (политической) ответственности. Если профессионально-ограничительные нормы направлены на предотвращение искажения обязанности надлежащей реализации теми или иными субъектами своих политических функций (разумеется, подобные нормы относятся прежде всего к профессиональным политикам), вторые — ориентированы на апостериорную оценку деятельности политических акторов.
Современная категория «политической нормы» включает в себя также иные социальные регуляторы, в том числе моральные и религиозные нормы, предопределяющие поведение субъекта в сфере политики. В связи с этим, возникает следующий вопрос. Нарушение ли любых моральных или юридических норм должно влечь за собою политическую ответственность? К примеру, министр может совершить нарушение правил дорожного движения в свободное от своей профессиональной деятельности время, депутат — оскорбить своего соседа на дачном участке, глава государства может изменять своей жене. Является ли привлечение их к ответственности или моральное осуждение политически влиятельным действием? Должно ли оно влечь за собою отставку соответствующего лица? Как кажется, определяющими должны быть несколько моментов.
Во-первых, подобная постановка вопроса наталкивает нас на мысль о существовании определенного свода норм для деятельности политических акторов. Нарушение каждой из вышеуказанных норм должно влечь за собой обязательное и неотвратимое наказание, нарушение наиболее важных правил должно предопределять наступление политической ответственности в виде утраты либо ограничения политической функции (см. ниже). Однако изучение эмпирических данных о реалиях политической жизни в различных странах свидетельствует прежде всего об абсолютной неоднородности норм, служащих основанием для наступления политической ответственности, и кроме того — о возможности совершенно различных последствий в случае нарушения одной и той же политической нормы различными субъектами в различных обстоятельствах. В абстрактном виде следует полагать, что нарушенная норма соотносится с теми или иными ценностями в обществе, ранжирование которых имеет значение для наступления политической ответственности.
Любопытными в данном контексте являются результаты измерений ценностей в рамках проекта международного проекта World Values Survey [43]. Сопоставление показателей различных стран демонстрирует расхождение в важности для различных обществ тех или иных показателей. С нами согласен и А.В. Оболонский, отмечающий что жизнеспособность и легитимность политической системы страны во многом зависит от того, насколько государственные институты и высшие должностные лица отвечают господствующим в обществе ценностям и идеалам, а их поведение соответствует нормам общественной морали [52, с. 15]. Один и тот же политический проступок, скажем, в США и на постсоветском пространстве может иметь кардинально различные последствия и оценки. Заметим лишь, что политическая ответственность связана, на наш взгляд, не с легитимностью власти, а с доверием как категорией, отражающей более «подвижные» изменения в оценке конкретных политиков и предпринимаемых ими мер [54].
Во-вторых, как указывалось, идентичность нарушенной политической нормы не предопределяет идентичности последствий, наступающих для политического актора (как кажется, вышесказанное справедливо даже в отношении политической ответственности, реализуемой в форме юридической ответственности). К примеру, обвинения в плагиате при написании диссертации в отношении политика могут вести к различным последствиям в предвыборный цикл либо непосредственно после получения доступа к власти (после завершения выборного периода). Как кажется, для наступления политической ответственности само нарушение должно ставить под угрозу функционирование всей политической системы либо определенное положение в ней политической группы, к которой принадлежит политический деятель. Одно и то же политическое «нарушение» может иметь различные последствия для политика в зависимости от констелляции политической системы в определенный период времени.
Таким образом, «политическая норма» может связываться как с реализацией политиком своих функциональных «полномочий», так и определять его поведение за рамками профессиональной сферы. Исходя из подобного понимания «политической нормы», определение политической ответственности становится в некотором смысле «безбрежным».
В предыдущем вопросе мы постарались впервые обозначить еще один критерий дифференциации политической ответственности. По нашему мнению, политической должна признаваться именно такая ответственность, которая влечет за собой определенные ограничения либо утрату политической функции (роли), выполняемой соответствующим субъектом. В качестве утраты политической функции, к примеру, можно рассматривать отставку соответствующего должностного лица (политика), а также отказ в его переизбрании для выполнения той или иной политической роли. Именно такого рода последствия являются неблагоприятными, в противном случае можно вести речь о каком-либо другом виде ответственности (или безответственности). Неблагоприятные последствия, наступающие в результате наступления ответственности, могут обладать как формальным, так и неформальным характером. В зависимости от конкретной ситуации неформальное наказание может иметь даже более важное значение для субъекта ответственности в сравнении с формальными санкциями. Так, несмотря на сохранение политиком своей политической должности, его неформальные ограничения в рамках политической системы (наложенные за соответствующее «нарушение») могут сделать невозможным его дальнейшее продвижение и занятие более высоких должностей. И это тоже может считаться ответственностью, хотя «распознать» ее не всегда возможно.
Определение объекта политической ответственности как предмета сознательной деятельности субъекта ответственности, с одной стороны, не вызывает сложностей. В современном правовом демократическом государстве компетенция каждого из министров, глав государства и иных лиц, а также их полномочия детализированы в многочисленных нормативных актах. У каждого из них существует свой функционал, эффективное выполнение которого является его основной целью. Однако оценка эффективности деятельности того или иного министра или иного «государственного деятеля» в глазах общественности вряд ли всегда осуществляется с использованием рационального инструментария. Так, Г. Йонас в своем труде «Принцип ответственности» сравнивает ответственность политика с ответственностью родителя, находя общее в «тотальности» их ответственности. Тем самым им подразумевается, что вышеуказанные виды ответственности охватывают собой все в целом бытие их объектов, все их стороны — от голого существования до высших интересов. «Государственный деятель» на время своего нахождения на посту или пребывания у власти в полном смысле слова обладает ответственностью за всю совокупность жизни общества, так называемое общественное благо [21, с. 185, 186].
Мысль Г. Йонаса можно развивать дальше. Хотя он отмечает общую тенденцию расширения государственного «патернализма», его степень основывается в том числе на исторических традициях отношения к государству и власти.
В разных типах общества набор функций государства несколько различен. Либеральное государство западного общества сокращает свои функции, стремится стать «маленьким», как можно меньше участвовать в экономической жизни и решении социальных проблем. Патерналистское государство традиционных обществ берет на себя многие из этих функций. В России государство воспринималось и воспринимается в высшей степени как патерналистское, и соответственно, уровень требований к власти находится фактически на высшей ступени, охватывая все сферы человеческого бытия.
С другой стороны, разнообразие субъектов политической ответственности вызывает необходимость в дифференциации объекта политической ответственности — объект определяется субъектом. В вышеуказанном контексте как раз важнейшее значение приобретают юридические нормы, устанавливающие сферу компетенции и полномочия соответствующего субъекта, его права и обязанности.
«Инстанции» в зависимости от характера социальных отношений разделяют на два крупных класса: формальные и неформальные. Полномочия и деятельность формальных инстанций (к примеру, различные государственные учреждения) базируются на правилах, имеющих правовую основу, а неформальные основываются на симпатиях и антипатиях, этических нормах, общественном мнении [13, с. 54; 15, с. 33]. Отметим также, что «инстанция» ответственности может иметь как внешний по отношению к субъекту ответственности характер (органы государственной власти, общество и др.), так и внутренний (самосознание субъекта ответственности). Отсутствие «претензий» со стороны внешней инстанции либо ее неэффективность может компенсироваться внутренними ощущениями субъекта, его собственной оценкой своей деятельности. Аналогичным образом существует и обратная связь.
Характер связанности адресата нормы ее требованиями зависит от инстанции ответственности, формирующей требования [13, с. 60]. Иными словами, каждая инстанция вправе требовать от субъекта ответственности соблюдения выработанных ею правил поведения. В разделе доклада, посвященного эволюции института политической ответственности, нам удалось выяснить, что политическая ответственность в ее формальном смысле в Западной Европе развивалась прежде всего как институт министерской (парламентской) ответственности в виде ответственности министров перед парламентом за свои политические действия и утраты своих должностей в случае отсутствия парламентской поддержки. Хотя первоначальным основанием для применения ответственности к министрам было именно нарушение ими законов или конституции, политическая ответственность касалась именно случаев «нецелесообразных», «вредных для государства» действий со стороны министров.
Концепция ответственности министров перед представительным органом как органом народного представительства, выражающим волю и интересы народа, сохраняет свою силу и сегодня. Таким образом, реализация политической ответственности перед парламентом указывает нам на ключевого «выгодоприобретателя» политической ответственности — общество [5, с. 339]. В России же ключевым «выгодоприобретателем» политической ответственности является верховная власть, олицетворяемая главой государства. Именно он как защитник «народного блага» формирует требования и нормы поведения, а также призывает к ответственности за их несоблюдение, «опираясь» в своем правлении на другие ветви власти. Это становится принципиальным отличием между конструкциями политической ответственности на Западе и в России.
В завершение отметим еще два весьма существенных момента.
Во-первых, ответственность не имеет смысла в случае, если субъект ответственности не обладает свободой выбора вариантов поведения [5, с. 15; 16, с. 12]. В политике формальная свобода — к примеру, министра — в своих действиях имеет совершенно другое реальное содержание. Во многих случаях, даже при формальном «авторстве» тех или иных решений, установить истинного инициатора проекта зачастую становится невозможным. Еще ученые позапрошлого века «мучились» с объяснением и теоретическим обоснованием контрассигнации (скрепления подписью) министрами решений монарха. Одни ученые полагали, что министр не должен нести ответственность за распоряжения главы государства в случае его возражений (например, А.А. Жилин); другие видели возможность для освобождения министра лишь в случае его отставки (Х. фон Фриш); третьи возлагали на министров ответственность за все (Й. Буддеус). Как кажется, вышеуказанная дискуссия не утратила актуальности для современной российской политической системы, унаследовавшей множество черт своих предшественников. Вопрос вменения определенных действий и их последствий соответствующему субъекту является не менее важным, нежели установление правовых процедур для реализации политической ответственности [5, с. 564].
Во-вторых, как отмечал Г. Йонас, ответственность может быть свободна от всякой вины, а условием ответственности является сила каузальности. Субъект несет ответственность за последствия своих действий, даже если их последствия не предусматривались и не предвиделись [21, с. 169-170]. Вышеуказанная формула отвечает современным вызовам, вызванным усложнением общественных отношений. «Вина» субъекта для наступления политической ответственности остается за рамками ее «состава», определяя лишь степень ответственности.
Таким образом, даже «беглый» взгляд на политическую ответственность как явление, его природу и сущность, демонстрирует нам его сложность. Политическая ответственность как разновидность социальной ответственности, безусловно, соотносится с последней как часть и целое. Невозможно теоретическое осмысление феномена политической ответственности без ее соотношения с социальной ответственностью и присущими социальной ответственности свойствами, функциями, признаками и др.
Сложные вопросы политической ответственности
Общий конструкт политической ответственности лишь «намечает» ключевые его элементы. Однако политические практики намного сложнее, в них политическая ответственность приобретает зачастую неоднозначное содержание, а теоретические конструкции далеко не в каждом случае могут объяснить реалии политической жизни.
Постараемся обозначить ряд сложных вопросов политической ответственности, даже не претендуя на их исчерпывающий перечень.
Как указывалось выше, социальная ответственность предусматривает прежде всего обязанность субъекта общественных отношений осознанно выбирать варианты поведения в соответствии с требованиями социальных норм, а проявлением вышеуказанной обязанности (позитивной ответственности) служат, в частности, сознательность, дисциплина, добросовестность, осознание своего долга [13, с. 41]. Однако, как верно отмечается, от способности осознавать свою ответственность до превращения ее в устойчивое качество личности весьма далеко. Очевидно, что основной задачей системы воспитания должно быть формирование ответственности как черты характера личности, способствующей принятию ответственности сознательно и добровольно и ее реализации [13, с. 53; 14, с. 126-127; 26, с. 83-84]. Все вышесказанное абсолютно так же относится и к политической ответственности, представляющей собою лишь разновидность социальной ответственности.
Примеры целенаправленного воспитания ответственности как качества личности можно обнаружить в анализе зарубежного опыта, хотя и отечественные практики также, безусловно, существуют. Так, формирование субъективной установки гражданина действовать ответственно при реализации своих прав, в том числе в политической сфере, играет большую роль в формировании политической культуры «гражданского общества» в западных государствах. Понимание того, что индивид как гражданин должен вести себя активно и ответственно независимо от того, занимает ли он какую-либо государственную или политическую должность или нет, принимая участия в различных сферах общественной жизни (экономика, социальная активность, вопросы местного значения и др.), формируется на основе так называемой философии «активного гражданства» (active citizenship). Подобная установка может формироваться через воспитание и образование. В зарубежных странах достаточно большое внимание уделяется образованию в сфере гражданственности (citizenship education). Соответствующая практика присутствует в европейских странах и поддерживается на уровне Европейского союза. «Гражданство» как учебная дисциплина (в какой-то мере, вероятно, являющаяся аналогом отечественным школьным курсам по обществоведению и правоведению) является обязательной составляющей среднего образования в Великобритании (с различными региональными особенностями обучения в Англии, Шотландии и Уэльсе), Ирландии, Франции, Испании, Скандинавских странах. В содержание учебной дисциплины (в различных вариантах) включаются — положения политологии, социологии и права, общие положения о системе государственного управления, системе органов государственной власти и правах человека. Перед преподавателями ставится задача не только дать общее представление о современной политической системе и государственном устройстве, но и научить мыслить критически, действовать самостоятельно в различных формах социальной активности (неправительственные организации, гражданские акции, добровольчество и др.). Таким образом, формируется личность, готовая к различным формам политического участия, обладающая минимальной компетенцией для использования своих политических прав. Подобный подход можно оценить как весьма конструктивный с точки зрения формирования ответственного политического поведения. Однако у него встречаются и противники, которые отмечают, что через внедрение соответствующего образовательного курса происходит внедрение определенной политической идеологии, что не всегда позитивно воспринимается консервативно настроенной частью общества. Примером подобного конфликта может послужить противодействие католической церкви введению соответствующего курса в Испании.
Особенное значение воспитание ответственности имеет ввиду отсутствия в политической практике и культуре соответствующих норм, сложившихся бы в течение определенного периода времени. В результате, воспитание ответственности через интериоризацию соответствующего императива в процессе политической деятельности, через «впитывание» господствующих политических норм и ценностей, политической культуры становится невозможным. Скорее речь идет о «безоветственности» как устоявшейся практике российской политической действительности.
Важность реализации политической ответственности для устойчивого существования государственной власти безусловна. Однако неизбежно возникает вопрос о возможных «ограничителях» политической ответственности. Является ли политическая ответственность во всех условиях неизменным благом? Нам кажется, что принцип политической ответственности не безграничен и (как и все принципы) может вступать в конфликт с другим принципом — устойчивости власти. Нельзя забывать, что реализация политической ответственности не является сама по себе самоцелью ее существования. Она лишь призвана обеспечивать максимально продуктивную деятельности всех участников политических отношений, в особенности находящихся во власти политических деятелей. Даже уголовная ответственность имеет свои ограничители в современном обществе, мигрируя от возмездия и принципа «талиона» к гибкому инструменту управления обществом. Выработка определенных критериев, позволяющих рассматривать безответственность политического деятеля в качестве дозволенной при соответствующих обстоятельствах, также должно стать предметом научного исследования.
Другим сложным вопросом политической ответственности является вопрос о человеке (гражданине) как субъекте ответственности. Развитие представлений о народном суверенитете как источнике власти также обусловило возникновение вопроса — «несет ли сам народ и каждый конкретный индивид политическую ответственность, ответственность за свой политический выбор?» Карл Ясперс в своем труде «Вопрос вины. Политическая ответственность Германии» вел речь о политической ответственности народа за деятельность своего государства. Мысль его заключалась в том, что политическая вина каждого состоит в действиях своих государственных (политических) деятелей и гражданстве государства, вследствие чего каждый несет ответственность за последствия действий государства (значит, своих государственных деятелей), чьей власти он подчинен и благодаря чьему порядку существует. Каждый человек несет ответственность за «управление им» [44]. Иными словами, К. Ясперс приходит к выводу о всеобъемлющей политической ответственности каждого, даже в реальности (фактически) не участвующего в политических отношениях. Ему вторит М. Вебер: «Ты должен насильственно противостоять злу, иначе за то, что зло возьмет верх, ответственен ты» [2, с. 696]. Ю. Нисневич в ходе одного из семинаров, проводимых Центром проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования, отметил, что политическая ответственность гражданина должна базироваться на ясном осознании определяющей роли политики в его каждодневной жизни. В ходе выборов политически ответственный избиратель должен осмысленно принимать решение о своем участии или неучастии (как форме протеста) в тех или иных выборах, а также о том, за какую партию и кандидата он отдаст свой голос [26, с. 83].
Разумеется, вести речь о политической ответственности гражданина за свой выбор в полном смысле используемого нами понятия невозможно. Право избирать, выражающееся в праве самостоятельного и свободного выбора одной из нескольких кандидатур, является субъективным правом гражданина. Введение ответственности за «несознательное» голосование абсолютно разрушает всю конструкцию избирательных прав. Однако политическая ответственность гражданина может выражаться в закреплении обязанности участия в голосовании. Так, в Конституции Итальянской Республики (ст. 48) говорится: «Голосование — личное и равное, свободное и тайное. Осуществление его считается гражданским долгом». В развитие этой конституционной формулы избирательный закон устанавливает: «Участие в голосовании — обязанность, от которой никто не может уклониться, не нарушая своего долга по отношению к Стране». Ряд стран предусматривают различные меры ответственности при уклонении от обязанности участия в голосовании. В качестве наказания возможно общественное порицание, объявление порицания с вызовом в суд, лишение судом на определенный срок избирательных прав, наложение штрафа за неявку, отказ в приеме на государственную службу [23, с. 242]. Вышеуказанные санкции, воплощенные в нормативных актах, можно вполне считать политической и юридической ответственностью граждан.
Другим интереснейшим вопросом является ответственность политической оппозиции. В отличие от политических партий, имеющих институциональную структуру, действующих на специальной юридической основе, являясь формализованным игроком политической жизни, оппозиция такими качествами может не обладать. Примером может служить сегодняшнее оппозиционное движение в России (скажем, Координационный совет оппозиции), сознательно устраняющееся от вхождения в имеющееся формализованное политическое поле. Оппозиция имеет своих лидеров, старается согласовать общую политическую программу, организует проведение массовых общественных мероприятий в целях давления на власть и, исходя из заявлений их лидеров, выражает свою готовность даже заменить действующее политическое руководство страны. Разумеется, вхождение во власть автоматически сделает соответствующих лиц политически ответственными (прежде всего в смысле ретроспективной ответственности за свою деятельность). Однако вопрос состоит в том, является ли оппозиция сама по себе (если она не институционализирована в форме политической партии) субъектом политической ответственности, ведь спекулятивная формальная оппозиция своими действиями может нанести не меньший вред, нежели спекулятивная элита [14, с. 127-128].
Выше в качестве одного из возможных «масштабов» политической ответственности определялись неформальные нормы, к числу которых относятся и моральные нормы. Как известно, последние предполагают наличие определенного исторически сложившегося неписанного правила поведения, являющегося тем не менее обязательным для каждого в рамках соответствующего общества. Таким образом, моральные нормы как определенный масштаб ответственности для политического деятеля возможны в случае общественного консенсуса относительно их содержания. Однако в настоящее время в России, в самом ее народе, а значит и культуре, произошел раскол, проходящий по самому ядру ценностей и разделяющий людей по их отношению к проблемам бытия, к главным проблемам. Иными словами, в России возникли две разные системы нравственных ценностей, каждая из которых обретает свое знамя и свой язык [10]. Политики являются неотъемлемой частью своего общества, принадлежа к одному или другому «ценностному лагерю». Их поведение и его оценка также предопределяются различным нравственным выбором. Одно и то же действие политического деятеля получает совершенно различную трактовку со стороны общества, к тому же она может быть единой для большинства граждан и не совпадать с трактовкой самого политика, отказывающегося, к примеру, следовать требованиям о собственной отставке. Во многом, именно вышеуказанная особенность предопределяет отличительную черту российского политического процесса — в России отсутствует консенсус в отношении узаконенных целей и средств политического действия [45, с. 359]. Вышеуказанные обстоятельства существенно осложняют возможность разработки каких-либо кодексов норм для политиков (см. след. раздел).
С другой стороны, формальный подход, предполагающий универсальность действующих в обществе формальных норм и ассоциирующий их исключительно с закрепленными в изданных государством нормативных правовых актах положениями, также не должен вводить в заблуждение. Существующий социологический подход к трактовке социальных (правовых) норм отличается от формально-юридического, допуская возможность существования различных правовых (нормативных) систем в рамках одного общества. Поскольку индивид в обществе принадлежит к нескольким различным подгруппам, он является субъектом различных правовых систем всех тех групп, к членам которых относится. Право в обществе различается от одной группы к другой, результатом чего становится перекрещивание прав различных типов и уровней, которыми может обладать один субъект в силу своего места в социальной стратификации. В результате индивид может находиться под управлением нескольких правовых систем, различающихся до противоположности [22]. Важным следствием вышеуказанного подхода является осознанное понимание того, что юридические нормы могут уступать в своей значимости для определенного субъекта в сравнении с иными нормами поведения, выработанными для него как члена какой-либо социальной группы. К примеру, для депутата представительного органа значимыми в поведении являются как юридические (формальные) нормы, так и корпоративные нормы, определяемые принадлежностью к политической партии, определенной политической группе (политической элите), а также принадлежностью к представительному органу как самостоятельному институту. Сложившаяся политическая система определяет свою иерархию соответствующих нормативов, а соблюдение главной, «первичной» нормы (находящейся, как правило, в сокрытой сфере) является условием сохранения своего политического статуса тем или иными субъектом.
Как и среди социальных норм, между инстанциями ответственности также может существовать определенная конкуренция в «праве призывать к ответственности» соответствующего субъекта. Вышесказанное также имеет принципиальное значение для анализа политической ответственности. Поскольку социологический подход предполагает возможность множественности конкурирующих нормативных систем, а согласно теории социальной ответственности каждая инстанция вправе требовать от субъекта ответственности соблюдения выработанных ею правил поведения, ситуация становится менее однозначной. Общество как «выгодоприобретатель» института политической ответственности становится в один ряд с другими инстанциями, среди которых — президент, политическая партия или политический «клан». С «социологических» позиций подобная «скрытая» ответственность также может претендовать на характер политической.
Вышеуказанные особенности «пересекаются» с другой особенностью российской политической системы — неструктурированность и высокая степень совмещения и взаимозаменяемости политических ролей. Отсутствие дифференциации и специализации политических ролей и функций у субъектов и носителей власти обусловлено российской политической традицией, заключающейся в концентрации власти, господства в одном центре [45, с. 359-360]. Тенденция концентрации власти ведет к тому, что на политическом уровне существует лишь единственная «инстанция» ответственности, устанавливающая свой «скрытый» масштаб оценки поведения и призванный следить за его выполнением представителями всех ветвей власти.
В России глава государства на протяжении длительного времени ассоциировался с порядком и благополучием в государстве, негативное отношение перемещалось на его окружение («Царь хороший — бояре плохие»), «вводящее в заблуждение» монарха или президента. Это является существенным отличием в сравнении с зарубежной практикой, поскольку выводит главу государства фактически во «вненормативное» пространство и позволяет ему конкурировать с представительным органом (в особенности с учетом выборности президента на непосредственных выборах).
Политическая ответственность всегда должна предполагать нарушение определенной нормы со стороны субъекта ответственности — таково общее правило социальной ответственности. Чаще всего одной из наиболее очевидных форм реализации политической ответственности называют выборы. Проиграв на очередных выборах, кандидат терпит «крушение». Однако сейчас сложно разрешить очевидное противоречие между постоянно меняющимися технологиями манипулирования избирательным процессом и общим правилом о нарушении «нормы» (если под подобной подразумевать обязанность реализации политической программы и реализации интересов избирателей). Избиратели все больше голосуют за определенных людей, руководствуясь их личностными характеристиками и своими эмоциями, зачастую предопределяемыми средствами массовой информации и внешними данными кандидатов [29, с. 53-54].
Юридическое измерение политической ответственности
Юридическое измерение политической ответственности изначально «задает» определенный масштаб для рассмотрения вопроса. Однако прежде всего следует сказать вот о чем. В рамках раздела, посвященного эволюции института политической ответственности и его становлению в Англии, нами подчеркивалось последовательное претворение в жизнь определяющих его норм. Однако до настоящего времени институт политической ответственности кабинета остается в Великобритании за рамками формального правового регулирования, претендуя на роль конституционного обычая. Конституционные обычаи не имеют какой-либо юридической силы, не применяются судами или другими государственными органами, а служат лишь, по образному выражению П. Хогга, для «описания путей, с помощью которых должна осуществляться правовая и политическая власть» [40, с. 603-604]. Вместе с тем конституционные обычаи оказывают серьезное влияние на законодательство и судебную практику, занимая особое место в системе источников права Великобритании [41, с. 403-404].
В странах континентальной Европы вопросы политической и министерской ответственности находят свое отражение в значительном числе законодательных актах, воплощаясь в многочисленных детализированных процедурах (хотя роль неформальных правил также очень велика). Для России в отсутствие определенного консенсуса о политических правилах поведения законодательное регулирование института политической ответственности является на настоящей стадии развития ключевым условием его эффективного функционирования.
В российской Конституции слово «ответственность» используется лишь единственный раз в контексте позитивной ответственности,68 какое-либо упоминание об ответственности органов государственной власти либо отдельных должностных лиц за свои политические действия вообще отсутствует. Конституции зарубежных стран демонстрируют большее внимание к ответственности политических деятелей и граждан за будущие политические действия. Так, французская Конституция непосредственно указывает на ответственность правительства перед Национальным собранием (ст. 49). Германская Конституция также использует слово «ответственность», к примеру, для акцентирования внимания на самостоятельности органов местного самоуправления при реализации своих полномочий (ст. 28). Огромное значение с государственно-правовой точки зрения имеет упоминание в ст. 65 ответственности федерального канцлера за основные направления политики, а федеральных министров — за ведение дел своей отрасли [46]. Конституция Швейцарии в ст. 41 обязывает как на федеральном, так и региональном уровнях содействовать развитию и воспитанию ответственности у детей и подростков, служа неким дополнением к принципиальному положению об ответственности каждого за себя самого и содействии по своим силам решению задач в государстве и обществе (ст. 6). Об итальянской Конституции речь шла несколько выше.
Законодательное регулирование вопросов политической ответственности очень важно. Так, к примеру, в 2008 г. в Конституцию России были внесены изменения, направленные на увеличение сроков полномочий Государственной Думы Российской Федерации до пяти лет, а Президента Российской Федерации — до шести лет. Основным аргументом за внесение этих поправок при обсуждении служил тезис о невозможности успеть реализовать свою программу в менее продолжительные сроки. С политической точки зрения увеличение сроков полномочий депутатов и президента состоит в увеличении сроков, в течение которых последние не могут привлекаться к политической ответственности. Проводить выборы реже значит реже призывать выборные органы к ответственности. В случае с президентом при четырехлетнем сроке полномочий избиратели получали возможность оценивать его деятельность в течение ближайших 11 лет (до 2024 г.) два раза: в 2016 и 2020 гг. При шестилетнем — один раз: в 2018 г. [27, с. 73; 25, с. 100].
Аналогичным образом и другие вопросы политической ответственности, в зависимости от их наличия и конкретного воплощения в законодательных актах, вносят свой вклад в развитие ответственности или безответственности власти, становясь провозглашенным правилом поведения в обществе.
Исследование, проведенное в рамках предыдущих разделов, позволяет сделать вывод о том, что предметом юридического регулирования должны стать следующие вопросы:
а) закрепление обширных требований к профессиональным политическим деятелям (к примеру, в исследовании немецкого правоведа К. Штайн предлагается создание кодекса поведения политика — das Verhaltenskodex);
б) закрепление процедуры реализации политической ответственности;
в) разработка критериев для соотнесения политических действий и их последствий с соответствующим политическим актором.
В предложенном экспертами Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования макетпроекте новой Конституции для России [28], основой разработки которого стал ценностно-целевой подход, проблема реализации политической ответственности в нашем обществе заняла одно из центральных мест.
Приведем для иллюстрации сказанного один наглядный пример.
Суть политической ответственности на этапе использования публичной власти состоит в должной реализации политиками своих полномочий, в том числе в практической реализации избранными кандидатами своих политических (предвыборных) программ [26, с. 84]. Однако как обеспечить надлежащее выполнение политиками своих функций в отсутствие сложившейся политической культуры?
В макет-проекте Конституции России предусматривается ряд правовых механизмов для реализации ответственности выборных лиц:
а) отзыв избранного лица гражданами России, избравшими его, а также общественными объединениями (ст. 38, 226 макетпроекта);
б) общественное порицание в отношении государственных органов и должностных лиц (ст. 144 макет-проекта);
в) вынесение предупреждения в отношении государственных органов и должностных лиц (ст. 152 макет-проекта);
г) отрешение от должности (ст. 159 макет-проекта);
д) отставка государственного органа и должностного лица (ст. 151, 152 макет-проекта) и др.
Рассмотрим вышеуказанные механизмы в их основных чертах.
В действующей Конституции отсутствует институт отзыва депутата избирателями. Впервые отзыв депутата в России был введен декретом ВЦИК от 21 ноября 1917 г. «О праве отзыва депутата». В настоящее время отзыв депутатов на федеральном уровне не предусмотрен, однако это не запрещает устанавливать его на уровне субъекта РФ. В ряде субъектов РФ предусмотрен отзыв депутатов законодательных органов государственной власти, должностных лиц местного самоуправления. Так, например, в Краснодарском крае действует закон от 5 августа 1998 г. № 138-КЗ «О порядке отзыва депутата Законодательного Собрания Краснодарского края». Для реализации института отзыва депутата (как ответственности депутата перед избирателями) в макет-проекте Конституции России урегулирован институт «наказа» избирателей депутату. Так, вышеуказанным проектом предусматривается следующее правило: группа граждан, численностью не менее 1000 человек, а также общественные объединения имеют право на дачу наказа избранному лицу в виде постановки проблемы, предложения, требования, а избранное лицо обязано рассмотреть и отчитаться (сообщить) о рассмотрении наказа и работе по реализации наказа. Группы граждан, общественные объединения имеют право публичной оценки деятельности избранного лица. Каждое избранное лицо один раз в год отчитывается перед избирателями путем публикации отчета о своей деятельности. Руководитель выборного государственного органа обеспечивает опубликование каждым избранным лицом, входящим в состав данного органа, отчетов об их деятельности.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения избранным представителем в выборном государственном органе наказов избирателей, своих обязанностей, группы граждан численностью не менее 1000 человек, а также общественные объединения, выдвинувшие указанное лицо, имеют право инициировать его досрочный отзыв в том же порядке, который установлен для их выдвижения и избрания.
Отзыв избранного лица как наиболее жесткая форма политической ответственности дополняется новым механизмом ответственности в виде общественного порицания. Так, статья 144 макет-проекта устанавливает, что государственные органы и их должностные лица реализуют свои полномочия в интересах Народа России. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей государственные органы и их должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством России. Общество по результатам оценки деятельности государственных органов и их должностных лиц вправе вынести им общественное порицание и, наряду с иными государственными органами и их должностными лицами, инициировать применение к ним мер ответственности в соответствии с законодательством России.
Статья 152 макет-проекта Конституции непосредственно закрепляет правила об ответственности Президента России за надлежащее осуществление своих полномочий. Его ответственность реализуется в форме вынесения предупреждения (со стороны представительного органа или Конституционного Суда) и отрешения от должности. Основанием для предупреждения может служить, в том числе, недостойное поведение и нарушение Конституции России.
В разработанном в развитие макет-проекта Конституции России проекте Федерального конституционного закона «О Президенте и Правительстве России» нашла свое законодательное отражение иная поставленная нами проблема — устойчивости власти. Так, в вышеуказанном законопроекте возможность привлечения к гражданской и административной ответственности предусматривалась лишь в случае, если это не будет препятствовать нормальному исполнению Президентом России своих полномочий. В иных случаях исполнение соответствующего решения суда должно откладываться до завершения срока его полномочий (однако сам факт привлечения к гражданской или административной ответственности может служить основанием для вынесения предупреждения в отношении Президента России). К уголовной ответственности (согласно общему правилу) Президент России привлекается лишь после оставления должности.
С другой стороны, в макет-проекте Конституции России уделяется большое внимание требованиям к кандидатам на занятие государственных должностей. Так, к примеру, статья 155 устанавливает, что Президентом России и Вице-президентом России может быть избран гражданин России не моложе 40 лет и не старше 65 лет, родившийся и проживавший в России в течение не менее чем 15 лет до выдвижения своей кандидатуры в Президенты России, прошедший (за исключением кандидата-женщины) службу в Вооруженных силах России или приравненную к ней в соответствии с федеральным законом службу, имеющий высшее образование, полученное в российском высшем учебном заведении, квалификацию, профессиональный опыт в области политической деятельности и государственного управления, способный по состоянию физического и психического здоровья осуществлять полномочия Президента России, не имеющий недвижимого имущества на территории зарубежных государств и счетов в зарубежных банках. В свою очередь, федеральным министром может быть назначен гражданин России не моложе 35 лет и не старше 65 лет, родившийся и проживавший в России в течение не менее чем 10 лет до назначения на должность, прошедший (за исключением кандидата-женщины) службу в Вооруженных силах России или приравненную к ней в соответствии с федеральным законом службу, имеющий высшее образование, полученное в российском высшем учебном заведении, квалификацию, профессиональный опыт в отраслевой области политической деятельности и государственного управления, способный по состоянию физического и психического здоровья осуществлять полномочия федерального министра, не имеющий недвижимого имущества на территории зарубежных государств и счетов в зарубежных банках (ст. 173 макетпроекта).
Важнейшей новеллой, воплощенной в макет-проекте Конституции России, стало также разграничение сфер ответственности между различными уровнями власти — именно ответственность заменила слово «ведение», используемое в действующем Основном законе.
Вышеуказанные предложения являются лишь определенной иллюстрацией для разработки будущих нормативных правовых решений. Главной причиной их представления в настоящем докладе является наше желание обратить внимание на то, что они служат попыткой воплощения в правовом пространстве свойственных для современного российского общества установок и правил поведения. Идеальные представления о тех или иных общественных отношениях, представляющие собой зачастую лишь заимствования зарубежных практик ввиду непонимания своих собственных, должны уступить место отражению действительных отношений и их эффективному преобразованию. Разумеется, конституционные положения нуждаются в детализированном их воплощении в федеральных законах, однако именно Основной закон закладывает основу (определенную «программу») для регулирования общественных отношений.
Заключение
Представленный доклад о политической ответственности является лишь первым скромным шагом в исследовании этого важнейшего феномена политической жизни современного общества. В текущем году экспертами Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования планируется выполнить значительную часть исследования и представить ее для научного обсуждения всеми заинтересованными сторонами. В марте 2013 г. в Центре прошел семинар с участием представителей юридической и политической наук, давший обширную почву для размышлений и выявивший множество пробелов в понимании феномена политической ответственности.
Целью предстоящего исследования является разработка предложений о совершенствовании нормативно-правового регулирования института политической ответственности, первоочередным шагом в достижении которой является теоретическое осмысление сущности политической ответственности в контексте социальной ответственности, а также выработка общих критериев, позволяющих разграничить политическую и иные виды ответственности политиков.
Хотя в настоящем докладе политическая ответственность рассматривалась в весьма узком формате, в ходе исследования планируется уделить особое внимание политической ответственности без ее формального рассмотрения, изучив под углом зрения ответственности политика (правителя) за его политические и неполитические действия и решения, влекущие неблагоприятные последствия в виде утраты или ограничения политической функции (роли), в рамках исторической эволюции.
Анонсированные в представленном докладе тезисы являются лишь первоначальной попыткой нащупать существо политической ответственности, определить ее структуру и соотношение с социальной ответственностью.
Авторы осознают, что доклад весьма сложен для понимания и, может быть, «загроможден» сложными терминами и конструкциями. Все неясности предстоит разъяснить в будущей монографии.
Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования приглашает всех желающих к сотрудничеству в проведении вышеуказанного исследования и надеется на благожелательное и заинтересованное отношение к представленному докладу.
Доклад подготовлен А.В. Каменским
Литература
1. Гордеенко Я.Н. Ответственность министров. СПб.: Типография т-ва «Общественная польза», 1907. 32 с.
2. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранные произведения: Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова. Предисл. П.П. Гайденко. М.: Прогресс, 1990. 808 с.
3. Жилин А.А. Ответственность министров: Очерки из теории, истории и практики этого института в конституционных странах. Киев: Типография Императорского Университета св. Владимира, 1908 (обл. 1909). 356 с.
4. Львов Т.Н. Ответственность министров. М.: Типография торг. дома А. Печковский, П. Буланже и К°, 1906. 32 с.
5. Stein K. Die Verantwortlichkeit politischer Akteure. Tubingen: Mohr Siebek, 2009. 732 S.
6. Материалы правового семинара, состоявшегося в Центре проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования 29 марта 2013 г., опубликованные в журнале «Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование», 2013. № 3.
7. Евтихиев И.И. Ответственность должностных лиц. М.: Издание Д.Я. Маковского, 1917. 30 с.
8. Черныш А.М. Политическая ответственность в системе социалистического народовластия. Харьков: Изд-во при Харьковском государственном университете издательского объединения «Вища школа», 1987. 192 с.
9. Буханов М.В. Позитивная ответственность политической власти: поиск теоретического обоснования. М.: Б. м., 2010. 106 с.
10. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М.: Эксмо, 2009. 864 с.
11. Хачатуров Р.Л., Липинский Д.А. Общая теория юридической ответственности. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2007. 950 с.
12. Носкова Е.Н. Позитивная юридическая ответственность. Тольятти: ВУиТ, 2003. 143 с.
13. Смирнов А.Е., Томашов В.В. Ответственность как регулятор общественной жизни: сущность, структура, функции и основные социальные формы. Ярославль: ЯГТУ, 2012. 140 с.
14. Дроздова А.М. Легитимация и ответственность власти во взаимоотношениях государства и личности (социально-философские и правовые аспекты). СПб: Изд-во Юридического института (Санкт-Петербург), 2011. 227 с.
15. Родионова Е.В. Юридическая ответственность как разновидность социальной ответственности: современные проблемы. М.: Юрлитинформ, 2011. 152 с.
16. Черменина А.П. Проблема ответственности в этике: Автореф. дисс… канд. фил. наук. Л., 1965. 21 с.
17. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Дело, 2013.; Марченко М.Н. Теория государства и права. М.: Проспект, 2013.
18. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для студентов вузов / А.И. Соловьев. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Аспект Пресс, 2008. 575 с.
19. European Commission for democracy through law (Venice Commission). Report on the relationship between political and criminal ministerial responsibility (adopted by the Venice Commission at its 94th Plenary Session (Venice, 8-9 March 2013).
20. Виноградов В.А. Конституционная ответственность: вопросы теории и правовое регулирование. М.: Б/и, 2000. 287 с.
21. Йонас Г. Принцип ответственности. Опыт этики для технологической цивилизации. М.: Айрис-пресс, 2004. 480 с.
22. Медушевский А.Н. Социология права. М.: ТЕИС, 2006. 613 с.
23. Партийная и политическая система России и государственное управление. Актуальный анализ / Под ред. С.С. Сулакшина. М.: Научный эксперт, 2012. 320 с.
24. Политика. Толковый словарь / Д. Андерхилл, С. Барретт, П. Бернелл, П. Бернем [и др.]. М.: ИНФРА-М, 2001. 761 с.
25. Медушевский А.Н. О границах понятия политической ответственности с юридической точки зрения // Проблемный анализ и государственноуправленческое проектирование. 2013. № 3.
26. Нисневич Ю.А. Об акторах политической ответственности // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2013. № 3.
27. Шаблинский И.Г. Некоторые аспекты политической ответственности // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2013. № 3.
28. Научный макет новой Конституции России. М.: Научный эксперт, 2011. 456 с.
29. Медушевский А.Н. Сравнительное конституционное право и политические институты. Курс лекций. М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 2002. 512 с.
30. Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: российский конституционализм в сравнительной перспективе. М.: РОССПЭН, 1997. 650 с.
31. Гаман-Голутвина О.В. Российский парламентаризм в исторической ретроспективе и сравнительной перспективе // Парламентаризм в России и Германии: История и современность / Отв. ред. Я.А. Пляйс, О.В. Гаман-Голутвина. М.: РОССПЭН, 2006.
32. Демократизация и парламентаризм в Восточной Европе / Ю.И. Игриц-кий, Л.С. Светлорусова, Л.Н. Шаншиева [и др.].М.: ИНИОН РАН, 2003. 263 с.
33. Покровский С.П. Министерская власть в России. Ярославль: Типография Губернского Правления, 1906.
34. Медушевский А.Н. Конституционная монархия в России // Вопросы истории. 1994. №8.
35. Партийная и политическая система России и государственное управление. Актуальный анализ: научная монография / Под общ. ред. С.С. Сулакшина. М.: Научный эксперт, 2012. 320 с.
36. Mohl R. Die Verantwortlichkeit der Minister in Einherrschaften mit Volksvertretung. Tubingen, 1837. 726 S.
37. Конституционное право государств Европы: Учеб. пособие для студентов юрид. вузов и фак. / Отв. ред. Д.А. Ковачев. М.: Волтерс Клувер, 2005. 320 с.
38. Платонова А.В. Коллективная ответственность «человека технического»: необходимость или путь к безответственности? // Вестник Томского государственного университета. 2012, № 357.
39. Антонова Е.Ю. Концептуальные основы корпоративной (коллективной) уголовной ответственности: Автореф. дисс… докт. юрид. наук. Владивосток, 2011. 395 с.
40. Марченко М.Н. Источники права: учеб. пособие. М.: Проспект, 2011. 768 с.
41. Конституционное право зарубежных стран: учебник для вузов / Под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо и Л.М. Энтина. М.: Норма, 2004. 832 с.
42. Смирнов А.Ф. Государственная Дума Российской Империи 1906-1917 гг.: Историко-правовой очерк. М.: Книга и бизнес, 1998. 624 с.
43. .
44. Мамут Л.С. Проблема ответственности народа // Вопросы философии. 1999. № 8.
45. Мухаев Р. Т. Политология: учебник для студентов юридических и гуманитарных факультетов. М.: Издательство «ПРИОР», 2000. 400 с.
46. Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Япония, Индия: учеб. пособие / Сост. сб., пер., авт. введ. и вступ. ст. В.В. Маклаков. М.: Волтерс Клувер, 2007. 608 с.
47. Будницкий О.В. Терроризм в российском освободительном движении: идеология, этика, психология (вторая половина XIX в. — начало XX в.). М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000. 399 с.
48. Maier H. Verteidigung der Politik. Recht — Moral — Verantwortung. Zurich, 1990. 93 S.
49. Пивоваров Ю.С. Русская политика в ее историческом и культурном отношениях. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. 168 с.
50. Кордонский С. Рынки власти: Административные рынки СССР и России / 2-е изд., стер. М.: ОГИ, 2006. 240 с.
51. URL: -manual/church-history/
28267.
52. Оболонский А.В. Мораль и право в политике и управлении. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2006. 262 с.
53. Соловьев С.М. История России с древнейших времен / Книга I. Русь изначальная. Т. 1-2. М.: АСТ, 2005. 943 с.
54. Доган М. Легитимность режимов и кризис доверия // СОЦИС. 1992. № 5.
ПРОБЛЕМА ЕДИНОГО УЧЕБНИКА ИСТОРИИ В УСЛОВИЯХ РАСКОЛОТОГО ОБЩЕСТВА
Введение
Недавние заявления Президента РФ В.В. Путина по проблеме единого учебника истории для средних школ в очередной раз вызвали горячую дискуссию в обществе. Как уже неоднократно бывало, мнения экспертов четко разделились: одни поддерживают президентскую инициативу, другие выступают резко против. В свете обсуждения наиболее актуальных общественнополитических тем последних лет подобной реакции можно было ожидать. Комитет гражданских инициатив, выражающий точку зрения либерального крыла общественного мнения, даже выступил со специальным заявлением. В нем говорится: «Только знакомство с многомерной и сложной историей формирует активного и ответственного гражданина. В противном случае история превращается в перечень фактов или в идеологическую доктрину, “героический национальный миф”, освоение которого вменяется в обязанность подданным несвободных режимов».69
Среди подписавших это заявление — видные общественные деятели, представители науки и культуры. Однако сам его текст выглядит невнятным. В первую очередь неясно, откуда взят центральный тезис о том, что залог социализации полноценного гражданина — его знакомство в рамках школьного курса с многомерной и сложной историей. Здесь сразу возникают вопросы.
Что значит «многомерная история»? Какие точки зрения должны предлагаться в учебнике? Все существующие или только специально отобранные? Не является ли сама подобная селекция отходом от принципа «многомерности»? Обеспечит ли такой подход формирование у ученика сколько-нибудь адекватного знания о прошлом? Сможет ли учащийся, даже с помощью учителя, сравнить противоположные точки зрения и прийти к самостоятельным выводам? И не придется ли в любом случае подталкивать его в сторону той или иной позиции? Другой тезис противников единого учебника выглядит не менее спорно. Как утверждается, в век Интернета учебник как таковой не нужен: всю необходимую информацию школьник может найти в глобальной сети. На этом основании посещение средней школы можно вообще упразднить. Ученик действительно имеет возможность самостоятельно читать литературные произведения, решать математические задачи и знакомиться с историей в Интернете, не выходя из дома. Только к реальному образованию это не имеет никакого отношения. Даже на технически продвинутом Западе признают, что и в век Интернета «наиболее мощной и всеохватывающей технологией [в сфере образования] является учебник» (Филип Альтбах).70
Наконец, сомнительно и утверждение о том, что в странах Западной Европы и США учебники с единой концепцией исторического процесса давно устарели. Первое же беглое знакомство с европейскими учебниками истории показывает, что все они отличаются единомыслием по ключевым вопросам национальной истории. Во Франции в 1980-1990-е гг. была предпринята попытка осуществить то, что предлагается в заявлении комитета гражданских инициатив, — дать школьниками в рамках учебника набор противоположных точек зрения на важнейшие исторические события, в частности на Французскую революцию конца XVIII в. В середине 1990 — начале 2000-х гг. этот эксперимент признали провалившимся.71 Выяснилось, что изложенный таким образом материал учащийся не воспринимает, а учитель оказывается в ситуации, когда он не может объяснить ученику причины и последствия того или иного события. Подобные примеры можно приводить и далее. О некоторых из них будет упомянуто ниже.
Таким образом, несмотря на многочисленные возражения части общественного мнения президентская инициатива о создании учебников по истории, в основе которых лежала бы единая концепция, выглядит, безусловно, здраво. Однако, рассуждая на эту тему, надо понимать, что учебник — это не только результат научного труда автора или коллектива авторов. Он играет важную социально-политическую роль. Школьное историческое образование, неотъемлемой частью которого является учебник, — важный фактор скрепления нации и поддержания политического консенсуса в обществе. К сожалению, судя по последним заявлениям первых лиц, данное обстоятельство не оценивается сегодня в должной мере. Проблема универсальности учебника кроется не только в его научной состоятельности и общей квалификации его авторов. Она имеет еще одно измерение — социально-политическое, которое, пожалуй, выходит на первый план.
Как отмечают западные социологи, учебник истории представляет собой «сложный продукт культурного производства, в котором [общественно] признанное знание [о прошлом] обретает строгую педагогическую форму».72 Следовательно, для того чтобы учебник по истории стал по-настоящему единым, он должен базироваться на общем для всех социальных групп видении прошлого страны. Это, в свою очередь, предполагает выработку общенационального консенсуса по наиболее спорным вопросам отечественной истории. Очевидно, что в сегодняшнем российском обществе этот консенсус отсутствует, что ярко демонстрирует уже сама дискуссия, которая развернулась после оглашения президентской инициативы. Итак, есть ли смысл в создании единого учебника истории в условиях расколотого общества, каковым является современное российское? Как сделать так, чтобы единый учебник не разделял страну, а консолидировал ее? Именно эти вопросы являются ключевыми при обсуждении темы. Однако, чтобы попробовать на них ответить, необходимо рассмотреть проблему учебника истории под новым углом зрения.
Роль истории в контексте нациестроительства
Образы прошлого всегда консолидировали человеческие сообщества. Память о пережитом сообща является ядром идентичности группы, залогом ее единения во временной протяженности. Речь в данном случае идет не просто об обыденном неорганизованном припоминании, а о памяти как компоненте культуры. То, что немецкий культуролог Ян Ассман назвал культурной памятью,73 формирует и воспроизводит групповую идентичность за счет постоянной коммуникации между членами сообщества посредством культурных смыслов. Значительная их часть воспроизводится на матрице реального или воображаемого исторического опыта. Культ общего предка связывал воедино семьи собирателей и охотников доисторических времен, первые земледельческие общины долины Нила, междуречья Тигра и Евфрата. В античности возник культ героев, воплощавших собой славные страницы исторического прошлого полисов. Средневековье стало эпохой расцвета, опиравшейся на традицию корпоративной идентичности профессиональных сообществ. История представляла собой сакральное знание, хранители которого — жрецы, старейшины, священнослужители — принадлежали к элите общества. Каждая община, полис, коммуна, гильдия, цех гордились собственной историей, которая обладала всеми атрибутами самостоятельности. Она имела точку отсчета, пантеон «мест памяти» (термин Пьера Нора)74 и некоего «иного», в противостоянии которому формировалась идентичность социальной группы.
Историческая традиция освящала собой жизнь сообщества, приобщение к ней играло роль обязательной составляющей процесса инициации его новых членов. В то же время расщепленной социальной реальности домодерновых обществ, представлявших собой не что иное, как совокупность множества автономных социальных миров, соответствовало расщепленное видение истории. Французский социолог и философ Морис Хальбвакс пишет об отсутствии в средние века истории как совокупного знания о прошлом, как «океана, в который впадают все частные истории».75 Применительно к традиционному обществу имеет смысл скорее говорить о множестве относительно независимых коллективных памятей социальных групп и сообществ. Понятие «история страны» или «национальная история» в домодерне не имело смысла. У каждой провинции, общины, цеха или коммуны была своя история. На макроуровне речь могла идти лишь об истории правящей династии, но не более того. Не случайно, большинство исторических исследований, проведенных европейскими авторами в средние века и раннее Новое время, посвящены истории королей.
В XVIII в. в Европе стали разворачиваться процессы, которые в корне поменяли эту картину. Просвещение нанесло мощный удар по мировоззрению традиционного общества. Восход рационализма знаменовал собой закат религиозного видения мира. Вместе с ним уходила вера в высшую предопределенность жизненного пути человека. В условиях образовавшегося мировоззренческого вакуума возникла ментальная конструкция, взявшая на себя те функции оправдания человеческого бытия, которые ранее выполняла религия. По словам британского социолога Б. Андерсона, «мало что было (и остается до сих пор) более подходящим для этой цели, чем идея нации». Изобретенный философами Просвещения концепт национализма как коллективной идентичности больших социальных групп объяснял каждому члену сообщества, откуда он пришел и какова его цель в будущем. Как заявил однажды французский политик Мишель Дебре, «то, что я родился французом — совершенно случайно; но, в конце концов, Франция вечна».76 В рамках нации случайность человеческого бытия обращалась в судьбу. Таким образом, наряду с набиравшей темпы индустриализацией социально-экономической жизни секуляризация сознания создавала основы для формирования больших сообществ эпохи модерна. Промышленный переворот ломал социальную структуру традиционного общества, превращая его в совокупность индивидов. Рационализм, покончив с религиозным оправданием мира, готовил почву для объединения индивидов в нацию.
Нация стала принципиально новым явлением в европейской истории. Впервые в политической плоскости встал вопрос об объединении множества разнородных этнических, языковых, религиозных, профессиональных групп в рамках монолитной общности. Стоит лишь взглянуть на карту Европы периода раннего Нового времени, чтобы оценить всю сложность этой задачи. Ключ к решению проблемы был найден в конструировании общей коллективной памяти индивидов, составляющих нацию, т. е. в создании национальной истории. На смену культурной памяти отдельных автономных сообществ должен был прийти единый исторический нарратив, который бы синтезировал все виды частного знания о прошлом и этим самым подводил бы фундамент под национальную идентичность.
Развитие этого процесса шло по двум направлениям. Во-первых, быстрыми темпами формировалась национальная историография. Как в свое время точно подметил британский историк Э. Хобсбаум, «прошлое и есть то, что создает нацию; именно прошлое нации оправдывает ее в глазах других, а историки — это люди, которые «производят» это прошлое».77 С «производства прошлого» все и началось. В XVIII-XIX вв. массово появляются исторические труды, выходящие за рамки «истории королей». В них излагается история наций как сообществ, корнями уходящих вглубь веков. Франсуа Гизо одним из первых «создает» французов, отсчитывая их генеалогию с франкского завоевания Галлии в V в. Леопольд Ранке пишет общую историю германских народов. Одновременно формирующаяся национальная история активно проникает в сферу школьного образования. Массовая школа являлась одним из наиболее значительных достижений эпохи модерна. Она впервые предоставила доступ к образованию широким слоям населения. В то же время она с самого начала представляла собой наиболее эффективный инструмент первичной социализации индивида. Через каналы начального и среднего образования он приобщался к системе культурных представлений, выработанных в социуме. В школе он впервые знакомился с историей как коллективной памятью нации и, таким образом, делал первый шаг к вступлению в ее ряды в качестве гражданина.
Усваиваемые со школьной скамьи единый язык и единая история составили собой фундамент национальной идентичности европейских народов в эпоху модерна. Нация, которая изначально возникла в головах европейских просветителей, в конце концов стала объективной реальностью социально-политической жизни. Нация смогла собрать миллионы атомизированных индивидов, вырванных индустриализацией из привычных структур традиционного общества и лишенных религиозного ценностного фундамента в результате процессов рационализации культуры. Национализм одержал верх над социальными последствиями индустриализма: вопреки утверждению К. Маркса, национальные скрепы оказались сильнее классовых. Добиться этого удалось благодаря созданию национальной истории — канонизированного варианта коллективной памяти. Точно так же, как культ предка и значимый образ «иного» консолидировали человеческие сообщества древности, концептуализация общих истоков и формирование образа врага скрепляли европейские нации эпохи Нового времени.78
Школьное историческое образование активно использовалось государством эпохи модерна как важный инструмент конструирования нации. Его ключевой функцией было оформление и воспроизводство социально-политического консенсуса между составляющими нацию сообществами. Тот набор ценностей и представлений о мире, который лежит в основе национальной общности, очень редко имеется в наличии сразу в готовом виде. Как правило, он формируется в результате длительного и сложного диалога между социальными, этническими или религиозными группами, обладающими различной коллективной памятью и различной идентичностью. Эрнест Ренан обозначил подобный компромисс как «желание жить вместе».79 Школьный курс истории формализовывал это желание в образах прошлого, подводя, таким образом, под него фундамент. Практически повсеместно в жертву этой цели приносилась историческая объективность. Канонический учебник истории Франции Эрнеста Лависса, решавший политическую задачу единения французской нации после векового гражданского противостояния, развязанного Революцией 1789 г., представлял все прошлое страны со времен средневековья как триумф ценностей свободы, равенства и братства. Темные стороны национальной истории, вроде якобинского террора или захватнических войн Наполеона, представлялись здесь исключительно в положительном свете. Учебник истории Фридриха Нойбауэра, оформивший политический консенсус, который лег в основу объединенной Германии, всячески подчеркивал историческое единство немцев. При этом он умалчивал ряд эпизодов, связанных с многовековым междоусобным противоборством немецких земель.
Универсальным способом скрепить гражданский компромисс, составлявший основу нации, было изобретение образа экзистенциального исторического врага. Фигура «иного» всегда являлась ключевым фактором формирования групповой идентичности. Но если в примитивных обществах «иным» было соседнее племя или конкурирующая община, то в эпоху модерна эту роль стала играть «иная» нация. Немцы консолидировались в противостоянии французам и русским, французы — в противостоянии немцам, поляки — в противостоянии тем же русским и немцам. Многочисленные народы Восточной и Юго-Восточной Европы самоидентифицировались, отрицая друг друга. Это нашло наглядное отражение в учебниках истории, отличительным признаком которых был воинствующий национализм. Первая мировая война стала «войной национализмов». На полях сражений сошлись бывшие первые поколения школьников, воспитанных на учебниках Лависса и Нойбауэра. На протяжении всей первой половины XX в. агрессивный националистический дискурс оставался господствующим в европейском историческом образовании.
Положение дел начало меняться лишь после Второй мировой войны, серьезно дискредитировавшей государственный национализм. Сложившиеся в жестком противопоставлении друг другу европейские нации дошли до самоуничтожения. После 1945 г. это осознали и политики, и историки. Парадигма учебника, построенного на превознесении собственной нации в ущерб другим, изжила себя. Однако конструирующая функция школьного исторического образования не только не потеряла актуальности, но и нашла новую сферу активного применения. Катаклизмы первой половины столетия сильно поменяли социально-политический ландшафт Европы. «Старому» континенту предстояла «пересборка», в первую очередь на наднациональном уровне. Послевоенный политический компромисс, символом которого стала европейская интеграция, требовал отказа от агрессивного национализма и тесного взаимодействия между странами, которые традиционно смотрели друг на друга через прицел ружья. Это предполагало создание новой версии европейской истории, принципиально отличной от той, которая освящала гегемонистские притязания государств-наций в первой половине ХХ в.
В результате в странах Западной Европы появились учебники истории нового типа, делающие акцент на общем прошлом европейских народов и акцентировавшие их совместный исторический опыт. Этот тренд в европейском школьном историческом образовании преобладает и в настоящее время. Из французских и немецких учебников исчез дух воинственного национализма и неприязни по отношению к соседям. История средних веков и Нового времени, наполненная эпизодами франко-германского противостояния, тщательно «прилизывается». В ряде случае стремление нивелировать неоднозначные моменты в учебниках приводит к спорным результатам. Так, например, в одном из последних учебников французской истории для школьников из главы про Первую мировую войну авторы, дабы не «давить на больную мозоль», «вычистили» все упоминания о французских военачальниках, победивших Германию в 1918 г.80 В нем же практически нет упоминаний о событиях освобождения Франции от оккупации в 1944 г.: тема Второй мировой войны в основном раскрывается на примере Холокоста, Сталинградской битвы и американо-японского противостояния в Тихом океане. Все посвящено цели забвения векового конфликта между Францией и Германией. Венцом этой политики стало создание в 2006 г. совместного франко-германского учебника истории для школ.
В старых государствах-нациях учебник истории продолжает играть скрепляющую роль. Несмотря на обилие отдельных пособий концептуально они (в массе своей) схожи. В них под одним углом зрения освещаются главные события национальной истории, те, которые являются критически важными для воспроизводства единой коллективной памяти. Потуги привнести в эту сферу какие-либо «новшества» в подавляющем большинстве случаев терпят крах. Так, в 2010 г. полным фиаско обернулась попытка управления образования штата Техас скорректировать содержание школьных учебников, дополнив их альтернативным видением причин, хода и последствий Гражданской войны между Севером и Югом.81 Сложно себе представить немецкий школьный учебник, который пересматривал бы итоги Второй мировой войны, или французский, развенчивающий революционное прошлое страны. Во всяком случае такие пособия, если они появляются, остаются маргинальными. В то же время современный европейский учебник истории используется для конструирования новой гражданской идентичности — общеевропейской. Таким образом, он оформляет социально-политический компромисс, на котором базируется послевоенная Европа.
Аналогичным образом дела с преподаванием истории в школе обстоят практически по всему миру. Один из наиболее ярких примеров использования учебника истории как инструмента сплачивания нации и поддержания социально-политического соглашения, лежащего в ее основе, демонстрирует Израиль. Государство здесь со времен своего возникновения централизованно определяет содержание учебников истории, в том числе официальную позицию по ключевым вопросам национальной истории. Сионистская идеология, объединившая на земле Израиля тысячи евреев со всего мира, являвшихся носителями разных культурных традиций, стала основой школьного образования в новом государстве со дня его основания в 1948 г. Агрессивный националистический дискурс первых учебников вполне гармонировал с настроениями людей, стремившихся к единению на новой родине. Израильские учебники истории для школ были целиком выдержаны в этом духе и активно использовались для воспроизводства еврейской национальной идентичности. Несмотря на то что за последние 25 лет акценты несколько сместились в сторону либерализации школьного курса истории, общая картина в общем остается прежней.82
Возникшие в результате волны деколонизации новые нации третьего мира также придавали большое значение школьному историческому образованию как способу оформления их новой идентичности. Политический компромисс между несколькими этническими и религиозными группами, в результате которого возникло государство Сингапур, получил свое яркое отражение в местных учебниках истории. Единство трех народов (китайцев, малазийцев и индусов) вокруг общих традиционных ценностей, оппонирующих западному индивидуализму, — этот «этос выживания», легший в основу сингапурской государственности, систематически воспроизводится на страницах школьных пособий по истории.83
Наконец, опыт Советского Союза. Выйдя из революции и Гражданской войны, советское общество оставалось идейно и политически разделенным. Социальный компромисс, предложенный обществу в виде НЭПа, не смог преодолеть фундаментальных противоречий, противопоставлявших друг другу целые группы населения и дестабилизировавших политический режим. Все 1920-е гг. власть находилась в поиске той матрицы, на которой можно было бы «пересобрать» страну, т. е. сформировать общенациональную коллективную память на новом фундаменте. Попытки сделать это на основе чисто советской идентичности, предложив в качестве ключевого и единственного «места памяти» революцию 1917 г. с включением в нее Гражданской войны, полностью провалились. Большевистская история не воспринималась большей частью населения страны, которая испытывала чувство отчуждения и по отношению к политическому режиму, и по отношению к созданной им стране. Написанные на ее основе школьные учебники показали свою неэффективность в качестве инструмента конструирования единой коллективной памяти. Нужна была альтернатива. Ее нашли в виде русского национального патриотизма, в рамках которого история СССР увязывалась со всей тысячелетней историей России, а на первый план выходили традиционные для русского имперского дискурса «места памяти» и образы — военные победы и знаковые фигуры национальной истории.84
Созданный по этим лекалам учебник под редакцией А.В. Шестакова стал первым по-настоящему единым учебным пособием по истории для средней школы, которое пользовалось популярностью как у учителей, так и у учащихся. В доходчивой форме иллюстрировавшее вековую борьбу русского народа с внешними и внутренними угрозами, оно как нельзя лучше подходило для оформления и воспроизводства социального компромисса на уровне массового сознания. До тех пор пока в советском обществе сохранялся этот базовый консенсус, отражавший его исторический нарратив не терял своей актуальности. Его размытие на излете советской эпохи повлекло за собой фундаментальный раскол единой общенациональной коллективной памяти, последствия которого можно наблюдать сегодня.85
Таким образом, школьное историческое образование повсеместно имело и имеет прикладное значение в социально-политическом плане. Везде оно базируется на определенном канонизированном видении национальной истории и официально закрепленном наборе «мест памяти». Везде его главная цель — формирование коллективной памяти, конструирование национальной и политической идентичности. В этом контексте вопрос о том, сколько учебников истории должно иметься в распоряжении учителя, теряет смысл. Их может быть сколь угодно много, но концептуальное единство их авторов в трактовке событий истории, имеющих ключевое значение для воспроизводства национальной идентичности, необходимо. Однако именно здесь встает главный вопрос: как быть в том случае, если этого единства нет? Возможно ли конструирование общей коллективной памяти в социуме, в котором конкурируют несколько противостоящих идентичностей, подавляющих то самое «желание жить вместе», о котором писал Э. Ренан? Что делать в ситуации, когда различные идентичности глубоко укоренены, т. е. вырастают из некоего символически нагруженного факта прошлого, имевшего экзистенциальное значение для исторической эволюции сообщества? Словом, можно ли создать единый национальный исторический нарратив в расколотом обществе, которое не в силах прийти к консенсусу по ключевым вопросам своего прошлого и будущего?
Эта проблема является одной из наиболее острых в контексте современного нациестроительства. Мировая практика полна примеров того, как расколотые нации раз за разом терпели неудачу в своих попытках сформировать общую коллективную память. С 1960-х годов и по настоящее время правительство Индии испытывает серьезные трудности с унификацией школьных учебников истории. Ни одному из пособий до конца не удается примирить две противоположные точки зрения на прошлое страны: секулярную, пытающуюся предложить единое видение национального прошлого для всех этнических групп страны, и традиционалистскую, базирующуюся на идее примата собственно индусского исторического опыта и культуры. Вследствие унификаторских усилий в этой сфере противоречия между национальными и конфессиональными группами лишь углубляются, а проблема создания индийской национальной идентичности не решена до конца до сих пор.
Схожим образом дела обстоят в Ливане. Сшитое из многих этнических и религиозных групп ливанское общество на протяжении двух десятилетий не может преодолеть травму гражданской войны 1975-1990 гг. и прийти к компромиссному видению национальной истории. В результате каждая община сохраняет собственную идентичность, которая воспроизводится в том числе и в рамках школьных программ и десятков учебников. Попытки создать единую школьную программу по истории в целях унификации общенациональной коллективной памяти в основном оказываются безрезультатными.86
С этой же проблемой кризиса национальной и политической идентичности сталкиваются сегодня и государства Западной Европы. Социальный консенсус, сложившийся в XIX в. и окончательно оформившийся после Второй мировой войны, на котором основывали свою национальную идентичность европейские нации, за последние 20 лет существенно деформировался под влиянием процессов глобализации. Мультикультурализм все сильнее размывает ценностное ядро европейской цивилизации, в результате чего нарушается та матрица, на которой собраны общества Старого Света. В результате возникает и расширяется ось нового социального раскола, что практически сразу проявилось в дискуссиях о реформировании школьного курса истории. В 2011 г. во Франции активно обсуждался новый учебник истории для средней школы, в котором история народов Африки и арабского мира излагалась параллельно с историей Франции, причем в ряде случаев более подробно. Горячие дебаты вокруг этой проблемы наглядно продемонстрировали глубину нарастающего общественного размежевания, которое ставит под угрозу базовые основы французской национальной идентичности.
Единый учебник российской истории как проблема общенационального диалога
Именно отсутствие общественного консенсуса по вопросу магистральных путей развития страны является главным препятствием для формирования единого исторического нарратива в современной России. В 1990-е годы наша страна фактически пережила распад единого социального организма, то, что западные социологи назвали аномией или «смертью общества». Разрушение системы связей, стягивавших социум воедино, привело к его глубокой дефрагментации. Существовавшие ранее крупные социальные группы, которые составляли костяк советского общества, в значительной степени деградировали вплоть до полного разложения. В свое время П. Сорокин точно определил основную причину аномии. «Движущей силой социального единства людей и социальных конфликтов, — отмечал он, — являются факторы духовной жизни общества — моральное единство людей или разложение общей системы ценностей».87 Другими словами, в основе распада социальных связей лежит кризис единой системы ценностей, той самой национальной идентичности, основанной на принципиальном социальном консенсусе.
Советский строй, сумевший «пересобрать» вышедшую из революции и Гражданской войны страну, базировался на фундаментальном типе жизнеустройства, который предполагал максимальное сокращение страданий. Эта установка была на интуитивном уровне близка традиционному сознанию крестьянства, которое в 1920-1950-е гг. по сути оставалось ядром советского общества. Императив совместного преодоления невзгод и катаклизмов (голод, внешняя угроза), от которых страдали поколения людей, населявших Восточно-Европейскую равнину, стал идейной матрицей советского общества. С опорой на нее советская власть смогла консолидировать страну и мобилизовать ее для организации цивилизационного ответа вызовам эпохи модерна.
Однако общественный компромисс всегда является производной от социальных условий его заключения. Если эти условия меняются, вместе с ними должен трансформироваться тот договор, который оформляет единство сообщества. Советский социум второй половины XX в. был уже весьма далек от традиционного общества, которое можно было объединить, апеллируя к идее преодоления страданий. Индустриализация и урбанизация изменили социокультурный тип советского человека. Внешние и внутренние угрозы были, в основном минимизированы, и он больше не хотел терпеть лишения. Народ хотел потреблять, максимизировать наслаждения, однако в условиях тогдашнего советского общества не имел такой возможности.88
В результате размывался социальный консенсус, консолидировавший страну в 1930-е гг. Для сообщества советских людей это имело роковые последствия. В отличие от европейских наций, сложившихся в XIX в., оно в значительной степени оставалось идеократическим объединением. Нация по определению партикулярна. Она основывается на наборе ценностей и образов, присущих именно ей, и во многом самоидентифицируется в противопоставлении себя другим нациям. В этом смысле советский народ не был нацией. Он оставался образованием имперского типа, скрепленным универсалистской мессианской идеей и экзистенциальным образом зла, которые унаследовал от общинного крестьянского коммунизма с его специфическим мировоззрением и эсхатологией. Здесь крылись и преимущества, и слабости советского проекта. Всеобщность и открытость придали ему поистине универсальный характер и превратили советский опыт в эксперимент мирового значения. Однако отсутствие национальной «привязки» делало советский строй уязвимым. В случае кризиса идейной парадигмы он не мог опереться на «материковый» фундамент, что некогда с успехом удалось универсалистскому проекту, порожденному Французской революцией.
В результате эрозия ментальной конструкции преодоления страданий, начавшаяся под давлением индустриализма, не только размывала базовый компромисс, стягивавший воедино страну, но и наносила удар по самому ядру идентичности сообщества советских людей. Это быстро проявилось в виде кризиса единого исторического нарратива. Понятно, что официальная наука и идеология стояли на страже канонизированной версии национальной истории, и здесь какие-либо трансформации оставались невозможными. Однако в школьном историческом образовании кризисные явления можно было наблюдать воочию. Героизированная версия истории, в которой акцент делался на событиях, связанных с великими свершениями соотечественников, преодолевавших страдания на поле брани и в мирной жизни, все меньше воспринималась учениками. Она казалась застывшей и в значительной степени лживой. Поколение тех, кто был школьником в 1970-1980-е гг., до сих пор с раздражением вспоминает уроки истории в советской школе периода «застоя»: казенный патриотизм, отдающий пустым пафосом и, главное, кажущийся чем-то не имеющим никакого отношения к реальности. Непонимание, граничащее с латентным неприятием, вызывал и забронзовевший образ Великой Отечественной войны, следствием чего стало «нарастание негативных тенденций в восприятии войны в массовом историческом сознании».89 Отсюда — пышно расцветшая склонность к профанации национальной истории, ее ключевых моментов, игравших критически важную роль в рамках официального советского исторического нарратива. Наиболее яркое ее проявление — бесчисленные анекдоты про поручика Ржевского, Ленина, Чапаева, Штирлица и т. д., получившие широкое распространение в массах на излете брежневской эпохи.
Советская школа и официальная наука продолжали тиражировать единообразные учебники истории. Однако вся эта система, которая должна поддерживать и воспроизводить базовый общественный консенсус, работала вхолостую. Социальная функция школьного исторического образования оказалась утеряна, а сам единый исторический нарратив, некогда скреплявший сообщество советских людей, оторвался от реальности, которая стала восприниматься людьми в ином свете. Именно здесь кроются корни того неприятия значительной частью общественного мнения самой возможности создания единого учебника истории, с которым столкнулось руководство страны. Многие представители российской интеллектуальной элиты, социализировавшиеся в позднесоветское время, все еще находятся под влиянием личного негативного опыта приобщения к оторвавшемуся от общественных запросов историческому нарративу. Именно в этом свете стоит рассматривать их сегодняшнюю реакцию на попытки восстановить в общественном сознании единое видение национальной истории.
То, сколь причудливым образом могут преломляться коллективные представления о прошлом человеческого сообщества в условиях отсутствия базового социального консенсуса по вопросам его развития, наглядно демонстрирует опыт постсоветской России. Процесс активного разложения утратившего идейную скрепу советского общества сопровождался быстрым распадом уже серьезно дискредитированного официального исторического нарратива. Ослабление политического контроля над информационным полем и наукой практически сразу привело к революции в сфере изложения и изучения отечественной истории. Как грибы после дождя, стали появляться новые научные, квазинаучные и публицистические трактовки прошлого страны. В большинстве случаев критерием их оценки обществом являлась степень их отличия от официальной советской версии истории: чем категоричнее автор порывал со старым видением того или иного факта прошлого, тем он казался объективнее. Вопреки тому, о чем писали в газетах, очень часто ни о каком восстановлении исторической истины речь не шла. Люди просто с удовольствием избавлялись от опостылевшей им версии коллективной памяти, которая фактически умерла, осталась формой без содержания.
Однако на месте демонтированного социального фундамента единого исторического нарратива новый так и не возник. Эта ситуация смещения реальности запустила невиданный по силе процесс деформации коллективной памяти бывшего сообщества советских людей. В сфере исторического знания началась настоящая анархия. Первый и самый мощный удар был нанесен по ключевым системообразующим «местам памяти» советского человека. Таковых, согласно исследованиям социологов имелось три: Октябрьская революция 1917 г., Великая Отечественная война 1941-1945 гг. и полет Юрия Гагарина в космос в 1961 г.90 Количество научных и квазинаучных работ, вышедших в свет в конце 1980 — начале 1990-х гг., в которых приход к власти большевиков объяснялся поддержкой лондонских банкиров и германского генштаба с пересказом истории о пломбированном вагоне, не поддается исчислению. Не столь многочисленными, но не менее характерными были тексты, «развенчивавшие» историческое значение полета Ю. Гагарина.
Наиболее жаркие обсуждения разгорелись вокруг событий Великой Отечественной войны. Бригады публицистов-разоблачителей подвергли разрушительной критике канонизированное при Брежневе видение причин и хода войны. Диссиденты от истории активно развивали концепцию в духе «закидали врага трупами» и при поддержке националистов из республик бывшего Советского Союза убеждали общественное мнение в том, что никакого освобождения Европы от нацизма не было, а имела место всего лишь смена одного оккупационного режима на другой. Читатели открыли для себя писания перебежчика на Запад В. Резуна (Суворова), который утверждал, что 22 июня 1941 г. Гитлер нанес упреждающий удар по СССР, так как Сталин якобы сам готовился к нападению на Германию с прицелом на завоевание Европы.
Удару подвергся весь бывший советский пантеон исторических героев, причем включая и тех из них, кто к советской власти не имел никакого отношения. Так, популярным сюжетом в годы перестройки стало развенчание исторической роли Александра Невского под предлогом его «соглашательской» позиции в отношении Золотой Орды. О собственно советских «кумирах» и говорить не приходится: их сбрасывали пьедестала одного за другим.
Однако наиболее характерным признаком эрозии единой национальной истории было не это. Еще более серьезные последствия имело прогрессировавшее расщепление коллективной памяти народа. Собственно, этот процесс и начался с распада советского народа как общности с последующим разложением групп, его составлявших. Используя метафору Мориса Хальбвакса, можно сказать, что ручьи отдельных историй, частных коллективных памятей перестали вливаться в океан истории страны. В результате грандиозная пирамида представлений о прошлом, которой является национальная история, фактически рассыпалась.
Первым уровнем дефрагментации стало вычленение из единого нарратива историй отдельных этнических образований. Этот процесс развивался одновременно с так называемым парадом суверенитетов начала 1990-х годов. Свою собственную самостоятельную историю обрели не только народы, реально ее имевшие, но и те сообщества, которые до этого не могли ей похвастаться. Так, совершенно неожиданно проснулось до сих пор спавшее самосознание поморов и казаков. Уже существовавшие исторические нарративы некоторых национальных общностей стали обогащаться новыми невероятными подробностями, которые задним числом обособляли их от остальных групп, некогда составлявших единый советский народ. На Украине заговорили об отдельном от других восточных славян происхождении украинцев от древних укров. В Белоруссии в 1991-1994 гг. на высшем уровне реанимировали концепцию генетической преемственности белорусов от Великого княжества Литовского. В Грузии возникла модная версия завоевания страны Россией в XVIII-XIX вв. и т. д.
Но это было лишь начало распада коллективной памяти народа. На следующем этапе процесс ее эрозии затронул идентичность крупных социо-профессиональных групп. Рабочие, интеллигенция, военные, крестьянство перестали связывать свою корпоративную историю с прошлым страны. В информационное поле оказались вброшены образы, которые противопоставляли эти сообщества друг другу, а их всех вместе — тому социально-политическому строю, который они сообща создавали на протяжении десятилетий. Пересмотр истории Гражданской войны и «великого перелома» 1930-х гг. сопровождался персонификацией «виновников» и «жертв», в роли которых поочередно выступали то раскулаченные крестьяне, то репрессированные военные, то высланные из страны интеллигенты. Одновременно началось невиданное до сих пор по размаху стирание коллективной памяти социопрофессиональных сообществ. Те страницы истории, которыми некогда гордились советские рабочие или офицерство, оказались дискредитированы. «Великие стройки коммунизма», целина, БАМ, на которых в свое время трудились тысячи людей, создавая общенародные блага, были объявлены проявлениями нелепой гигантомании, пустым разбазариванием ресурсов. Выдающиеся эпизоды военного прошлого страны, на которых основывала свою идентичность армия, активно выхолащивались. Дегероизировалась история Великой Отечественной войны, развенчивались выдающиеся советские военачальники, педалировалась болезненная для военных тема Афганского конфликта.91
Так процесс разрушения пирамиды коллективной памяти народа дошел до самого основания — исторических представлений конкретного человека. Люди практически в одночасье утратили огромный пласт знания о своем прошлом, который, формировал у них представления о собственной идентичности. Как правило, от старых мифов избавлялись охотно и с энтузиазмом: тиражи «разоблачающей» литературы били рекорды. Однако нового комплексного знания о прошлом народные массы так и не получили. «Лживые легенды» были отброшены, но правдивой информации взамен им никто предложить не смог. Отсюда — беспрецедентная по размаху, но довольно хаотическая кампания за обретение новой идентичности бывшего советского человека. В 1990-е гг. оны приняла самые разнообразные формы: от апелляций к «России, которую мы потеряли», до взрыва интереса к семейной истории и ренессанса религии. В результате канонизированный единый исторический нарратив, который уже в течение десятилетий постепенно терял свою легитимность, за несколько лет в буквальном смысле растворился. Страна фактически утратила национальную историю.
При всем размахе этой «исторической анархии» тенденции пересмотра советского нарратива о прошлом все-таки имели определенную идейно-политическую привязку. Исторический опыт СССР отвергался в первую очередь с либеральных и почвеннических позиций (социалистический антисоветизм, широко распространенный в среде диссидентов 1960-1980-х гг., в 1990-е гг. сошел на нет). За этими идеологическими этикетками крылись два проекта строительства постсоветской России, два видения ее будущего. На первых порах казалось, что в своем антисоветизме они дополняют друг друга. Эпоха до 1917 г. представлялась временем рассвета чудесной страны, которая шла к светлому будущему вместе с другими «цивилизованными» странами Запада, быстро развивалась и демократизировалась. Приход к власти большевиков рассматривался в этой картине как некая аномалия. Следовательно, свержение коммунистического строя должно было вернуть страну на столбовую дорогу цивилизации.
Однако социально-политического компромисса на этой основе, который мог бы дать новое цельное видение отечественной истории, не получилось. Реформы 1990-х гг., направленные на максимизацию наслаждений для части общества, фактически раскололи страну пополам. В одном лагере оказались либералы — те, кто выиграл от реформ. В другой попали все те, кто от преобразований проиграл. Именно в среде этих «аутсайдеров» (которыми неожиданно для себя стала большая часть страны) произошла реабилитация советского прошлого. Возвращение к идеям старого исторического нарратива стало следствием тяжелой культурной травмы, которую получили люди, фактически деклассированные в результате потери коллективной памяти и последовавших за этим социальных потрясений. По одну сторону баррикад здесь оказались и те, кто в годы перестройки активно участвовал в демонтаже коллективной памяти советского народа (почвенники), и многие из тех, кто тогда с безразличием или даже с энтузиазмом за этим наблюдал.
Консолидация противников реформ произошла на основе синтеза русского национального исторического дискурса и советского патриотизма. В либеральных кругах эта идейная матрица нередко характеризуется как национал-большевизм. Ее знаковый образ — фигура И. Сталина. Политик, который смог воспроизвести на новом фундаменте имперскую модель государственности, обуздать анархию революции, построить автаркичную экономику, воссоединить общество и благодаря всему этому обеспечить победу страны в Великой Отечественной войне, занял критически важное место в системе формирующейся коллективной памяти значительной части общества. И. Сталин, по сути, являлся главным протагонистом советского проекта, и отношение к нему являлось проекцией отношения к советскому строю как таковому. Вполне понятно, почему именно за этот образ ухватились те, кто пострадал в результате реформ: на контрасте с современным состоянием общества они увидели все преимущества советского строя, которые еще совсем недавно воспринимались как нечто само собой разумеющееся, а потому — имманентно доступное. Одновременно на фигуре И. Сталина сконцентрировался весь негатив либеральной части общества, если смотреть шире — всех тех, кто выиграл от реформ, направленных на максимизацию наслаждений. Сталин в их представлении ассоциировался с практиками ограничения и подавления, которые являлись неотъемлемой составляющей системы, направленной на минимизацию страданий.
Таким образом, социально-экономический и политический раскол общества оформился в виде двух противостоящих друг другу идентичностей, базирующихся на разных матрицах коллективной памяти. На протяжении последних двух десятилетий эта проблема постоянно находится в информационном поле. За спорами о национальной идее скрывается именно стремление преодолеть глубокое внутреннее разделение общества, обрести «желание жить вместе». О том, насколько сложной оказался этот вопрос, можно судить по накалу общественных дискуссий вокруг ключевого эпизода новейшей истории страны — 30-летнего правления Сталина. По некоторым оценкам в 8 случаях из 10 упоминание в информационном пространстве имени Сталина провоцирует горячие дебаты, будь то обсуждение на публичной площадке федерального канала или обмен мнениями в интернетблоге. Всероссийская акция «Имя Россия» летом 2008 г. едва не вылилась в скандал после того, как стало ясно, что Сталин набирает большинство голосов участников. Тема сталинизма возникает в медиаэфире регулярно по случаю наиболее знаковых дат отечественной истории, и каждый раз приобретает характер информационного повода общенационального значения. Это недвусмысленно говорит о том, что речь на самом деле идет не об истории, а об актуальном социально-политическом контексте, так как, высказываясь «за» или «против» Сталина, общество дискутирует о двух разнонаправленных векторах развития страны: той или иной реанимации советского наследия или дальнейшем следовании по пути строительства новой России.
Бурные процессы трансформации отечественного исторического нарратива в 1990-2000-е гг. не могли не сказаться на школьном историческом образовании и содержании учебников.92 Однако в силу относительной инертности самого института средней школы процессы трансформации проблематики курса истории и соответствующих пособий шли медленно. Хотя в 1988 г. Государственный комитет образования СССР заявил, что ученики имеют «безусловное право выражения собственного, хорошо обоснованного мнения, которое может не совпадать с установкой учителя или авторов современных учебников», через 5 лет чиновник уже российского Министерства образования отметил, что избыток плюрализма в преподавании истории сделал бы «невозможными любой тип ориентации или достижение единодушия в определении ценностей». Таким образом, авторам учебников задали довольно узкий коридор, в рамках которого они должны были и отразить многообразие мнений по той или иной теме, и не оторваться от некоего магистрального видения сюжета. В условиях, когда набор точек зрения на исторические события стал как никогда велик, а понятие господствующего исторического нарратива как таковое исчезло, проблема создания адекватного, всех устраивающего учебника истории приобрела характер вопроса вычисления квадратуры круга.
С учетом того что демонтаж предыдущего исторического нарратива шел в первую очередь по линии пересмотра оценок периода сталинизма, задача авторов учебников истории состояла прежде всего в том, чтобы внести большую объективность в соответствующий раздел и при этом не нарушить общей концептуальной цельности пособия. По большому счету, им это удалось. Отражая на страницах учебников все негативные стороны сталинизма, они говорили и о достижениях, стараясь при этом максимально дистанцироваться от каких-либо однозначных оценок.93 Однако ситуация наличия двух противостоящих исторических нарративов делала нейтральный учебник ненужным: противостоящие фланги общественного мнения под «объективностью» и «взвешенностью» понимали лишь полное принятие одной из крайних точек зрения на период правления Сталина. Отсюда регулярное появление ангажированных пособий, провоцировавших горячие дискуссии в медиапространстве. В 1997 г. много шума наделал учебник А.А. Кредера «Новейшая история. Двадцатый век», в котором Советский Союз представлялся одним из виновников развязывания Второй мировой войны. Автора пособия обвинили в «антигосударственной» и «антинациональной» позиции. Через 6 лет аналогичная ситуация сложилась с учебником «Отечественная история. ХХ век» И.И. Долуцкого. В 2007-2009 гг. все повторилось, но уже с переменой знаков. В центре нападок либеральной части общественного мнения на этот раз оказались пособия по новейшей истории России за авторством А.В. Филиппова. Историка обвинили в «цинической реабилитации Сталина и сталинщины».94
Складывается впечатление, что компромиссное видение сталинизма, которое бы отражало и позитивные, и негативные аспекты этого периода отечественной истории, никому не нужно. Противостоящие лагери настроены на жесткую конфронтацию, и порой в самых нейтральных текстах выискивают намеки на «очернение» или «обеление». Любой, даже максимально выверенный с точки зрения исторической объективности учебник будет отвергнут значительной частью общественного мнения, так как он по определению не сможет полностью встать на позицию одной из сторон общественного конфликта. Объективная историческая картина потому и является таковой, что в ней учитываются все позитивные и негативные эпизоды, которые зачастую находятся в сложной диалектической зависимости, доопределяя и взаимообуславливая друг друга. Следовательно, современная проблема единого учебника отечественной истории лежит не в научной, а в социально-политической плоскости. Она заключается в том, что противостоящие фланги общественного мнения не готовы принять компромиссное видение ключевых моментов истории и волюнтаристски продолжают упорствовать в навязывании собственных крайних позиций.
За этим кроется нечто большее, чем просто противоположные точки зрения по конкретному историческому вопросу. Фактически, речь идет об отсутствии в обществе социального компромисса, единого видения перспектив развития страны. Различные видения советского исторического опыта (и сталинизма, в частности) лишь оформляют раскол между теми, кто выиграл от реформ 1990-х гг. и призывает к дальнейшей либерализации страны, и теми, кто в результате реформ оказался на обочине. Не случайно, практически любое открытое обсуждения фигуры Сталина в конце концов скатывается к актуальной проблематике сегодняшнего дня. Культурная травма, нанесенная населению в 1990-е гг., привела к формированию двух противостоящих друг другу типов коллективной памяти, в которых картина отечественной истории выглядит прямо противоположным образом. Именно поэтому дискуссия по проблеме выработки единого исторического нарратива превращается в спор двух глухих. Для выхода из тупика необходим общественный диалог по всему спектру вопросов актуальной национальной повестки дня в целях формирования общего видения магистральных путей развития страны.
В этой ситуации создание единого учебника истории России превращается в задачу высшей степени сложности. Между тем, это не означает, что она не имеет решения. Опыт других государств говорит о том, что учебник истории можно использовать и как инструмент формирования социально-политического компромисса. Главное здесь — нащупать то общее, что всегда сохраняется в коллективной памяти сообщества, каким бы расколотым оно не являлось. В конце XIX в. примирение французов после столетия революционных потрясений произошло на основе «изобретения» образа страны — родины духа свободы, общего как для монархистов, так и для республиканцев, а также реанимации героических страниц прошлого, например превращения завоевательных поход Наполеона из деяний порожденного революцией тирана в торжество величия французской нации. Италия, которая на протяжении тысячелетия, по словам австрийского политика К. Меттерниха, являлась «всего лишь географическим понятием», объединилась на фоне активного роста интереса к истории Римской империи, общей и для миланцев, и для сицилийцев. Наконец, отечественный опыт. Ранее уже заходила речь о «великом переломе» в сфере исторического образования в СССР в 1930-е гг. В тогдашних условиях внутренне разделенной стране, едва вышедшей из революции и Гражданской войны, после неоднократных неудач удалось нащупать то консолидирующее, что могло связать вместе население страны — героические страницы русского военного прошлого.
Сегодняшняя Россия имеет значительный резерв потенциальных «мест памяти», которые позитивно символически значимы для всех слоев общества от либералов до коммунистов. Их не нужно специально «изобретать». Первое и самое важное из них — Великая Отечественная война. Это одно из немногих исторических событий, в оценке которого население единодушно. «Война, — отмечает российский социолог Л.Д. Гудков, — самое значительное событие в истории России, как считают ее жители, опорный образ национального сознания. Ни одно из других событий с этим не может быть сопоставлено. В списке важнейших событий, которые определили судьбу страны в ХХ в., победу в ВОВ в среднем называли 78% опрошенных… Всякий раз, когда упоминается «Победа», речь идет о символе, который выступает для подавляющего большинства опрошенных, для общества в целом, важнейшим элементом коллективной идентификации, точкой отсчета, мерилом, задающим определенную оптику оценки прошедшего и отчасти — понимания настоящего и будущего».95 Война вызывает в обществе наименьшие разногласия. 73% россиян заявляют, что в их семье нет расхождений в ее оценке. Кроме того, в обществе есть четкое понимание того, какое значение для консолидации страны имеет память о Великой Отечественной войне. Не случайно, россияне в основном с одобрением восприняли предложение о введении уголовной ответственности за отрицание заслуг советского народа в годы войны (71% старшего поколения и 49% молодежи).
Война, ее ход и победное окончание, представляет собой законченную символическую конструкцию, которая по своему влиянию на массовое сознание значительно превосходит обычное «место памяти». В ее рамках сформировано полноценное представление о профанном и сакральном, абсолютном зле и добре. Конструкция задает базовую схему мировосприятия, «создает мощные барьеры на пути всего, что считается угрозой добру, по отношению к силам, определяемым не просто как то, чего следует избегать, но как источники ужаса и осквернения, которые нужно сдерживать любой ценой» (Дж. Александер).96 Эта общая матрица коллективной памяти современного российского общества укоренена гораздо глубже, чем противоречия последних десятилетий. Со сформированными на ее основе представлениями в массе своей солидарны и «либералы», и «коммунисты», и «почвенники». В практическом плане задача на сегодняшний день состоит в том, чтобы реанимировать эти общие доминанты сознания, которые со времен «исторической анархии» 1990-х гг. пребывают в неактуализированном состоянии. Единый учебник истории мог бы эффективно это сделать.
Однако как быть с теми страницами прошлого, которые раскалывают общество? За предыдущие столетия был найден лишь один способ решить эту проблему — «забвение или, лучше сказать, историческое заблуждение», как определил его Э. Ренан. Необходимо признать, что в тот момент, когда история превращается в фундамент коллективной памяти крупного человеческого сообщества, она теряет характер чисто научного знания, которое должно быть максимально объективным. Национальная история в смысле единого канонизированного исторического нарратива, матрицы, на которой скрепляется единство общества, неизбежно является мифом, более или менее приближенным к реальности. История как наука, ориентированная на поиск истины, отражающая все за и против, — достаточно сухой, если не сказать невнятный, с точки зрения обывателя вариант знания о прошлом. История как наука редко дает однозначные ответы, редко позволяет нарисовать однозначно позитивный или однозначно негативный образ того или иного деятеля прошлого. Другими словами, история как наука совершенно не подходит для формирования коллективной памяти человеческого сообщества. Для того чтобы историческое знание стало пригодным для общественной мифологизации, его необходимо преобразовать, сделать максимально непротиворечивым. С одной стороны, этого добиваются, выдвигая на первый план все то объединяющее, что есть в историческом опыте сообщества. С другой — предают забвению (на время или навсегда) то, что в опыте прошлого разделяет социум.
Обсуждение болезненных эпизодов прошлого зачастую просто исключается из информационного поля. На протяжении десятилетий после окончания Второй мировой войны тема французского поражения 1940 г. и последующего добровольного сотрудничества тысяч французов с оккупационным режимом и прогерманским правительством Виши оставалась табуированной. Академическое сообщество и СМИ осознанно ее обходили, понимая, насколько болезненным является этот сюжет, нанесший мощный удар по французской идентичности. Дело дошло до фактически официального запрета на обсуждение раннего периода биографии президента Франции Ф. Миттерана, чьи взаимоотношения с режимом Виши вызывали определенные вопросы. Вместо педалирования болезненной тематики военного поражения и коллаборационизма на первый план был выдвинут грандиозный миф Сопротивления и олицетворявшая его фигура Шарля де Голля. Лишь в последние два десятилетия табу с открытого обсуждения французской истории периода Виши было снято. Естественная смена поколений и соответствующая работа с представлениями молодежи о войне позволили уменьшить остроту проблемы. Однако и в настоящее время в ряде учебных пособий разделы, посвященные 1939-1945 гг., представляют собой всего несколько страниц: их авторы считают за благо «молчать о войне».97
Аналогично обстоят дела в Японии. Травму от поражения 1945 г. японцы изживают, предавая забвению соответствующий период истории. Не только те страницы истории Второй мировой войны, которые были отмечены преступлениями японского милитаризма, но и те эпизоды, когда сама Япония оказывалась жертвой, фактически замалчиваются: атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки в учебниках истории отводится буквально несколько строк.98 Однако нам наиболее близок, вероятно, испанский пример. Как и Россия, Испания пережила в XX в. гражданскую войну, сопровождавшуюся глубоким социально-политическим расколом. Выход из нее растянулся на десятилетия. На обсуждение болезненных страниц войны и франкистской диктатуры в стране наложен неформальный запрет. Табуируется само имя каудильо, не говоря уже о теме личного участия тысяч испанцев (иногда весьма неоднозначном) в функционировании его режима.
Очевидно, что у сегодняшнего расколотого российского общества есть только одна возможность изжить культурную травму и прийти к общему видению прошлого страны. Единый учебник истории действительно нужен. Опросы общественного мнения показывают, что с этим согласны 71% россиян.99 Их мотивация в общем понятна: «историческая анархия» в свое время нанесла мощный удар по коллективной идентичности народа. От чрезмерного плюрализма мнений по критически важным вопросам национальной истории, которые в массовом сознании должны иметь однозначные ответы, все устали. Есть смысл воспользоваться моментом. Однако необходимо иметь в виду, что задача формирования единого исторического нарратива в расколотом социуме чрезвычайно сложна. Без общественного диалога здесь в любом случае не обойтись. В сегодняшней дискуссии вокруг сталинского периода отечественной истории нет абсолютно правой стороны. Главная цель — понять это и выработать общий подход к тому, что в нашей истории близко всем вне зависимости от политического лагеря, а что необходимо убрать под спуд и оставить для оценки будущим поколениям. Если это будет сделано, то будущий единый учебник истории сможет консолидировать страну.
Доклад подготовлен А.А. Вершининым
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
1. Введение
Наука — особый способ познания мира и человека, мышления и объяснения — зародилась на Западе. Там в ХVII-ХVIII вв. произошла научная революция как часть системы сдвигов, включавших в себя Реформацию, индустриальную и буржуазные революции. Западное общество Нового времени (модерн) возникло как новая цивилизация, и одним из столпов, на которых она стояла, была наука. Можно сказать, что наука была одной из ипостасей этого общества, она «пропитывала» все его поры.
Наука возникла в специфических условиях Западной Европы, и ее трансплантация в незападных культурах и традиционных обществах — одна из самых сложных проблем модернизации. Россия была первой в мире незападной страной, совершившей перенос западной науки на свою культурную почву. Укореняясь в России, наука стала частью ее собственной культуры, не потеряв при этом своей основы — научного метода, особенного взгляда на мир и на объект познания. В России она не размывалась при взаимодействии с другими формами знания.
Суть научного метода в том, что человек отделяет себя от мира как субъект, исследователь, а мир становится объектом, лишенным святости. Такое разделение давало ученому «свободу познания», возможность подойти к объекту исследования беспристрастно, отрешившись от проблемы добра и зла. Знание — сила, и сила грозная. За стенами лаборатории она должна быть ограничена этикой.
Наука изучает «то, что есть», предоставляя философии, религии и политике спорить о том, как «должно быть». Наука ищет истину, и добываемое ею объективное, возможно более достоверное, знание — огромная ценность, которая обеспечивает развитие человечества и сохранение природы.
Наука — вещь хрупкая и малоизученная. Многие страны вкладывают большие деньги, чтобы вырастить свою национальную науку — не получается. Ни за какие деньги ее не купишь. В России наука прижилась и расцвела, а может погибнуть. Будут потом строить новые НИИ, как храмы, будут давать звания новым академикам и нанимать лаборантов с хорошим окладом — а дух не вернется. Дух веет, где хочет…
Уже в конце XIX — начале ХХ в. русские ученые вошли в мировую науку как самобытное и уважаемое научное сообщество. Принадлежность к мировой республике ученых и следование универсальным нормам научного метода, наделило это сообщество чертами, присущимими национальной истории и культуре.
В России не возникло закрытых интеллектуальных сект, занятых натурфилософией, а затем и наукой. В русской культуре не прижилась алхимия, сыгравшая важную роль в системе знания Запада. Становление науки происходило не в обстановке невидимых коллегий и обществ, как это произошло в Англии и Германии, а в государственных университетах и Академии наук. Два родственных явления в истории России — революционное движение и наука — были способом служения, и многие революционеры в ссылке или даже в одиночной камере переходили к занятиям наукой.
Особенностью русской науки стало сохранение в ее мировоззренческой матрице, наряду с ньютоновской картиной мироздания, космического чувства. На Западе научная революция, почти слившись по времени с Реформацией, произвела десакрализацию мира, представив его как холодное и бездушное пространство. А в СССР квазирелигиозная утопия космизма соединилась с нормальной рациональной наукой, объединяя такие разные культурные типы, как Э.К. Циолковский и академик С.П. Королев. Образ вселенной как Космоса стал частью массового сознания в России. А. де Кюстин в своей книге «Россия в 1839 году» писал: «Нужно приехать в Россию, чтобы воочию увидеть результат этого ужасающего соединения европейского ума и науки с духом Азии».100
Находясь на периферии западного научного сообщества, русские ученые не испытывали той идеологической цензуры механицизма, которая довлела в «метрополии». По словам И. Пригожина, догма равновесности механических систем в западной науке подавляла интерес к нестабильности и неравновесным состояниям. В России же сложились сильные научные школы, изучавшие нелинейные процессы, переходы «порядок-хаос», цепные процессы и т. п. Можно сказать, что научная картина мира и нашей науки уже в начале ХХ в. включала в себя неклассические научные представления. Это способствовало достижениям научных школ в области горения и взрыва, аэро- и гидродинамики, океанологии и др.
Это замечание напоминает, что реформирование и перестройка российской науки по западным шаблонам — исключительно рискованная операция.
Наука — часть культуры, причем достаточно технизированная часть, принадлежащая и к духовной сфере, и к техносфере. Такие системы становятся матрицами, на которых воспроизводится данное общество. Переплетаясь друг с другом, они «держат» страну и культуру и задают то пространство, в котором страна существует и развивается. Складываясь исторически, а не логически, эти матрицы обладают большой инерцией, так что замена их на другие, даже очевидно лучшие, всегда требует больших затрат и непредвиденных потерь.
Обстановка для спокойного разговора о науке сегодня неблагоприятна. Уровень понимания науки и ее роли резко снизился из-за травмы 1990-х гг. и общего культурного спада. В настоящее время тяга к простым решениям такова, что под наукой подразумевают технологию — приложение научного знания в виде новых продуктов или методов. Это подмена предмета, ведущая к важным ошибкам. О технологии надо говорить особо.
Достоверное представление об объекте — одна из главных предпосылок для рационального управления. Главные ошибки в оценке полезности науки, особенно в период кризиса, порождены не отсутствием хороших методик «измерения эффективности», а структурными причинами: из поля зрения выпадают многие важные функции науки, которых просто не замечают, когда наука функционирует.
Среди тех «продуктов науки», которые невозможно купить или позаимствовать за рубежом ни за какие деньги, есть и такие, что необходимы для обеспечения политической, культурной и экономической независимости страны. Но даже если не считать независимость существенной ценностью, то надо сделать следующий шаг: Россия долгое время жить без своей науки не может даже просто как страна. Наука не только одна из полезных отраслей экономики и духовной деятельности, но и системообразующий фактор России, один из ее корней. Через многие воздействия, которые нельзя получить извне, отечественная наука участвует в создании, скреплении и развитии России, ее современного народа (нации). Вот главное значение той части науки, которая не может быть заменена импортом знания, технологий и экспертов.
Россия, не просто страна, но и одна из крупных цивилизаций. Когда поток знаний из мировой науки будет поступать в Россию, минуя «фильтр» собственной науки, которая увязывает эти знания с реальностью России, станут быстро размываться наши цивилизационные контуры.
Длительная эрозия науки постепенно лишит страну современной техносферы как целостной системы и сделает всю систему обороны и сдерживания недееспособной. Широкие круги общественности не заметят, какую роль играла в их жизни наука, а также момента, когда ее необратимо лишатся. Не менее глубокие последствия окажет тихое исчезновение науки на жизнеспособность государства. Окажется, что из всех структур, обеспечивающих само существование цивилизованного человека в независимой стране, будет как бы вынут небольшой, но жизненно важный элемент. Другим народам этот эксперимент покажет, что собственная, национальная наука является необходимой опорой всей культуры и государственности в целом.
Перечислим некоторые самые очевидные функции, через которые отечественная наука участвует в «воспроизводстве» России. На период кризиса, т. е. когда под угрозу поставлено именно воспроизводство страны, эти функции и есть главный предмет оценки полезности науки.
2. Приоритетные функции науки в кризисный период
• Наука через систему образования, средства массовой информации и личные контакты значительной общности ученых формирует рационально мыслящего человека с современным взглядом на мир, природу и общество.
Не располагая крупным научным сообществом, выросшим на почве национальной культуры, Россия не смогла бы произвести эту работу, так как для восприятия научного знания и метода и включения их в интеллектуальное оснащение народа необходимо, чтобы они были «переведены» на язык родной культуры. Исключительная устойчивость советского народа в войне 1941-1945 гг. и народа России в условиях тяжелого кризиса в 1990-е гг. — в большой степени результат длительного «воспитания наукой».
Воспитательная и просветительная функция науки выполнялась в советское время с опорой на исключительно широкую сеть каналов передачи знания: лекционной работы общества «Знания», издания широкого круга научно-популярной литературы и др.101
Это воспитание обладает инерцией, но уже есть нарастающие признаки срыва. При сохранении нынешних тенденций культурный срыв в следующем поколении весьма вероятен. При этом не произойдет «возвращения» людей к нормам доиндустриальной, крестьянской культуры. Дерационализация мышления урбанизированного населения в условиях социального стресса порождает «цивилизацию трущоб» с массовым антиобщественным поведением, наркоманией и инфекционными заболеваниями. Экономический и социальный ущерб от «одичания» значительной части населения не идет ни в какое сравнение ни с затратами на науку, ни с выгодами от нескольких технологий, которые хотели бы из нее «выжать» менеджеры.
Выполнение научным сообществом функции рационализации массового сознания сегодня затруднено следующими факторами. Во-первых, в 1990-е гг. были открыты заслоны для низкопробной продукции масс-культуры, фальшивой мистике и «лабораторно созданным» суевериям при почти полном устранении просветительского слова ученых. Вероятно, дерационализация мышления, снижение способности граждан к логическим умозаключениям и внедрение в массовое сознание упрощенных стереотипов рассматривались политиками тех лет как эффективные средства господства. Теперь остановить этот поток трудно.
Просветительская и рационализирующая деятельность науки оказалась в оппозиции влиятельным политическим силам. Но наука России, будучи по своему социальному генотипу наукой государственной, не готова к роли оппозиции. На восприятие просветительских сообщений ученых влияет также их статус в обществе. Этот статус долго демонстративно понижался. Например, в обществе целенаправленно создавалось мнение, что именно «имперская» наука, это наследие СССР, стала никчемной и неподъемной нагрузкой для государственного бюджета РФ. Вся гласная научная политика строилась исходя из иррациональных утверждений о «неконкурентоспособности» нашей науки, что якобы оправдывало демонтаж всей ее системы.
• Наука, охватывая своими наблюдениями, экспедициями и лабораторными исследованиями все пространство страны, дает достоверное знание о той реальной (и изменяющейся) природной среде, в которую вписывается вся жизнь народа.
Этого знания не может заменить ни изучение иностранной литературы, ни приглашение иностранных экспертов. Слишком велик в исследовании био- и геосферы России вес неявного знания, хранящегося в памяти, навыках и личных архивах национального научного сообщества. Еще более сложной и широкой задачей является «объяснение» этого знания политикам и хозяйственникам, широким слоям народа. Это может сделать только авторитетное и достаточно крупное отечественное сообщество ученых и околонаучные культурные круги.
Этот тип знания также обладает значительной инерцией. Оно «работает» какое-то время даже после свертывания («замораживания») экспедиций и наблюдений, если в стране остались производившие это знание ученые, которые ведут обработку материалов и сообщают знание через различные каналы информации. Данная функция до сих пор выполняется российской наукой, и с учетом ничтожности предоставленных ресурсов выполняется весьма эффективно. Но по мере ухода из жизни носителей неявного знания и одновременного размывания научных оснований массового сознания, этот потенциал угасает.
Исчезло державное государство как главный субъект, заинтересованный в исследовании природной среды России просто ради получения достоверного знания, независимо от рыночных критериев. Рыночные критерии мотивировать такие исследования не могут, поскольку добыча большинства видов сырья в России с точки зрения мирового рынка рентабельной не будет.
Еще менее способны рыночные силы поддерживать исследования, результат которых вообще не выражается в терминах экономической эффективности, а подчиняется иным критериям, например безопасности. Примером служит катастрофа в Кармадонском ущелье (Северная Осетия) в сентябре 2002 г., когда при сходе пульсирующего ледника погибло более 130 человек.102
• В тесной связи с изменяющейся природной, техногенной и социальной средой изменяются люди, их коллективные общности (народы и этносы), все общество. Процессы этно- и социогенеза, ускоряющиеся в условиях природных и социальных кризисов, в принципе, не могут быть удовлетворительно изучены и объяснены без собственной национальной науки. Этнографическое исследование «извне» всегда будет по принципиальным методологическим причина, «империалистическим», изложенным на чужом языке.
В конце ХХ в. народы России (СССР) оказались на очередном пике бурного этногенеза и социальных преобразований. Оставить сегодня этот процесс без широкого научного сопровождения — значит, заложить разрушительные заряды незнания и непонимания, которые завтра взорвутся.
Этно- и социогенез должны быть объектом комплексного изучения, а не только общественных наук, ибо речь идет о процессах, тесно связанных с изменениями в природной среде и техносфере. Активное участие в этих процессах (особенно если они приобретают форму конфликта) принимает сама национальная интеллигенция, что создает специфические методологические трудности для исследований. Поучительны истории экологических движений, сыгравших важную роль в формировании «национального самосознания» на завершающей стадии перестройки, или связь технологических решений с ростом межэтнической напряженности.
Советская наука обладала явно недостаточным запасом знания об этничности и в основном следовала представлениям примордиализма, согласно которым этнические свойства являются устойчивой сущностью (или даже наследуемыми признаками). Эта преодоленная в современной западной антропологии концепция помешала отечественной этнологии адекватно оценить угрозу, которую представляла для многонационального СССР мобилизованная политизированная этничность, а также предложить эффективные методы разрешения искусственно раскрученных этнических конфликтов.
Пока что указанная функция науки в описании и анализе этнических процессов в какой-то мере обеспечена усилиями старших поколений научных и практических работников, обладающих неявным знанием и практическим опытом, но налицо опасность разрыва поколений, следовательно, в обозримой перспективе может возникнуть провал. Активное внедрение в исследования указанных проблем иностранных ученых и фондов (особенно в постановку задач, выбор методологии и трактовку эмпирических данных) чревато важными деформациями и искажениями — втягиванием этих исследований в «империалистическую» парадигму.
• Создаваемая для экономики, обороны, всего жизнеобеспечения государства и общества техносфера гораздо сильнее, чем принято думать, связана с природной средой и культурой страны. Поэтому, хотя многие ее элементы и целые блоки могут быть импортированы или созданы с помощью переноса знаний и технологий, техносфера страны в целом, как единая система, в большой степени зависит от усилий отечественной науки, причем усилий непрерывных.
В России уже создана огромная и специфическая техносфера, которую должно «вести» (не говоря уж о ее развитии) адекватное по масштабам и структуре отечественное научное сообщество. Без него эта техносфера не может быть даже безопасно «остановлена» и демонтирована.
Для выполнения этой функции мощности нынешней российской науки явно малы из-за ликвидации системы отраслевой науки. Поддержка прикладных исследований и разработок (НИОКР) через рыночные механизмы совершенно недостаточна. Созданный посредством приватизации частный капитал финансировать науку в достаточной мере не собирается. В то же время в условиях «фонового» вялотекущего кризиса приоритетными и срочными с точки зрения государства и общества становятся многие направления прикладных исследований (например, анализ причин техногенных аварий и катастроф и подходов к их предотвращению).
Что же касается социальной эффективности (соотношения «эффект/затраты») остатков прикладной науки, то ее в выполнении указанной здесь функции следует считать аномально высокой. Эксперты уже к концу 1990-х гг. прогнозировали быстрое нарастание техногенных катастроф, которого пока что удается не допустить.
• Мир в целом втягивается в глубокий глобальный кризис («кризис индустриализма», «третья волна цивилизации»). Его симптомами служат частичные кризисы: финансовый, экологический, энергетический, культурный и др. Россия — первая крупная цивилизация, которая испытала на себе воздействие этого кризиса в его радикальной форме. Наука России уже накопила большое, хотя еще недостаточно оформленное, знание о поведении технологических, социальных и культурных систем на изломе, при крупномасштабных переходах «порядок-хаос». Развитие и формализация этого знания, которое совершенно по-новому ставит многие фундаментальные вопросы, важно для самой России, но не в меньшей степени и для мирового сообщества.
Пока что функция систематизации, теоретической обработки и представления знаний о глубоком кризисе, который переживает Россия, выполняется, видимо, неудовлетворительно. Во-первых, имеются большие методологические трудности для ученых, которые наблюдают кризис «изнутри» и не могут в достаточной мере отвлечься от этических оценок. Во-вторых, вся общественная жизнь в России пока еще слишком идеологизирована, что ограничивает свободу исследований и дискуссий. В результате общество и государство не получают тех знаний о кризисе, которые наука уже могла бы предоставить. А мировое сообщество (прежде всего научное) имеет весьма искаженное представление о происходящих в России процессах.
С другой стороны, Россия живет в быстро изменяющемся кризисном мире, который к тому же создает огромный запас новых знаний о природе и человеке. Знания из этого мира и о нем, необходимые для развития и самого существования России, поступают в нее извне в виде товаров, изготовленных иностранными фирмами, или в виде потока информации. И материальные продукты («вещи»), и потоки смысловой информации производятся и перерабатываются исходя из критериев «чужих» фирм, государств и культур. Только сильная и структурно полная отечественная наука может служить тем механизмом, который «втягивает» в страну нужное для нее знание из всей мировой цивилизации. Страны, не обладающие таким механизмом, получают отфильтрованное и ограниченное знание и деформированную информацию, утрачивают реальную независимость и вовлекаются главными мировыми державами в их орбиту в качестве «материала».
Пока что эта функция поиска и переноса знания извне выполняется отечественной наукой недостаточно удовлетворительно — в основном по причине нехватки ресурсов, устаревшей методологии, неадекватной организации и распаде профессиональных сообществ.
3. Качества научной системы, которую подвергли реформе
Обязательным условием успеха любой реформы является достоверное знание об объекте реформирования. Кроме того, надо понимать и чувствовать его плохо формализуемые особенности. В 1990-е гг. была начата реформа советской науки как часть реформирования всей советской системы. Социальная и культурная основа науки СССР плохо изучена и понята, как и вся советская система в целом. Сейчас, постепенно, российское обществоведение выясняет причины этого непонимания, а в 1990-е гг. специалисты пережили шок от неспособности предвидеть глубину кризиса, вызванного уже первыми операциями реформы.
Кризис 1990-х гг. в России является принципиально новым явлением. Поведение многих систем в ходе их изменений было неожиданным, возникающие в ходе трансформации структуры были не похожи ни на прежние советские, ни на свои аналоги за рубежом. Это требует обновления методологии анализа систем в переходном состоянии, в нашем случае — анализа российского общества в его связи с наукой.
Здесь мы не можем дать даже самый краткий очерк советской науки ни как системы знания, ни как специфической социальной системы. Мы лишь укажем на особенности той науки, которую Россия унаследовала от СССР и которую стали реформировать, даже грубо не описав объект. Из обломков этого наследия в основном и придется строить новую систему в ХХI в.
Советская наука сложилась как самобытная социальная и культурная система, по ряду признаков отличная как от научной системы дореволюционной России, так и от систем других научных держав. Именно в качестве специфической целостной системы советская наука была интегрирована в мировую науку, не растворяясь в ней, а сохраняя и развивая свою культурную идентичность (так же как англо-саксонская, французская, немецкая научные системы).
Основанием «Общественного договора» старой научной интеллигенции с советской властью были программные заявления и действия советского государства буквально с первых месяцев его существования. Декларации советской власти были подкреплены делом, власть в этой части своего дела стала выполнять чаяния российской научной интеллигенции.
Прежде всего надо подчеркнуть, что было принято стратегическое решение не демонтировать структуры прежней «императорской» организационной системы науки, а укрепить ее и сделать ядром и высшей инстанцией в строительстве советской системы. Академия наук в связке с университетами стала «генератором» сети научных учреждений, выполняя форсированную программу расширенного воспроизводства научного потенциала.
Уже в январе 1918 г. Совнарком запросил у Академии наук «проект мобилизации науки для нужд государственного строительства». В июне 1918 г. общее собрание Академии наук обсудило «Записку о задачах научного строительства». Именно согласование взглядов Совнаркома, представителей науки (и, что менее известно, бывших министров и промышленников царской России) позволило выработать и сразу начать ряд больших научнотехнических программ (ГОЭЛРО, геологоразведочных, эпидемиологических и др.). Даже политическое решение о переходе к НЭПу вырабатывалось по типу научной программы. Самым авторитетным экономистам-аграрникам России, Л.Н. Литошенко и А.В. Чаянову, было поручено подготовить два альтернативных программных доклада (была принята концепция А.В. Чаянова).
Уже в 1918 г. важной частью строительства отечественного научного потенциала стало создание условий для будущей атомной программы. Сырье для производства радия, предназначенное для отправки в Германию, было секвестировано и передано Академии наук. В декабре 1921 г. были получены препараты радия, в начале 1922 г. заработал завод.
Строительство науки планировалось как система. За структурную единицу сети был принят научно-исследовательский институт — новая форма научного учреждения, выработанная в основном в российской науке. Только в 1918-1919 гг. было создано 33 таких института.103 Они стали той матрицей, на которой сформировалась советская научно-техническая система. К 1923 г. число НИИ достигло 56, а в 1929 г. — 406.
С середины 1920-х гг. стала формироваться сеть проектно-конструкторских и проектных институтов. Первым из них стал Государственный институт по проектированию металлических заводов (Гипромез). Затем Гипрошахт, Гипроцветмет и др. С начала 1930-х гг. стала быстро развиваться сеть фабрично-заводских лабораторий, работавших в кооперации с НИИ. В 1925 г. ЦИК и Совнарком приняли постановление «О признании Российской Академии наук высшим ученым учреждением Советского Союза».
Накануне Великой Отечественной войны в стране в основном был создан, по словам С.И. Вавилова, «сплошной научный и технический фронт» (эта задача была поставлена в 1936 г.). Была создана большая сложная система, обеспечившая все критические проблемы развития и адекватная всем критическим угрозам стране. К началу войны в СССР работало свыше 1800 научных учреждений, в том числе 786 крупных научно-исследовательских институтов. Научная работа велась также в 817 высших учебных заведениях. Экзамен, которому подверглась эта система, был не идеологическим, а жестким и абсолютным — война.
Эта же система стала той базой, которая позволила предотвратить перерастание объявленной Советскому Союзу «холодной войны» в «горячую». Наука уже обладала мощностью, гибкостью и заделами, чтобы быстро выполнить большие программы по созданию ракетно-ядерного щита СССР.104 Достаточно сказать, что первая отечественная публикация о делении ядер при бомбардировке нейтронами (в Радиевом институте) была представлена в журнал всего через два месяца после публикации об открытии деления ядер в 1939 г. Это был результат работы, начатой в 1918 г.
Этот результат во многом был предопределен стратегическими решениями при выборе проекта научного строительства СССР на период примерно до 1960 г. Под этой стратегией была сильная методологическая база, созданная в Академии наук до революции.
Эти решения должны быть сегодня изучены без всяких идеологических пристрастий. Такое изучение нужно не для того, чтобы повторять те решения, а чтобы понять методологию выработки решений. Те решения были адекватны и целям, и условиям (ограничениям). Мы имеем опыт успешной большой программы в контексте собственной национальной культуры, игнорировать его неразумно.
Сейчас, изучая научное строительство в СССР 1920-1930-х гг., мы видим важную особенность, которую наша научная политика незаметно утратила в 1970-е гг. Она заключается в том, что выделяемые на это строительство средства никоим образом не были привязаны к показателям, сложившимся в развитых странах. Средства выделяли исходя из тех критических задач, решение которых для страны было императивом выживания. Уже во второй половине 1918 г. научным учреждениям было ассигновано средств в 14 раз больше, чем в 1917 г. Расходы на научные исследования во второй пятилетке выросли в 8,5 по сравнению с расходами первой пятилетки, а расходы на научное оборудование — в 24 раза.
Научное сообщество (в лице ведущих ученых) и планирующие органы государства определяли, какого масштаба и какой структуры наука необходима именно нашей стране, исходя из угроз и задач развития, и именно на рассматриваемый горизонт долгосрочного планирования. Это — рациональный подход, в то время как принятый после 1960-х гг. и сохранившийся в настоящее время подход является неразумным. Тот факт, что, например, в США на развитие науки направляется 3% ВВП, не может служить никаким критерием для России, Китая или Таджикистана. Между этими странами и США в данном вопросе не выполняются критерии подобия.105
Научное сообщество СССР могло выделить группу авторитетных ученых, которые смогли спокойно объяснить власти, в чем стратегическая необходимость для страны той или иной научной программы, несмотря на ее внешнюю «неэффективность». Академики — монархисты и кадеты — могли объяснить это В.И. Ленину в обстоятельных личных беседах и докладах. Академики А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица и И.В. Курчатов могли в личных беседах объяснить это И. Сталину. Академик М.В. Келдыш — Н.С. Хрущеву, академик А.П. Александров — К.У Черненко. Почему сегодня власть говорит языком чиновников Минобрнауки, совершенно неадекватным ни состоянию России, ни состоянию науки?
В первые же месяцы после установления Советской власти началась реализация комплексной программы по изучению природных богатств России. Идея программы вынашивалась в Академии наук задолго до 1917 г. Особенностью ее было то, что назначение экспедиций далеко выходило за рамки получения конкретного знания о какой-то территории. Система экспедиций должна была на значительное время накрыть всю территорию СССР мобильной сетью ячеек научной системы, обеспечить присутствие науки во всех узловых точках страны.
До 1917 г. почти все научные учреждения России и 3/4 научных работников находились в Москве и Петрограде. Быстро изменить это положение не было возможности, и ученые двинулись на Урал, в Сибирь и Дальний Восток, в Среднюю Азию и Закавказье в экспедиционном порядке, постепенно превращая экспедиции в стационарные научные базы, затем в филиалы центральных научных учреждений, впоследствии в самостоятельные местные научные институты и центры.
В условиях быстрого преобразования в стране хозяйственных укладов, культуры и образования, государственной системы и права, типа межнационального общежития каждая экспедиция, прибывающая из Центра, становилась и важнейшим источником информации, и даже в некотором смысле носителем образа будущего. Возвращаясь в столицы и участвуя в работе обычно нескольких комиссий, научные работники были важным источником знания для государственного управления.
Многие качества советской науки оформились уже в ХX в., но были доработаны в социальных условиях советского строя. Первое качество — повышенный интерес и внимание к критическим точкам и пороговым явлениям. Это — стремление найти тот нервный узел проблемы, развязав который можно сразу решить проблему, грубо, в главном. Это напряженное внимание к срывам непрерывности привело Д.И. Менделеева к открытию периодического закона, В.И. Вернадского — к его биогеохимическим идеям, которые тогда казались прозрениями, Н.Н. Семенова — к открытию цепных реакций и экспериментам, Ю.Б. Харитона — к теории горения и взрыва и т. д. Это был особый взгляд на реальность, в нем было что-то от средневекового мышления: как будто преодолевалось разделение «субъект-объект». От доиндустриального мастера и донаучного мыслителя этот взгляд был перенесен и укоренился в индустриальном и научном обществе России фазы подъема.106
Этот взгляд характерен для способа мысли и образа действий государственной власти и ее подсистем. Он ярко проявился в мышлении и планировании военного командования после того, как оно освоило рациональность самой совершенной по тем временам военной машины Германии. Ведь СССР начинал войну с командным составом, над сознанием которого довлела инерция представлений о Первой мировой и Гражданской войнах, а германская армия на полях Европы уже выработала парадигму войны другой эпохи. Скорость обучения и творческого развития парадигмы была у Советской армии исключительно высокой.107
Второе качество науки того времени, далеко не тривиальное, — ответственность. Оно выражалось в том, что необходимость решить проблему (а не «сделать важный шаг в решении проблемы») принималась как непреложная. Иными словами, в мысленном целеполагании решение проблемы (с доступными ресурсами) становилось ограничением, которого нельзя нарушить, а уж второстепенные параметры (вроде себестоимости или качества дизайна) оптимизировались в зависимости от средств и времени. Такая постановка вопроса создавала сильнейший мотив к изобретениям, а значит, и к обучению. Переложить ответственность было не на кого. Это общее положение резко ускорило развитие знания. На каждом уровне общественной иерархии люди искали знания обо всех альтернативах решения проблем, а дальше изобретали способы, чтобы обойтись наличными ресурсами.
Выдающийся ученый ХХ в. академик И.В. Петрянов-Соколов в своих выступлениях 1980-х гг. настойчиво призывал вникнуть в значение качества ответственности во взаимодействии всех подсистем науки, а также в значение культуры такого взаимодействия. Сам он был участником решения очень большого числа научных и технических проблем, связанных с обороной и технологической безопасностью, интенсивно общался с инженерами, производственниками, военными и государственными деятелями.108
Третье качество — привлечение для решения технических проблем самого фундаментального теоретического знания. Государственная система организации науки позволила с очень скромными средствами выполнить множество проектов такого типа. Примерами служат не только лучшие и оригинальные виды военной техники (система реактивного залпового огня «Катюша» и ракеты «воздух-воздух», создание кумулятивного снаряда, а потом и кумулятивных гранат, мин, бомб, резко повысивших уязвимость немецких танков),109 но и крупные научно-технические программы типа создания атомного оружия. Примеров даже небольших разработок, за которыми стояла высокая наука, множество. Так, благодаря новаторским расчетам математиков в СССР была сделана лучшая в мире каска с очень сложной кривизной поверхности, обеспечившей ее наилучшую отражательную способность.
Победы СССР в войне нельзя понять, если не учесть необычно интенсивного и эффективного участия ученых. Наука тогда буквально «пропитала» все, что делалось для войны. Президент АН СССР С.И. Вавилов писал: «Почти каждая деталь военного оборудования, обмундирования, военные материалы, медикаменты — все это несло на себе отпечаток предварительной научно-технической мысли и обработки».
Все участники этого процесса, от академиков до рабочих, продемонстрировали высокую культуру взаимодействия.110
Четвертое качество, которое базировалось на принципиальных установках, — способность мобилизовать «дремлющие» ресурсы низкой интенсивности. Это качество присуще хозяйству «семейного типа», которое вовлекает ресурсы, негодные для рынка (трудовые и материальные).111 Это качество, которое на первый взгляд является антиподом предыдущего, а в действительности есть его оборотная сторона. «Примитивные» средства становятся ценным ресурсом именно постольку, поскольку сопряжены с ресурсами высшего класса, сконцентрированным на главном участке. Пусковые установки «Катюш» сваривали поначалу из трамвайных рельсов, но точность траектории ракеты с изменяющейся массой достигалась сложными и оригинальными математическими расчетами, которых математики противника не смогли воспроизвести. Другой пример: для замены ушедших на фронт рабочих на заводы пришло большое число женщин и подростков. Обучить их не было времени, и была предпринята большая программа автоматизации и замены дискретных технологических процессов поточными. Особенно трудоемким был контроль качества в массовом производстве (прежде всего, боеприпасов). Этим занялись ученые АН СССР (Институт автоматики и телемеханики и Уральский филиал АН СССР). Было создано большое число автоматических и полуавтоматических станков и приборов, которые резко повысили производительность труда и снизили требования к уровню квалификации. Работы 1941-1942 гг. стали первым опытом широкой автоматизации массового производства.
Строительство научной системы СССР в 1920-1930-е гг. с социологической точки зрения было целенаправленной сборкой научных сообществ. Это была большая и сложная программа — сегодня ее изучение крайне актуально. Очевидно, что для ее выполнения требовалось прежде всего обучить, воспитать и социализировать большой контингент специализированных кадров. В 1917 г. в России было около 12 тыс. научных работников, а в 1950 г. — 162,5 тыс. Таким образом, за 1920-1930-е гг. структуры науки СССР были достроены и развиты до целостной системы, которая затем разрасталась в масштабах и структурно.
Уже на первом этапе формирования науки СССР выявилась ее системообразующая миссия как генератора базовых структур жизнеустройства. Наука стала включать в себя социальную инженерию и разработку технологий, основанных на научном анализе и предвидении. Советская власть успешно выполнила задачу задачу целеполагания, собирания общества на основе понятной цели и консолидирующего проекта.112
Однако системное представление реальности при проектировании форм было свойством, присущим тогдашней российской общественной мысли в целом. Поэтому советская власть смогла опереться даже на идеологически чуждые ей силы. После 1917 г. эта установка сразу была реализована в деле формообразования самой российской науки, параллельно были начаты работы по обустройству той «площадки», на которой затем велась индустриализация 1930-х гг., а затем создание всего народного хозяйства, которое унаследовали РФ и постсоветские республики от СССР (включая нефтегазовые месторождения, энергетическую систему и культурную базу).
Эти работы уже в 1920-е гг. приобрели комплексный характер как «по горизонтали» (междисциплинарные программы), так и «по вертикали» (соединение методологических, фундаментальных и прикладных исследовательских и опытно-конструкторских, производственно-практических задач).113 Самой своей структурой эти программы ранней советской науки создавали матрицу, на которой собиралась структура будущего жизнеустройства.
В 1918 г. резко активизировалась работа проблемных комиссий. Их прототипом была созданная в 1915 г. КЕПС (Комиссия по изучению естественных производительных сил России). Как правило, организатором научной части больших проблемных комиссий выступала Академия наук СССР. Эти комиссии были мобильными органами программно-целевого управления, и через них малочисленные еще ученые включались в обсуждение и принятие решений по всем вопросам жизни и развития страны, устанавливали личные контакты с руководителями всех сфер и уровней, с представителями всех социальных групп и народов.
С первых лет советского периода фигура ученого как носителя особого типа знания, языка и образа мысли присутствовала во всех важных делах страны.
Эта форма движения знания интенсивно использовалась и в годы войны. Совместно с военными организациями в АН СССР были созданы проблемные оборонные комиссии: например, Комиссия по научно-техническим военно-морским вопросам (председатель — вице-президент АН СССР А.Ф. Иоффе, ученый секретарь — И.В. Курчатов), Военно-санитарная комиссия (председатель — вице-президент АН СССР Л.А. Орбели), Комиссия по мобилизации ресурсов Урала на нужды обороны (председатель — президент АН СССР В.Л. Комаров).
В развитии знания в советском обществе были связаны в сеть вертикальные и горизонтальные каналы информации и авторитета. Когда надо было создать благоприятный социально-психологический климат для поддержки крупной научно-технической программы, то подключались ресурсы как государственного управления (советских, ведомственных и партийных структур), так и пересекающих эти линии по горизонтали общественных организаций (комсомола, профсоюзов, обществ). Так, в мировую историю вошла форсированная программа создания в СССР мощного авиастроения и авиации, начатая в 1923 г. Эта программа была типичной и может служить моделью советских «национальных проектов».
Скажем и об особом отношении к движению научного знания. Во всех научных державах становление научное сообщество вело интенсивную деятельность по просвещению населения и популяризации научного знания. Важной формой этой деятельности было создание научно-популярной литературы, авторами которой становились и крупные ученые, и писатели-популяризаторы. Поддержка науки в массовом сознании — условие существования национальной науки.
Академик Н.А. Морозов (в молодости народник) писал, что в русской интеллигенции 1880-х гг. сильна была выпестованная П.Л. Лавровым идея долга интеллигенции перед народом: «преобразовать науку так, чтобы сделать ее доступной рабочему классу». В следующем поколении эту идею пестовал большевик А.А. Богданов, ученый, философ и просветитель, «глубоко чтимый в кругах молодой социал-демократии» (по выражению А.В. Луначарского). Система распространения научных знаний в СССР стала складываться с конца 1920-х гг.114
4. Доктрина реформы науки России в 1990-е годы
Напомним те постулаты, которые были положены в основу доктрины реформирования науки. Она вырабатывалась в 1991 г. и вызвала резкую критику в среде специалистов-«консерваторов». Прежде всего возражение вызывала утопическая идея демонтажа научно-технической системы как одной из несущих конструкций советского государства. Ее предполагалось не реформировать, а подвергнуть революционной трансформации, как и другие матрицы советского строя (колхозную систему, армию, промышленность и т. д.).
В 1990-1991 гг. в команде советников власти господствовало мнение, что смена политической системы и приватизация промышленности приведут к формированию гражданского общества, которое примет от государства многие из его функций. Считалось, что сразу произойдет самопроизвольное превращение науки государственной в науку гражданского общества. Реформаторы исходили из постулата, согласно которому в России за короткий срок произойдет становление мощного частного сектора, который приступит к научно-технической модернизации хозяйства и возьмет на свое содержание научную систему России. Исходя из этого была принята стратегия невмешательства в процессы «самоорганизации» науки (разгосударствление).
Идея разгосударствления и передачи главных сфер деятельности государства под стихийный контроль рынка, оказалась несостоятельной в целом, но особенно в отношении науки и техники. Ни отечественный, ни иностранный капитал в России не смогли и даже не пытались заменить государство как главный источник средств и главного «заказчика» НИОКР. Эти надежды были совершенно утопическими и противоречили всему тому, что было известно о природе научной деятельности, природе частного капитала и особенностях связи науки с государством в России. Радикальный уход государства из сферы науки не мог не поставить ее на грань гибели. Огромная по масштабам и сложнейшая по структуре научно-техническая система России, созданная за 300 лет, была оставлена почти без средств и без социальной поддержки.
В 1992 г. большое число научных работников остались без работы. Их ситуация по сравнению с другими секторами экономики оказалась наиболее тяжелой. По данным Московской биржи труда, потребность в ученых составила в тот год лишь 1,3% от числа уволенных — почти 100 претендентов на одну вакансию.
О закрытии крупных НИИ в 1992 г. персоналу объявляли за два месяца. Но поведение сотрудников было иррационально — они не могли в это поверить. Они не искали нового места работы, приходили как обычно в лаборатории и продолжали ставшие бессмысленными эксперименты.
Ассигнования на гражданскую науку за 1990-1995 гг. снизились в 4,4 раза. С учетом того что безотлагательно требовалось финансировать поддержание материально-технической инфраструктуры науки (здания, энергия, коммунальные услуги), затраты на собственно продуктивную исследовательскую работу сократились примерно в 10 раз (рис. 1).
Рис. 1. Внутренние затраты на исследования и разработки в РФ, млрд руб. в постоянных ценах 1989 г.
Еще больше снизились расходы на обновление наиболее динамичной части основных фондов науки: приборов и оборудования. Если в середине 1980-х гг. на покупку оборудования расходовалось 11-12% ассигнований на науку, то в 1996 г. — 2,7%, а в 2006 г. — 6,6%. Таким образом, расходы на оборудование сократились в 15-20 раз. Коэффициент обновления основных фондов в отрасли «Наука и научное обслуживание» в 1998 г. составил лишь 1,7% по сравнению с 10,5% в 1991 г. В 2002-2004 гг. этот коэффициент составлял 0,9-1%. План государственных инвестиций на строительство объектов науки не был выполнен ни разу.
Ни разу не была выполнена 4%-ная норма выделения средств из государственного бюджета, заданная Федеральным Законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике». В 2004 г. объем бюджетных расходов на гражданскую науку составил 0,28% ВВП и 1,76% расходной части федерального бюджета, в 2006 г. он вырос до 0,36% ВВП и 2,27% федерального бюджета. Все внутренние затраты на исследования и разработки составляли в 1995 г. 0,85%, а в 2006 г. — 1,08% ВВП.
Министерство образования и науки и часть научного сообщества возлагали надежды на помощь иностранных фондов, которые стали давать российским ученым гранты или даже просто оказывать небольшую материальную помощь. Гранты были очень малы и, как отмечали многие, имели целью «скупить идеи по дешевке». Большие затраты времени на оформление отрывали людей о работы. Главным негативным эффектом ученые считали то, что гранты побуждали к изменению тематики исследований, так что фронт работ не только сужался, но и видоизменялся в самых неожиданных направлениях, в основном в сторону более мелких и прикладных задач за счет принципиально новых и стратегических исследований. Уже в 1994 г. надежды на фонды иссякли. Опрос научных работников показал, что 2/3 респондентов выразили негативное отношение к зарубежной помощи российской науке. 32,2% ответили «Она больше выгодна Западу, чем нам»; 22,3% — «Она является замаскированной формой эксплуатации России»; 13,9% — «Сам факт такой помощи постыден и унизителен».
Страна вступила в переходный период, в котором старый «покровитель» науки, сильное государство, практически исчез, а новый (процветающая просвещенная буржуазия) если и появится, то лишь в гипотетическом светлом будущем. Это означает, что движение в принципиально том же направлении обречет Россию, независимо от того, какой социально-политический строй в ней установится, на отбрасывание в разряд слаборазвитых стран без всякой надежды на преодоление слаборазвитости.
Второй важнейший принцип реформы заключался в радикальном разделении фундаментальной и прикладной науки. Президент Б. Ельцин неоднократно настойчиво подчеркивал, что государством будет финансироваться лишь фундаментальная наука. Экономические последствия этого принципа почти не требуют пояснения. Наука в Российской империи и СССР была органичной частью государства. Государство рухнуло, новое «маленькое» либеральное государство в старой науке не нуждалось и финансировать ее не собиралось. Оно брало на содержание лишь «маленькую» фундаментальную науку. Никакого иного субъекта поддержки науки в стране не существовало.
Это решение исходило из постулата, что фундаментальная наука может выжить и при отсутствии остальных подсистем науки (прикладных исследований, разработок, содержания всей научной инфраструктуры). Этот постулат ошибочен в самой своей основе и противоречит элементарному знанию о научной деятельности. Несостоятельны и предположения, что можно провести селекцию научных исследований и отделить зерна фундаментальной науки от плевел нефундаментальной.
Разделение науки на фундаментальную и прикладную — типичная ошибка divisio (неверного разделения целостного объекта на элементы).115 Если администрация в целях учета и управления и проводит разделение между фундаментальными и прикладными исследованиями (но никак не науками), то при этом всегда имеется в виду его условность и относительность. И в том, и в другом типе исследования ищется достоверное знание, которое, будучи полученным, становится ресурсом, используемым в самых разных целях. Многочисленные попытки найти формализуемые различия между двумя типами исследований, в общем, к успеху не привели. Научно-технический прогресс «порождает» те или иные практические последствия всей совокупностью накопленных знаний.
В действительности и в отношении фундаментальной науки обещания президента Б. Ельцина не были выполнены. После резкого повышения цен в январе 1992 г. деятельность всей экспериментальной науки была практически парализована. Всего за год до этого никто не поверил бы, что Президиум Академии наук будет вынужден принять постановление, которое обяжет все отделения «до 1 ноября 1992 г. принять решения о реорганизации каждого научного учреждения, имея в виду сокращение особо приоритетных научных направлений, подразделений и научных школ, располагающих наиболее высоким научным потенциалом, и ликвидацию… остальных структурных единиц».
Председатель Комитета Конгресса США по науке и технологии Дж. Браун заявил на слушаниях 8 февраля 1992 г.: «Россия стоит перед угрозой неминуемого разрушения ее научно-технической инфраструктуры в Российской Академии наук, учреждениях высшего образования и военно-промышленном комплексе».
Следующее принципиальное положение в доктрине реформирования науки сводилось к тому, чтобы поддерживать лишь блестящие и престижные научные школы. Предполагалось, что конкуренция сохранит и укрепит лишь те направления, в которых отечественные ученые работают «на мировом уровне». Таким образом, фронт работ резко сократится, и за счет высвобожденных средств можно будет финансировать реформу в науке. В «Концепции реформирования российской науки на период 1998-2000 гг.» сказано: «Основная задача ближайших лет — обеспечение необходимых условий для сохранения и развития наиболее продуктивной части российской науки».
Знание и здравый смысл говорят, что само это представление о задачах науки ложно. Причем здесь «мировой уровень»? Посредственная и даже невзрачная лаборатория, обеспечивающая хотя бы на минимальном уровне какую-то жизненно необходимую для безопасности страны сферу деятельности (как, например, Гидрометеослужба), гораздо важнее престижной и даже блестящей лаборатории, не связанной непосредственно с критическими потребностями страны. Пожертвовать посредственными лабораториями, чтобы за счет их ресурсов укрепить перспективные, в ряде случаев равноценно вредительству (особенно в условиях кризиса). До настоящего времени эта установка не пересмотрена.116
Свертывание «посредственных» исследований во многих случаях оказывает на все научное сообщество разрушительный психологический эффект, усугубляющий кризис. Особенно это касается прекращения недорогих, но регулярных работ, необходимых для поддержания больших национальных ценностей, создаваемых наукой. Многие такие работы продолжаются в течение десятков или даже свыше сотни лет, и их пресечение приводит к значительному обесцениванию всего прошлого труда и созданию огромных трудностей в будущем. Таковы, например, работы по поддержанию коллекций (семян, микроорганизмов и т. п.), архивов и библиотек. Таковы и некоторые виды экспедиционных работ и наблюдений, например проведение регулярных гидрологических наблюдений (разрезов).117
5. Результаты реализации принятой доктрины реформы
На первом этапе реформы науки изложенные ранее принципы не были полностью реализованы. Произошло лишь съеживание и деградация научного потенциала. Иностранные инвестиции в сферу НИОКР в России привлечь не удалось. В 1995 г. 99,99% всей собственности на основные средства НИОКР составляла российская собственность. Кроме того, в сферу НИОКР не удалось привлечь существенных инвестиций и отечественного капитала.
После 2000 г. произошло укрупнение капитала, возникли корпорации с участием государства, доля бизнеса в НИОКР увеличилась, хотя принципиально положение не изменилось. В 2010 г. доля организаций, выполняющих исследования и разработки и принадлежащих государственному сектору, составила 72,1%, численность работников, выполняющих исследования и разработки — 76,1% от общего числа, доля государства в основных фондах науки — 85,2%. Внутренние затраты на НИОКР — 72,6%. Это при том, что в государственном секторе занято 30% работников, а доля в основных фондах — 20%. Среднегодовая стоимость основных средств в расчете на одного работника, выполняющего научные исследования и разработки (фондовооруженность), в организациях государственного сектора вдвое больше, чем частном.118
Иначе, нежели ожидалось, пошел и процесс самоорганизации в науке. Предполагалось, что при экономических трудностях возникнет стихийно действующий механизм конкуренции и наука сбросит «кадровый балласт». Это по расчетам правительства должно было бы привести к омоложению и повышению качественных характеристик кадрового потенциала. На деле произошло совершенно обратное: из научных организаций и учреждений были «выдавлены» более молодые и энергичные кадры — те, кто мог «устроиться». В результате значительно ухудшились демографические показатели исследовательского персонала отечественной науки — кадровый состав науки постарел. В 2006 г. в составе исследователей возраст свыше 50 лет имели 63,4% кандидатов наук и 86,7% докторов наук, а возраст свыше 60 лет — 33,5% кандидатов наук и 57% докторов наук. В 1987 г. в СССР лишь 8% кандидатов наук были старше 61 года.
Не произошло и структурной перестройки, к которой должна была побудить конкуренция. Произошло сокращение потенциала практически всех ведущихся в стране научных направлений и «спорообразование» организаций и учреждений. Число организаций, ведущих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, сократилось (4600 — в 1990 г., 4100 — в 1996 г., 3566 — в 2005 г., 3492 — в 2010 г.). Не наблюдалось и принципиального перераспределения ресурсов между научными направлениями и областями.
Какие же процессы в научной системе запустила реформа? Советская наука была целостной системой, размещенной географически на всей территории СССР. Ее целостность обеспечивалась как в горизонтальном (дисциплинарном, тематическом), так и вертикальном (по типам деятельности) разрезах. Ликвидация Советского Союза кардинально нарушила эту целостность и оставила в республиках, в том числе и в России, ущербные, структурно неполные научные сообщества. Дело было не просто в неизбежном снижении эффективности научной системы, при таком расчленении в ней возник социальный кризис. Поскольку в каждой исследовательской области коллективным субъектом деятельности является сообщество, а не конгломерат индивидов, ученые при разделении их сообществ, в принципе, потеряли возможность нормальной профессиональной работы, до тех пор пока не интегрировались в какую-то иную целостную систему (мировую или ту, которая сложится из осколков прежней). Это совершенно новая, трудная проблема, и никаких предпосылок для ее быстрого решения нет.
Целостность нарушилась и в вертикальном разрезе. Министерства были ликвидированы, и, тем самым, ликвидированы условия существования отраслевой науки, которая составляла 70% процентов «кадрового тела» всей системы.
В СССР отраслевая наука была плотно встроена в систему государства как распорядителя большей части производительных сил. Пока государство было стабильным, целостная по сути своей наука, административно разделенная по отраслям, также составляла единый организм (хотя были болезненные явления, порожденные бюрократизацией ведомств). При разгосударствлении производства отраслевые министерства исчезли, и неожиданно НИИ и КБ оказались в вакууме: исчез тот социальный субъект, через которого общество снабжало их минимумом средств. Прекращение или резкое сокращение финансирования в течение полугода означает просто смерть научного учреждения (хотя оболочка может сохранять видимость жизни еще долго).
Речь идет не только об отраслевой науке, которая, впрочем, составляла наиболее массивную часть системы советской науки. Министерства как государственные организации, ответственные за конкретные отрасли производства или услуг, вкладывали крупные средства и в академические исследования, и в науку высшей школы. Многие «бюджетные» институты АН СССР в действительности давно уже на две трети финансировались министерствами, а питание вузовской науки на 90% зависело от хоздоговоров с отраслями. Масса проблемных лабораторий в вузах быстро исчезла, и в каждом случае речь шла о крупном потрясении. В России происходило невидимое обществу, прямо не объявленное уничтожение научной системы. Наука ликвидировалась мимоходом, как щепка, отлетевшая при рубке леса.
Причина была вовсе не в отсутствии средств для сохранения науки. Разрушенная Первой мировой войной и революцией Россия имела гораздо меньше средств, чем в 1990-е годы, для поддержки науки. Но в 1918-1919 гг. в разгар гражданской войны было открыто 33 крупных научных института, а в 1990-е гг. нередко научные суда вели лов рыбы, чтобы выплатить зарплату сотрудникам, закрывались научные издательства. В то же время создавались огромные состояния, города наполнялись роскошными импортными автомобилями. На этом фоне сведение дела к экономическим трудностям выглядит неубедительно.
Самой главной утратой стала потеря большой части кадрового потенциала российской науки. К 1999 г. по сравнению с 1991 г. численность научных работников в РФ уменьшилась в 2,6 раза. Динамика этой численности приведена на рис. 2.
Рис. 2. Численность научных работников (исследователей) в РСФСР и РФ, тыс.
Работа в науке на протяжении многих лет стала относиться к категории низкооплачиваемых — в 1991-1998 гг. она была ниже средней зарплаты во всех отраслях экономики в целом. Ученым «показали их место», теперь они должны быть благодарны. В августе 1992 г. средняя зарплата научных сотрудников Академии наук составляла 4 тыс. руб. в месяц (около 20 долл.). Это означает, что в семье из трех человек, где кормильцем является научный работник, вся его зарплата, истраченная только на покупку продуктов питания, не обеспечивала и 1/3 официально установленного физиологического минимума. Это тот минимум, который, как было объявлено, «человек может выдержать без серьезных физиологических нарушений не более трех месяцев».119 Динамика зарплаты в этой отрасли приведена на рис. 3.
Рис. 3. Средняя зарплата в науке и финансовой сфере в РСФСР и РФ, % от средней зарплаты по экономике в целом
Произошла фрагментация научного сообщества России с утратой системной целостности. Она уже достигла опасного уровня. Ликвидированы или бездействуют многие социальные механизмы, которые связывали людей и коллективы в единую ткань в масштабе страны. Восстановление этих механизмов и создание новых, адекватных новым условиям, — длительный процесс. В какой-то, совершенно недостаточной, мере, он стихийно идет и в настоящее время, но не стал объектом государственных усилий.
Кризис научной системы сопровождался резким изменением статуса науки в обществе. В советское время наука была гордостью народа и пользовалась уважением в массовом сознании. В обществе не было ни антиинтеллектуальных, ни антинаучных настроений. Общий культурный кризис и подрыв рационального мышления разрушили систему координат, с помощью которой люди оценивали отечественную науку. Достаточно было запустить в СМИ поток совершенно бездоказательных утверждений о «неэффективности» науки, и травмированное катастрофой распада общество бросило ее на произвол судьбы, равнодушно наблюдая за ее уничтожением. Никаких рациональных оснований для такой позиции не было, просто в массовом сознании были утрачены инструменты, чтобы увидеть сложную структуру социальных функций отечественной науки, тем более в условиях кризиса.120 Вместо науки в картине реальности образовалось пустое место, и вопрос о ценности просто не имел смысла. Надо признать, что и сама научная интеллигенция в своем понимании происходящего недалеко ушла от массового сознания.
В 1990-е гг. наука была фактически отстранена от просветительской деятельности, которая раньше позволяла ей поддерживать непрерывный контакт с большей частью населения и быть постоянно «на виду». Телевидение перестало производить и транслировать отечественные научно-популярные программы, закупая их за рубежом. Ученые перестали появляться на экране в дебатах на общие темы (да и дебаты эти были прекращены или превращены в шоу). Резко сократился выпуск научно-популярной литературы, которая имела раньше массового и постоянного читателя. В табл. 1 показано, как изменились тиражи самых популярных журналов.
Таблица 1
Тиражи научно-популярных и реферативных журналов, тыс. экземпляров
Государственной политики в сфере научно-популярной литературы пока не существует. Кстати, на 2013 г. тираж журнала «Наука и жизнь» — 40 тыс., «Знание — сила» — 10 тыс.
Важным проявлением кризиса российского «общества знания» стала активизация в 1990-е гг. антинаучных течений. Главным инструментом обскурантизма и средством разрушения рационального сознания стали в РФ СМИ, особенно телевидение.121
Попытки ученых противостоять широкой пропаганде антинаучных взглядов через СМИ оказались безуспешными, причем полностью. Эти попытки были низведены до ограниченной возможности «бороться с лженаукой» внутри своей корпорации.
Казалось бы, налицо социальное явление фундаментального значения. Средства массовой информации и книгоиздание России систематически ведут оболванивание населения! Они действуют как подрывная сила, разрушающая структуры Просвещения и ту мировоззренческую матрицу, на которой была собрана нация России в ХХ в. Произошла деформация одного из важнейших общественных институтов. Как это произошло, какие механизмы произвели такое изменение, каковы тенденции, что можно им противопоставить? Ведь именно это — ранг тех проблем, которые должна была бы поставить на обсуждение Российская Академия наук. Но она отстранена от этой проблемы.
Академик В.Л. Гинзбург на заседании Президиума РАН констатировал: «Издающиеся большими тиражами газеты нередко печатают всякий антинаучный бред. Если же вы напишете в редакцию протест, разоблачите лженаучный характер публикации, то ваше письмо опубликовано не будет, вам даже не ответят».
С.П. Капица поддержал: «То, что сейчас делается на телевидении, нельзя назвать иначе, как преступление перед нашей страной и обществом. Это делается намеренно, расчетливо, очень изощренными методами и талантливыми людьми».
Президиум РАН принял решение: «Рекомендовать для правительственных СМИ практику публикации комментариев, представляемых ведущими специалистами РАН, в случаях появления в этих изданиях статей, противоречащих известным научным фактам».
Значит, научное сообщество России уже и не пытается получить слово в частных СМИ! Оно в лице РАН просит позволить им дать комментарий лишь в правительственных СМИ — вот социальный статус науки в России. Но на деле и эти рекомендации гроша ломаного не стоят и ни к чему не обязывают государственную прессу. Например, главный редактор правительственной «Российской газеты» А. Юрков категорически отказался выполнять рекомендацию РАН, апеллируя к Закону о печати.
Видимо, ощущение собственного бессилия перед лицом такого вызова травмировало ученых не меньше, чем сам вызов. Положение, однако, не меняется.122
Отдельно надо сказать о попытках «реструктуризации» Российской Академии наук — ядра всей национальной научной системы и той матрицы, на которой наша наука создавалась и выращивалась. Они ведутся еще со времен перестройки.123 Осенью 2004 г. Министерство образования и науки РФ представило концепцию реформы РАН. К тому моменту в РАН было 454 научных института. Министерство предлагало государству прекратить финансирование большей их части, оставив к 2008 г. «100-200 хорошо технически оснащенных, укомплектованных квалифицированными кадрами, достаточно крупных и финансово устойчивых научных организаций».
В октябре 2004 г. В.В. Путин подверг концепцию критике и предложил руководству РАН самому составить план «модернизации фундаментальной науки». В Кремле он заявил ученым: «Ни у кого нет желания разрушить РАН — вопрос так не стоит, вопрос стоит по-другому… Наша задача — сохранить РАН, чтобы она не растворилась в бурном море, в водовороте событий, участниками и свидетелями которых мы являемся. Вопрос в том, как адаптировать ее к реалиям дня».
Однако попытки Министерства образования и науки реорганизовать РАН не прекратились. Министры — люди образованные, в советниках у них ученые; несколько аналитических служб давали свои заключения на всех этапах реформы. В этих заключениях было сказано, что принципиальные положения доктрины реформирования науки являются ложными, они противоречат знанию. В таких случаях министр обычно просит разъяснений у консультантов, но этого не было ни разу за все годы реформ. Кроме того, акция по «реформированию» РАН готовилась настолько скрытно, что население РФ о ней практически ничего не знало!124
Ведь реформа длится уже 23 года. Разрушается наука, одна из несущих опор государства и страны. И за все эти годы не состоялось ни одного гласного совещания или слушания с обсуждением причинно-следственных связей между действиями правительства и разрушительными результатами. На фоне деиндустриализации устранение РАН многим покажется мелочью, люди привыкли оценивать негативные результаты реформ сотнями миллиардов долларов. Вице-президент РАН академик А.Д. Некипелов, выступая в МГУ, сказал, что в 2005 г. РАН получила 19 млрд рублей — меньше, чем субсидии среднему университету в США. Вся Российская Академия наук, все ее 450 институтов, получила за один год меньше денег, чем Р. Абрамович истратил за два месяца на покупку футбольной команды «Челси» и яхт. При этом наши ученые, обеспечив в прошлом паритет с Западом в главных системах вооружения и получая на научные исследования в сотни раз меньше денег, чем их западные коллеги, до сих пор ухитрялись поддерживать щит обороны в минимально приемлемом состоянии. Это когда-то назовут очередным «русским чудом».
В начале 2006 г. Министерство финансов подало в Государственную Думу поправки в Бюджетный кодекс РФ, согласно которым РАН лишается права распоряжаться средствами, выделенными ей федеральным бюджетом. Как сказал 7 февраля 2006 г.) А.Д. Некипелов, «это означает, что фактически рассыпается вся структура академии». К тому же, согласно этим поправкам, средства, получаемые РАН из внебюджетных источников (это около 40% бюджета РАН), должны будут перечисляться в федеральный бюджет. «Это означает, что ни РАН, ни другие академии, ни государственные вузы автоматически не будут участвовать в выполнении заказов», — добавил А.Д. Некипелов.
Что же такое Российская Академия наук? Это особая форма организации науки, изобретенная в России применительно к ее историческим условиям, с периодическими срывами в нестабильность. Академия была построена как ковчег, в котором при очередном потопе спасалась часть научного сообщества с «сохраняемым вечно» фондом знаний и навыков, чтобы после потопа на твердом берегу можно было возродить российскую науку в ее структурной полноте и целостности.
Беда, что обществоведение не объяснило современному поколению, какую ценность построили для них деды и прадеды. Академия позволила России создать науку мирового класса со своим стилем. Здесь, в Академии наук, хранился «генетический аппарат», воспроизводящий этот стиль в университетах, НИИ и КБ. От этого отвлекают сегодня разговорами про «эффективность»! Мол, у Академии наук экономическая эффективность низкая. Какое нарушение логики и меры! Понятие эффективности в науке вообще неопределимо, а в данный момент в РФ тем более! Кого интересует эта эффективность РАН на фоне реальных потерь и хищений?
Главная ценность Академии наук сегодня — это сохраняемые под ее крышей 40 тыс. российских ученых, представляющих собой всю структуру современной науки. Это колоссальный фонд знаний и навыков, хранящийся в седых головах этих людей. Их главная миссия в настоящее время, их священный долг перед Россией — выжить как организованная общность и успеть передать сжатый сгусток сохраненных знаний и умений тем молодым, которые придут возрождать российскую науку.
Особенность науки, унаследованной постсоветской Россией, состоит в том, что ее ядро собрано в Академии наук. Это — матрица, на которой создавались все остальные подсистемы российской науки. Это и синклит, задающий нормы научности и научной этики, накладывающий санкции за их нарушение — без вмешательства бюрократии. Академия наук изначально была государственным («имперским») институтом и при любом режиме мобилизовала через свои каналы все научные силы России для выполнения главных и срочных задач. В этой роли Академия наук позволила России и СССР решать важные задачи намного дешевле (иногда в сотни раз), чем на Западе.
Уклад Академии наук упростил контакты ученых по всему научному фронту, а также прямые контакты ведущих ученых со всеми производствами. Это была невидимая сетевая надведомственная система управления («через знание»), которая действовала вместе с государством, но быстрее. Академия могла выполнять роль ядра науки, потому что в России она была элементом верховной власти, а не клубом или ассоциацией академиков. Наука через академию стала системообразующим фактором всего бытия России новейшего времени.
В 1917-1921 гг. правительство большевиков, следуя урокам царей, собрало ученых в Академии наук. Влиятельные «пролеткультовцы» пытались тогда разгромить академию под теми же лозунгами, что и сегодня. В.И. Ленин пошел на конфликт с ними, строго запретив «озорничать около Академии наук», хотя она была не просто консервативной, но и монархической. Если бы в тот момент Академию наук не уберегли, нить развития русской науки была бы оборвана, и ни о какой индустриализации 1930-х гг. и победе в Великой Отечественной войне не было бы и речи. Эту нить собираются оборвать сегодня, когда войны нет, а казна лопается от нефтедолларов.
Не надо иллюзий, это будет тяжелейшим ударом по России. Мы останемся без интеллектуального сообщества, которого не заменить никакими иностранными экспертами. Нынешние 40 тыс. ученых РАН не могут сегодня блистать на международных симпозиумах, быть конкурентоспособными и эффективно «производить знания», получая аплодисменты и обильное цитирование. Они стары, их приборы поломаны, а нищие лаборатории остались без реактивов.
Требовать от них «эффективности» — это все равно, что выпускать на старт тяжело больного спортсмена. Но эти люди образуют коллектив, обладающий знанием и способный понимать, собирать и объяснять новое знание из мировой науки. Этот коллектив жизненно необходим стране и народу в нынешний период даже больше, чем в спокойные времена. Здесь при всех болезнях кризисного времени помнят и хранят нормы научной рациональности и этики, знают природу и техносферу России. Разгонят это «катакомбное» сообщество — и угаснут знания, нормы и память о них, как пламя свечи.
Этот коллектив будет еще более необходим России завтра, когда молодежь начнет нащупывать дорогу из ямы кризиса. Тогда только отечественные ученые, обладающие опытом побед и бед России, владеющие русским научным стилем и, главное, любящие нашу землю и наш народ, смогут соединить здравый смысл с научным методом. Такой «зарубежной экспертизы» Россия не получит ни за какие деньги.
Пока что ситуация продолжает находиться в неустойчивом равновесии. Однако принципиальные установки правительства не изменились, не изменился и понятийный аппарат, с которым подходят к науке.
20 августа 2008 г. состоялось совещание у премьер-министра РФ В.В. Путина, посвященное программе развития науки. Министр А.А. Фурсенко так определил принципы модернизации: «Во-первых, это повышение эффективности деятельности существующих научных организаций, которые составляют государственный сектор науки… За счет повышения их эффективности, введения системы оценок их деятельности может и должен быть реструктурирован этот сектор. Наиболее эффективные организации должны получать большее финансирование, неэффективные должны быть реорганизованы, а часть их закрыта.. Мы должны точно определить, какие организации не работают, живут за счет сдачи в аренду своих помещений, передать их собственность в распоряжение действующих организаций, чтобы дать возможность специалистам заниматься наукой».
Как будто мы снова вернулись в 1990-е гг., ничему не научившись! Зная, какими индикаторами, измерительными инструментами и критериями для определения полезности науки пользуется Министерство образования и науки, приходится ожидать нового тяжелого удара по остаткам российской науки.
6. Об индикаторах и критериях эффективности
С начала реформы органы управления наукой лишились индикаторов, позволяющих оценивать ситуацию и тенденции ее изменения. Используемые по инерции индикаторы, унаследованные от советской системы, стали неадекватны.
Любые индикаторы, описывающие состояние и развитие сложной системы, выбираются целенаправленно. Это значит, что бесполезно искать индикаторы, если в явном виде не сформулированы цели научной политики, исходя из которых будут приниматься решения. Разработка индикаторов и сбор информации (измерение тех параметров системы, которые служат индикаторами) — дорогой процесс. Реально эту работу ведут только в том случае, если известна доктрина научной политики государства.
Признаком того, что органу управления действительно понадобились индикаторы, служит возможность поставить мысленный эксперимент по принятию решения в зависимости от того или иного значения индикатора. Если индикатор А равен 100, то какое решение будет принято?
Если же не поставлена цель и нет доктрины, нет «алгоритма принятия решений», то реально индикаторы не нужны. Если больного не собираются лечить, то ему не будут делать дорогих анализов. Другое дело, что индикаторы нередко служат для имитации управления и принятия решений. Больного лечить не собираются, но врачи суетятся, назначают ему процедуры и анализы. Для таких целей существующие индикаторы служат вполне удовлетворительно, к ним можно еще множество других набрать из методик ОЭСР, ННФ США и т. д.
С 1992 г. и по настоящее время хорошая система индикаторов науки ни Министерству образования и науки, ни правительству в целом не требовалась. Доктрина была совершенно четкой — провести разгосударствление науки, приватизацию системы промышленных НИОКР, стимулировать иностранные инвестиции с переносом в Россию западных технологий, оставив на государственном финансировании небольшое число престижных научных центров. Объективных и даже декларативных признаков крупных изменений доктрины нет и по сей день, поэтому нельзя определить, какого рода решения органы управления стали бы принимать с помощью новых индикаторов.
Помимо доктрины как комплекса стратегических установок в отношении науки для разработки индикаторов требуется знать критерии принятия выбора альтернатив. Выработка критериев — вопрос политики, а определение политической линии должно предварять выработку инструментов. До настоящего времени связной системы критериев для оценки желательности или нежелательности тех или иных процессов в науке установлено не было.
При выборе индикаторов нужна определенность в общих вопросах, так как нынешний период состояния науки России следует считать аномальным (слово «переходный» просто маскирует чрезвычайность этого периода). В это время традиционные индикаторы стабильных систем не действуют, а иногда просто теряют смысл.
Один из исходных, элементарных параметров науки — «число исследователей» — потерял большую часть смыслов, которые ему придавались. Что такое сегодня «исследователь»? Что он делает, какова его «продукция»? Кто ее ожидает и использует? Почему исследователи остались на своих местах, а не перешли на более выгодные социальные позиции? Соединены ли нынешние исследователи в дееспособные целостные системы (школы, лаборатории, направления) или образуют конгломерат людей, переживающих в своих НИИ трудные времена? Происходит ли воспроизводство исследователей или это реликтовая категория, с постепенным исчезновением которой возникает новый социальный и культурный тип с иными характеристиками?
Без того чтобы ответить на эти вопросы и уложить ответы в рамки доктрины научной политики, параметр «число исследователей» индикатором российской науки не является. Он, на деле, может даже мешать управлению, создавая ложное представление о состоянии системы. Например, в России 400 тыс. научных работников, а в США — 700 тыс. О чем это говорит?
Аномалия нынешнего состояния с точки зрения существования науки заключается в том, что разорвана связь между общественными потребностями в новом отечественном научном знании и финансовыми возможностями тех общественных структур, которые в этом знании нуждаются. Потребность в научном знании в условиях острого кризиса всегда резко возрастает (например, подготовка к войне и война). В РФ же произошло обратное — государство резко сократило финансирование и даже провело разгосударствление большей части научного потенциала, при том, что платежеспособного спроса на знание со стороны частного капитала нет и не предвидится. И правительство никогда не делало попытки объяснить обществу это решение.
С точки зрения перечисленных в разделе 2 функций отечественной науки имеющаяся сегодня в наличии система является недостаточной как по масштабам, так и по структуре. Тенденции изменения этой системы при продолжении происходящих в ней процессов являются в целом неблагоприятными.
Как показал опыт, через самоорганизацию научных коллективов в кризисном состоянии не происходит их гармонизация с изменившейся структурой социальных проблем. Острый дефицит ресурсов ориентирует исследователей продолжать работу в старом направлении, поскольку для этого уже имеется минимум средств и запас знания, создан задел в виде сырых результатов.
Надежным индикатором состояния науки в рамках нынешней доктрины научной политики служит зарплата научных работников. Если доктор наук, т. е. специалист высшей квалификации в своей сфере, имеет зарплату в 5 раз меньшую, чем рядовой конторский служащий в банковской сфере, то это жестко определяет состояние системы.125 Это состояние уникально и должно изучаться как совершенно новый объект — он не имеет прецедента в мировой истории. Это состояние не имеет аналогий на в советской науке, ни в западной, ни в науке стран третьего мира. «Больного лечить не собираются», — вот какой вывод делают из этого индикатора и доктор наук, и аспирант, и даже школьник. Остатки науки существуют только в результате инерции большой системы советской науки на «энергии выбега». И даже рост зарплаты оставшимся ученым после 2005 г. не меняет ситуации без перехода к принципиально иной доктрине реформирования науки.
Выполнение чрезвычайных функций науки в условиях кризиса (переходного периода) резко затруднено отсутствием целеполагания со стороны государственной власти. Произошел разрыв между властью и наукой как двумя ключевыми элементами российского государства. Это фундаментальный фактор кризиса науки.
Подробный анализ состояния научной системы и альтернатив ее реформирования выходит за рамки этого доклада. Здесь скажем лишь очень кратко о тех установках Министерства образования и науки, которые представляются методологически ошибочными.
Те стороны бытия России, о которых было сказано в разделе 2, отечественная наука обеспечивает знанием в любые периоды: и стабильные, и переходные. В настоящее время Россия переживает период нестабильности, кризиса и переходных процессов. В это время на науку возлагаются совершенно особые задачи, которые в очень малой степени могут быть решены за счет зарубежной науки, а чаще всего не могут быть решены никем, кроме как отечественными учеными. Например, в условиях кризиса и в социальной, и в технической сферах возникают напряженности, аварии и катастрофы. Обнаружить ранние симптомы рисков и опасностей, изучить причины и найти лучшие методы их предотвращения может лишь та наука, которая участвовала в формировании этих техно- и социальной сфер и «вела» их на стабильном этапе.
В условиях острого кризиса возникает необходимость в том, чтобы значительная доля отечественной науки перешла к совершенно иным, чем обычно, критериям принятия решений и организации: стала деятельностью не ради процветания, а ради «сокращения ущерба», даже условием выживания стpаны, общества, государства. Это требует иного типа научной политики — включая ее институты, язык, критерии, обязывает выявить и изложить ту новую систему рисков и опасностей, которая сложилась в России.
Такой подход задает и особое направление в оценке эффективности науки. Оценки по необходимости должны носить сценарный характер и отвечать на вопрос: «Что было бы, если бы мы не имели знания о данной системе или процессе?». Заменять такие оценки подсчетом выгод от создания и внедрения той или иной технологии (которую к тому же в нынешних условиях зачастую бывает выгоднее импортировать) — это уводить внимание от главного.
Трудность перехода к иным критериям заключается в том, что полезность исследований, направленных на предотвращение ущерба, не только не определяется, но даже и не осознается именно тогда, когда данная функция выполняется наукой эффективно. Пока нет пожара, содержание пожарной команды многие склонны были бы рассматривать как ненужную роскошь, если бы не коллективная память. Наука, которая имеет дело с изменяющейся структурой рисков и опасностей, опереться на такую коллективную память не может.
Казалось бы, после травмирующего опыта 1990-х гг. эту ценность науки можно было бы понять. Но этого не произошло, критерии не изменились. В августе 2008 г. был представлен подготовленный Министерством образования и науки РФ проект постановления правительства «О проведении оценки результативности научных организаций государственного сектора». В качестве главной цели создаваемой системы оценки провозглашено «увеличение вклада науки в рост экономики и общественного благосостояния». Позиция министерства не удивляет. Это ведомство, похоже, необратимо погрузилось в структуры «мышления в духе страны Тлён».126 Однако и ученые опасаются изъясняться определенно.
Так, в заключении ЦЭМИ РАН по поводу этого проекта постановления сказано: «Авторы проекта постарались упомянуть как можно большее количество основных понятий и факторов, связанных с решением поставленной задачи, но не сумели связать их в единую картину. В результате документ оказался нерабочим».
Это заключение неверно. Авторы проекта именно связали основные понятия и факторы «в единую картину». Эта картина изображает не науку, а урода, почти антипода науки. Таково представление о науке у Министерства образования и науки РФ. Это представление целостное, и выработанный на его основе документ именно рабочий. Несчастье в том, что ученые из РАН, стремясь замаскировать принципиальный конфликт, утрачивают возможность объясниться с обществом и властью по сути противоречия. А значит, вынуждены шаг за шагом отступать перед давлением министерства.
Здесь необходимо сделать замечание общего характера. Наука — не отрасль, а особый «срез» всего бытия России. Ее устройство и судьба не могут быть предметом ведения какого-то одного министерства, даже если оно называется Министерство образования и науки. Эта бюрократическая структура не компетентна управлять российской наукой, и эти полномочия ей не могут быть делегированы. Министерство образования и науки выполняет вспомогательные функции, а управление наукой — предмет «Общественного договора», и выполнять его может только верховная власть. Так было в Российской империи, в СССР, Великобритании или США.
7. Приоритеты научной политики в условиях перехода от сырьевого к инновационному типу экономики: общие соображения
Поскольку надежды на быстрое преодоление кризиса, привлечение крупных иностранных инвестиций и быструю интеграцию России в мировую экономику как равноправного партнера не сбылись, необходимо готовить все системы жизнеобеспечения страны к довольно затяжному и трудному переходному периоду. Таким образом, возникает необходимость пересмотра приоритетов научно-технической политики.
При кризисе надо менять приоритеты и даже тип работы научных учреждений. С 1930-х до конца 1980-х гг. у нас была общественная система с высокой стабильностью и предсказуемостью. Соответственно, сложились критерии приоритетов и способ составления программ в науке. Теперь Россия живет в череде сломов и быстрых изменений всех систем жизнеустройства. От науки требуются срочные ответы на множество неожиданных новых вопросов. Знанием для выбора хороших решений на интуитивном уровне мы не располагаем из-за новизны проблем.
Различают два взгляда на мир: есть наука бытия — видение мира, при котором внимание собрано на стабильных процессах и отношениях, и есть наука становления — видение мира, когда главным объектом становятся нестабильность, кризис старого и зарождение нового. Оба типа необходимы и дополняют друг друга. Однако в настоящее время мы переживаем этап, когда должны быстро создаваться и действовать лаборатории и даже центры в духе науки становления. Но инерция науки такова, что сами ученые самопроизвольно переключаться на иной тип критериев (и даже иной тип мышления — осваивать философию нестабильности) не могут. Побуждать их должна сознательная научная политика государства. Здесь есть нерастраченный потенциал: от советской науки мы унаследовали передовые школы в области «науки становления», наши ученые внесли огромный вклад в развитие математических и физических теорий перехода «порядок-хаос», учения о катастрофах и критических явлений.
Главная задача научной политики сегодня — обеспечить возможность восстановления науки после выхода из кризиса, а вовсе не ее способность «создавать технологии». Надо гарантировать сохранение «культурного генотипа» науки России, иначе мы, вероятно, не сможем возродить ее ни при каких условиях. С другой стороны, как раз в период кризиса возрастает необходимость в новом научном знании, добытом именно отечественными учеными и именно в критических для России областях. Противоречие в том, что эти задачи решаются по-разному и обе требуют средств.
Сохранение «генофонда» — задача консервации. Это сокращение продуктивной деятельности, подобное анабиозу. Подлежат сохранению не обязательно наиболее дееспособные сегодня структуры, а те, которые легче переносят экстремальные трудности, сохраняя при этом свой культурный тип. Напротив, активно производить знания лучше могут лаборатории менее живучие, но способные срочно мобилизовать весь свой ресурс, «выложиться», как в спринте.
В реформе был взят курс на «сохранение и развитие наиболее продуктивной части российской науки». Такая установка предполагала, что Россия, перейдя к селективной стратегии развития, ликвидирует «ненужные» лаборатории и усилит те научно-технические направления, в которых отечественные организации могут достичь мировых стандартов и создать конкурентоспособный на мировом рынке инновационный продукт. За счет доходов от продажи отечественных технологий и наукоемких товаров можно будет импортировать те технологии и товары, которые ранее производились на базе отечественных технологий.
Видимо, обеспечить такой тип интеграции в среднесрочной перспективе не удастся, и, таким образом, Россия как в восстановительной программе, так и в развитии должна будет опираться в основном на модернизированные отечественные технологии, за исключением небольшого числа «прорывных» отраслей (а может быть, и без них). Следовательно, отбор научно-технических направлений и, соответственно, организаций, которым будут обеспечены условия для развития, должен теперь делаться не по критерию продуктивности или конкурентоспособности, а по критерию необходимости создаваемой ими технологии для решения критических задач экономики и государства России.
Поскольку речь идет об использовании технологий и продуктов внутри России, критерий конкурентоспособности на мировом рынке следует снять. В настоящее время имеет смысл экспортировать сложную продукцию только в том случае, если достигается большая экономия на масштабе (как, например, в случае оружия). Научная система России в состоянии создать некоторое число эффективных технологий с высокими главными функциональными качествами, но она неспособна предложить на мировой рынок такие технологии со всем набором качеств и быть конкурентоспособной. Надо расширять возможности международной кооперации в доведении российских разработок до конкурентоспособного на мировом рынке уровня, но пока они невелики.
Главный критерий оценки состояния науки в настоящее время — возможность ее воспроизводства (восстановления) после выхода из кризиса, а вовсе не ее возможность «создавать конкурентоспособные технологии» уже сегодня. Разумеется, главный критерий не единственный, приходится искать компромисс между многими критериями, в том числе противоречивыми. Однако главный критерий надо все время иметь в виду, почти как ограничение sine qua non.
Поскольку в условиях кризиса развить широкий спектр научно-технических направлений до дееспособного состояния невозможно, на новом этапе реформы одновременно будут осуществляться две принципиально разные и конкурирующие за ресурсы программы (иногда некоторые блоки их будут совпадать, и таким «двоедышащим» программам при прочих равных условиях должен отдаваться приоритет):
— программа консервации большинства направлений и организаций, чтобы они смогли при низком уровне обеспечения ресурсами пережить кризис, чтобы затем быть «оживлены» и быстро доведены до дееспособного состояния по мере накопления средств;
— программа активизации небольшого числа направлений и организаций, способных в ближайшее время создать целостные инновационные циклы с высоким экономическим или социальным эффектом.
Первая программа стихийно выполнялась и на предыдущих этапах реформы, однако ее эффективность может быть существенно повышена благодаря сознательной политике государства. Целостность сохраненных крупных организаций сама по себе является большой ценностью, и их поддержку надо продолжать. Однако в массе «непродуктивных» организаций рассеяны лаборатории, представляющие направления, необходимые для будущего оживления науки. Спасти их программой поддержки небольшого числа «продуктивных» организаций невозможно.
К разработке образа «сохраняемой» науки надо идти «снизу»: от цели, функций и средств, а не от существующей системы. Все научные учреждения и направления дороги, но в нынешнем виде сохранить их все невозможно. Получаемых наукой ресурсов для этого недостаточно, а резкого увеличения ожидать не приходится. Необходима структурная перестройка, в которой должна быть создана «спасательная шлюпка» (ковчег), на которой кризис переживут «зародыши» всех ключевых направлений, покрывающих фронт современной науки.
Селекция научных направлений — тяжелая операция. Наука действует как единый организм. Для любой крупной научно-технической программы (типа космической) требуется поддержка практически всего научного фронта. Любая активная политика с селективным распределением ресурсов неминуемо содержит большую долю волюнтаризма, но он в этих условиях — меньшее зло, нежели бездействие. Кроме того, эта программа должна быть дополнена мерами по сохранению культурной среды для воспроизводства науки в следующем поколении, помимо поддержки активных ученых грантами и пр.
Функциональная задача научных ячеек, которым «приказано выжить», не экспансия в своей научной области, не достижение выдающихся результатов за счет мощной коллективной работы. Задача — обеспечить присутствие малой группы российских ученых в мировом сообществе, разрабатывающем данную научную область. Они должны быть включены в систему коммуникаций этой области, знать, что в ней делается, как эта область взаимодействует с остальной наукой, какую систему средств познания (факты, теории, методы) использует и какие новые идеи и концепции порождает. Чтобы добиться этого, группа (в пределе — один исследователь) должна работать на хорошем уровне и «быть вхожа» в передовые лаборатории мира. Это будет вырожденная система, которая сможет сохранить жизнеспособность, только если наладит рабочие контакты с зарубежными коллегами «у лабораторного стола», а не в зале конференций.
Ясно, что обе необходимые и одновременно конкурирующие программы требуют проектирования и строительства новых социальных форм и организации научной, научно-технической и информационной деятельности. Для этого советский и мировой опыт дает достаточно методологического материала. По большей части научный центр, составленный из таких ячеек, будет лишь «крышей» для малых коллективов, подчиняющихся научному авторитету зарубежных ученых советов скорее, чем своему собственному. Здесь желательно присутствие переменного контингента зарубежных ученых (пусть невысокого ранга), помогающих включенности наших малых групп в мировую науку. Часть такого центра может быть «исследовательским парком», сдающим помещения и услуги в аренду малым коллективам, существующим на гранты и субсидии «выживания». В этой системе не будет ни возможности, ни необходимости расчленять целостные приборные системы и раздавать скудные запасы приборов и материалов по институтам.127
Это же можно сказать и о создании системы наукоемких малых предприятий. Такого очень важного структурного элемента не было в советской науке. Наиболее пригодным типом организации для таких предприятий являются частные фирмы, однако роль государства в их деятельности не просто велика — она целиком определяет успех. Именно действующие на базе государственных НИИ «инкубаторы» малых наукоемких фирм должны генерировать сеть этих предприятий, обучать предпринимателей и выполнять некоторые важные для них функции, которые сами они выполнять не могут. С этим опытом можно ознакомиться и на Западе, и на Востоке.
Вторая программа — активизация ряда избранных научных направлений и проведения на их базе целостных целевых инновационных проектов с циклом «исследования-разработка-производство». Это должны быть проекты, способные быстро дать большой экономический и социальный эффект. Организация «потока идей» для таких проектов, создание адекватных критериев их оценки и процедуры отбора проектов — отдельная задача.
Главный смысл этой программы заключается в том, что компактные вложения ресурсов позволят привлечь рассеянные и «дремлющие» ресурсы. Государственные средства здесь будут лишь системообразующим фактором, без успешных проектов уже невозможна мобилизация разгосударствленных средств в целях развития и даже сохранения науки. Нанесенные реформой и кризисом удары по науке как социальной системе привели к «омертвлению» значительной части научного потенциала страны, в том числе кадрового состава. Люди продолжают пребывать в науке, но в летаргическом состоянии. При активной политике эти «дремлющие мощности» могут быть использованы.
Новая индустриализация будет, видимо, частично опираться на оживление производства базовых продуктов с использованием существующих или почти готовых технологий (прежде всего в АПК как критическом факторе стабилизации и накопления средств, имеющим доступ к огромным бесплатным ресурсам земли и солнечной энергии). Основная масса технологий на среднесрочную перспективу должна заимствоваться и дорабатываться применительно к условиям России и быть предназначена не для получения новых «прорывных» продуктов, а для снижения издержек в массовом производстве средств жизнеобеспечения. Как только начнет восстанавливаться хозяйство, Россия столкнется с дефицитом энергоресурсов.
На этом этапе повышение наукоемкости продукции не может служить приоритетом. Напротив, в среднесрочной перспективе она будет снижаться именно из-за расширения традиционного производства. Главными критериями определения приоритетов при выборе инновационных программ должны быть в этой перспективе внутренние критерии: степень готовности продукта НИОКР и критичность решаемой с его помощью задачи, а не внешние критерии типа конкурентоспособности или соответствия мировому уровню.
Из общих соображений следует, что в ближайшие годы высокий приоритет должен быть отдан также технологиям, направленным на предотвращение ущерба. Это прежде всего информационные (диагностические) технологии, позволяющие контролировать состояние объектов в условиях нестабильности, и технологии лечения поврежденных объектов, включая людей.
В условиях кризиса приоритет не так важны программы улучшения стабильной системы, как программы предотвращения отказов в нестабильных системах.
Восстановление экономики России, вероятно, будет идти через создание единой системы крупных предприятий с высокой технологией и сети малых предприятий с технологией также современной, но миниатюризированной. Обеспечение будущих малых предприятий такой технологией — большая программа, требующая новых и необычных для нас действий научно-технической системы. Программа создания малых предприятий затронет и саму сферу науки: многие организации, выводимые из категории исследовательских, могут быть успешно превращены в малые предприятия для наукоемких производств. Так они перейдут на самоокупаемость, оставаясь частью научно-технического потенциала.
Возможно, в условиях глобальной турбулентности Россия получит источники дополнительных ресурсов, и решение этих задач будет менее болезненным и более «креативным». Но все равно эти задачи решать придется. Хотя возможен и вариант, при котором возобладает идея окончательного разгосударствления.
8. Заключение
Разработка новой доктрины реформирования науки наталкивается на необходимость подвести итог реформам в целом и сформулировать принципы научной политики государства на предстоящий период. Это — сложные комплексные задачи фундаментального характера, от решения которых не уйти.
В заключение к сказанному можно сделать следующие замечания.
• Выбор доктрины уже после 2000 г. настоятельно требовал диалога власти с научным сообществом. Варианты проведения реформы в науке во всей их сложности и противоречивости следовало открыто предъявить научному сообществу как ответственной и рациональной аудитории. Надежды на то, что реформу можно успешно провести без согласия и даже без диалога с учеными, несбыточны. Такого диалога не состоялось до настоящего времени.
Для него не было ни площадки, ни формата, ни реальной повестки дня, ни наделенных полномочиями и авторитетом «делегаций» с обеих сторон. Дело ограничивалось протокольными встречами, короткими репликами и подготовленными анонимно решениями правительства, которые не только не выносились на обсуждение, но и не предполагали вопросов.
Отказ от диалога в 1990-е гг. пpивел к тому, что научная политика правительства воспринималась научным сообществом как напpавленная на демонтаж национальной системы науки с оpиентацией на импоpт технологий. Это создало разрыв между научной средой и органами управления наукой, а также вызвало дезориентацию значительной части ученых, особенно молодых.
• Уклоняться от дальнейшей реформы, пытаясь «сохранить» остатки советской системы, и нежелательно, и невозможно. Главная причина даже не в нехватке финансовых средств для содержания старой системы. Она не соответствует ни характеру реально вставших перед наукой новых задач, ни типу складывающегося в ходе реформы общества и государства.
Положение научной системы является критическим, самопроизвольных тенденций к его улучшению не возникает. Инеpция угасания и pаспада велика, самоорганизации осколков прежней системы в способные к выживанию и развитию структуры не пpоисходит. Таким образом, научная политика государства должна стать активной.
• Доктрина первого этапа реформы в науке была задана общими целями переустройства России. Лес рубят — щепки летят, и наука была одной из щепок. Поэтому теоретическое обоснование той доктрины никого не волновало и смысла не имело. Переходить к новому этапу, если всерьез ставится цель спасения науки и вывода ее из кризиса, невозможно без пересмотра исходных фундаментальных положений прежней доктрины и оснований нового курса.
В последние годы по ряду показателей наметилось улучшение состояния экономики России. Но эти показатели отражают подвижные, даже во многом внешние процессы. В отношении же глубинных и наиболее инерционных процессов можно утверждать, что страна по инерции будет еще в течение значительного времени находиться на траектории регресса и сокращения возможностей. На этой траектории вся научно-техническая политика должна быть кардинально отлична от той, которая уместна на ветви развития и роста.
• Процесс регресса и демонтажа большой научной системы (СССР) не имеет исторических прецедентов и является неизученным (как и многие другие процессы в ходе деиндустриализации России). Научные коллективы, которые могли бы «сопровождать» реформу, изучая порожденные ею в науке процессы, после 1991 г. распались, были ликвидированы или ушли в тень. В настоящее время деидеологизированное изучение того, что произошло с наукой России, — необходимая работа, имеющая общее значение. Был проведен огромный, небывалый в истории эксперимент, он на время приоткрыл важнейшие пласты знания о науке и ее месте в обществе. Нельзя допустить, чтобы это знание было потеряно — оно представляет большую ценность для мировой науки, а для России чрезвычайную практическую ценность.
• Сокращение и «сжатие» оставшейся от СССР и еще сохранившейся массы научных ресурсов, их преобразование в материал для новой научной системы требуют осуществить структурно-функциональный анализ науки применительно к условиям России на предстоящий период, а также основательное проектирование. Необходимо не реформирование, а именно строительство научной системы с иной структурой и иной динамикой. Кризис трансформации, который переживает Россия, породил много болезненных проблем, но в то же время он предоставил благоприятный момент для такого строительства, пока не укрепились застойные «структуры выживания», возникшие за 20 лет.
Апрель 2013 г.
Доклад подготовлен С.Г. Кара-Мурзой
ДЕГРАДАЦИЯ ФУНКЦИИ СОХРАНЕНИЯ: ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД КАК ПРИМЕР БОЛЬШОЙ ТЕХНИКО-СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Социологи изучают культурную травму, которая была нанесена всему населению при быстром и радикальном изменении всех сторон жизнеустройства в 1990-е гг. Размышления о ней выводят нас на более глубокий уровень — мировоззренческий. Здесь создаются, воспроизводятся, обновляются или сносятся более массивные и долгосрочные конструкции, включающие в себя ресурсы всех духовных сфер человека. Здесь разум спаян с совестью, религиозным чувством, ощущением времени и пространства, любовью и памятью, мечтами о будущем. В общем, это огромное духовное производство, продукт которого по множеству каналов постоянно подается во все «клеточки» народа, общества и государства и обеспечивает их жизнь и здоровье.
В этом сложном производстве происходят поломки и аварии — по халатности или незнанию, по злому умыслу. Тогда в стране случается беда — мировоззренческий срыв, смута, кризис… Если поправить дело быстро не удается, возникает много неожиданных и часто непонятных угроз. Скажем здесь об одной из них. Она важна, но ее мало кто замечает.
Жизнь семьи, общества, страны обеспечивается деятельностью очень разных типов. Выделяются и неразрывно связаны два разных вида деятельности — создание и сохранение. Усилия того и другого рода по-разному осмысливаются и организуются. В нашем обществе за годы перестройки и реформы каким-то образом из сознания была изъята категория сохранения. Много и конкретно говорилось о разрушении, туманно — о созидании. И ничего — о сохранении.
Этот провал следует считать тяжелым поражением мировоззрения. Вызревало оно постепенно, но реформа 1990-х гг. его закрепила и усугубила, дала импульс. Это общее состояние, потому-то его не замечают. И касается оно, в общем, всех классов объектов, которые общество создавало и создает, а ныне действующее поколение обязано сохранять.
Нагляднее всего это проявляется в экономике (шире — хозяйстве). Здесь обе функции хорошо различаются. Их расхождение таково, что можно говорить об аномальном состоянии государства и общества в их отношении практически ко всем угрозам бытию. Утрачены механизмы и нормы, которые побуждали людей вкладывать средства и усилия в содержание и сохранение того искусственного мира культуры, в котором живет человек и без которого он существовать не может.
Глянем вокруг, наугад. Вот, крупный рогатый скот (КРС) — важная часть основных фондов сельского хозяйства, огромное национальное достояние. Тяжелым трудом, через трудности коллективизации, войны и восстановления удалось с 1950 г. до 1985 г. удвоить поголовье КРС.
После 1986 г. мы наблюдаем безостановочное и быстрое сокращение поголовья — в том же темпе, как за первые 4 года коллективизации, с той лишь разницей, что нет спасительного изменения и признаков роста. Резкое падение замедлилось лишь в 2005 г. Поголовье скота сократилось за годы реформы в три раза — причем без войны и стихийных бедствий. Сегодня мы имеем поголовье крупного рогатого скота существенно меньше, чем в 1916 г. и даже в 1923 г. — после 9 лет тяжелейших войн (рис. 1).
Рис. 1. Поголовье крупного рогатого скота в России, млн голов
Надо подчеркнуть, что сегодня в РФ меньше скота, чем было в советской России в 1923 г., а население (значит и число потребителей продуктов животноводства) с тех пор увеличилось в полтора раза. В расчете на душу населения тот удар, который реформа нанесла по животноводству, гораздо тяжелее, чем это можно судить по уровню поголовья скота. В 1970-х гг. РСФСР вышла на стабильный уровень — свыше 40 голов на 100 душ населения, а к 2012 г. этот показатель упал до 14 голов на 100 чел.
Отдельно следует выделить число коров. В 1996-1997 гг. Россия перешла рубеж, какого даже в войну не переходила: у нас стало менее одной коровы на 10 человек. В 1990 г. в РСФСР было 1,38 коровы на 10 человек, в 2000 г. осталось уже 0,87 коровы на 10 душ населения, а в 2011-2012 гг. — 0,62 коровы на 10 душ населения.
Меры, которые предлагались в «национальном проекте», по своей силе были несоизмеримы с факторами, подрывающими животноводство. Только за 2004 г. число голов крупного рогатого скота убавилось на 1,95 млн голов, а посредством лизинга в «национальном проекте» было получено за два года 105 тыс. голов молодняка племенного крупного рогатого скота.
Доля племенного скота в общем поголовье крупного рогатого скота России в 2006 г. составила 6,1%. Это понятно: в условиях реформы прежде всего был ликвидирован чистопородный скот, держать который на подворье сложнее и дороже, чем неприхотливых низкопродуктивных коров.
В 1985 г. в колхозах, совхозах и других производственных сельскохозяйственных предприятиях 99,8% КРС были породными и 49% — чистопородными.
Реформа создала условия, не позволяющие содержать много скота — колхозы и совхозы ликвидировали его поголовье, на подворье держать трудоемко, у фермеров животноводство убыточно… Молоко импортируем, мясо — тоже, они дороги; луга пропадают, потребление снизилось. Казалось бы, общество и государство должны были бы встревожиться — надо же разобраться в причинах неуклонного сокращения стада КРС! Но это практически никого не интересует. Говорят о дотациях селу, о качестве йогурта, но никто не спросит: как же так, почему Россия не стала сохранять стадо своего скота? Каких усилий потребует его восстановление? — Об этом гласно вообще никто вопроса не поднимал.
Особенно поражает согласие российской интеллигенции на демонтаж отечественной промышленности. Последствия приватизации промышленности, даже если бы она проводилась в соответствии с законом, а не по указу, были довольно точно предсказаны. Следовало ожидать утраты очень большой части промышленного потенциала России (рис. 2).
Рис. 2. Индекс объема производства промышленной продукции в России (в сопоставимых ценах, 1980 г. = 100)
Заданная при этом срыве антирациональная структура мышления сохранилась, она воспроизводится как тяжелая болезнь. Ведь пропагандистами беспрецедентной в истории программы деиндустриализации России были видные деятели науки, академики. Академик РАН Н.П. Шмелев в одной из своих статей в 1995 г. ставил такие задачи: «Наиболее важная экономическая проблема России — необходимость избавления от значительной части промышленного потенциала, которая, как оказалось, либо вообще не нужна стране, либо нежизнеспособна в нормальных, то есть конкурентных, условиях. Большинство экспертов сходятся во мнении, что речь идет о необходимости закрытия или радикальной модернизации от 1/3 до 2/3 промышленных мощностей».128
На что же был готов пойти Н.П. Шмелев ради идеологического фантома «конкурентность»? На ликвидацию до 2/3 всей промышленной системы страны! Ситуация в интеллектуальном плане аномальная: заявления по важнейшему для общества и государства вопросу не вызывают никакой реакции даже в научном сообществе.
Точно так же антиколхозная кампания не опиралась на убедительные рациональные аргументы и не давала никаких оснований ожидать создания новых, более эффективных производственных структур. Однако к ликвидации колхозов и совхозов общество отнеслось с полным равнодушием, хотя было очевидно, что речь идет о разрушении огромной системы, создать которую стоило чрезвычайных усилий и даже жертв (рис. 3).
Не менее очевидно было и то, что разрушение крупных механизированных предприятий, которые были центрами жизнеустройства деревни, будет означать колоссальный регресс и даже архаизацию жизни 38 млн сельских жителей России. И этот регресс до сих пор невозможно остановить и даже затормозить.
Рис. 3. Индексы физического объема продукции сельского хозяйства России (в сопоставимых ценах, 1980 г. = 100)
На другом краю спектра — точно такое же отношение к отечественной науке. Достаточно было запустить в СМИ поток совершенно бездоказательных утверждений о «неэффективности» науки, и общество бросило ее на произвол судьбы, равнодушно наблюдая за ее уничтожением. Никаких рациональных оснований для такой позиции не было, просто в массовом сознании отсутствовали инструменты, чтобы увидеть сложную структуру социальных функций отечественной науки, тем более в условиях кризиса. Вместо науки в картине реальности образовалось «голое место», и вопрос о ее ценности просто не имел смысла. Надо признать, что и сама научная интеллигенция в своем понимании происходящего недалеко ушла от массового сознания.
Взглянем на реку. В Послании В.В. Путина 2007 г. говорится о необходимости развития речных перевозок. Но эта отрасль совсем недавно была очень развита — имелся большой речной флот, были предприятия по его содержанию и ремонту, обустроенные в масштабах всей страны пристани и фарватеры, квалифицированные кадры. Существовала профессиональная культура. В 1990-е гг. были созданы условия (экономические, социальные, культурные), несовместимые с существованием отрасли, — и флот оказался распроданным, кадры разбрелись. Перевозки грузов внутренним водным транспортом сократились в 6 раз, с перевозкой пассажиров дело еще хуже (рис. 4). Какой же смысл вкладывать деньги в повторное развитие отрасли, если причины краха не названы и не устранены?
Рис. 4. Перевозки грузов внутренним водным транспортом в РСФСР и РФ, млн т
Это — лишь несколько примеров из разных сфер. Как же объяснить тот странный факт, что причины деградации целых отраслей хозяйства не выявляются, не устраняются и даже не становятся предметом обсуждения? Более того, говорилось, что кризис позади и Россия вступила в период быстрого развития. Само это утверждение люди должны были бы посчитать поразительным, если бы общество видело динамику деградации больших систем. Но эти заявления о быстром росте удивления не вызывают, поскольку в общественном сознании производство и содержание этих систем разведены как независимые стороны хозяйства.
Но их нельзя разводить, это искажает сам смысл главного понятия, которым мы теперь мыслим, — валового внутреннего продукта. Ведь если из-за отсутствия надлежащего ухода и ремонта происходит аномальный износ или разрушение основных фондов, это следует считать «производством валового внутреннего ущерба» («антипродукта»). Эту величину следовало бы вычитать из ВВП. Попробуйте пересчитать ВВП России с учетом ненормативной деградации национального достояния!
Провал в сознании, о котором идет речь, корнями уходит в тенденцию к «натурализации» культуры. Мы часто слышим, что рыночная экономика — «естественный» порядок, что частное предприятие — явление «естественное». А все советское — «искусственное». Это важные тезисы. Если частное предприятие — объект «естественный», т. е. «природный», то и нет необходимости в специальной деятельности по уходу за ним, поддержанию особых условий, ремонту и т. д. Природные создания сами адаптируются к окружающей среде.
После промышленной революции, во время которой господствовало представление, что все вокруг — машины разной степени сложности, натурализация культуры мало-помалу вытесняла из сознания заботу о сохранении творений цивилизации. Это — общая проблема всей индустриальной цивилизации. Строительная лихорадка ХХ в. маскировала процессы старения и износа сооружений.
Положение резко изменилось с началом «неолиберальной волны». В 1970 г. в США строительство инфраструктуры стало отставать от износа. Сейчас затраты на необходимый срочный ремонт оцениваются в астрономические суммы. Американское общество инженеров гражданского строительства опубликовало в 2006 г. отчет, согласно которому до 2010 г. на ремонт требовалось истратить 1,6 трлн долл. Речь шла о срочном ремонте 15 главных категорий сооружений (дороги, мосты, водоснабжение, энергетические сети и пр.).
Это Американское общество инженеров стало периодически публиковать доклад о состоянии инфраструктуры США и давать оценку затрат на проведение неотложных работ по ремонту. В 2013 г. на сайте Общества вывешен плакат-предупреждение: «Estimated Investment Needed by 2020: $3.6 Trillion» — необходимые затраты до 2020 г. составляют 3,6 трлн долл.129
Задержка с ремонтом уже создает большие риски и опасность крупных отказов, ведет к большим издержкам. Надо подчеркнуть, что 85% объектов инфраструктуры, о которых идет речь, находятся в частном владении. Значит, само по себе «чувство хозяина» недостаточно, чтобы заставить владельцев рачительно ухаживать за сооружениями.
В советское время это слабое чувство хозяина было заменено планом. Раз советские сооружения «искусственны», значит им требуется техническое обслуживание, которое предписано нормативами и средства на которое закладываются в план — вплоть до списания объекта. А жесткая дисциплина запрещает «нецелевое использование средств», предназначенных для планового ремонта. Эти нормы и дисциплина были моментально отменены после приватизации. Рынок как будто отключил здравый смысл, чувство опасности и дар предвидения.
Это выражается в резком сокращении инвестиций во все основные фонды России.130 Но одновременно резко возрос уровень потребления — в основном у благополучной половины населения (рис. 5). Происходило «проедание» ресурсов восстановления и развития.
Рис. 5. Индексы капиталовложений (инвестиций) в основные фонды (1) и физического объема оборота розничной торговли (2) в РСФСР и РФ, 1950 г. = 1
Перед нами — большая комплексная проблема. Утрата важных блоков общественного сознания была подкреплена ликвидацией административных механизмов, которые заставляли эти блоки действовать. Эти механизмы в советское время были уже столь привычными, что сохранение и ремонт основных фондов (на что расходовалось около 70% инвестиций) выполнялись как бы сами собой, без усилий разума и памяти. Теперь нужно тренировать разум и память, необходимо заставить людей задуматься об ответственности за сохранение технических условий жизни общества.
Многие даже не задумываются о том, что сокращение инвестиций по сравнению с уровнем 1990 г. (его можно считать «изъятием капиталовложений из основных фондов») составило за 1991-2011 гг. сумму, равную 6,8 трлн долл. (по курсу января 2008 г.). Надо вдуматься в эту величину! Кто ее может возместить?
Сейчас нам всем нужна большая программа реабилитации, как после контузии. Нужно создавать хотя бы временные, «шунтирующие» механизмы, не позволяющие людям уклоняться от выполнения этой функции. Само собой это не произойдет, и основной груз по разработке и выполнению этой программы ложится на государство. Больше нет организованной силы для такого дела.
Теперь рассмотрим ту часть техносферы, прогрессирующий износ которой угрожает шкурным интересам подавляющего большинства населения России. Тема данного доклада — жилищно-коммунальное хозяйство России, конкретнее — жилищный фонд (о состоянии инженерных сетей инфраструктуры надо говорить особо).
Критическая проблема национальной повестки дня России: жилищный фонд
Старение жилищного фонда России, быстрый переход его в категорию ветхого и аварийного ставит под угрозу даже физическую безопасность многих жителей Российской Федерации. По данным Росстроя, на 2005 г. общий износ основных фондов в ЖКХ составил более 60%, а четверть основных фондов уже полностью отслужили свой срок. Но симптомом еще более фундаментальной угрозы служит реакция общества и власти на тот неумолимый процесс, каким является ветшание жилищного фонда.
Процесс идет непрестанно, причем с ускорением, и нет никаких надежд на то, что он вдруг сам собой остановится и повернет вспять. Но все смотрят на это равнодушно, не предпринимают действий, соизмеримых масштабу угрозы, и не пытаются составить разумное представление о ней. Никто даже не делает успокаивающих заявлений, пусть ложных. В них нет необходимости, ибо в обществе нет беспокойства.
В ходе реформы все внимание общества и государства было направлено лишь на строительство новых домов и их комфортность. А ведь нового жилья строится в год всего 1,5% от уже имеющегося, которое надо сохранять. Самой актуальной общенациональной проблемой стало сегодня не строительство нового жилья, а именно сохранение старого. Но об этом не говорят, и в ЖКХ происходит дряхление его основных фондов — зданий и инфраструктуры (водопроводов, теплосетей и т. д.). Это неумолимый фактор.
Будем говорить о многоквартирных каменных домах, в которых сейчас живет большинство населения России (в городах, поселках городского типа и части сельских поселений — бывших совхозах и колхозах). Многоквартирный жилищный фонд составляет 3,2 млн зданий общей площадью 2,237 млн м2. 53% составляют приватизированные и приобретенные квартиры. Потребность в комплексном капитальном ремонте испытывают 93-96% многоквартирных домов страны со сроком эксплуатации не менее 25 лет.
В среднем многоквартирный каменный дом начинает ветшать через 70 лет службы, но может прослужить и сто лет. Это — если он регулярно, через каждые 25-30 лет подвергается капитальному ремонту, т. е. ремонту и модернизации несущих конструкций, кровли, подвалов и инженерных сетей. Если ремонт не делать, дом начинает быстро ветшать.
Критической проблемой стало то, что с 1991 г. был практически прекращен капитальный ремонт жилищного фонда России; небольшое оживление началось лишь в 2008 г., но долго оно не продлилось. И жилищный фонд, созданный в основном за последние 70 лет, начал деградировать. В силу объективных «неумолимых» процессов на глазах всего общества ЖКХ идет к катастрофе, но этого почти никто не замечает.
Разберем, не торопясь, рис. 6, на котором представлены три графика: 1 — ввод в действие жилых домов; 2 — заложенный в план объем капитального ремонта домов, введенных начиная с 1965 г.; 3 — реальный объем капитального ремонта в 1990-2011 гг., млн м2. Надо еще учесть, что после 1980 г. ремонтировали еще и дома, построенные до 1965 г. Но и с учетом этой поправки очевидно, что объем проводимого после 1990 г. капитального ремонта совершенно неадекватен (даже несоизмерим) площади жилищного фонда, которому требовался такой ремонт.
Рис. 6. Необходимый и реальный объем капитального ремонта домов, введенных с 1965 г. по 1989 г., млн м2
Статистические данные, систематизированные в Институте экономики города, приводят к такому выводу: «Показатель [объема капитального ремонта] в 70-х и 80-х годах прошлого века составлял около 3% всего жилого фонда. В 90-х годах объемы капитального ремонта жилого фонда резко упали. Их рост начался после создания в 2007 г. Фонда ЖКХ, но даже в 2009 г. объем капитального ремонта квартир был в 3,2 раза ниже, чем в 1980 г., а доля от объема жилищного фонда упала до 0,16-0,17% в середине 90-х и выросла до 0,55% в 2009 г., оставаясь в 5,5 раз ниже уровня 1980 г. Если в 70-х и 80-х гг. прошлого века жилые здания в среднем капитально ремонтировались раз в 30 лет, то в 90-х и 2000-х — реже, чем раз в 100 лет».131
Уточним, что в Федеральном законе «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (Закон РФ от 23.12.1992 г. № 4199-1) установлено, что государство обязано провести капитальный ремонт в доме, если нормативные сроки эксплуатации здания истекли до момента приватизации. После введения в действие Жилищного кодекса РФ потребовалось уточнить, сохранялась ли за государством такая обязанность. На запрос депутата Государственной Думы РФ Г.П. Хованской был дан ответ Верховного суда РФ № 3217-2/общ от 10.08.2007 г.:
«Данный вопрос обсуждался на заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации 1 августа 2007 года и ответ на него утвержден и включен в Обзор судебной практики за 2 квартал 2007 года в следующей редакции. “Согласно ст. 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» приватизация занимаемых гражданами жилых помещений в домах, требующих капитального ремонта, осуществляется в соответствии с указанным Законом. При этом за бывшим наймодателем сохраняется обязанность производить капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда”».
Из данной нормы следует, что обязанность по производству капитального ремонта жилых помещений многоквартирного дома, возникшая у бывшего наймодателя (органа государственной власти или органа местного самоуправления) и не исполненная на момент приватизации гражданином занимаемого в этом доме жилого помещения, сохраняется до исполнения обязательств».132
В декабре 2012 г. Госдума приняла в третьем чтении закон «О создании системы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов», вносящий изменение в Жилищный кодекс и обязывающий собственников квартир осуществлять ежемесячные платежи для финансирования капитального ремонта. В течение одного года в регионах будут формироваться программы ремонта, а делать ежемесячные взносы собственники жилья начнут с середины 2014 г. Таким образом, забыт долг государства, накопленный за «отсроченный ремонт» жилищного фонда, составляющего около 2 млрд м2. Указывают также, что все накопительные системы в условиях инфляции к моменту ремонта обесценят деньги собственников квартир.
Пока что население не осознало смысла нового закона и ждет, когда он начнет действовать в полную силу — это линия поведения большинства граждан, которую мы наблюдаем 25 лет. Из Ростова-на-Дону пишут: «Ситуация зашла в тупик: многоквартирное жилье рушится, его хозяева не хотят проводить капитальный ремонт, считая что им его должно выполнить государство, и медленно, но верно становятся бомжами».
Но тема этого доклада — не права и обязанности граждан и власти, не этика законодателей и правительства. Перед нами более фундаментальное явление: и живущее в домах население, и организующее общественную жизнь государство четверть века безучастно наблюдали за разрушением огромного национального достояния, периодически маскируя реальность малопонятными «инициативами».
Вот факт, на который никто не обращал внимания. По данным Госкомстата (Росстата), в РФ на конец 2001 г. было 90 млн м2 аварийного и ветхого жилья или 3,1% всего жилфонда Российской Федерации. Запомним эту величину. После этого Госкомстат не публиковал данных об аварийном и ветхом жилье. Однако о динамике старения сообщалось в документах и заявлениях официальных лиц. Так, председатель Госстроя РФ Н. Кошман 8 апреля 2003 г. сообщил прессе, что в 2002 г. «в состояние ветхого и аварийного жилья перешло 22 миллиона квадратных метров».
9-11 февраля 2004 г. Госстрой России, Министерство жилищного строительства и городского развития США и Всемирный банк провели в Дубне международный семинар «Ипотечное жилищное кредитование». На семинаре выступали зам. премьер-министра РФ В. Яковлев, председатель Госстроя РФ Н. Кошман, зам. министра экономики А. Дворкович. Главный доклад сделал зам. председателя Госстроя В. Пономарев. Все это официальные лица очень высокого ранга. Но главное, в пресс-релизе семинара было сказано, что в России «ветхий и аварийный фонд ежегодно растет на 40%». Казалось бы, гром среди ясного неба!
Простой подсчет показывает, что если скорость старения после 2001 г. принципиально не изменилась, то к концу 2006 г. категория ветхого и аварийного жилья должна была бы составить около 400-500 млн м2 или 14-16% всего жилфонда РФ. Ведь и масштабы строительства новых, и масштабы сноса ветхих домов очень невелики. Счетная палата отметила в 2005 г.: «Ликвидировано за указанный период [2002-2004 гг.] ветхого и аварийного жилищного фонда 630,4 тыс. кв. м при плане 2406,0 тыс. кв. м, выполнение составило 26,2%». За три года снесено 0,63 млн кв. м — величина ничтожная при общей площади 3 млрд м2.
Итак, за три года снесено ветхих жилых домов площадью 0,63 млн кв. м — 0,7% от официально объявленного объема ветхого и аварийного фонда. Это величина пренебрежимо малая, и можно считать, что ветхий и аварийный жилищный фонд сносится в малой степени и объемы его не уменьшаются, а лишь приращиваются.133 Поэтому не может установиться динамического равновесия, при котором прирост этих объемов мог бы почти прекратиться — мол, сколько приросло за год, столько и снесли.
Площадь ветхого и аварийного жилья, измеряемая 400-500 млн м2, — величина правдоподобная, хотя наверняка неточная, мы можем сделать лишь грубую прикидку. Вот косвенные доводы на этот счет. Говорилось, например, что в Москве ситуация лучше, чем в других местах — здесь земля очень дорогая, фирмы охотно сносят ветхое жилье и застраивают участки большими новыми домами. В мэрии в 2006 г. сообщили корреспонденту «RBC daily»: «В ветхом состоянии у нас находится 28 млн кв. м жилья при общем размере жилого фонда 200 млн кв. м».134
Итак, в Москве, где положение лучше всего в Российской Федерации, ветхое жилье составляет 14% жилищного фонда. Согласно «Российской газете» от 2 марта 2007 г., «количество ветхих и аварийных домов в Дагестане составляет 26% жилищного фонда». Таков диапазон на начало 2007 г.: от 14 до 26% жилищного фонда — ветхие и аварийные строения.
Что же говорят высшие должностные лица, отвечающие за состояние ЖКХ России в целом? В феврале 2006 г. состоялось Второе Всероссийское совещание на тему «Ветхий и аварийный жилищный фонд: пути решения проблемы». На этом совещании тогдашний министр регионального развития РФ В. Яковлев сообщил: «Сегодня в стране насчитывается более 93 млн кв. м ветхого и аварийного жилья».135
После указанного совещания проходит 8 месяцев, и 5 октября 2006 г. зам. министра регионального развития РФ Ю. Тыртышов сообщает в интервью: «Доля ветхого и аварийного жилья в России достигла 3,2% от общего объема жилищного фонда, что составляет 93,2 млн кв. м».
И министр, и зам. министра назвали данные, которые отражали состояние на конец 2001 г. Их слова противоречат тому, что в 2003 и 2004 гг. говорил председатель Госстроя РФ Н. Кошман (и подтверждал сам заместитель премьер-министра РФ В. Яковлев). Почему чиновники высокого ранга, наверняка знающие о таком очевидном противоречии, никак не объяснили его в своем интервью?
Сам факт, что такой манипуляцией с данными никто не заинтересовался в правительстве, администрации Президента, в оппозиции, в науке и на улице, — говорит, что общество в целом равнодушно относилось к состоянию одной из главных систем жизнеобеспечения населения. Это состояние сознания в обществе и государстве — угроза для России.
Более того, 15 июня 2007 г. на заседании Государственной Думы председатель Комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям М.Л. Шаккум представлял законопроект о создании Фонда содействия реформированию ЖКХ. Депутат В.А. Овсянников (ЛДПР) задал вопрос о величине ветхого жилищного фонда. По его сведениям, «статистика вполовину сократила объем аварийного и ветхого жилья». Видимо, что-то его беспокоило, но ни данных он не имел, ни четко выразиться не смог.
Согласно стенограмме заседания Госдумы, М.Л. Шаккум в 13-00 ответил так: «Я не могу согласиться с вами в части утверждения, что статистика вполовину сократила объем аварийного жилья. Статистика показывает, что за последние 5 лет количество аварийного жилья увеличилось ровно вдвое. Это по данным статистической отчетности. Это совершенно точно. Поэтому данные представляются мне вполне корректными. И на основании этих данных, а мы пользуемся данными статистики и другими пользоваться не можем…».136
Вдумайтесь в слова председателя комитета Госдумы. Его спрашивают о площади ветхого жилищного фонда. Он отвечает: «Статистика показывает, что за последние 5 лет количество аварийного жилья увеличилось ровно вдвое». Таким образом, он говорит о другом предмете. Но даже не это главное. Депутат В.А. Овсянников и председатель комитета Госдумы М.Л. Шаккум говорят о разных статистиках.
Вот официальная таблица — из статистического ежегодника РФ издания 2008 г. Из табл. 1 следует, что согласно Росстату, площадь аварийного жилья увеличилась за 5 лет (2003-2007 гг.) вовсе не вдвое, а на 32,2%. Эти данные — продукт подтасовки, «пересортицы».
Какими же данными пользуется Госдума? Очевидно, совсем другими! Видимо, теми, которыми пользуются региональные власти, применяя критерии отнесения жилищного фонда к категории ветхого и аварийного, действовавшие до 2003 г. Из официальной табл. 1 видно, что с 1995 г. по 2000 г. доля ветхого и аварийного жилья увеличилась в 2,2 раза.
Таблица 1
Ветхий и аварийный жилищныи фонд
(на конец года; общая площадь жилых помещений)
В последующие годы ветшание как физический процесс не прекратилось и не замедлилось — объемы капитального ремонта не увеличились, объемы сноса ветхих зданий были незначительными. Единственное объяснение — износ «замедлился» в результате изменения методики учета правительством. Но местные власти, вынужденные отвечать населению, не могли пойти на такую операцию.
Это признак беды! Министры и их заместители, депутаты и председатели комитетов Госдумы называют несовместимые величины — и никакой реакции! Они, похоже, и не вникают в то, что говорят (или не хотят вникать?). Общество получает сообщения, в которых концы не вяжутся с концами — и никто этого не замечает. Общество утратило чувствительность к количественной мере самых актуальных явлений, в том числе таящих в себе большую угрозу.
Так это и продолжается поныне. В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации» (октябрь 2007 г.) сказано: «Достижению целевых параметров обеспеченности населения жильем препятствует необходимость быстрого выведения из оборота жилья ветхого и аварийного фонда (по данным Росстата, 95 млн кв. м на начало 2006 года, с тенденцией ежегодного роста на 2 млн)».
Остановимся на этой аномалии: сведения о величине ветхого и аварийного жилищного фонда России, даваемые разными источниками, несоизмеримы. Более того, одни и те же люди в разной обстановке называют разные величины. Резкие и никак не объясненные изменения в динамике величин, которые присутствуют в данных Росстата, не вызывают вопросов и удивления даже у контролирующих органов.
Вот отчет Счетной палаты РФ о ходе программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Здесь сказано: «По состоянию на 1 января 2000 года суммарная площадь ветхого и аварийного жилья в Российской Федерации составляла 49,78 млн кв. м (1,8% в общем объеме жилищного фонда России), в том числе аварийный жилищный фонд — 8,24 млн кв. м.)».137
В приведенной здесь же таблице Госкомстата мы видим, что после 1999 г. начался резкий рост объема ветхого и аварийного жилья — 50 млн кв. м в 2000 г. и 90 млн в конце 2001 г. Этот рост имеет свои объяснения, которые не раз приводило руководство Госстроя Российской Федерации. Но после 2001 г., вплоть до настоящего времени, практически никакого прироста этого объема как будто не происходит. За 2000-2001 гг. в разряд ветхого и аварийного жилья перешло 40 млн кв. м, а за 2002-2003 гг. только 1,3 млн кв. м — в 30 раз меньше! Как мог за эти два года остановиться процесс ветшания старых домов? Как аудиторы Счетной палаты могли не заметить этого странного явления? А ведь нешуточный документ — отчет Счетной палаты.
Вот как выглядит динамика объема ветхого и аварийного жилищного фонда согласно данным Росстата и заявлениям чиновников (рис. 7):
Рис. 7. Ветхий и аварийный жилищный фонд в РФ, млн м2 (данные за 2002-2003 гг., обозначенные пунктиром, взяты из интервью должностных лиц)
Напрашивается такое объяснение. Резкое изменение динамик и старения жилищного фонда, в котором пороговой точкой стал 1999 г., побудило правительство пересмотреть критерии отнесения жилых домов к категории ветхих и аварийных. То, что раньше считалось аварийным и ветхим, теперь «вернулось» в строй нормальных домов, пригодных для проживания. Это было оформлено Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. № 552 «Об утверждении Положения о порядке признания жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания».
Во исполнение указанного Постановления Правительства Госстрой Российской Федерации принял постановление от 20 февраля 2004 г. № 10 «Об утверждении критериев и технических условий отнесения жилых домов (жилых помещений) к категории ветхих или аварийных». Это Постановление гласит: «…2. Не применять на территории Российской Федерации Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 05.11.1985 № 529 “Об утверждении Положения по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений государственного и общественного жилищного фонда для постоянного проживания”».138
Согласно этим новым критериям, ветшание жилищного фонда резко замедлилось (с 40 до 2% в год). Поразительно и то, что практические работники местных властей (например, правительства Москвы) продолжали пользоваться старыми критериями и сообщали прессе соответствующие им величины.
Маскировка реальности не вызывала никакой реакции общества при самых разных подходах к проблеме ЖКХ. В своем интервью 5 октября 2006 г. зам. министра Ю. Тыртышов сделал два важных утверждения: «Потребность в капитальном ремонте составляет 144 млн кв. м в год при произведенных в 2005 г. 30 млн кв. м… Главное это объяснить и помочь людям осознать, что состояние их жилья — это их ответственность, а не мэра и губернатора».
Утверждается, что в 2005 г. капитально отремонтировано 30 млн кв. м жилья. А вот «Российский статистический ежегодник. Официальное издание. 2006» (М.: Росстат, 2006). На стр. 209 приведена таблица 6.44 — «Основные показатели жилищных условий населения». В ней есть строка «Капитально отремонтировано жилых домов за год, тыс. кв. м общей площади». В столбце за 2005 г. стоит: 5552, т. е. не 30, а 5,5 млн кв. м. Это слишком уж большая разница с тем, что говорит зам. министра, — почти в 6 раз. Ю. Тыртышов и Росстат называют термином «капитальный ремонт» разные вещи. Скорее всего, Ю. Тыртышов говорит о капитальном ремонте отдельных квартир, который не затрагивает несущие конструкции дома и его крышу, а Росстат — о ремонте жилых домов. Такая подмена предмета дезориентирует и государство, и общество. Но никого это, похоже, не волнует.
Однако главное даже не в этом. Выражение «потребность в капитальном ремонте составляет 144 млн кв. м в год» имеет смысл, только если такая доля жилищного фонда ремонтируется регулярно каждый год. В действительности потребность в ремонте на 2005 г. — это 144 млн кв. м плюс величина «отложенного» ремонта, и чем больше срок, на который отложен ремонт, тем более чрезвычайной становится эта потребность. Если считать, что этот норматив должен был выполняться с 1991 г., то величина ремонта, отложенного за 1991-2004 гг., составляла около 2 млрд кв. м. Это в 15 раз больше, чем цифра, которую приводит зам. министра.
В России ежегодно должен проводиться капитальный ремонт 4-5% фонда. Однако в течение многих лет ремонтируется около 0,2% городского жилищного фонда в год — т. е. в 20-25 раз меньше необходимого. Накопленное отставание огромно, и теперь оплатить ремонт не под силу ни государству, ни населению. Деградация жилищного фонда стала массовым неумолимым процессом, который не удается затормозить. Россия стоит перед угрозой превратиться в цивилизацию трущоб.
Второе важное заявление зам. министра заключается в том, что главное в проблеме ветхого жилья — «объяснить и помочь людям осознать, что состояние их жилья — это их ответственность, а не мэра и губернатора». Это была совершенно новая принципиальная постановка вопроса — противозаконная. Решение о том, что оплата капитального ремонта возлагается на население, было принято только 25 декабря 2012 г.! Во время интервью зам. министра еще действовал закон, обязывающий государство проводить капитальный ремонт домов. Кто уполномочил зам. министра делать такие заявления? Скорее всего он даже не понимал, насколько важные вещи говорит…
Как же оценить площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, если даже депутаты и чиновники не могут в этом разобраться? Вот какие данные приведены в докладе Института экономики города, подготовленном по контракту Европейского банка реконструкции и развития (2011 г.): «По данным Росстата, на начало 2009 г. в капитальном ремонте нуждалось около 282,9 тыс. многоквартирных домов (9% от их общего числа). Анализ показал, что эти цифры получены, исходя из среднего срока службы многоквартирного здания до капитального ремонта, равного примерно 40 годам.
Согласно проведенным расчетам, в 2009 г. в комплексном капитальном ремонте нуждались:
— 2120-2196 тысяч многоквартирных домов со средним сроком эксплуатации в 25 лет (или 1314-1361 млн м2);
— 1374-1398 тысяч многоквартирных домов со сроком эксплуатации в 40 лет (или 645-660 млн м2)».
Очевидно, что столь большие расхождения неприемлемы. Конечно, и расчеты Института экономики города приблизительны — точно оценить размер ошибки трудно. Для нас важны грубые измерения. Какие оценки ближе к истине?
Имеется редкое исследование, выполненное Лабораторией экономического анализа (Обнинск), — изучение состояния всей совокупности многоквартирных домов среднего по величине города — Омска. Были изучены данные бюро технической инвентаризации (БТИ) о вводе жилых домов в Омске по годам — с 1842 г. по 1997 г. Оценка состояния домов производилась согласно общепринятой норме.
В отчете сказано: «Общая площадь каменных жилых домов в 1997 г. составляла 19 млн кв. м. Из них 2,3 млн кв. м (или 12,1%) находились в домах с износом свыше 70%, то есть, ветхих и аварийных. В Омске было также много старых деревянных домов, так что общая площадь ветхого жилищного фонда составляла в 1997 г. 21,6% от всего жилья в городе… Согласно общепринятой норме, износ каменных строений достигает 70% через 40 лет, а полного износа — через 59 лет. В Омске это правило было проверено и подтверждено косвенными методами (частота небольших текущих ремонтов в зависимости от возраста здания). Поэтому для продления жизни домов через 30 лет требуется проводить капитальный ремонт. За 1961-1980 годы в Омске было введено каменных жилых домов площадью 7998 кв. м — 8 миллионов. Это 42% всего каменного жилищного фонда. Их надо было обязательно отремонтировать после 1990 г. И еще около 40% надо было отремонтировать до 90-х годов, но в 80-е годы было уже не до этого, и их ремонт также был отложен на 90-е годы. Таким образом, прекращение капитального ремонта в годы реформы обрекло жилищный фонд Омска на глубокую деградацию».
Подробная таблица позволила составить график динамики ветшания жилищного фонда Омска. В принципе, характер этой динамики должен повторяться и в других городах (вероятно, исключая Москву и Санкт-Петербург). На этом графике видно, что после 1990 г. равномерный рост объема ветхого и аварийного фонда сменился экспоненциальным ростом — без капитального ремонта старые дома стали дряхлеть с ускорением (рис. 8). Сравните с рис. 7!
Рис. 8. Площадь каменных жилых домов в г. Омске с износом свыше 70%, тыс. м2
В Аналитическом отчете администрации города дано такое Примечание («Оценка ветхого жилого фонда Облкомстатом»), которое объясняет странности статистики: «По данным Облкомстата ветхий и аварийный жилой фонд в 1996 году составил 187,1 тыс. кв. м, или 0,9% общей площади жилого фонда (эту информацию комитет получает от окружных жилищных управлений, которые заполняют формы статистической отчетности, разработанные в соответствии с инструкцией Госкомстата по учету состояния жилищного фонда). Столь существенное расхождение вызвано тем обстоятельством, что окружные жилищные управления согласно действующей методике определяют процент износа только согласно данных о нормах износа на полное восстановление здания… Исходя из данной методики, полный износ каменного здания достигается только после 140 с лишним лет».139
Приведем высказывания в прессе работников региональных администраций, в которых дается оценка состояния жилищного фонда города.
— «Около 1,5 млн квадратных метров, относится к ветхому и аварийному жилому фонду в г. Саратове. Об этом сообщил заместитель мэра по градостроительству и управлению муниципальным имуществом, Николай Ольхов… В этом году принята программа “Ветхое жилье”, рассчитанная до 2010 года. В 2002 году на ее реализацию из средств городского бюджета выделено порядка 7,6 млн рублей под расселение домов на Барнаульской и проспекта Строителей, домов Лагутенко и 8 млн рублей — на строительство муниципального жилья. Но это незначительные деньги. Чтобы решать проблему “падающих домов” необходимо 380-420 млн рублей в год. Сейчас, по мнению Ольхова, строительный комплекс города нужно переориентировать на проведение текущего, капитального ремонта зданий. Это значительно позволит замедлить процесс старения жилья» (09.08.2002).
— «На состоявшемся в октябре в Казани зональном совещании о концепции стратегии развития строительного комплекса РФ до 2010 года сообщил председатель Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстроя) России Николай Кошман. В этом году в России объемы ветхого и аварийного жилья увеличатся с 87,8 млн до 122,8 млн кв. м. В настоящее время более 290 млн кв. м жилья требуют неотложного капитального ремонта, а 250 млн кв. м — полной реконструкции. Устаревшие панельные жилые дома на сегодняшний день составляют более половины жилищного фонда России. Проблема реконструкции жилого фонда назрела настолько, что, по словам Кошмана, “задержка с проведением реконструкции еще на 10-15 лет приведет к сносу в некоторых городах России до 20% существующей жилой застройки“» (2003).
— Справка Госстроя (13.11.2003) гласит, что «при нормативной потребности в капитальном ремонте 4-5% за год в Ульяновской обл. отремонтировано лишь 0,04% государственного и муниципального жилищного фонда, в Удмуртской Республике, Алтайском крае, Кировской и Самарской областях — 0,1%, в Сахалинской и Ярославской областях — 0,2%».
— Л.В. Примак, начальник департамента ЖКХ Министерства ЖКХ и строительства Калининградской области, д.т.н., профессор: «Капитального ремонта требует больше половины многоквартирных домов, и год от года увеличивается число зданий, относящихся к ветхому и аварийному жилищному фонду. Сегодня активно развивается жилищное строительство, но если не принимать мер по сохранению построенного жилья, общее состояние сектора по прежнему будет ухудшаться» (журнал «ЖКХ и строительство»).
— Вот, заседание Съезда городов Заполярья и Крайнего Севера (17 ноября 2004 г.). Выступает мэр Якутска Михальчук: «Основной вопрос сегодня — капитальный ремонт, находится в плачевном состоянии, что о чем говорить, когда при нормативных 4-5 процентах от всего жилого фонда сегодня в регионах 0,1-1 или 2 процента получается финансирование капитального ремонта даже не от фактического состояния жилья, а именно нормативной потребности.
И тот заниженный объем, ведь у нас в квартплате те минимальные отчисления, которые должны быть на капитальный ремонт, какие там нормативы, там, дай Бог, чтобы текущее содержание обеспечить и расплатиться с учетом неплатежей с поставщиками.
А на самом деле сегодня капитальный ремонт — это не только его содержание, это предотвращение дальнейшего падения нашего жилого комплекса и жилищно-коммунального комплекса. И, вы знаете, факты говорят о многом. Допустим, в городе Якутске за последние восемь-девять лет у нас произошло около 20 обрушений каменных зданий. Люди уходят на работу, рушится стена».
Выступает глава Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству В.А. Аверченко: «По ветхому жилью. Ситуация в стране закритическая… Допустим, в Камчатской области 18,1 процента проживают в ветхом и аварийном жилье. Насколько я понимаю, разобравшись в этой ситуации, это не истинная картина. Истинная картина, по всей видимости, еще хуже. Потому что вам, как руководителям муниципальных образований, невыгодно показывать истинное положение дел. Как только вы принимаете постановление главы администрации о признании того или иного объекта ветхим и аварийным, граждане идут в суд, этот суд выигрывают и ставят вас на счетчик по выделению бесплатного жилья. Судебный исполнитель приходит и говорит: Игорь Леонидович, отдай квартиру, человеку грозит, даже его жизни грозит.
Поэтому не очень охотно муниципальные образования в большинстве своем показывают истинную картину».
— «Жилье, особенно в центре Воронежа, стремительно ветшает, что грозит обрушением не только балконов, но и карнизов, и прочих элементов архитектурных украшений. По оценке специалистов, около 23% всего воронежского жилого фонда составляет ветхое и аварийное жилье, а более 400 домов находятся в аварийном состоянии».
— «Жилищный фонд города [Мурманска] на 01.01.2007 года составляет 2269 жилых домов, из которых 44 (2%) аварийных, 316 (14%) ветхих. Каждый пятый дом в городе стоит дешевле, чем затраты на его ежегодное содержание (вместо 12,6 руб. на м2 по тарифу 84 рубля фактически). Анализ технического состояния этих домов показывает, что положение близко к критическому, так как отдельные конструктивные элементы домов (70-80%) не отвечают требованиям безопасной эксплуатации и санитарным условиям проживания. Непринятие мер по незамедлительному их восстановлению либо сносу и расселению людей может привести к массовой аварийности на жилищном фонде с тяжелыми последствиями.
В настоящее время в капитальном ремонте нуждаются: 75% кровель жилых домов, из них 20% находятся в аварийном состоянии; 77% фасадов; 99,9% внутридомовых электрических сетей; 67% сетей горячего водоснабжения; 60% сетей отопления, из них 10% в аварийном состоянии».140
— Апрель 2007 г.: «В Москве нуждаются в капремонте около 140 миллионов кв. метров жилья, на что требуется 256 миллиардов рублей. Лужков уже не раз говорил, что городской бюджет выдержит лишь треть этой суммы».
— Санкт-Петербург: «На 1 января 2007 года аварийный и ветхий фонд Петербурга составил 1,0351 млн кв. м. В соответствии с адресной программой ремонта аварийного жилищного фонда в 2006 году введено в эксплуатацию 98 аварийных квартир общей площадью 12 269 кв. м».
Стоимость «отложенного» капитального ремонта жилищного фонда Петербурга уже в 2007 г. составляла 7 годовых бюджетов города — около 275 млрд руб.
Подойдем с другой стороны. Во сколько обошлось бы гражданам капитально отремонтировать их дом? 3 октября 2007 г. информационные агентства опубликовали такое сообщение: «АСР вместе с Союзом инженеров-сметчиков разработали Нормативы предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов». В нем сказано:
«Ассоциация Строителей России (АСР) совместно с Союзом инженеров-сметчиков разработали Нормативы предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов (в расчете на кв. м площади) по всем регионам России в прогнозных ценах 2008 года. Об этом сообщили в департаменте общественных связей АСР. “Нормативы разработаны в целях реализации положений Федерального Закона № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»”, — отметили в ассоциации. Нормативы предназначены для планирования затрат и обоснования объемов финансирования на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту и выборочному капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования многоквартирных домов в субъектах РФ. Указанные нормативы могут быть использованы в целях обоснования объема средств, предназначенных для финансовой поддержки регионов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по утвержденным программам…
Согласно нормативам АСР, средняя стоимость капитального ремонта жилого фонда России оценивается в 19,5 тыс. рублей за кв. метр с учетом НДС. В районах Крайнего Севера или Дальнего Востока ремонт обходится дороже, чем в среднем по России. В Москве средняя цена капремонта также выше — примерно на 30%».
Итак, согласно нормативам, разработанным под руководством бывшего председателя Госстроя РФ Н. Кошмана, средняя стоимость капитального ремонта по России составила 19,5 тыс. руб. за 1 кв. метр. Это правдоподобная величина — три капитальных ремонта стоят примерно столько же, сколько строительство дома.
На жителя Российской Федерации в среднем приходится по 20 кв. м общей площади квартиры. Значит, на семью из 4 человек — 80 кв. м. Эта семья, если действительно возложить на нее расходы, должна будет заплатить за капитальный ремонт 1,56 млн руб. При средней зарплате в 2008 г. 15 тыс. руб. это означает, что глава семьи должен заплатить за ремонт весь свой заработок за 8 лет. Понимает ли зам. министра Ю. Тыртышов, что он сказал? Но ведь его слова не вызвали никакой реакции ни наверху, ни «внизу». Нас здесь интересует именно этот факт.
Несоизмеримость проблемы и средств для ее решения, полное равнодушие и отсутствие всякой реакции — общее явление для всей России.
В 2007 г. в России, по официальной справке, более 300 млн кв. м жилья нуждалось в капитальном ремонте неотложно. В 2007 г. Правительство выделило на капитальный ремонт жилищного фонда 150 млрд рублей — на 5 лет. Сколько жилья можно отремонтировать за 2008 г. на 30 млрд руб.? Если верить расценкам АСР и Союза инженеров-сметчиков — 1,5 млн м2. А Росстат объявил, что в 2008 г. капитально отремонтировано 12,3 млн м2 жилья. Значит, строительным организациям выплачено (с учетом финансовых средств регионов) в 5-8 раз меньше, чем предусмотрено сметой Ассоциации строителей России и Союза инженеров-сметчиков в ценах 2008 г. Это противоречие никем не объяснено. Вероятно, достигнут компромисс — заказчики сократили перечень работ (например, не замена кровли, а покраска и т. п.).
Институт экономики города сообщает: «По данным формы № 1-КР “Сведения о капитальном ремонте жилищного фонда” средняя стоимость ремонта 1 м2 капитально отремонтированного жилья составила в 2009 г. 3,3 тыс. руб. (в 2008 г. — 2,7 тыс. руб.). По данным Фонда ЖКХ, средний удельный расход на ремонт 1 м2 жилой площади составил в 2008 г. 490 руб., в 2009 г. — 800 руб., а в 2010 г. — 810 руб. Это означает, что по проектам Фонда ЖКХ проводились в основном выборочные работы по капитальному ремонту (87%)».
По сводке Росстата на 2010-2011 гг. «стоимость ремонта 1 кв. метра капитально отремонтированного жилья в 2011 г. официально составила 4,3 тыс. рублей (в 2010 г. — 3,7, в 2009 г. — 3,3 тыс. рублей). В 2010 г. в Чеченской Республике стоимость ремонта 1 кв. метра капитально отремонтированного жилья составила 467 рублей, в Ивановской области — 776 рублей, в Калужской области — 901 рубль. Столь низкая фактическая стоимость ремонта 1 кв. метра жилья косвенно свидетельствует о несоблюдении необходимого регламента ремонтных работ и, как следствие, о низком его качестве.
В любом случае есть несоизмеримость: в неотложном ремонте официально нуждается 300 млн м2, а сделано даже урезанного ремонта в 25 раз меньше.
Надо отметить, что стратегическая доктрина государства в решении проблемы износа основных фондов ЖКХ сводится к действиям в бюрократической и правовой сфере. Программы, предусматривающие движение каких-то крупных масс материальных и технических ресурсов, оказываются вне этой доктрины. Видимо, эти действия отдаются на откуп частным предприятиям.
Так, Минрегионразвития опубликовал такой документ: «Справка о Долгосрочной стратегии массового строительства жилья для всех категорий граждан (2008-2025 годы)». В разделе «Модернизация и капитальный ремонт жилья» сказано:
«Стратегическими подходами к решению проблем модернизации и капитального ремонта предусмотрено:
— завершение паспортизации жилищного фонда;
— разработка муниципальных нормативных актов по организации, планированию и финансированию капитального ремонта;
— создание механизмов кредитования и рассрочки платежей по капитальному ремонту жилья для финансирования капитального ремонта и модернизации жилищного фонда;
— расширение перечня и форм возможных видов обеспечения возвратности кредитов, предоставляемых объединениям собственников жилья (управляющим компаниям), в том числе с использованием в качестве залога платежей будущих периодов».141
Расселение ветхого и аварийного жилья, а также капитальный ремонт жилищного фонда курирует Фонд содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ) — госкорпорация, созданная в 2007 г. Планировалось, что Фонд ЖКХ завершит свою работу 1 января 2012 г., но потом срок его работы продлили до 1 января 2013 г., а позднее — до 31 декабря 2015 г.
О состоянии жилищного фонда и этой программы недавно было сказано так: «На селекторном совещании госкорпорации “Фонд содействия реформированию ЖКХ” было отмечено “торможение” федеральной целевой программы (ФЦП) по модернизации сферы ЖКХ. Главы регионов не желают участвовать в ней из-за отсутствия денег в бюджетах и слишком строгих требований к участникам.
ФЦП предусматривает субсидирование ставок по кредитам на модернизацию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Подавляющее большинство регионов (60 из 83) заявили о невозможности воспользоваться господдержкой по действующим условиям. Федеральный центр компенсирует лишь часть процентной ставки, основная часть расходов ложится тяжким бременем на субъекты.
Замминистра регионального развития РФ Владимир Токарев ранее сообщал на коллегии Госстроя о том, что фонды жилищно-коммунального хозяйства страны обветшали в среднем на 60%, а в некоторых местах — на 85%. Приведена была и информация о состоянии ветхого и аварийного жилья: на данный момент таковыми являются почти 100 млн квадратных метров. Лишь 10% из них планируется ликвидировать до 2016 года. После этого другой замминистра регионального развития — Сергей Вахруков — заявил, что серьезным ограничением для развития сферы ЖКХ является то, что в большинстве муниципальных образований жители не могут и не готовы платить за услуги ЖКХ по экономически обоснованному тарифу».142
Надо подчеркнуть, что допуская проживание миллионов людей в ветхих и аварийных домах, государственная власть нарушает юридические нормы, которые она сама установила совсем недавно. Счетная палата фиксирует в 2005 г.:
«Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 года № 552 “Об утверждении Положения о порядке признания жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания”… Во исполнение указанного постановления Правительства Российской Федерации Госстроем России принято постановление от 20 февраля 2004 года № 10 “Об утверждении критериев и технических условий отнесения жилых домов (жилых помещений) к категории ветхих или аварийных” (Минюстом России письмом от 23 апреля 2004 года № 07/4174-ЮД отказано в государственной регистрации данного постановления).
Непригодными для проживания признаются жилые дома (жилые помещения), находящиеся в ветхом состоянии, в аварийном состоянии, а также в которых выявлено вредное воздействие факторов среды обитания».
Поскольку, как следует из выше сказанного, государство не выполнило закон об обязанности произвести капитальный ремонт до приватизации квартир, и масштаб отложенного ремонта оказался неподъемным, было решено сосредоточить усилия на переселении жителей из ветхих и аварийных домов в другое жилище. Была учреждена подпрограмма программы «Жилье». Проверив ход выполнения этой подпрограммы, Счетная палата сделала такое заключение:
«1. В целях ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда в Российской Федерации, а также реализации прав граждан на жилище Правительство Российской Федерации постановлением от 22 января 2002 года № 33 утвердило подпрограмму “Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда”, входящую в состав федеральной целевой программы “Жилище” на 2002-2010 годы.
На момент разработки подпрограммы “Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда” (далее — Подпрограмма) — январь 2000 года — свыше 2 млн человек (более 6% семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий) проживали в ветхих и аварийных домах, не приспособленных для постоянного проживания.
По состоянию на 1 января 2000 года суммарная площадь ветхого и аварийного жилья в Российской Федерации составляла 49,78 млн кв. м (1,8% в общем объеме жилищного фонда России), в том числе аварийный жилищный фонд — 8,24 млн кв. м (16,5%), ветхий жилищный фонд — 41,54 млн кв. метров (83,5 процента)…
Расходы на реализацию Подпрограммы должны были составить 32 млрд рублей. Первоначально предполагается финансирование Подпрограммы для завершения строительства объектов жилищного фонда высокой степени готовности.
За весь период реализации Подпрограммы из федерального бюджета предполагалось направить 0,845 млрд рублей (2,6%). Средства бюджетов субъектов Российской Федерации (включая местные) должны были составить 18,355 млрд рублей (57,4%)…, внебюджетные средства — 12,8 млрд рублей (40,0%).
Основными целями Подпрограммы являются:
— обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания;
— ликвидация до 2010 года включительно существующего в настоящее время аварийного жилищного фонда, признанного таковым в 2000 году.
В результате реализации Подпрограммы, к концу 2010 года, все граждане, проживающие на 1 января 2000 года в аварийном жилищном фонде (около 421 тыс. граждан), должны быть переселены. Должно быть ликвидировано 8238,5 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда.
Вместе с тем необходимо отметить, что ветшание существующего жилищного фонда идет более быстрыми темпами, чем строительство нового. Если в 1990 году ветхий и аварийный жилищный фонд составлял 32,2 млн кв. м из общей площади 2425 млн кв. м (1,3%), то к концу 2003 года он насчитывал 91,3 млн кв. м (3,2%), увеличившись в 2,8 раза, в то время как жилищный фонд увеличился всего в 1,2 раза.
2. На момент утверждения Подпрограммы законодательное определение понятий «ветхого» и «аварийного» жилья на федеральном уровне отсутствовало. Социальные обязательства государства по отношению к населению, проживающему в ветхом и аварийном жилищном фонде, определены не были.
В связи с этим для определения площади ветхого и аварийного жилищного фонда принимались показатели, установленные инструкцией по заполнению формы федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о жилищном фонде» (форма № 1-жилфонд), утвержденной постановлением Госкомстата России от 22 сентября 1999 года № 86, которой определено, что к ветхим домам относятся каменные дома с износом свыше 70% и прочие — с износом свыше 65%.
Анализ выполнения первого этапа Подпрограммы (2002-2004 годы) показал, что, несмотря на значительное превышение предусмотренных объемов финансирования, ее реализация по основным показателям была сорвана… За первый этап Подпрограммы вместо 140,3 тыс. человек переселено всего 47,3 тыс. человек, или 33,7% от запланированного.
Как показала проверка, заложенные в Подпрограмме основные показатели (финансовое обеспечение, ввод жилья, переселение граждан и ликвидация ветхого жилья) были изначально ошибочны и, как следствие, не выполнимы.
Так, предусмотренные финансовые средства в объеме 32 000,0 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета — 845,0 млн рублей, не способны были решить задачу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья даже на первом этапе ее исполнения, так как в ней заложена стоимость 1 кв. м жилья в размере 3884 рубля, в то время как в 2002 году — фактически в начале реализации Подпрограммы — постановлением Госстроя России от 29 ноября 2002 года № 160 она установлена в размере 9650 рублей за 1 кв. м, т. е. в 2,48 раза больше запланированного…
В целом по Российской Федерации в 2003 году в расчете на переселение 1 человека израсходовано 157,0 тыс. рублей, на ввод 1 кв. м жилья — 7,5 тыс. рублей.
Исходя из лимитов федерального бюджета на 2002 и 2003 год ежегодно около 1350,0 млн рублей, следует, что каждому региону может быть предоставлено из федерального бюджета в среднем лишь около 15 млн рублей в год. На эти средства ежегодно из аварийного жилья можно переселить 77 человек».143
Очевидно, что средства, выделенные для этой программы, изначально были несоизмеримы с масштабом проблемы. Программа рассчитана до 2010 г., а затраты на ввод 1 кв. м жилья — 7.5 тыс. руб. Весной 2009 г. цена 1 м2 жилья экономкласса в среднем по России составила на первичном рынке 38,189 тыс. руб. В какие же дома собирались переселять людей из аварийного жилища, если в них 1 м2 стоил 3,9 тыс. руб.?
Несоответствие между целью и средствами драматично. Зачем обнадеживать людей, если разрешить их проблемы с наличными средствами невозможно? Да и всегда находятся более важные проблемы, требующие денег, чем расселение граждан из аварийных домов. Приведем некоторые сообщения из регионов.
— «Обещанного 1 млрд руб. на расселение коммуналок, ветхого и аварийного жилого фонда не будет. Об этом сообщил на заседании Законодательного собрания [Петербурга] В. Яковлев. Надеяться можно на 200-300 млн руб. ассигнований из федерального бюджета (на все регионы России в нем выделено на эти цели 1.5 млрд руб.). Приоритетным направлением в 2003 году станет проведение работ по подготовке к 300-летнему юбилею города: ремонт фасадов зданий, благоустройство территорий, уборка улиц, обеспечение нормального уличного освещения и т. д.».144
— «Решается также и острая проблема переселения курян из ветхого и аварийного жилья. В 2006 г. на реализацию подпрограммы “Переселение граждан Курской области из ветхого и аварийного жилищного фонда” было направлено 23,2 миллиона рублей. По данной подпрограмме администрации города Курска передана 71 квартира, 62 из них уже распределены гражданам». 22.02.07. Квартиры по средней цене 327 тыс. руб.
— Вот сообщение Администрации Саратовской обл. от 5 февраля 2007 г.: «На переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бюджетом области предусмотрено 180 млн руб., что позволит отселить порядка 240 семей». Это 1% от тех, кого официально надо переселить — ветхий и аварийный жилфонд области (даже по «новым» критериям!) составляет 1,5 млн кв. м.
— Более 70,0 тыс. человек (около 2,15% населения Самарской области) в настоящее время проживает в ветхих и аварийных домах, не приспособленных для постоянного проживания. Это более 31% численности семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий. Большинство жителей Самарской области, проживающих в ветхих и аварийных домах, имеют низкие доходы и не в состоянии улучшить свои жилищные условия, купив квартиру на свои сбережения или с помощью ипотечных кредитов.
В общей сложности в настоящее время в Самарской области имеется 9395 ветхих и аварийных зданий, площадь которых составляет 1026,5 тыс. кв. метров, или 1,5% жилищного фонда области. Данный показатель в 12 раз превышает объемы годового ввода в действие жилых домов государственной и муниципальной форм собственности (2003 г.).
На выездном заседании коллегии Госстроя РФ в Дальневосточном федеральном округе зам. председателя Госстроя Анатолий Петраков сказал, что «программа “Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда” в ДФО буквально захлебывается и не покрывает реальных потребностей. Людей попросту некуда переселять из бараков… В России 80 миллионов квадратных метров жилья находятся в плачевном состоянии, не пригодном для проживания. Ежегодно площадь ветхого жилья увеличивается еще на 20 миллионов квадратных метров. Где же выход?..
Не надо ждать, когда жилье бесплатно предоставит государство. Согласно программе ветхого жилья, всего 30 процентов (1 миллиард 347 миллионов рублей) выделено в этом году из федерального бюджета, а 70 процентов на строительство должны выделять субъекты федерации, изыскивать в консолидированном бюджете. Поощряется привлечение инвестиций от населения» (27.01.2004, Российская газета).
Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 февраля 2013 г. № 147 «О порядке предоставления в 2013-2015 годах субсидий Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», на проведение капитального ремонта многоквартирных домов выделяется 18 млрд руб., на переселение граждан из аварийного жилищного фонда — 106,7 млрд руб. (о переселении граждан из ветхого фонда речи уже не идет, хотя и ветхое жилье считается непригодным для проживания, да и граница между ветхим и аварийным домом — условна).
Нормативы цены, за которую переселяемым гражданам будет приобретаться жилье, не сообщаются. Оценим эти нормативы сами. 107 млрд руб. выделяется из Федерального бюджета. На совещании о переселении граждан из аварийного жилья (16 апреля 2013 г.), которое проводил президент В.В. Путин, он сказал: «В общей сложности нужно будет расселить около 720 тысяч жильцов многоквартирных аварийных домов. Таким образом, в ближайшие годы предстоит ликвидировать объем аварийного жилья в 2 раза больший, чем за предыдущие пять лет».
Сколько выделяют на эту программу региональные и местные бюджеты — сообщил министр регионального развития Игорь Слюняев: «В последние годы программы переселения финансировались из региональных и местных бюджетов, точнее, софинансировались в соотношении 30 на 70: 30 процентов — региональные и местные бюджеты, 70 процентов — федеральная составляющая… Регионы выражают беспокойство из-за высокой доли софинансирования и очень жестких сроков реализации программ».
Учитывая беспокойство регионов, можно принять, что региональные и местные бюджеты выделят для расселения граждан не более 30%.145 Это значит, что на расселение будет истрачено примерно 153 млрд руб. поскольку «нужно будет расселить около 720 тысяч жильцов», на каждого жильца придется примерно по 200 тыс. руб. Значит, при норме 20 м2 на человека жилье для переселения будет приобретено примерно по цене 10 тыс. руб. за м2. Это будет, видимо, именно ветхое жилье.
Выделяемые Правительством РФ средства заместят имеющийся ветхий и аварийный фонд в РФ только через 40 лет — в предположении, что в эти десятилетия фонд аварийного и ветхого жилья не будет расти. Но ведь он растет! За годы реформ аварийный жилищный фонд вырос более чем в 6 раз (рис. 9).
Рис. 9. Аварийный жилищный фонд в РСФСР и РФ, млн м2
На совещании 16 апреля 2013 г. В.В. Путин сказал об аварийных домах: «Еще раз хочу повторить то, что говорил уже неоднократно: это наша прямая задача и обязанность — вытащить наших людей из этих трущоб. Сейчас таковыми официально являются 0,5 процента многоквартирных домов. Это примерно 13,1 миллиона квадратных метров жилья. Повторю, это только официальные цифры, и картину они отражают далеко не полностью».
Скорее всего, в Минрегионразвития опять возникли недоразумения в понятиях. Президенту сообщили, что площадь аварийных домов составила к весне 2013 г. 13,1 млн м2. Но в 2011 г. эта площадь составляла 20,5 млн м2, а в конце 2012 г. — 22,4 млн м2. Могла ли она чудесным образом сократиться за три месяца на 9,3 млн м2? Вот данные Росстата (табл. 2).
Таблица 2
Ветхий и аварийный жилищный фонд146
(на конец года; общая площадь жилых помещений)
Если предположить, что переселение осуществится в сравнимую по размерам неаварийную жилплощадь, то стоимость квадратного метра для переселения должна составить не более 6,8 тыс. руб., тогда как в 2011 г. средняя цена кв. метра общей площади на первичном рынке жилья по РФ составляла 43,7 тыс. руб., а на вторичном — 48,2 тыс. руб. Это в 7 раз выше, чем запланировало Правительство РФ своим Постановлением от 21 февраля 2013 г. № 147.
Как можно не видеть очевидного и молчать о нем: за год, согласно государственной программе, ликвидируется 1-2% величины исходной проблемы, а масштаб самой проблемы ежегодно возрастает на несколько процентов. И это не становится предметом общественного беспокойства, хотя речь идет о процессе практически тотальном.
Деградация мировоззренческой матрицы, соединявшей население России в общество, продолжается. А с ней продолжается и распад самого общества. Перед нами — необычная и плохо изученная угроза. Люди не заботятся тем, что происходит с большими системами, вне которых сама жизнь будет невозможна.
Большие технические системы, которые в стабильном режиме считаются частью экономики, по достижении порогового износа становятся источниками рисков. Их содержание превращается в проблему государственной безопасности. Пример источника очевидной опасности — аварийный жилой дом или изношенная до предела магистраль теплоснабжения. Социальная проблема стала проблемой культуры и даже философии.
Но самое главное — она стала проблемой государственного управления. С этой точки зрения можно высказать такие тезисы:
1. Система хозяйства и управления, созданная в ходе реформы, не позволяет ни собрать ресурсы, ни организовать производственные усилия, достаточные для того, чтобы построить и пустить в ход новую систему воспроизводства жилищного фонда, альтернативную советской системе и обеспечивающую население страны надежным жильем.
Создание новой, рыночной системы в сфере ЖКХ пока что оказалось невозможным. Это надо признать и сделать предметом общественного диалога.
2. Система хозяйства и управления, созданная в ходе реформы, не позволяет содержать в дееспособном состоянии и стабильно эксплуатировать жилищный фонд, унаследованный от советского строя. Сохранение старой, нерыночной системы ЖКХ оказалось невозможным.
Строго говоря, если принять во внимание критическое значение жилищного фонда в нашей стране, из этого можно сделать такой общий вывод:
Система хозяйства, созданная в ходе реформы, несовместима с жизнью населения и страны. Она должна быть трансформирована.
Действительно, государство и собственники средств производства привели к деградации унаследованную от СССР систему ЖКХ и не предлагают реальной доктрины ее восстановления — и в то же время они не могут построить новую систему, по западным образцам. Следовательно, реформа, сломав прежнее жизнеустройство, привела страну к такому состоянию, при котором жизнь населения в его нынешних размерах поставлена под угрозу. Эта угроза ставит граждан России перед дилеммой: принять перспективу ухудшения качества жизни (архаизации быта) или выработать проект изменения нынешней системы ЖКХ и политическими средствами побудить государство к его реализации.
Деградация жилищного фонда (и ЖКХ в целом) представляет собой массивный неумолимый процесс, на фоне которого отдельные достижения не формируют противоположной тенденции. Вопреки расчетам реформаторов, отечественные и иностранные инвестиции в основные фонды остаются несоизмеримыми с масштабами потребностей, вследствие чего о перестройке прежних и создании принципиально новых больших технических систем в ближайшей перспективе не идет речи.
Страна оказалась в ситуации порочного круга. Целью реформ была замена больших технико-социальных систем советского типа иными системами — такими «как на Западе». За прошедшие 17 лет обнаружилось, что новая система хозяйства не обладает созидательным потенциалом для решения этой задачи. Государство, уйдя из экономики, также лишилось средств для большого строительства. В то же время, государство в 1990-е гг. допустило расхищение средств, предназначенных для поддержания в дееспособном состоянии главных систем жизнеобеспечения страны, унаследованных от СССР.
Следовательно, эта система хозяйства не может поддерживать, с разумными изменениями, старого жизнеустройства — и не может создать приемлемого нового жизнеустройства. Когда большие технические системы, на которых держится страна, достигнут критического уровня износа, для большинства населения это превратится в социальную катастрофу — архаизация жизни приобретет лавинообразный характер. Однако и анклавы современного производства и быта не смогут устоять против наступления «цивилизации трущоб», поскольку даже эти анклавы не успеют построить альтернативных систем жизнеобеспечения, автономных от остальной части страны.
Если отвлечься от маскирующих реальность деталей, государственная власть России стоит перед вполне определенной дилеммой: или надо сознательно принять доктрину разделения страны на спасаемую и обреченную части (модернизация «анклавов Запада» и архаизация внутреннего «третьего мира»), или предпринять программу восстановления и модернизации системы жизнеустройства, в которой возможно развитие страны как целого.
Совмещение обоих проектов требует большого перерасхода средств и ставит под угрозу развитие даже анклавов современности. В нынешнем неопределенном состоянии архаизация происходит даже в этих анклавах.
Доклад подготовлен С.Г. Кара-Мурзой
СОСТОЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ОБЩНОСТИ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАБОЧИЕ»: УСЛОВИЕ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ
В этом докладе речь идет о тех изменениях, которые произошли в ходе реформы в ядре рабочего класса России — профессиональной общности промышленных рабочих. Во всех промышленно развитых странах эта общность является ключевым элементом всей системы трудовых ресурсов. Особое значение эта общность приобретает в России, в которой государственная власть считает необходимой программу новой индустриализации.
Субъекты общественных процессов — не индивиды, а общности, собранные и воспроизводимые на какой-то матрице. Состояние всей системы общностей, соединенных в общество, — один из главных предметов обществоведения и государственной политики.
Общество — система, которая находится в процессе непрерывного развития, так что в динамическом взаимодействии переплетаются интеграция и дезинтеграция — как отдельных элементов, так и всей системы в целом. Общий кризис российского общества с начала 1990-х гг. отмечен преобладанием процессов дезинтеграции. Этот процесс усугубляется общим кризисом индустриального общества, особенно на Западе, общественные институты и экономические структуры которого были взяты за образец в доктрине российской реформы.
В 2002 г. президент Международной социологической ассоциации А. Турен таким образом сформулировал вызов, перед которым оказалось обществоведение в последние десятилетия ХХ в.:
«Мир становился все более капиталистическим, все большая часть населения втягивалась в рыночную экономику, где главная забота — отказ от любого регулирования или экономического, политического и социального контроля экономической деятельности. Это привело к дезинтеграции всех форм социальной организации, особенно в случае городов. Распространился индивидуализм. Дело идет к исчезновению социальных норм, заменой которых выступают экономические механизмы и стремление к прибыли.
В завершение можно утверждать, что главной проблемой социологического анализа становится изучение исчезновения социальных акторов, потерявших под собой почву или из-за волюнтаризма государств, партий или армий, или из-за экономической политики, пронизывающей все сферы социальной жизни, даже те, что кажутся далекими от экономики и логики рынка. В последние десятилетия в Европе и других частях света самой влиятельной идеей была смерть субъекта. Это можно считать эквивалентом того, что принято называть критической социологией» [1].
Вывод, трагический для современной цивилизации: смерть субъекта. Исчезновение социальных акторов, т. е. коллективных субъектов общественных процессов! Это совершенно новое состояние социального бытия, мы к этому не готовы ни интеллектуально, ни духовно, а осваивать эту новую реальность надо срочно. Но, судя по множеству признаков, глубина и разрушительность этого кризиса «в Европе и других частях света» не идет в сравнение с тем, что переживает Россия.
Кризис российского общества, перешедший в 1991 г. в острую стадию, потряс всю эту систему, все ее элементы и связи. Период относительной стабилизации после 2000 г. сменился в 2008 г. новым обострением. Можно утверждать, что одна из главных причин продолжительности и глубины кризиса заключается в том, что в России произошла глубокая дезинтеграция общества. Этот процесс был запущен перестройкой и реформами 1990-х гг., маховик его был раскручен в политических целях — как способ демонтажа советского общества. Но остановить этот маховик после 2000 г. не удалось (если такая задача вообще была осознана и поставлена).
В 1999 г. исследователи, изучающие эту сторону реформы, писали:
«Социальная дезинтеграция понимается как процесс и состояние распада общественного целого на части, разъединение элементов, некогда бывших объединенными, т. е. процесс, противоположный социальной интеграции. Наиболее частые формы дезинтеграции — распад или исчезновение общих социальных ценностей, общей социальной организации, институтов, норм и чувства общих интересов… Это также синоним для состояния, когда группа теряет контроль над своими частями. Этим понятием часто обозначается и отступление от норм организации и эффективности, т. е. принятого институционального поведения то ли со стороны индивида, то ли со стороны социальных групп и акторов, стремящихся к переменам. Тогда понятие „социальная дезинтеграция” по содержанию становится весьма близким к понятию “аномия”. Социальная дезинтеграция способствует развитию социальных конфликтов» [2].
А. Тойнби писал, что «больное общество» (в состоянии дезинтеграции) ведет войну «против самого себя». Образуются социальные трещины: и «вертикальные» (например, между региональными общностями), и «горизонтальные» (внутри общностей, классов и социальных групп). Это и происходит в России.
В цитированной ранее обзорной работе сказано: «В настоящее время в российском социальном пространстве преобладают интенсивные дезинтеграционные процессы, размытость идентичностей и социальных статусов, что способствует аномии в обществе… Хуже всех пришлось представителям прежних средних слоев, которые были весьма многочисленны, хотя и гетерогенны: профессионалы с высшим образованием, руководители среднего звена, служащие, высококвалифицированные рабочие. Большая их часть обеднела и стремительно падает вниз, незначительная доля богатеет и уверенно движется к вершине социальной пирамиды…
Коренным образом изменились принципы социальной стратификации общества, оно стало структурироваться по новым для России основаниям… Исследования подтверждают, что существует тесная связь между расцветом высшего слоя, “новых русских” с их социокультурной маргинальностью, и репродукцией социальной нищеты, криминала, слабости правового государства» [2].
Уточним некоторые понятия.
Классы и группы: что соединяет в них людей
Сделаем небольшое методическое отступление о том, что будем понимать под классами и, шире, профессиональными общностями. В нашем обществоведении не задавались вопросом: класс — реальность или абстракция? Именно западные историки (особенно Э. Томпсон в Великобритании) поставили этот вопрос и пришли к выводу: в определенный исторический период классы — реальность! Эти современные историки, изучавшие, уже на базе нового знания, страну классического капитализма — Англию, — описали исключительно важный для нас процесс превращения общин в классы. Они сделали две оговорки, которые именно для нас меняют все дело.
В замечательном труде Э. Томпсона «Формирование рабочего класса Англии» (1963 г.) сказано: «Класс есть образование “экономическое”, но также и “культурное” — невозможно дать теоретического приоритета ни одному аспекту над другим. В последней инстанции принадлежность к классу может определиться в равной степени посредством и культурных, и экономических форм». Труды этого направления заложили основы социальной истории, которая быстро приобрела характер социокультурной истории. История становления рабочего класса показала, что структура общества складывается из социокультурных общностей, экономических атрибутов недостаточно для самосознания группы и благоприятных экономических условий недостаточно для сохранения общности.
В условиях дезинтеграции общества, когда система расколов, трещин и линий конфликта является многомерной, классификация общностей никак не может быть основана только на экономических индикаторах (собственность, доход, обладание товарами длительного пользования и т. д.). Кластеры отношений, соединяющих людей в группы, выражают именно социокультурные структуры. Однако произошедшие в обществоведении после краха СССР методологические сдвиги не приблизили к пониманию процессов дезинтеграции с их сильными синергическими эффектами. Социологи концентрируют свое внимание на социальной стратификации общества, которую характеризуют в основном экономическими индикаторами.
В 1996 г. социолог и культуролог Л.Г. Ионин сделал замечание, справедливое и сегодня: «Дело выглядит так, будто трансформирующееся российское общество в состоянии адекватно описать и понять себя при помощи стандартных учебников и стандартных социологических схем, разработанных на Западе в 1960-1970-е гг. для описания западного общества того времени…
И западное общество, и российское почти одновременно подошли к необходимости коренной когнитивной переориентации. На Западе она произошла или происходит. У нас же она совпала с разрушительными реформами и полным отказом от приобретенного ранее знания, а потому практически не состоялась. Мы упустили из виду процессы, происходящие в нашем собственном обществе и живем сейчас не своим знанием, а тридцати-сорокалетней давности идеологией западного модерна. Вместе с этой идеологией усваиваются и социологические теории, и методологии, тем более что они ложатся на заботливо приготовленную модернистским марксизмом духовную почву.
Теории, которые у нас ныне используются, описывают не то стремительно меняющееся общество, в котором мы живем сейчас. Переводимые и выпускаемые у нас ныне учебники социологии описывают не то общество, с которым имеет дело студент» [3].
Картина социальной стратификации российского общества, конечно, необходима как первое, грубое приближение, но она недостаточна, чтобы «понять себя». Выделение социальных слоев проводится прежде всего по уровням доходов, а это более узкое основание, чем даже выделение групп по отношению к собственности и разделению труда. Добавление к экономическим параметрам при стратификации индикаторов власти, статуса, образования, проведения свободного времени и пр., принципиально не меняют модели. В главном она сходится к описанию неравенства в распределительных отношениях.
Разделение на богатых, средний класс и бедных можно уточнять, разделяя эти страты на более тонкие слои (например, на 10 групп по уровню доходов), но проблема дезинтеграции общества по культурным и, в частности, по ценностным основаниям не решается. Не выявляются при этом ни причины «исчезновения социальных акторов», ни корни аномии российского общества. Насколько недостаточна модель социальной стратификации, показывает бесплодность концепции среднего класса как главного субъекта истории нынешней России, в том числе как субъекта модернизации. Эта концепция как раз и была выведена из этой модели, которую обществоведение приняло за свою парадигму.
М.К. Горшков (директор Института социологии РАН) пишет в связи с доктриной модернизации (2010 г.): «Практически не происходит осознания устойчивых групповых интересов, основанных на политических, социальных, духовных, профессиональных и других идентичностях. Это препятствует формированию полноценного гражданского общества и утверждению характерных для обществ модерна социальных практик и институтов» [4].
Но это и означает, что никакого среднего класса как социокультурной общности в России пока что не существует и эта страта социальным актором не является.
Виднейший российско-американский социолог П. Сорокин, говоря об интеграции общностей, исходил именно из наличия общих ценностей, считая, что «движущей силой социального единства людей и социальных конфликтов являются факторы духовной жизни общества — моральное единство людей или разложение общей системы ценностей». Но нынешние социальные страты в России вовсе не интегрированы общими ценностями. Напротив, по ряду ценностей группы складываются по вертикальной оси, пронизывая все страты и соединяя их в «больное общество». Например, социологи отмечают: «тревожность и неуверенность в завтрашнем дне присущи представителям всех слоев и групп населения, хотя, конечно, у бедных и пожилых людей эти чувства проявляются чаще и острее». И таких «вертикальных связок» много, и они едва ли не сильнее, чем горизонтальные связи в социальных стратах. Можно сказать, что происходит вертикальное членение общества, а не слоистое.
Значит, общность как субъект процессов кризисного общества должна быть выделена с помощью как экономических, так и культурных индикаторов и критериев. Исходя из сказанного, в этом докладе постараемся учесть и экономические, и культурные изменения в состоянии общности рабочих.
Для нашей темы полезно данное Л.Г. Иониным описание процесса дезинтеграции российского общества, рассмотренного через призму социологии культуры. Он пишет: «Гибель советской моностилистической культуры привела к распаду формировавшегося десятилетиями образа мира, что не могло не повлечь за собой массовую дезориентацию, утрату идентификаций на индивидуальном и групповом уровне, а также на уровне общества в целом…
Болезненнее всего гибель советской культуры должна была сказаться на наиболее активной части общества, ориентированной на успех в рамках сложившихся институтов, т. е. на успех, сопровождающийся общественным признанием. Такого рода успешные биографии в любом обществе являют собой культурные образцы и служат средством культурной и социальной интеграции. И наоборот, разрушение таких биографий ведет к прогрессирующей дезинтеграции общества и массовой деидентификации.
Наименее страдают в этой ситуации либо индивиды с низким уровнем притязаний, либо авантюристы, не обладающие устойчивой долговременной мотивацией. Авантюрист как социальный тип — фигура, характерная и для России настоящего времени» [5].
Здесь высказана очень важная вещь: условием связности любой профессиональной группы является наличие в ней небольшой, но особенно активной части — работников, ориентированных на успех, биографии которых «являют собой культурные образцы и служат средством культурной и социальной интеграции» общности.
Подобные группы работников, «представляющие» общность — ее актив, в разных сферах деятельности формируются по-разному. Но именно эти группы видны обществу, и их образ — язык, поведение, ценности и интересы, образ действий — приписывается стоящим за их спиной общностям. Если такая группа не образуется, то общность не видна, а значит, ее как социального явления не существует, ибо она не имеет канонического образа «самой себя» и не может обрести самосознания. Она остается, перефразируя Маркса, «общностью-в-себе».
Для «сборки» общности необходима конструктивная деятельность этой особой группы, которая выстраивает матрицу мировоззренческой, информационной и нормативной систем будущей общности (поначалу «общности-в-себе»). Эти группы («актив») и представляют в социальном мире возникающую и развивающуюся общность (за это представительство нередко возникает борьба нескольких групп активистов, например политических партий).
В последние десятилетия эти представления о формировании социальных (точнее, социокультурных) общностей были развиты ведущими социологами, в частности П. Бурдье. Общепринятым мнением эти представления воспринимаются с трудом. Мы привыкли «видеть» социальные общности как объективную реальность, хотя это — продукт нашего мыслительного конструирования образа реальности, а иногда и сложной теоретической работы. П. Бурдье сказал в интервью (1992 г.):
«Тот особый случай, который представляет собой проблема социальных классов, считающаяся уже решенной, очевидно, чрезвычайно важен. Конечно, если мы говорим о классе, то это в основном благодаря Марксу. И можно было бы даже сказать, если в реальности и есть что-то вроде классов, то во многом благодаря Марксу, или более точно, благодаря теоретическому эффекту, произведенному трудами Маркса» [6].
Надо уточнить, что этот актив не изобретает абстрактную сущность, а возникает на основе существующего в социальной системе материала — того контингента группы-в-себе, который и надо мобилизовать и консолидировать дополнительными связями. Классический случай: К. Маркс и его соратники смогли не только обозначить, но и создать класс пролетариата, потому что произошла промышленная революция и появилась масса людей, ставших наемными работниками на заводах и фабриках. Труды Маркса помогли этим людям узнать, что они существуют как класс, как субъект исторического процесса. Более того, во многих случаях группа-в-себе активно выбирает себе актив путем перебора кандидатов и в большой мере корректирует их доктрины.147
В докладе мы исходим из умеренного предположения, что российское общество переживает процесс дезинтеграции — происходит разрыв связей между общностями и в то же время разрыв связей между членами каждой общности, т. е. идет разрыхление и сокращение в размерах (деградация) самих общностей. Но эти процессы не достигли того порога, за которым деградация стала бы необратимой. Более того, сопротивление такому омертвлению сильнее, чем это казалось в 1990-е годы. С другой стороны, идут и процессы интеграции общества — по-новому в новых условиях, иногда в виде «сетей взаимопомощи», нередко в болезненных формах (например, в теневой или даже криминальной экономике, в молодежных сообществах типа фанатов или гопников). Конечно, динамическое равновесие неустойчиво и может быть резко нарушено.
Для выявления общностей — как сгустков кооперативных человеческих отношений — применяются разные методы наблюдения. Исходный материал для гипотез и программ наблюдения дает статистика. Социологи ведут наблюдения за коллективами или выборками людей, даже иногда «погружаются» в изучаемую среду, на время нанимаясь рабочими и пр. Проводятся опросы (иногда массовые), чтобы дополнить объективные данные выражениями самосознания людей как принадлежащих к той или иной общности.
После этих вводных рассуждений рассмотрим процесс дезинтеграции общества, а затем и общности промышленных рабочих, идя «сверху вниз».
Демонтаж народа ведет к дезинтеграции общества
Самым первым объектом демонтажа стал народ (нация). Выполнение политической задачи «разборки» советского народа привело к повреждению или разрушению многих связей, соединявших граждан в народ. Эта операция велась в двух планах — как ослабление и разрушение ядра советской гражданской нации, русского народа, и как разрушение системы межэтнического общежития [7]. Альтернативной матрицы для сборки народа (нации), адекватной по силе и разнообразию связей, создано не было. Программу нациестроительства государство не выработало до сих пор, но это — особая важная тема.
Разделение народа становится привычным фактом — разведенные реформой части общества уже осознали наличие между ними барьеров и разрывов. Фундаментальный «системный» раскол прошел по экономическим, социальным и мировоззренческим основаниям — раскол на бедных и богатых. Социологи пишут (2005 г.): «Бедные и богатые в России — два социальных полюса, причем речь идет не просто о естественном для любого общества с рыночной экономикой различных уровнях дохода отдельных социальных страт, источников поступления этого дохода и его структуры, но о таком качественном расслоении общества, при котором на фоне всеобщего обеднения сформировалась когорта сверхбогатых, социальное поведение которых несовместимо с общепризнанными моральными, юридическими и другими нормами» [8].
На этот раскол накладывается сетка разделения по региональным основаниям и по типам поселений. Вот вывод большого исследования (2009 г.): «Жители мегаполисов и российская провинция видели совершенно разные “России”. В мегаполисах со знаком «плюс» оценивают ситуацию в стране 69% респондентов, в российской провинции, районных центрах, поселках городского типа и на селе — от 34 до 38%. Ситуацию катастрофической или кризисной здесь считали свыше половины всех опрошенных, в то время как в мегаполисах — лишь более четверти. Уровень разброса оценок по отдельным городам впечатляет еще больше. Москвичей, довольных жизнью, было свыше 80%, тогда как в Пскове или Рязани — 22 и 26% соответственно» [9].
Интенсивные социально обусловленные страхи говорят о том, что люди ощущают себя не защищенными мощной системой народа, что, в свою очередь, заставляет их сплачиваться в малые группы или даже родоплеменные общности (2005 г.): «Анализ проблемы страхов россиян позволяет говорить о глубокой дезинтеграции российского общества. Практически ни одна из проблем не воспринимается большей частью населения как общая, требующая сочувствия и мобилизации усилий всех» [10].
В целом состояние общества в 2008 г. исследователи его структуры характеризуют так: «Современную социальную структуру российского общества нельзя рассматривать как стабильное устойчивое явление. Появившиеся различные формы собственности привели к рождению новой социальной структуры с новыми формами социальной дифференциации. Основной характеристикой современного российского общества является его социальная поляризация, расслоение на большинство бедных и меньшинство богатых…
Формируется класс собственников, расширяются средние слои. Появился слой менеджеров, гастарбайтеров, маргиналов, бедных. Россия активно включается в процессы “глокализации”, порождая различные “гибридные практики” и “кентавризмы”… Регионализация и анклавизация в настоящее время — существенная характеристика всей социально-экономической и политической жизни страны. Поэтому важнейшая задача — изучение отдельных слоев и групп со всей системой социальных конфликтов и противоречий в различных регионах страны, резко различающихся между собой по многим экономическим и социальнокультурным показателям» [11].
В.Э. Бойков говорит о дезинтеграции общества по ценностным основаниям: «Достижение ценностного консенсуса между разными социальными слоями и группами является одной из главных задач политического управления в любой стране. Эта задача актуальна и для современного российского общества, так как в нем либерально-консервативная модель государственного управления, судя по материалам социологических исследований, нередко вступает в противоречие с традициями, ценностями и символами, свойственными российской ментальности» [12].
Институт социологии РАН с 1994 г. ведет мониторинг «социально-экономической толерантности» в России — регулярные опросы с выявлением субъективной оценки возможности достижения взаимопонимания и сотрудничества между бедными и богатыми. После ноября 1998 г. эти установки стали удивительно устойчивыми. В ноябре 1998 г. они были максимально скептическими: отрицательно оценили такую возможность 53,1% опрошенных, а положительно 19% (остальные — нейтрально). Затем от года к году (от октября 2001 г. до октября 2006 г.) доля отрицательных оценок колебалась в диапазоне от 42,1 до 46%. Оптимистическую оценку давали от 20 до 22% [13]. Угроза утраты «коммуникабельности» со временем нарастает.
В результате дезинтеграции народа сразу же началась деградация внутренних связей каждой отдельной общности (профессиональной, культурной, возрастной). Совокупность социальных общностей как структурных элементов российского общества утратила «внешний скелет», которым для нее служил народ (нация). При демонтаже народа была утрачена скрепляющая его система связей «горизонтального товарищества», которые пронизывали все общности: и как часть их «внутреннего скелета», и как каналы их связей с другими общностями.
Прежде всего демонтажу были подвергнуты профессиональные общности, игравшие ключевую роль в поддержании политического порядка СССР. Для советского строя таковыми были, например, промышленные рабочие, интеллигенция, офицерство. После 1991 г. сразу были ослаблены и во многих случаях ликвидированы многие механизмы, сплачивающие людей в общности, сверху донизу.
Например, были упразднены даже такие простые исторически укорененные социальные формы сплочения общностей, как общее собрание трудового коллектива (аналог сельского схода в городской среде). Были повреждены или ликвидированы инструменты, необходимые для поддержания системной памяти общностей — необходимого средства для их сплочения. Политическим инструментом разрушения самосознания и самоуважения профессиональных общностей стало резкое обеднение населения, которое вызвало культурный шок и привело к сужению сознания людей. Директор Центра социологических исследований Российской академии государственной службы В.Э. Бойков писал в 1995 г.: «В настоящее время жизненные трудности, обрушившиеся на основную массу населения и придушившие людей, вызывают в российском обществе социальную депрессию, разъединяют граждан и тем самым в какой-то мере предупреждают взрыв социального недовольства» [14].148
Самосознание социокультурных общностей разрушалось и «культурными» средствами, в кампаниях СМИ. О.А. Кармадонов в большой работе (2010 г.) так пишет о «направленности дискурсивно-символической трансформации основных социально-профессиональных групп в годы перестройки и постсоветской трансформации»:
«Как следует из представленного анализа, в тот период развенчивались не только партия и идеология. В ходе “реформирования“ отечественного социума советского человека убедили в том, что он живет в обществе тотальной лжи. Родная армия, “на самом деле” — сборище пьяниц, садистов и ворья, наши врачи, по меньшей мере, непрофессионалы, а по большей — просто вредители и убийцы, учителя — ретрограды и садисты, рабочие — пьяницы и лентяи, крестьяне — лентяи и пьяницы. Советское общество и советские люди описывались в терминах социальной тератологии — парадигмы социального уродства, которая якобы адекватно отображает реалии. Это, разумеется, не могло не пройти бесследно для самоощущения представителей этих общностей и для их социального настроения, избираемых ими адаптационных стратегий — от эскапизма до группового пафоса.
Происходила массированная дискредитация профессиональных сообществ, обессмысливание деятельности профессионалов» [15].
Рассмотрим подробнее, как происходил процесс демонтажа общности промышленных рабочих.
Дискредитация рабочих во время перестройки
Утрата профессиональной общности промышленных рабочих как угроза деиндустриализации России с ее выпадением из числа индустриально развитых стран — особая проблема. В советском обществоведении образ этой общности формировался в канонических представлениях классового подхода марксизма, с небольшими добавлениями стратификационного подхода. Рабочий класс представлялся носителем некоторых прирожденных качеств (пролетарской солидарности, пролетарского интернационализма, ненависти к эксплуатации и несправедливости и т. д.). Такое представление о главной структурной единице советского общества оказало большое влияние на ход событий в СССР как в сфере сознания, так и в политической практике.
В советской государственной системе «группа уполномоченных представителей» рабочего класса каждодневно и успешно давала театральное представление «социальной реальности», в которой рабочие выглядели оплотом советского строя — сплоченной общностью с высоким классовым самосознанием. В действительности и советские историки, и западные советологи, и неомарксисты уже накопили достаточно материала, чтобы увидеть под классовой риторикой революции совсем другое явление, нежели планировал К. Маркс, и совсем иные социальные акторы. Рабочий класс России был еще проникнут общинным крестьянским мироощущением, которое и определяло его «габитус» — и мировоззрение, и образ действий в политической практике.
Н.А. Бердяев в книге «Истоки и смысл русского коммунизма» писал: «Марксизм разложил понятие народа как целостного организма, разложил на классы с противоположными интересами. Но в мифе о пролетариате по-новому восстановился миф о русском народе. Произошло как бы отождествление русского народа с пролетариатом, русского мессианизма с пролетарским мессианизмом. Поднялась рабоче-крестьянская, советская Россия. В ней народ-крестьянство соединился с народом-пролетариатом вопреки всему тому, что говорил Маркс, который считал крестьянство мелкобуржуазным, реакционным классом» [16].
В советский период этот «рабоче-крестьянский народ» совсем утратил навыки классового мышления и практики (в понимании марксизма) и оказался совершенно не готов противостоять политическим технологиям постмодерна, разработанным уже на основе трудов А. Грамши, Ж. Деррида и П. Бурдье. Антропологическая наука, изучавшая культуру традиционного общества, за послевоенное время сделала огромный скачок, найдя подходы к разборке и сборке общностей разных типов. Советские рабочие с их «классовым сознанием» выглядели перед идеологической машиной перестройки, как воины Судана против англичан с пулеметами.149
Рабочие и стали бульдозером перестройки, который крушил советский строй. О тех, кто сидел за рычагами, здесь не говорим. Б.И. Максимов, изучавший социологию рабочего движения во время перестройки и реформы, дает периодизацию этапов, которую мы изложим вкратце.
• Первый этап. Активное участие рабочих в действиях по «улучшению» советского строя под знаменем социализма и с риторикой идеологии рабочего класса:
«Рабочие не были инициаторами перестройки, но достаточно активно включились в движение: участвовали в развитии хозрасчета, в выборах руководителей, в деятельности Советов трудовых коллективов (СТК). При этом действовали обычно в составе трудовых коллективов, организаций с представленностью разных социальных групп (не было необходимости выделяться, обособляться) и в рамках царившей “социалистической” идеологии… Важнейшим фактором их активности являлась сохранившаяся, хотя и официозная, идеология рабочего класса, декларировавшая высокий статус рабочих и предписывавшая “быть в первых рядах”».
• Второй этап. Переход от лозунга «улучшения социализма» к критике советских порядков без отказа от «социализма» в целом: «Рабочие включились и в это движение, пожалуй, даже с большей энергией, чем на предыдущем этапе, а также совершили разворот в своих ориентациях и действиях. При этом действия рабочих не выходили за рамки критики отдельных сторон существующего строя, не были направлены на “преодоление социализма” в целом, хотя рабочих и использовали в качестве “взламывателей” “административно-командной системы”…
Парадоксальным образом, главным фактором социальной активности рабочих оставалась классовая идеология, не дававшая в то же время ответа на вопрос о коренных целях борьбы; но это противоречие вроде не замечали… Стоит отметить еще одно парадоксальное обстоятельство — при том, что положение рабочих оставалось относительно благополучным (по крайней мере, по сравнению с последующими этапами), оно оценивалось низко. Это говорит о значении субъективного восприятия».
• Третий этап. Рабочие поддержали реформу пассивно («молча»): «Они приняли участие в одобрении приватизации (на собраниях, посредством подписных листов), в приобретении ваучеров и покупке акций, в первых акционерных собраниях, в получении доли собственности в иных, не акционерных, образованиях. Здесь они выступили в роли соисполнителей преобразований, спускаемых сверху. В дальнейшем, в кардинальных реформах они были сугубо объектами изменений, могли только протестовать против них. Практически никакого сопротивления — ни индивидуального, ни коллективного, организованного — не существовало. Политическую оценку происходящих перемен рабочие, оказалось, неспособны были дать; за прежнюю систему они не держались, новая не пугала ввиду незнания ее и непонимания того, что происходило. Рабочие как бы “проворонили” общественный строй, отвечающий их интересам».
• Четвертый этап. Кардинальный переход к протесту против новых порядков: «Положение рабочих ухудшилось практически по всем параметрам, в некоторых отношениях, можно сказать, катастрофически. Соответственно, недовольство стало всеобщим; к недовольству примешивалось возмущение “большим обманом”.
Странно, но рабочие не протестовали прямо против сокращений, низкого уровня оплаты труда, ухудшения его условий, состояния социального страхования, “обманной” приватизации и т. п… Рабочие, как и другие социально-профессиональные группы, находились под гипнозом формулы о прогрессивности и даже неотвратимости (необратимости) реформ, приватизации… Лишения обычно воспринимались как неизбежные, почти как стихийные бедствия. Одним из главных субъективных факторов был “новый страх“… Противостоящий рабочим субъект на этом этапе растекся, принял нечеткие формы “реформаторов”, органов власти, редко — своего руководства».
• Пятый этап. Рабочие оказались в положении наемных работников капиталистического производства, избавившись от иллюзий соучастия в собственности (и акций). Прогнозируются протесты местного значения, возможно, разрушительные, но не революционные, ввиду отсутствия классового сознания [17].
Из всего этого видно, что ни на одном повороте хода событий в нашем кризисе рабочие не выступили как исторический субъект, как общность, сплоченная развитой информационной и организационной системами, адекватной рыночному обществу. Системы, которые ее скрепляли и придавали ей силу, могли существовать только в обществе советского типа.
Первый удар, нанесенный всей общности советских рабочих в целях ее демонтажа, состоял в ее дискредитации. Приведем большую выдержку из работы О.А. Кармадонова:
«В периоды глубоких социальных трансформаций реестры престижных и не престижных групп могут подвергаться своего рода конверсии. Группы, престижные в спокойные времена, могут утратить таковое качество в ходе изменений, а группы, пребывавшие в социальной тени, выходят в центр авансцены, и возврата к былому не предвидится.
Собственно, это и есть трансформация социальной стратификации в дискурсивно-символическом аспекте. Понятие “социальной тени” использовано здесь не случайно. Поощрения в данном типе стратификации включают, прежде всего, объем общественного внимания к группе и его оценочный характер. Общественное внимание можно измерить только одним способом — квантифицировать присутствие данной группы в дискурсе массмедиа в тот или иной период жизни социума. Полное или частичное отсутствие группы в дискурсе означает присутствие ее в социальной тени. Постоянное присутствие в дискурсе означает, что на эту группу направлено общественное внимание.
Драматичны трансформации с группой рабочих — в референтной точке 1984 г. они занимают максимальные показатели по обоим количественным критериям. Частота упоминания — 26% и объем внимания — 35% относительно обследованных групп. Символические триады референтного года подчеркивают важную роль советских рабочих. Когнитивные символы (К-символы) “коллектив”, “молодежь” — говорят о сплоченности и привлекательности рабочих профессий в молодежной среде. Аффективные символы (А-символы) — “активные”, “квалифицированные”, “добросовестные” фиксируют высокий социальный статус и моральные качества советских рабочих. Деятельностные символы (Д-символы) — “трудятся”, “учатся”, “премируются” — указывают на повседневность, на существующие поощрения и возможности роста…
В 1985 г. резко снижаются частота упоминания и объем внимания к рабочим — до 3 и 2% соответственно. Доминирующая символическая триада более умеренна, чем год назад, К-символ “трудящиеся”, А-символ — “трудолюбивые”, Д-символ — “ работают”…
В конце 1980-х — начале 1990-х гг., когда разворачивалось рабочее движение, частота упоминания и объем внимания по группе рабочих возросли — 16 и 7% (1989, 1990 гг.). В последующие годы показатели в “АиФ” никогда больше не превышали по этой группе 5 и 6% (соответственно) — показатель 2008 г.
Был период почти полного забвения — с 1999 по 2006 гг. индексы по обоим параметрам не поднимались свыше 0,3%. Снижение внимания к рабочим объясняется отказом от пропаганды рабочего класса в качестве “гегемона”, утратой к нему интереса, другими словами, экономической и символической депривацией данной общности.
Работают символы и символический капитал. Утратив его, рабочий класс как бы “перестал существовать”, перешел из состояния организованного социального тела в статус дисперсной и дискретной общности, вновь превратившись в “класс в себе” — эксплуатируемую группу людей, продающих свою мускульную силу, озабоченных выживанием, практически не покидающих область социальной тени, т. е. лишенных санкционированного поощрения в виде общественного внимания» [15].
Выведение в тень промышленных рабочих произошло не только в СМИ и массовом сознании, но и в общественной науке.
При первом приближении обществоведения к структуре социальной системы логично делать объектом анализа наиболее массивные и социально значимые общности. Так, в индустриальном обществе объектом постоянного внимания обществоведения является рабочий класс. Обществоведение, «не видящее» этого класса и происходящих в нем (и «вокруг него») процессов, становится инструментом не познания, а трансформации общества.
Именно такая деформация произошла в постсоветском обществоведении — рабочий класс России был практически исключен из числа изучаемых объектов. Между тем, в этой самой большой общности экономически активного населения России происходили драматические изменения. В 1990-е гг. страна переживала деиндустриализацию, а рабочий класс, соответственно, деклассирование и в большой мере маргинализацию. Эти социальные явления, которых не переживала ни одна индустриальная страна в истории, — колоссальный эксперимент, который мог дать общественным наукам большой объем знания, недоступного в стабильные периоды жизни общества. Это фундаментальное изменение социальной системы не стало предметом исследований в обществоведении, а научное знание об этих изменениях и в малой степени не было доведено до общества.
Красноречивы изменения в тематической структуре социологии. Предпочтительными объектами социологии стали предприниматели, элита, преступники и наркоманы. С 1990 г. сама проблематика классовой структуры была свернута в социологии. Контент-анализ философской и социологической отечественной литературы, показал, что за 1990-1992 гг. в массиве из 16,2 тыс. публикаций термин «классовая структура» встретился лишь в 22 документах. Социологи практически прекратили изучать структуру общества через призму социальной однородности и неоднородности, употребление этих терминов сократилось в 18 раз — как раз в тот момент, когда началось быстрое социальное расслоение общества. В социологической литературе стало редко появляться понятие «социальные последствия», эта тема стала почти табу [18].
Б.И. Максимов пишет: «Если взять российскую социологию в целом, не много сегодня можно насчитать научных центров, кафедр, отдельных ученых, занимающихся проблемами рабочих, рабочего движения, которое совсем недавно, даже по шкале времени российской социологии, считалось ведущей силой общественного развития и для разработки проблем которого существовал академический институт в Москве (ИМРД). Почти в подобном положении оказалась вся социально-трудовая сфера,… которая также как будто бы “испарилась”. Она оказалась на периферии внимания сегодняшней раскрепощенной социологии. Неужели эта сфера стала совершенно беспроблемной? Или, может быть, общественное производство до такой степени потеряло свое значение, что его можно не только не изучать (в том числе социологам), но и вообще не иметь (развалить, распродать, забросить)?
Дело, видимо, не в исчезновении объекта исследования, его проблемности, а в некоторой конъюнктурности социологии. Было модно — все изучали труд, социалистическое соревнование и движение к коммунистическому труду, советский образ жизни и т. п. Изменилась мода — анализируем предпринимательство, элиту, преступность, наркоманию, смертность, беспризорных детей и т. п.» [19].
Кроме того, некоторые социологи из ведущих научных учреждений примкнули к идеологической кампании дискредитации рабочих как профессиональной группы, которую во время перестройки вели политики из команды Горбачева.
Идеологи перестройки создавали фантастический образ трудящихся в целом и рабочих особенно. Академик Т.И. Заславская в марте 1990 г. в докладе в АН СССР представила их так: «Сотни миллионов обездоленных, полностью зависимых от государства представителей этого класса пролетаризированы, десятки миллионов — люмпенизированы, т. е. отчуждены не только от средств производства, но и от собственной истории, культуры, национальных и общечеловеческих ценностей» [20].
А.Н. Яковлев, говоря о «тотальной люмпенизации советского общества», которое надо «депаразитировать», делал акцент на «тьме убыточных предприятий, работники которых сами себя не кормят, следовательно, паразитируют на других».
Инерция этой идеологической установки велика. Социологи А.Л. Темницкий и О.Н. Максимова, опираясь на туманную философскую концепцию отчуждения, в 2008 г. характеризовали общность рабочих, унаследованную от СССР, в следующих выражениях: «Исследователями отмечалось, что различия в трудовых доходах абсолютного большинства рабочих качественно несущественны, а преобладающим типом трудовой мотивации является принцип халявы (гарантированный доход ценой минимума труда)… Эти факты позволяли ученым говорить о сформировавшемся, устойчивом и широко распространенном люмпенизированном типе личности работника, отчужденного от собственного труда. Типичные черты поведения и сознания такого работника: невысокая квалификация и отсутствие нацеленности на ее повышение; низкая ответственность и ярко выраженное стремление уклониться от любого дела, требующего личной ответственности; отсутствие инициативы и негативное отношение к активности других; устремленность на минимизацию своих трудовых усилий, рестрикционизм; чрезвычайная зависимость от руководителя и признание таковой как должного; ориентация на уравнительность и согласие на низкий заработок. Общая численность люмпенизированных слоев среди работников промышленности составляла к концу 1980-х гг. 50-60%… Можно предположить, что развитие люмпенских качеств работника — следствие административных зажимов возможности заработать столько, сколько сможешь» [21].
В преамбуле Концепции закона о приватизации промышленных предприятий (1991 г.) в качестве главных препятствий ее проведению назывались такие: «Мировоззрение поденщика и социального иждивенца у большинства наших соотечественников, сильные уравнительные настроения и недоверие к отечественным коммерсантам (многие отказываются признавать накопления кооператоров честными и требуют защитить приватизацию от теневого капитала); противодействие слоя неквалифицированных люмпенизированных рабочих, рискующих быть согнанными с насиженных мест при приватизации».
Постепенно сама численность рабочих стала выпадать, как особый показатель, из публикуемой статистики. С 2006 г. в ежегодниках и сборниках «Промышленность» указывается только «численность занятых». Ежегодные сведения о численности промышленных рабочих не публикуются, а отрывочные данные о рабочих приводятся лишь в оперативных стат-сводках. Отсюда и пробелы в данных о численности рабочих в 2007-2012 гг.
Б.И. Максимов сообщает: «Обращаюсь в Петербургкомстат за справкой о заработной плате, условиях труда, занятости рабочих. Отвечают: показатель “рабочие” изначально не закладывается в исходные данные, собираемые с мест. Поэтому “ничем помочь не можем”. Даже за деньги» [19].
Приватизация промышленности и деиндустриализация
Вслед за кампанией дискредитации рабочих в СМИ этой общности был нанесен второй, главный, удар — приватизация промышленных предприятий. Кратко напомним суть этой операции.
В 1991 г. Верховный Совет СССР принял закон о приватизации промышленных предприятий, а в 1992-1993 гг. была проведена массовая приватизация промышленных предприятий России. Эта приватизация является самой крупной в истории человечества акцией по экспроприации — изъятию собственности у одного социального субъекта и передаче ее другому.
Небольшой группе «частных собственников» была передана огромная промышленность, которая изначально была вся построена как единая государственная система. Надо подчеркнуть, что приватизации подверглись не те предприятия, которые были национализированы в 1918-1920 гг. То, что сохранилось после 7 лет войны (1914-1921 гг.) и было национализировано, составляло около трети промышленного потенциала 1913 г., который и сам производил 0,5% от объема производства промышленности СССР 1990 г. После 1991 г. была приватизирована промышленность, полностью созданная советским народом — в основном, поколениями, родившимися после 1920 г.
Это был производственный организм совершенно нового типа, не известного ни на Западе, ни в дореволюционной России. Он представлял собой важное основание российской цивилизации индустриальной эпохи ХХ в. В экономическом, технологическом и социальном отношении расчленение этой системы означало катастрофу, размеров и окончательных результатов которой мы и сейчас еще не можем полностью осознать. Но уже в настоящее время зафиксировано в мировой науке: в России приватизация привела к небывалому в истории по своей продолжительности и глубине экономическому кризису, которого не может удовлетворительно объяснить теория.
Объем промышленного производства упал в 1998 г. до 46,3% от уровня 1990 г. (рис. 1).150 Вот, например, самая богатая, не имевшая проблем со сбытом отрасль, нефтедобыча: в 1988 г. на одного работника здесь приходилось 4,3 тыс. т добытой нефти, а в 1998 г. — 1,05 тыс. т. Падение производительности в 4 раза! В электроэнергетике то же самое — производительность упала в 2 раза, ниже уровня 1970 г. В 1990 г. на одного работника приходилось 1,99 млн кВт-ч отпущенной электроэнергии, а в 2000 г. 0,96 млн кВт-ч.
Рис. 1. Объем производства промышленной продукции в РСФСР и РФ (в сопоставимых ценах, 1980 = 100)
Вот непосредственные последствия приватизации.
• Были разорваны внутренние связи промышленности, и она потеряла системную целостность. Были расчленены (в среднем на 6 кусков) промышленные предприятия, вследствие чего они утратили технологическую целостность.
• Произошла структурная деформация промышленности — резкий сдвиг от обрабатывающей к сырьевой (и экспортным отраслям, производящим «упакованную» энергию в виде энергоносителей, металлов и удобрений). Ряд системообразующих отраслей почти утрачены, как, например, тракторостроение, авиационная и фармацевтическая промышленность.
• Была разрушена сбалансированная система цен, что парализовало отечественный рынок многих видов продукции (например, сельскохозяйственных машин и удобрений). В ряде отраслей новые «собственники» распродали основные фонды (так, Россия утратила 75% морского торгового флота). Сооружения, машины и оборудование эксплуатируются на износ.
• Приватизация стала небывалым в истории случаем теневого соглашения между бюрократией и преступным миром. Две эти социальные группы поделили между собой промышленность России. Следствием стала криминализация экономики, как тяжелая гиря на ногах.
• Приватизация внедрила политическими средствами совершенно новые отношения в социальную ткань населяющих постсоветские республики народов. Возвращение массовой безработицы, которой не знали уже в течение полувека, было тяжелым ударом по экономике и культуре.
• Обман рабочих, который сопровождал приватизацию, привел к их глубокому отчуждению от государства и сделал собственность предпринимателей нелегитимной. Социолог Н.Ф. Наумова писала, что «российское кризисное сознание формируется как система защиты (самозащиты) большинства от враждебности и равнодушия властвующей элиты кризисного общества». На это важное наблюдение В.П. Горяинов заметил: «Сказанное как нельзя точно подходит к большинству населения России. Например, нами по состоянию на 1994 г. было показано, что по структуре ценностных ориентаций население России наиболее точно соответствовало социальной группе рабочих, униженных и оскорбленных проведенной в стране грабительской приватизацией» [54].
Доктрина приватизации противоречила наличному знанию. Аналогии советского хозяйства с западным не имели познавательной ценности, а никаких теоретических разработок трансформации его в рыночную экономику западного типа у реформаторов не было. Ликвидация Госплана, Госснаба, Госстандарта и Госкомцен неизбежно и моментально привела экономику к краху. Только благодаря «партизанскому» сопротивлению и предприятий, и госаппарата удалось сохранить половину экономического потенциала.
Ход процесса был довольно точно предсказан. В 1990 г. академик Ю.В. Яременко писал: «Пока нет другого способа поддержания равновесия кроме целенаправленной, централизованной деятельности Госплана. Отсюда вытекает и необходимость сохранения главных инструментов этой деятельности — значительной величины централизованных капитальных вложений, существенного объема госзаказа на сырьевые ресурсы» [22].
Но достигнута ли декларированная цель, удалось ли создать промышленность западного типа? Нет, не удалось. Россия имеет промышленную систему советского типа, только изуродованную и лишенную потенциала к развитию. Ни переделать систему, ни построить рядом с ней новую, «западную», не удалось. Надо это признать и начать исправлять ошибки.
В короткий срок контингент промышленных рабочих России лишился статуса и сократился вдвое (рис. 2). Наиболее драматичным стало сокращение с 1987 г. промышленно-производственного персонала в Молдове к 1996 г. в 2,88 раза и в Кыргызстане — в 2,81 раза.
Рис. 2. Численность промышленных рабочих в РСФСР и РФ, млн
Что произошло с 8 млн рабочих, покинувших предприятия до 2000 г.? Что произошло с социальным укладом предприятий в ходе такого изменения? Как изменился социальный престиж рабочих профессий в массовом сознании и в среде молодежи? Что произошло с системой профессионального обучения в промышленности? В настоящее время ни общество, ни государство не имеют ясного представления о том, какие угрозы представляет для страны утрата этой профессиональной общности, соединенной определенным типом знания и мышления, социального самосознания, мотивации и трудовой этики.
Показателем деиндустриализации России является и динамика инвестиций в основной капитал промышленности. Динамика этого показателя приведена на рис. 3.
Рис. 3. Инвестиции в основной капитал промышленности РСФСР и РФ (в сопоставимых ценах, 1970 = 100)
За более чем 20 лет реформ 1991-2012 гг. недовложения в основной капитал промышленности РФ (по уровню 1990 г.) составили около 2,1 трлн долл. США. После 1999 г. инвестиции в промышленность восстанавливаются медленнее, чем в других видах экономической деятельности (транспорт и связь, торговля). В начале 2010-х гг. по объему инвестиций в промышленность РФ находилась на уровне РСФСР 1980 г. Следствием сокращения инвестиций стало нарастание износа основных фондов в промышленности, уже в 1997 г. он перевалил за 50%.
Приватизация промышленности в России сопровождалась беспрецедентной в истории пропагандой деиндустриализации. Ее вели видные деятели науки, академики. Эта пропаганда имела прямое отношение к судьбе общности промышленных рабочих.
Академик РАН Н.П. Шмелев в важной статье 1995 г. ставил следующие задачи: «Наиболее важная экономическая проблема России — необходимость избавления от значительной части промышленного потенциала, которая, как оказалось, либо вообще не нужна стране, либо нежизнеспособна в нормальных, т. е. конкурентных, условиях. Большинство экспертов сходятся во мнении, что речь идет о необходимости закрытия или радикальной модернизации от 1/3 до 2/3 промышленных мощностей» [23].
Ради фантома «конкурентности» Н.П. Шмелев был готов пойти на ликвидацию до 2/3 всей промышленной системы страны! И подобные заявления по важнейшему не вызывали никакой реакции ни среди политиков, ни в научном сообществе. Так, обосновывалось массовое увольнение рабочих. В той статье Н.П. Шмелев писал о якобы огромном избытке занятых в промышленности: «Сегодня в нашей промышленности 1/3 рабочей силы является излишней по нашим же техническим нормам, а в ряде отраслей, городов и районов все занятые — излишни абсолютно».
Вдумайтесь в эти слова: «в ряде отраслей, городов и районов все занятые — излишни абсолютно». Что значит «в этой отрасли все занятые — излишни абсолютно»? Что значит «быть излишним абсолютно»? Что это за отрасль? А ведь Н.П. Шмелев утверждает, что таких отраслей в России не одна, а целый ряд. А что значит «в ряде городов и районов все занятые — излишни абсолютно»? Что это за города и районы? Все это печатается в социологическом журнале Российской академии наук!
Эта мысль о лишних работниках России очень устойчива. В 2003 г. Н.П. Шмелев написал: «Если бы сейчас экономика развивалась по-коммерчески жестко, без оглядки на социальные потрясения, нам бы пришлось высвободить треть страны. И это при том, что у нас и сейчас уже 12-13% безработных. Тут мы впереди Европы. Добавьте к этому, что заводы-гиганты ближайшие несколько десятилетий обречены выплескивать рабочих, поскольку не могут справиться с этим огромным количеством лишних» [24].
Какие «заводы-гиганты» увидел Н.П. Шмелев в 2003 г., какое там «огромное количество лишних», которых якобы эти заводы «обречены выплескивать ближайшие несколько десятилетий»! И этим оправдывают экономическую и социальную катастрофу. Какой регресс культуры…
Часть политиков и ученых увлеклась утопией «постиндустриализма», который якобы позволит человечеству обходиться без материального производства — промышленности и сельского хозяйства. Трудно поверить в искренность такого увлечения, но этот образ будущего стал важной частью идеологии реформы.
Академик Н.П. Шмелев определил срок ликвидации российской промышленности всего в 20 лет. Он пишет в 1995 г.: «Если, по существующим оценкам, через 20 лет в наиболее развитой части мира в чисто материальном производстве будет занято не более 5% трудоспособного населения (2-3% в традиционной промышленности и 1-1,5% в сельском хозяйстве) — значит, это и наша перспектива» [23].
До названного им срока остался год, но никаких корректив в свой прогноз он не вносит.
А в 2004 г. свой образ будущего представил на научной конференции министр экономического развития России Г. Греф: «Призвание России состоит в том, чтобы стать в первую очередь не руками, а мозгами мировой экономики!». Но сам тут же уточнил: «Этого нельзя сделать ни за десять, ни за пять лет, но мы должны последовательно идти в эту сторону».
Что за цель поставлена перед Россией — «стать не руками, а мозгами мировой экономики»? Как эта цель может быть структурирована в программах? Что значит «идти в эту сторону», причем последовательно? Тогда же Г. Греф сделал такое заявление: «Могу поспорить, что через 200-250 лет промышленный сектор будет свернут за ненадобностью так же, как во всем мире уменьшается сектор сельского хозяйства» [25].
Что это такое?
Большинство ждет, когда правительство займется восстановлением экономики, такой опыт в России есть. Но В.Ю. Сурков, тогда должностное лицо высокого ранга, о таком варианте говорит в 2007 г. (в лекции в Президиуме РАН), как об очевидной глупости: «Поэтому мы так долго топчемся в индустриальной эпохе, все уповаем на нефть, газ и железо. Поэтому постоянно догоняем: то Америку, то самих себя образца 1989 г., а то и вовсе Португалию. Гоняемся за прошлым, то чужим, то своим. Но если предел наших мечтаний — советские зарплаты или евроремонт, то ведь мы несчастнейшие из людей» [26].
«Мы», к которым он обращается, не мечтаем о евроремонте, нам нужен нормальный ремонт теплоснабжения и жилищного фонда, чтобы дети и старики не мерзли зимой. «Мы» не мечтаем о зарплатах, нам нужна адекватная труду зарплата, чтобы наши дети не страдали от недоедания и болезней. И здравый смысл говорит нам, что если мы не будем «топтаться в индустриальной эпохе», варить сталь и делать тракторы, то наши дети останутся без тепла и хлеба. Пусть бы В.Ю. Сурков объяснил, как нам, «не догоняя самих себя образца 1989 г.», перескочить в цивилизацию без нефти, газа и железа.
В.Ю. Сурков делает в Президиуме РАН принципиально важное заявление: «Нам не нужна модернизация. Нужен сдвиг всей цивилизационной парадигмы… Речь действительно идет о принципиально новой экономике, новом обществе» [16]. Это — стратегическая концепция. Но кто ее вырабатывал, кто ее обсуждал? Какую «принципиально новую экономику» будут теперь строить в России? О каком «новом обществе» идет речь? Как оно будет устроено, на каких основаниях? Почему «нам не нужна модернизация»? Какой «сдвиг всей цивилизационной парадигмы» нам, оказывается, нужен?
Деиндустриализация — свершившийся факт, из него надо исходить при разработке всех стратегических программ развития.
В 2012 г. В.В. Путин писал: «Фактически мы пережили масштабную деиндустриализацию. Потерю качества и тотальное упрощение структуры производства… Мы прошли через деиндустриализацию, структура экономики сильно деформирована» [60].
Надо подчеркнуть, что деиндустриализация представляет собой национальную угрозу прежде всего для русского народа. В социальном плане все народы России несут урон от утраты такого огромного богатства, каким является промышленность страны. Но за ХХ в. образ жизни почти всего русского народа стал индустриальным, т. е. присущим индустриальной цивилизации. Даже в деревне почти в каждой семье кто-то был механизатором. Машина с ее особой логикой и особым местом в культуре стала неотъемлемой частью мира русского человека. Русские стали ядром рабочего класса и инженерного корпуса СССР. На их плечи легла главная тяжесть не только индустриализации, но и технического развития страны. Создание и производство новой техники сформировали тип мышления современных русских, вошли в центральную зону мировоззрения, которое сплачивало русских в народ. Русские по-особому организовали завод, вырастили свой особый культурный тип рабочего и инженера, особый технический стиль.
Разумеется, все народы СССР участвовали в индустриализации страны, но культура индустриализма в разной степени пропитала национальные культуры разных народов, с этим трудно спорить. И если в социальном плане осетины или якуты тоже страдают от вытеснения России из индустриальной цивилизации, то это не является столь же разрушительным для ядра их национальной культуры, как у русских. Русские как народ выброшены деиндустриализацией из их цивилизационной ниши. Это разорвало множество связей между ними, которые были сотканы индустриальной культурой: ее языком, смыслами, образами, поэзией. А назад, в доиндустриальный образ жизни, большой народ вернуться не может.
Утопия постиндустриализма остается актуальной. В августе 2011 г. был опубликован доклад «Стратегия-2020: Новая модель роста — новая социальная политика» [27]. Он готовился как стратегическая программа большой группой экспертов под руководством ректора Высшей школы экономики Я. Кузьминова и ректора Академии народного хозяйства и государственной службы В. Мау. Эти две организации — «мозговые центры» реформы, которая ведется в России с 1992 г.
Главный тезис доклада таков: «Новая модель роста предполагает ориентацию на постиндустриальную экономику — экономику завтрашнего дня. В ее основе сервисные отрасли, ориентированные на развитие человеческого капитала: образование, медицина, информационные технологии, медиа, дизайн, “экономика впечатлений” и т. д.».
Это совершенно ложная цель, протаскивание той же доктрины деиндустриализации, что была выдвинута в 1990-е гг. Известна формула: «Постиндустриальная экономика — это гипериндустриальная экономика». Структуры постиндустриального производства базируются на мощной промышленной основе, прежде всего на машиностроении и производстве материалов нового поколения, на технологиях с высокой интенсивностью потоков энергии (в том числе, новых видов), а вовсе не на «экономике впечатлений» и фантазиях дизайнера. Прежде чем Россия сможет переориентировать свое хозяйство на «сервисные отрасли, медиа и дизайн», она должна восстановить свою промышленность, подорванную в 1990-е годы деиндустриализацией. А ведь новая индустриализация еще и не начиналась!
Эта стратегическая доктрина противоречит заявлениям президента о том, что России требуется новая индустриализация. Такие разногласия не способствуют консолидации общества.
Изменения социального состояния общности рабочих в ходе реформы
Реформа разрушила прежний образ жизни рабочих, а значит, и их культуру и образ мышления. За ходом этого процесса с самого начала реформ и до настоящего времени наблюдают несколько групп социологов. В основном результаты их исследований совпадают.
Б.И. Максимов дает краткое описание этого процесса: «С наступлением кардинальных реформ положение рабочих ухудшалось, притом практически по всем параметрам, относительно прежнего состояния и в сравнении с другими социально-профессиональными группами работников.
Занятость рабочих — первая, пожалуй, наибольшая проблема… Число безработных доходило до 15%; нагрузка на одну вакансию — до 27 человек; неполная занятость в промышленности была в 2-2,5 раза выше среднего уровня; число рабочих, прошедших состояние полностью или частично незанятого с 1992 г. по 1998 г., составило 30-40 млн человек, что сопоставимо с общей численностью данной группы.151
Крушение полной занятости сопровождалось материальными, морально-психологическими лишениями, нарушением трудовых прав: длительным поиском нового места работы, непостановкой на учет в центрах занятости, неполучением пособия по безработице и других услуг, “недостатком средств для жизни”, в том числе для обеспечения семьи, детей, моральным унижением”, по некоторым данным — даже разрушительными воздействиями на личность. Безработные чаще других становились преступниками, алкоголиками (например, в 1998 г. среди совершивших правонарушения доля лиц без постоянного дохода составляла 55,6%). Часть безработных выпадала в категорию хронически, постоянно незанятых, перебивающихся случайными заработками. Безработица коснулась и тех, кто не терял работы. Из них до 70% испытывали неуверенность в своем положении, страх потерять работу, вынуждены были мириться с ухудшением условий труда, работой не по специальности и др. Закономерный результат — деградация корпуса рабочих кадров и их последующий дефицит.
В оплате труда положение рабочих также было неблагоприятным. Установленный МРОТ составлял смехотворную, можно сказать, издевательскую величину, например, в Санкт-Петербурге в 1999 г. составлял 0,07 прожиточного минимума (ПМ). Притом и ПМ являлся уровнем фактически физического выживания одного человека, без учета семьи, иждивенцев, применимым в течение критического (ограниченного) времени… Среднедушевой доход в течение длительного времени не превышал даже прожиточный минимум, составлял незначительную часть потребительской корзины и субъективной нормы.
Условия труда. По данным официальной статистики при сохранении прежнего уровня вредности, тяжести труда выросло число пострадавших от несчастных случаев со смертельным исходом… Режимы труда рабочего и времени для отдыха нарушались в течение всего рассматриваемого периода. Распространение получила вторичная занятость (по различным данным имели дополнительную работу от 20 до 50% рабочих)… По данным ВЦИОМа, заработок квалифицированных рабочих на дополнительной работе в 2006 г. составлял более 40%. Незыблемое право на ежегодный отпуск 1/4 опрошенных нами рабочих (на частных предприятиях — более 60%) не использует или использует частично, иногда — без оплаты. В случае заболевания берут больничные листки 53%, получают пособие по беременности, родам 77% женщин. Государственный контроль за соблюдением социально-трудовых прав практически сошел на нет.
Произошло практически (почти) полное отчуждение рабочих от участия в управлении на уровне предприятий, выключение из общественно-политической жизни в масштабах общества. Российские работодатели демонстрировали буквально иррациональную нетерпимость к участию рабочих в управлении. В ответ, вместо сопротивления ограничениям, рабочие стали практиковать “избавление от акций“… По данным нашего опроса почти половина рабочих прошла через моральные унижения в различных формах.
Таким образом, реформенные преобразования оказали глубокое и разностороннее, как правило, отрицательное воздействие на положение рабочих. П. Штомпка изменения в их положении, социальном статусе охарактеризовал как социальную травму. Происходит “разрушение статуса социальной группы”» [28].
Резкое обеднение рабочих привело к аномальному сокращению свободного времени, что в современном обществе означает сокращение возможностей для гражданской активности и к архаизации быта и культуры. Социолог Г.П. Бессокирная, изучавшая с начала реформ социальные процессы в общности рабочих, пишет: «Распространенность и эффективность почти двух десятков способов приспособления занятых российских горожан к радикально меняющимся условиям труда и жизни изучались в наших предыдущих исследованиях. По данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ, массив данных 2000 г., опрошено 9009 человек) за 1998 г., было установлено, что относительно популярных и эффективных способов приспособления, кроме обращения за помощью к родственникам и друзьям, всего два: интенсификация труда на приусадебном участке и дополнительная работа.
В ходе двух исследований на московских предприятиях (1993-1994 и 1999-2000 гг.) выяснилось, что масштабы распространения этих способов приспособления весьма существенны и в столице. Например, в 1999-2000 гг. большинство московских рабочих имели или хотели бы иметь земельные участки (59%), дополнительную работу (61%). Результаты исследования на трех крупных машиностроительных заводах в областных центрах РФ (Брянске, Пскове и Кирове) в 2003 г. показали, что абсолютное большинство рабочих имеют или хотят иметь земельные участки (81%), многие ориентированы на вторичную занятость (63%)… Фактически земельный участок в провинции имеется у 69%, в Москве — у 46% рабочих» [29].
Травмирующий период безработицы и крайней бедности пережили и шахтеры, которые своими забастовками в поддержку Б. Ельцина в конце 1980-х гг. немало способствовали краху советской системы. Б.И. Максимов, который в июле 1998 г. провел несколько дней как социолог на Горбатом мосту среди участников шахтерского пикета в Москве, приводит записи рассказов шахтеров из разных угольных бассейнов. Вот что, например, рассказал шахтер из полярной Воркуты: «Нет денег на самое необходимое. Продукты приходится брать под запись в шахтной лавке. А там цены в 2, в 3 раза дороже. Эту лавку содержит сын директора. В других регионах, знаем, картошкой перебиваются. У нас ничего невозможно вырастить — мерзлота. Приходится просить денег у родителей-пенсионеров, которым мы сами должны помогать. А у них пенсия — известно какая. Стыдно. Дома жена осталась с двумя детьми. Сын мне как-то говорит: “Что, папа, помирать будем? — Что ты, сынок?! — Ты же денежки не получаешь”. В глаза детям смотреть не могу, никому не хочется, чтобы они чувствовали себя ущемленными. В одной семье сын-школьник повесился, оставил записку: “Мне надоело слушать ваши с мамой ссоры из-за денег…”. В другой семье сам отец не выдержал — обвязал себя взрывчаткой. У нас трое покончили с собой. Мы — рабы, скоты. Раба и то хозяин кормит. Так больше жить нельзя!» [30].
Показательно воздействие реформы на особый отряд промышленных рабочих и ИТР — работников оборонной промышленности, которая в 1991-1993 гг. была подвергнута разрушительной «конверсии». Было резко (в 4 раза в 1992 г.) сокращено производство военной продукции, уволены 300 тыс. работников, резко сократилась зарплата. Особенность этого эпизода в том, что большинство работающих на оборонных предприятиях в тот момент были женщины, причем с очень высоким уровнем образования и квалификации, элита общности промышленных рабочих.
Г.Г. Силласте, которая изучала социальную сторону конверсии, писала в 1993 г.: «Женские коллективы в оборонной промышленности особые: по образовательному цензу, профессионализму, непрерывному стажу многолетней работы на предприятиях, фокусирующих высшие достижения современной науки и передовых технологий. 60% респонденток составили инженеры и конструкторы; 3,4% — руководители на уровне отдела, цеха; 17% — служащие; 71% опрошенных имеет высшее и незаконченное высшее образование; 3% из них кандидаты и доктора наук. 80,7% женщин работают на своих предприятиях более 11 лет, из них 56% — свыше 20 лет. Только 6,3% имеют трудовой стаж до 5 лет.
Судя по самооценке респонденток, 93% считают себя плохо обеспеченными, 59% из них — низкооплачиваемыми, а 34% — живут ниже уровня бедности. К числу достаточно обеспеченных и высокооплачиваемых отнесли себя всего 6% опрошенных. В итоге на вопрос “Что позитивного лично Вам принесла конверсия?” 89% однозначно ответили: “ничего”…
Возможные последствия прозападного подхода к конверсии могут быть по оценкам женского общественного мнения очень тяжелыми: ослабление обороноспособности России, замена наукоемкой продукции — дешевой и массовой, падение производительности труда, потеря высококвалифицированных специалистов…
Ответы на вопрос “Что вызывает у Вас беспокойство в связи с конверсией в России?” позволили выстроить следующую иерархию отрицательной мотивации: угроза массовой безработицы (58%); распыление высококвалифицированных специалистов (56,7%); отсутствие обоснованной программы конверсии (46,7%); ослабление обороноспособности России (39%); снижение технического уровня, подмена дорогостоящей наукоемкой продукции дешевым ширпотребом (24%). Итак, на первом плане социальные мотивы, на втором — политические, на третьем — производственно-технические.
В итоге спокойны за будущее свое и своей семьи всего 8,3% опрошенных работниц;… за будущее России — 8,1%. Это самый низкий уровень социального оптимизма, когда-либо фиксировавшийся в женской среде.
Один из выводов исследования состоит в том, что традиционная вера женщин в помощь со стороны государства, политических партий и организаций, надежда на справедливые законы фундаментально подорваны» [31].
В целом, первый этап реформ (1990-е годы) погрузил унаследованную от советского порядка общность рабочих в состояние социального бедствия, которое в кооперативном взаимодействии с информационно-психологическими ударами оказало разрушительный эффект на связность этой общности.152
Итог этого десятилетия социологи формулируют так: «Только у незначительного числа индивидов и социальных групп изменения произошли к лучшему, в то время как у большинства населения (82% опрошенных в декабре 1998 г.) ситуация катастрофически ухудшилась. К этому следует добавить такие негативные явления, как рост безработицы и депрофессионализация занятых. Исследования подтверждают, что существует тесная связь между расцветом высшего слоя, “новых русских” с их социокультурной маргинальностью, и репродукцией социальной нищеты, криминала, слабости правового государства» [2].
Процессы, запущенные в 1990-е годы, обладают большой инерцией, и улучшение экономической ситуации после 2000 г. само по себе их не останавливает — пережившим социальную травму людям требуется программа реабилитации. «Ремонт» структуры общества и конкретных общностей требует средств и времени, но такая задача еще и не ставилась.
Вот вывод 2003 г.: «События последних 10 лет привели к интенсивному социально-экономическому расслоению населения России… Последствия этих процессов видны уже сейчас — формирование взаимоисключающих интересов “верхов” и “низов”, “геттоизация” больших групп населения на низших уровнях социальной иерархии без перспектив улучшения их положения.
В настоящее же время Россия подходит к новому этапу развития своей социальной структуры, который можно обозначить как институционализация неравенства или, в терминологии П. Штомпки, возникновение прочной иерархии привилегий и лишений в отношении доступа к желаемым благам и ценностям. Это закрепление неравных стартовых позиций для новых поколений, передача раз достигнутого высокого богатства и социального статуса детям и, напротив, лишение “проигравших” и их потомков важнейших экономических, политических и культурных ресурсов общества, блокирующее им возможности восходящей мобильности. В процессе снижения уровня жизни из сознания людей вымываются сложные социокультурные потребности, для них становится характерной жизнь одним днем, установка на выживание. Важной проблемой является межпоколенная передача депривации в беднейших семьях» [33].
Дело не только в резком расслоении населения по экономическим параметрам. Люди переживают стресс из-за несоответствия новой структуры общества их моральным установкам. Исследование 2005 г. приводит к следующему выводу: «Больше половины лиц, считающих, что они могут добиться успеха в новых условиях, тем не менее отдают предпочтение не рыночной, а государственной экономике. В массовом сознании очень прочно утвердилось мнение, что предпринимательский успех сегодня связан не с трудовыми усилиями и личными достижениями, а с изворотливостью, наличием влиятельных покровителей или с деятельностью, выходящей за рамки закона» [34].
Такое состояние общества стабилизировалось. Общие выводы были подтверждены социологами и в 2005 г.: «Социальная дифференциация, как показывают данные нашего исследования, связана с конфликтностью интересов, с собственностью на средства производства и распределением власти… В настоящее время формы социального неравенства структурализованы, фактически закреплены институционально, ибо касаются распределения власти, собственности, дохода, других общественных отношений.
Самыми весомыми индикаторами бедности, по мнению опрошенных, являются: “политика властей, направленная на обогащение одних и разорение других”, и непосредственно связанная с этим — “невозможность получить хорошее образование и хорошую работу”. По каждой альтернативе доля отметивших эту позицию колеблется от 52 до 68%. Причем рабочие и непрофессионалы делают больший акцент на “невозможность получить хорошее образование”, а специалисты — “получить хорошую работу”» [8].
Островками благополучия являются в России несколько мегаполисов, из которых резко выделяется Москва. Среднедушевые денежные доходы населения в Москве были больше средних по России в 4,1 раза в 2000 г. и в 2,5 раза в 2009 г. Тем не менее и в Москве рабочие переживали трансформацию общество очень тяжело.
Исследование 2005 г. показало: «Эффективность социальной адаптации даже московских рабочих очень низка. Большинство из них, независимо от выбранной стратегии выживания, не удовлетворены материальным положением и считают, что за последние пять лет материальное положение их домохозяйств ухудшилось в той или иной степени. В Москве в конце 1990-х гг. более половины опрошенных (62%) имели средства только на самое необходимое (питание, оплату квартиры, коммунальных услуг, недорогую одежду), а каждому пятому (21%) денег даже на эти цели, порой даже на питание, не хватало.
Работа на частном предприятии, как выяснилось, не является для рабочих эффективным фактором приспособления к радикально меняющимся условиям труда и жизни. Большинство рабочих на частном предприятии (63%) в Москве в конце 1990-х гг. также имели средства только на необходимое, а каждому четвертому (27%) — средств на это (иногда даже на питание) не хватало.
В областных центрах РФ в начале 2000-х гг. 41% рабочих имели доходы, которые позволяли приобретать лишь самое необходимое (включая недорогую одежду, обувь), а каждому четвертому (25%) приходилось брать деньги на эти цели в долг» [29].
Говоря о безработице, надо отметить такой антирабочий мотив в идеологии реформы: в выступлениях политиков и предпринимателей нередко утверждается, что значительная часть незанятых и не желает работать, будучи проникнута паразитической психологией люмпена. Социологи опровергают эти утверждения: «Ответы показали, что большинство респондентов не устраивает положение незанятости: 92% опрошенных хотят работать. Почти половина опрошенных (47,9%) считает, что труд для них — это источник средств к существованию: чем больше платят, тем больше они согласны работать. Для 24,2% опрошенных труд — смысл существования. Это высокий показатель. В настоящее время можно встретить высказывания о том, что рейтинг труда занимает невысокие позиции, а по ряду исследований он даже не попадает в число распространенных ценностей. Наверное, надо побыть длительное время безработным, чтобы впоследствии оценить труд как жизненную ценность» [35].
В другом исследовании (2005 г.) делается схожий вывод: «Новая макроэкономическая ситуация, повлекшая сокращение спроса на рабочую силу, затронула и трудовую мотивацию, изменение ценности труда, его восприятия и статуса в обществе. Сфера распределительных, товарно-денежных и финансовых отношений существенно оттеснила область производства. Поэтому, говоря о незанятости, социологи обращаются и к изучению установок на трудовое участие. Исследователи практически единодушны в том, что, несмотря на снижение мотивированности населения к труду, потерю прежнего сакрального смысла, даже кризис труда в целом, структура мотивации остается стабильной, что свидетельствует об устойчивости качеств работника и серьезном влиянии трудовых традиций… Обследования промышленных предприятий в 1993, 1996, 1999 гг. (руководитель В.Д. Патрушев), дающие обширный материал для заключений о взаимосвязи советского и постсоветского в трудовом сознании и поведении рабочих, позволили прийти к выводу, что “нет свидетельств трансформации структуры мотивов трудовой деятельности”» [36].
Помимо безработицы, которая сразу обрывает множество связей человека с профессиональной общностью, важным фактором ослабления этих связей стала перегрузка. Она унаследована от 1990-х гг., но стала нормой уже в последнее десятилетие. Для общения, в том числе с товарищами по профессии, требуются время и силы. Измотанный на работе человек имеет меньше ресурсов для коммуникаций. У промышленных рабочих России в 2008 г. фактическая продолжительность рабочего времени составила в среднем 184 ч в месяц — вопреки установленной КЗоТ допустимой норме рабочего времени 168 ч в месяц.
Вот вывод из материалов РМЭЗ: «Для большинства людей дополнительная работа — жизненная необходимость.… Остальные стороны жизни — здоровье, семья, дети, образование, взаимопонимание, общение — “меркнут” на фоне основной доминанты жизнедеятельности, выживания — работы и заработка. Анализ материалов исследования показывает, что в настоящее время наблюдается тенденция роста трудовой нагрузки на основной работе. Увеличение продолжительности рабочего времени носит, с одной стороны, добровольный характер, продиктованный стремлением работника за сверхурочные часы получить прибавку к основной оплате; с другой — является вынужденным, поскольку на многих предприятиях, фирмах (особенно находящихся в частном владении) удлиненный рабочий день/неделя, несоблюдение выходных дней и отпусков становится по существу нормой, обязательным требованием, за несоблюдение которого работнику грозит увольнение» [37].
Необходимость искать дополнительную работу вне предприятия (нередко в теневой экономике) пагубно действует на связность общности и ее социально-психологический климат еще и потому, что создает нездоровую конкуренцию между рабочими. В значительной мере это конкуренция на анклавных рынках труда, где сталкиваются интересы местного населения с трудовыми мигрантами, что порождает этносоциальные конфликты, вплоть до насильственных, и активизирует этнонационализм, подрывающий перспективы нациестроительства.
Социолог пишет (2005 г.): «В условиях конкуренции на рынке труда найти дополнительную работу удается далеко не всем желающим. Вторичная занятость способствует перераспределению рабочих мест в пользу более “продвинутых” групп работников и становится фактором социальной дифференциации рабочих» [29].
В 1990-е годы сформировалась и развивается уже в последнее десятилетие особая инерционная система — социальное дно, заполненное в основном людьми, потерявшими рабочее место в промышленности. Крайняя степень депривации рабочих, длительное время не имеющих работы или измотанных жизнью, — втягивание их в это социальное дно или в преступную деятельность, ведущую в места лишения свободы.
Н.М. Римашевская пишет (2004 г.): «Угроза обнищания нависла над определенными социально-профессиональными слоями населения. “Социальное дно” поглощает крестьян, низкоквалифицированных рабочих, инженерно-технических работников, учителей, творческую интеллигенцию, ученых. В обществе действует эффективный механизм “всасывания” людей на “дно”, главными составляющими которого являются методы проведения нынешних экономических реформ, безудержная деятельность криминальных структур и неспособность государства защитить своих граждан.
Эксперты считают, что угроза обнищания — глобальная социальная опасность. По их мнению она захватывает: крестьян (29%), низкоквалифицированных рабочих (44%), инженерно-технических работников (26%), учителей (25%), творческую интеллигенцию (22%)… Для мироощущения [бедных] характерен пессимизм и отчаяние. Этим психоэмоциональным напряжением беднейших социально-профессиональных слоев определяется положение “придонья”: они еще в обществе, но с отчаянием видят, что им не удержаться в нем. Постоянно испытывают чувство тревоги 83% неимущих россиян и 80% бедных.
“Придонье” — это зона доминирования социальной депрессии, область социальных катастроф, в которых люди окончательно ломаются и выбрасываются из общества» [38].
Личной катастрофой становится бездомность, чаще всего после возвращения из мест заключения или из-за распада семьи. По данным социологов состав бездомных таков: «Основная масса бездомных — лица 35-54 лет… По социальному положению большинство бездомных — рабочие. Но каждый следующий год дает заметное приращение бывших служащих. Более половины из них имеют среднее образование, до 22% — среднее специальное, около 9% — высшее» [39].
Кроме «социального дна» в середине 1990-х гг. стала складываться еще одна болезненная социокультурная общность, к признакам которой ближе всего были именно рабочие, — общность маргиналов. Поскольку эта группа, обретя самосознание, может воспроизводиться и после того, как будут устранены породившие ее причины, надо о ней сказать особо. Приведем выдержки из исследования этого явления (1996 г.):
«Социальная структура современного российского общества характеризуется крайней неустойчивостью как на уровне процессов, происходящих в социальных группах и между ними, так и на уровне осознания личностью своего места в системе общественной иерархии. Идет активное размывание традиционных групп населения, становление новых видов межгрупповой интеграции по формам собственности, доходам, включенности во властные структуры, социальной самоидентификации. В условиях трансформирующегося социума наблюдается процесс декомпозиции сложившейся в нем структуры, когда она распадается как бы на несколько относительно независимых друг от друга измерений. Классовая и групповая идентификация, которая в течение ряда десятилетий культивировалась в сознании и поведении людей, вытесняется индивидуальной, внутригрупповой, корпоративной.
Образуются, также увеличиваясь количественно, стойкие маргинальные социальные группы (“бичи”, “бомжи”, беженцы, “вынужденные переселенцы”, беспризорные, наркоманы, криминальные элементы). Нами были эмпирически изучены и лица, объективно являющиеся представителями того или иного трудового слоя, — рабочие, служащие, специалисты, однако на уровне самоидентификации не соотносящие себя ни с одной из социальных групп. Мы с определенной условностью называем их маргиналами, т. е. такой группой, которая находится в состоянии разрыва социально-идентификационных связей с обществом… Маргинальная группа находится на границе двух культур или субкультур и имеет некоторую идентификацию с каждой из них. Она отвергает определенные ценности и традиции той культуры, в которой возникает, и утверждает собственную систему норм и ценностей.
Эту группу мы выделили при ответе на вопрос анкеты: “К какому социальному классу или группе Вы отнесли бы себя: к рабочим, крестьянам, служащим, интеллигенции, управляющим, людям, занятым собственным делом?”. Отметившие позиции “в настоящее время такой группы нет” или “затрудняюсь ответить” и определили анализируемый контингент — 9% выборочной совокупности.
Подавляющее большинство [маргиналов] — рабочие различной квалификации. Здесь надо отметить по меньшей мере два обстоятельства, способствующие появлению указанного комплекса у представителей данной социальной группы. Во-первых, “канула в Лету” некогда провозглашаемая и проводимая государственными и партийными органами политика формирования рабочего класса как “авангарда современного общественного развития. На смену ей пришла политика доминирующей роли предпринимателей”.
Во-вторых, его материальное положение стало столь же эфемерным и нестабильным, как и социальный статус, что породило целый комплекс, связанный с неуверенностью не только в сегодняшнем, но и завтрашнем дне… Выделенная нами группа достаточно гомогенна по целому ряду существенных социальных характеристик, а социальные различия между ней и остальными категориями опрошенных, оказавшимися в поле нашего внимания, существенны» [40].
Таким образом, речь идет о крупной и устойчивой общности, вобравшей в себя представителей разных профессий, но в основном рабочих, которая отличается от других общностей ценностями и нормами. Объективно человек работает на заводе как рабочий, но по своей культуре и моральным установкам, он — маргинал, выпавший из общности, в которой обитал раньше. Он деклассировался.
Вот некоторые отличия общности маргиналов, которые отметили исследователи: «Включенность в общественное движение отсутствует полностью (у идентифицирующих себя с рабочими — 3,6%). Пожалуй, эту группу характеризует отчуждение от таких видов социального действия, как профессиональный труд, общественно-политическая деятельность, деловые соприкосновения. И влияние на администрацию предприятия у нее крайне низкое, об этом заявили 76% опрошенных. Правда, следует отметить, что и другим социальным группам, особенно идентифицирующим себя с рабочими, оно присуще…
Падение жизненного уровня — общая социальная проблема российского общества, затрагивающая фактически все слои населения. Ухудшение материального положения за последние пять лет отметили свыше половины всех подвергшихся опросу. Такая же картина и в маргинальной группе. Полностью неудовлетворенных своим материальным положением среди маргиналов 52% (в рядах с идентифицирующими себя с рабочими — 49%, со служащими — 45,3%, с интеллигенцией — 44,1%, с управляющими — 16,7%, имеющих собственное дело не зафиксировано)…
Выявилось влияние на потенциальную маргинальность и фактора, обусловленного развитием института частной собственности. Оказалось, что на предприятиях и в организациях государственной формы собственности преобладают стабилизирующая и продвинутая стратегия поведения. В организациях с негосударственной формой собственности доли стабилизирующей и продвинутой групп уменьшились в 1,3 раза, а понижающей группы — возросла в 2,7 раза» [40].
Все эти процессы повлияли на демографические и квалификационные изменения в общности промышленных рабочих. С самого начала реформ резко сократился приток молодежи на промышленные предприятия, началось быстрое старение персонала. Если в 1987 г. работники в возрасте до 39 лет составляли в числе занятых в промышленности 60%, то в 2007 г. их доля составила 45,3%. Ухудшение демографических и квалификационных характеристик рабочего класса России — один из важнейших результатов реформы, который будет иметь долгосрочные последствия.
До середины 1980-х гг. в сфере материального производства трудилось абсолютное большинство (80%) экономически активной молодежи в возрасте 20-29 лет. В 2008 г. в отраслях непроизводственной сферы было занято 66% 20-29-летних, а в материальном производстве — 34%. В 1985 г. в промышленности работало 37,5% молодежи, а в 1995 г. — 22%.
Однако и в 2000-е гг., несмотря на оживление в промышленности (до начала кризиса 2008 г.), общий выпуск кадров учебных заведений НПО продолжал снижаться (рис. 4). Число подготовленных рабочих по профессиям промышленности снизилось к 2008 г. до 189 тыс. человек [41].
Рис. 4. Выпуск квалифицированных рабочих в системе начального профессионального обучения в РСФСР и РФ, тыс.
М.К. Горшков пишет: «Ситуация с человеческим капиталом работников, занятых в российской экономике, характеризуемая тем, что большая их часть находится в положении либо частичной деквалификации, либо общей деградации, может рассматриваться как крайне опасная с точки зрения перспектив модернизации России. Тревожными тенденциями выступают также постепенная люмпенизация рабочих низкой квалификации, массовый уход молодежи в торговлю при игнорировании индустриального сектора, равно как и практическое отсутствие у большинства молодых людей шансов (куда бы они ни шли работать) на изменение их жизни и профессиональных траекторий» [4].
Сужается воспроизводство квалифицированных рабочих. Выпуск учреждений начального профессионального образования сократился с 1378 тыс. человек в 1985 г. до 508 тыс. в 2009 г. При этом выпуск рабочих для техноемких отраслей производства все больше уступает место профессиям в сфере торговли и услуг. Вот оценка социолога: «В итоге мы разрушили рабочий потенциал… Так, например, для формирования фрезеровщика, способного обрабатывать сложные поверхности турбинных лопаток, требуется, кроме времени на обучение, 7-8 лет практической работы. А фрезеровщики эти на заводе турбинных лопаток в Санкт-Петербурге были почти полностью “разогнаны” еще в начале 1990-х гг.» [19].
Эта тенденция набрала инерцию, и переломить ее будет трудно. Дискредитирована сама профессия промышленного рабочего — вот удар по основному производству России. Опрос школьников уже в сентябре 1993 г. показал, что выпускники 11 класса, дети рабочих (по отцу), не были ориентированы на социальный статус рабочего. Стать рабочим входило в жизненные планы только 1,7% выпускников. Большинство (51,9%) собиралось стать специалистом с высшим образованием.
К 2005 г. проблема нехватки квалифицированных рабочих встала во весь рост. Даже социологи, которые возлагают надежды на простую интенсификацию труда в промышленности с помощью приемов, отработанных на капиталистическом производстве Запада, забили тревогу: «Следует отметить, что начальный этап развития российской экономики столкнулся с невиданным дефицитом квалифицированных рабочих и инженерных кадров. Причем социокультурные причины кадрового дефицита по своему значению не уступают пагубным последствиям отсутствия у правительства реформаторов внятной политики по их подготовке. Можно согласиться с исследователями, которые отмечают, что “произошел сдвиг в системе ценностей: люди не хотят заниматься промышленным трудом, не хотят работать на производстве, они ищут более „чистую“ и выгодную работу”. Молодых людей прельщает работа в “светлых” офисах, а не в “серых” производственных помещениях» [21].
Проблема соотнесения социальных и этнических общностей: трудовые мигранты
Очень кратко затронем особую проблему состояния общности промышленных рабочих в России — использование на предприятиях рабочей силы этнических мигрантов. Это сложная малоизученная проблема. Здесь мы ее только обозначим, поскольку эмпирических данных о масштабах и формах привлечения труда мигрантов именно в промышленности пока недостаточно. Сложность проблемы состоит в том, что сочетание в кризисной обстановке социальных и этнических факторов, к которым нередко примыкает и религиозный фактор, ведет к кооперативным эффектам и в самосознании, и в поведении людей.
Этнизация социальных групп (и наоборот) — важная сторона социальной динамики, которая может быть целенаправленно использована и в политических целях. М. Вебер не раз указывает на взаимосвязь этнических и социальных факторов как на важную, но зачастую недооцениваемую проблему политики. Переплетение социальных и этнических отношений может стать угрожающим в переходные и кризисные периоды.
Это наблюдалось и в России в ходе революции, когда социальные отношения (конфликты помещиков с крестьянами) принимали этническую окраску, как конфликт разных народов. Писатель М.М. Пришвин, либерал и патриот, записал в дневнике 24 мая 1917 г. в своем поместье: «Чувствую себя фермером в прериях, а эти негры Шибаи-Кибаи злобствуют на меня за то, что я хочу ввести закон в этот хаос». 28 мая он сделал такую запись: «Как лучше: бросить усадьбу, купить домик в городе? Там в городе хуже насчет продовольствия, но там свои, а здесь в деревне, как среди эскимосов, и какая-то черта неумолимая, непереходимая»153 [55].
Ни общество, ни государство в современной России к пониманию и регулированию процессов перехода социального в этническое не готово, и дефицит знания о них обостряется. Между тем, присутствие этнических мигрантов в составе промышленных рабочих будет расти. Они и в настоящее время составляют существенную часть контингента рабочих, хотя еще слабо интегрированную.154 Это потребует существенных изменений в экономической, социальной и культурной политике. Строго говоря, потребует пересмотра вся доктрина развития промышленности в среднесрочной перспективе. В настоящее время в России до сих пор отсутствует законодательное регулирование в области социальной защиты трудовых мигрантов.
Взаимные переходы социальных и этнических оснований консолидации сообществ наглядно наблюдаются сегодня в процессе интенсивного внедрения в «национальные» государства Западной Европы мигрантов из незападных стран. Даже во Франции, которая гордится своей доктриной и своим опытом объединения множества народностей в единую нацию французов, интеграция мигрантов последних десятилетий не удалась — происходила их геттоизация. Французская нация, ее социальный строй и государство не справились с задачей интеграции мигрантов в общество.
В России положение сложнее. Мы живем в особой системе жизнеустройства — глубоком кризисе социальных и межнациональных отношений, который в самом благоприятном случае придется еще преодолевать в течение не менее десяти лет. Это надо понимать и в своих действиях по разрешению сиюминутных проблем стараться не подорвать возможности разрешения проблем фундаментальных.
Часть кризиса состоит в том, что ряд постсоветских республик и регионов РФ погрузился в социальное бедствие, которое вытолкнуло оттуда массы людей в поисках заработка. Когда в русской среде оказываются приезжие русские или похожие на них чуваши, этого почти не замечают. Появление общины с Кавказа или из Средней Азии, людей с иными культурными особенностями и стилем поведения, вызывает стресс даже независимо от сопутствующих факторов, таких как экономическая конкуренция с местными работниками, преступная деятельность «чужого типа» и пр. Возникает общая почва для конфликтов.
Вторжение «иных» сверх критической массы всегда вызывает болезненную реакцию. Но она многократно усиливается, если и местная общность переживает кризис. Тогда даже благодушных иностранных туристов не хочется видеть. А ведь из районов социального бедствия приезжают люди в далеко не лучшем состоянии: настороженные, испуганные. Большинство из них пострадало от зверской эксплуатации со стороны работодателей.
Их самосознание определяют термином «гиперэтнизм», т. е. перевозбужденная этничность. Она отличается от традиционного этнического сознания в местах постоянного проживания в своей этнической среде. Это новое, непривычное и плохо изученное состояние социальных групп мигрантов.
Главная социальная, массивная причина, которая прямо затронула более половины населения РФ, порождена реформой. Она подорвала хозяйство страны и ту плановую систему, которая не допускала региональных социальных катастроф. Она сломала и ту административную систему, которая регулировала перемещение больших масс людей по территории страны, не допускала внезапного и неорганизованного межэтнического смешения. Подобное смешение неизбежно ведет к конфликтам, это определено самой природой этноса как типа человеческой общности. Вторжение в пространство такой общности большой массы «иных», не успевающих (или не желающих) следовать нормам местной культуры, неизбежно вызывает кризис, всплеск национального чувства.
Гиперэтнизм мигрантов — особый культурный продукт рыночной реформы, и, раз уж население России этой реформе не стало или не смогло сопротивляться, приходится этот ядовитый продукт глотать (как и многие другие подобные продукты). СМИ стараются отвлечь людей от разумного понимания причин тех проблем, которые породила миграция. Но власть должна была бы объяснить гражданам, что в рамках нынешней социально-экономической системы эти болезненные проблемы людям придется какое-то время терпеть. Если терпеть невмоготу, то есть два выхода: или добиться изменения социально-экономической системы, порождающей эти проблемы, или начать «молекулярную» войну всех против всех как вариант коллективного самоубийства.
В отношениях местного населения и мигрантов всегда возникает выбор: способствовать интеграции двух общностей или их взаимной изоляции («геттоизации» мигрантов). Но интеграция не идет самопроизвольно, по доброму желанию сторон. Это — «строительство», требующее творчества, усилий и ресурсов. Самопроизвольно возникает как раз «закрытость, сходная с осознанной самосегрегацией, [которая] невольно провоцирует повышенное и далеко не доброжелательное внимание окружающего общества к иммигрантам, создает потенциально опасную конфликтогенную среду» [56].
В. Малахов пишет: «Препятствия на пути к социальной интеграции побуждают мигрантов формировать собственные этнические сообщества, в рамках которых удерживаются язык и определенные культурные образцы. Подобные сообщества существуют сегодня практически во всех европейских странах… Особенно важно при этом, что такие группы характеризуются общностью социально-экономической позиции. Это придает каждой группе четкую маркировку» [57].
Процесс трудовой этнической миграции на постсоветском пространстве был отягощен формированием закрытых анклавных рынков труда, по большей части криминализованных. Возникла сеть промышленных предприятий в рамках теневой экономики, на которые организованно завозятся рабочие — мигранты. Их труд и быт не регулируются законом, заниженная цена их рабочей силы и неконтролируемая эксплуатация деформируют местный рынок труда. Это особый уклад «криминального капитализма».
Из основных публикации социологов, исследующих эти процессы, можно сделать вывод, что речь идет о возникновении в России важного узла противоречий и порочных кругов, причем тенденции запущенных процессов неблагоприятны.
Вот некоторые выводы исследователей (2005 г.): «Анклавные рынки [труда] создают возможность быстрого накопления капитала и выступают привлекательными, высоко криминализованными социальными пространствами, действующими преимущественно в городах России, вокруг и внутри которых сталкиваются интересы многих противоборствующих субъектов… Характер конфликтов создает редкостную по своей напряженности атмосферу, в которой довольно высоки риски столкновений на межэтнической, расовой, религиозной основе. Это предопределено экономической моделью анклавного рынка, его “идеологией”, которые создают “монополизацию” шансов для мигрантов, позволяют им преуспевать, эффективно защищаться от нетолерантного окружения и претендовать на статус, не соответствующий их нынешнему месту в иерархической лестнице» [56].
Это препятствует интеграции мигрантов и способствует их «геттоизации». Пока что российское общество и государство не имеют ни экономических, ни культурных, ни политических ресурсов, чтобы быстро и эффективно разрешить эту созданную реформой проблему. Но изучать ее и решать необходимо.
Ценностные изменения в общности промышленных рабочих
Ослабление и распад общностей происходят и при деформации системы ценностей и социальных норм. Как этот процесс протекает в общности промышленных рабочих? Общим фоном для процесса является резкое снижение тонуса гражданской активности всего населения России в целом.
Этот фон определяется так (2010 г.): «Оценки жизненных установок россиян в отношении развития в России практик гражданского участия свидетельствуют о том, что массовые умонастроения скорее располагают к уклонению от такого рода участия, нежели свидетельствуют в его пользу. Невысокий уровень гражданского участия предопределяется в нашей стране целым рядом факторов, включая низкую степень доверия людей к институтам гражданского общества, особенно политическим партиям и профсоюзам, т. е. к тем социальным образованиям, которые по самой своей природе и предназначению должны, что называется, “играть на стороне” общества, а также, что куда более важно, распространенную среди россиян уверенность в том, что гражданские инициативы не способны повлиять на существующее положение вещей, имеют малую “дальность” действия и могут, в лучшем случае, изменить ситуацию на низовом уровне…
Досуговая активность большинства россиян достаточно бедна и сосредоточена в основном на “домашней территории” (телевизор, радио, ведение домашнего хозяйства, чтение, просто отдых и т. п.), что позволяет рассматривать ее как разновидность, характерную для обществ традиционного типа. Общий вектор процессов, протекающих в этой области, указывает не столько на продвижение по пути культурной модернизации, сколько на ренессанс традиционализма» [4].
Рабочие вплоть до начала 1990-х гг. сохраняли внушенную советской идеологией уверенность в том, что они — класс-гегемон, отвечающий за судьбу страны. Приватизация и деиндустриализация вырвали этот элемент самосознания из мировоззренческой матрицы, на которой была собрана общность рабочих. Эта культурная травма обладает большой инерцией, да и никаких попыток ее лечения ни государство, ни общество не предпринимают.
Отметим важный факт: эти признаки трансформации общности рабочих наблюдались еще до перестройки, что в числе других факторов и сделало ее возможной. Этот процесс можно проследить по динамике когнитивной активности рабочих. В 1930 г. затраты времени на самообразование в среде горожан составляли 15,1 ч в неделю. С середины 1960-х гг. начался резкий откат. Среди работающих мужчин г. Пскова в 1965 г. 26% занимались повышением уровня своего образования, тратя на это в среднем 5 ч в неделю (14,9% своего свободного времени). В 1986 г. таких осталось 5% и тратили они в среднем 0,7 ч в неделю (2,1%) свободного времени. К 1997-1998 гг. таких осталось 2,3%. В 1980-1981 гг. в РСФСР обучались новым профессиям и повышали квалификацию на курсах 24 млн человек, повысили квалификацию 19,3 млн человек, из них 13,6 млн рабочих. В 1990-1991 гг. повысили квалификацию 17,2 млн, а в 1992-1993 г. 5,2 млн человек [42].
Это было важным, но еще слабым симптомом изменений. С начала реформ начались фундаментальные сдвиги и срывы. Прежде всего реформа привела к быстрому снижению места труда в системе жизненных ценностей рабочих, как и удовлетворенности трудом. Наблюдению за этим процессом посвящено большое число работ.
Вот выводы исследования нескольких предприятий разных форм собственности в 1994 г.: «За последние три года произошло существенное снижение значимости труда в системе жизненных ценностей. На обследованных предприятиях, вне зависимости от их типа, труд занял второе место после таких ценностей, как семья и ее материальное благополучие и здоровье. 71,4% опрошенных рабочих на арендном предприятии и 66,4% на акционерном не включили труд в систему своих жизненных ценностей. По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным сектором в 1990 г., на Томилинском заводе произошло более чем двукратное снижение ценности труда…
Индекс удовлетворенности непосредственно трудом колеблется в пределах от 2,81 (у рабочих арендного предприятия) до 3,11 (у рабочих государственного предприятия).155 Таким образом, состояние удовлетворенности рабочих трудом на предприятиях, где они являются в какой-то степени совладельцами, ниже, чем на государственном и частном предприятиях, и ниже, чем в 1970-1980-х годах. Так, индекс удовлетворенности трудом рабочих промышленности Российской Федерации в 1978 г., по данным обследования ЦСУ, составлял 4,09» [43].
В Британско-Российском исследовательском проекте «Перестройка управления и производственных отношений в России» был сделан такой вывод (1994 г.):
«Изменение статуса рабочих напрямую связано с изменением статуса труда в обществе, его ценности. Это уже не сфера, в которой только и осуществляется реализация сущностных сил человека, а товарный мир. Социальная ценность труда, закрепленная официальной идеологией (“Трудом красив и славен человек!”, “Слава труду!” и т. п.), сменяется новой идеологией, даже не упоминающей о труде, для которой наиболее ценным качеством является умение делать деньги (“Мы сделаем Ваш ваучер золотым!”, “Играйте и выигрывайте!”)” [44].
В доктрине рыночной реформы в 1990-1992 гг. декларировалась уверенность в том, что частный капитал создаст для рабочих сильные стимулы для интенсивного труда, разбудит инициативу в инновациях. Трудно сказать, насколько эти декларации были искренними. Но никакой политической и хотя бы интеллектуальной ответственности авторы доктрины не понесли и никаких объяснений обществу не дали.
В целом итог 1990-х гг. по этому критерию таков: «Анализ изменений в мотивации труда за 1990-е годы приводит к выводу, что значимого усиления трудовой мотивации рабочих не произошло… Мотивация интенсивного высокопроизводительного труда в реальности еще не сложилась, но поиск ее предпосылок, действенных и эффективных как для рабочего, так и для предприятия, актуален и в свете поставленной национальной по масштабам задачи радикального повышения производительности труда как минимум в 4 раза до 2020 г.» [21].
Процесс снижения ценности труда не был остановлен и после 2000 г. — это важный факт для выработки стратегии развития России на следующем этапе. После 2000 г. практически не было ни задержек зарплаты рабочим, ни массовых увольнений — доходы занятых в промышленности рабочих росли. Значит, есть более действенные факторы, которые ведут к деградации ценностной матрицы общности рабочих. В 2003 и 2007 гг. на одних и тех же машиностроительных предприятиях в Брянске, Пскове и Кирове были проведены исследования основных жизненных ценностей и мотивов труда рабочих.
Главные выводы таковы: «Значимость труда на предприятии для рабочих продолжала снижаться и в период экономического роста в стране… Доля ответов с указанием этой ценности как наиболее значимой снизилась в Брянске в 2,3, Пскове в 1,4, в Кирове в 1,7 раза.
Разрыв между ценностями семьи и работы, отличающий в 1991 г. Россию от других стран, продолжал расти. В Брянске у рабочих он увеличился в 1,9, в Пскове — в 1,5, а в Кирове — в 3,2 раза. Это говорит об общих тенденциях в динамике основных жизненных ценностей и прежде всего труда» [45].
В аналогичном исследовании в 2006-2007 гг. на предприятиях Удмуртской республики сделаны схожие (похожие или аналогичные) выводы: «В целом, и это характерно практически для всех групп рабочих, фактор заработной платы является решающим при выборе профессии… Такой фактор, как “работа по призванию” занимает среди мотивов выбора последнее место… Труд рабочих на данный момент является малооплачиваемым, не соответствует санитарно-гигиеническим нормам, однако при этом является достаточно физически и умственно напряженным и ответственным… Рабочие не считают вознаграждение за свой труд справедливым и низко оценивают создаваемые для него условия. Это подтверждается и тем, что первые позиции в числе факторов, не устраивающих рабочих, занимают невысокая зарплата, устаревшая техника и плохие условия труда. Особенно низко оценивается ситуация в металлообрабатывающей отрасли» [46].
Если рабочие не включают труд в систему своих жизненных ценностей, рушится этос коллективного труда «прометеевского» типа (промышленность — пространство «огня и железа»). Такой труд превращается для рабочих в каторгу, при этом распадаются нормативные «производственные отношения», которые необходимы для поддержания технологической дисциплины. Это в равной степени губительно для промышленного предприятия как советского, так и капиталистического типа. М. Вебер подчеркивал, что для промышленного капитализма этика рабочих даже важнее, чем этика предпринимателей, и никакая невидимая рука рынка не может заменить ценности труда как профессии — восприятия его как формы служения Богу.
Реформа, сумев устранить это восприятие, лишила рабочих тех этических ценностей, которые собирали их в профессиональную общность. Эта культурная деформация едва ли не важнее социальной. Речь идет о важном измерении нового структурирования социальной системы. Ю.Л. Качанов и Н.А. Шматко пишут об этом, ссылаясь на мысль П. Бурдье: «Социальная действительность, по П. Бурдье, структурирована дважды. Во-первых, существует первичное или объективное структурирование — социальными отношениями. Эти отношения опредмечены в распределениях разнообразных ресурсов (выступающих структурами господства — капиталами) как материального, так и нематериального характера. Во-вторых, социальная действительность структурирована представлениями агентов об этих отношениях, о различных общественных структурах и о социальном мире в целом, которые оказывают обратное воздействие на первичное структурирование» [47].
По мнению ряда исследователей за 1990-е годы произошло следующее: объективная перестройка социальных отношений (первичное структурирование общества) шаг за шагом привела к осознанию этой трансформации, что и довершило демонтаж прежней социальной структуры.
На первых этапах реформы, бытующие в сознании представления рабочих, были противоречивыми («рабочие, как и другие социально-профессиональные группы, находились под гипнозом формулы о прогрессивности и даже неотвратимости (необратимости) реформ, приватизации»). Вот, например, как характеризовались установки шахтеров в середине 1990-х гг.:
«Немногие из числа шахтеров выражают поддержку коммунистам, несмотря на частые сожаления о том, что при коммунистах им жилось намного лучше… Сочувствуют коммунистам рабочие, которых с уверенностью можно назвать элитой. Это те, кому за сорок, у кого высокая квалификация и большой стаж работы на шахте. Немалая часть не имеет четких политических ориентаций. Их позиция такова: “Нам все равно, кто у власти — коммунисты, демократы или фашисты. Лишь бы работа была и платили вовремя!”. Такое состояние стало следствием разочарования многих шахтеров в тех идеалах преобразования общества, в которые они поверили в начале 1990-х гг. Очень часто высказываются сожаления по поводу того, что шахтеры своими забастовками способствовали развалу Союза и приходу к власти нынешнего политического руководства. Высказываются идеи покаяния и необходимости вернуть все на свои места: “Мы это развалили, мы должны и собрать!”» [48].
В конце 1990-х гг. социологи приходят к важному выводу: «Суть происходящих в настоящее время изменений в социальном пространстве российского общества — это изменение общей композиции, соотношения социальных групп и слоев, их иерархии и ролевых функций. Люди начинают адекватно оценивать свое положение, осознают конкретные различия, которые существуют в обществе между социальными группами и слоями в степени обладания властью, собственностью, социальными возможностями.
Формирующаяся новая социальная стратификационная модель общества становится не просто объективной реальностью, но и субъективным осознанием личностью, группой, слоем своего места в социальном пространстве, что в перспективе может способствовать интеграции общества на рациональных началах либо же его дезинтеграции на конфликтной основе» [2].
После 2000 г. эта вторичная трансформация социальной структуры выражается в атомизации общностей, сдвиге от солидарности к индивидуализму как первой реакции приспособления в новых условиях: «Складывается еще одно противоречие сегодняшней России. С одной стороны, сформировалось поколение людей, которое уже ничего не ждет от властей и готово действовать, что называется, на свой страх и риск. С другой стороны, происходит индивидуализация массовых установок, в условиях которой говорить о какой бы то ни было солидарности, совместных действиях, осознании общности групповых интересов не приходится. Это, безусловно, находит свое отражение и в политической жизни страны, в идеологическом и политическом структурировании современного российского общества» (курсив автора) [49].
Конкретно о проявлении этих тенденций в среде промышленных рабочих Б.И. Максимов пишет: «Своеобразие реакций рабочих проявляется в восприятии изменений отдельных параметров положения. Неполная занятость, сокращения, попадание в безработные переживались рабочими, пожалуй, острее всего. Остроту реакции обусловливали непривычность ситуации, крушение одного из главных устоев — статуса рабочих, униженность положения безработного (в российских условиях), низкий уровень материального положения до и после потери работы. Объявление кандидатур увольняемых переживается как психологическая травма. Уровень притязаний снижается. Падает чувство солидарности: остающиеся отмежевываются от сокращаемых; увольняемые, в свою очередь, не ждут поддержки ни от кого, в том числе друг от друга; вместо “солидарности в несчастье” между рабочими устанавливается отчуждение; сокращения не вызывают установок на организованный, коллективный протест. Многие сокращаемые ощущают себя изгоями, “никому не нужными”, “неспособными устроить свою жизнь”, нередко обозленными на весь мир…
Депривации воспринимаются как неизбежные, почти как стихийные бедствия, неодолимые, не зависящие от руководства предприятия… Поэтому протестовать против своего руководства бессмысленно. Соответственно, реакция на депривации носит характер скорее не возмущения, протеста, неприятия, а “социального смирения”. Смирение и терпение — главные черты реакции на депривации. Подобная рефлексия подпитывается так называемым новым страхом, имеющим всепроникающий характер. От ощущения страха не избавлены даже самые заслуженные и квалифицированные рабочие.
В контексте субъективных ориентаций очень важны установки на цели действий. Более половины опрошенных нами не отметили никаких целей по реализации коренных интересов рабочего класса. Главное внимание сосредоточено на оплате труда, его условиях, обеспеченности работой, отношениях с руководством, на близких, насущных задачах. При этом в экономическом плане не упоминается корректировка реформ, деприватизация предприятий, установление рабочего контроля и т. п. Практически отсутствуют цели политического характера и хотя бы такая, как улучшение положения рабочего класса в целом в качестве условия подъема уровня жизни отдельных рабочих.
Рабочих как социальную силу перевели в разряд объектов и даже потенциальных оппозиционеров, каковыми реально они вскоре и сделались. Реформаторы не включили рабочих в число со-субъектов преобразований. Е.Т. Гайдар, рассматривая “социальные силы и точки опоры эволюционных реформ, даже не упоминает рабочих» [28].
Л.Г. Ионин выдвигает сильный тезис о парадоксальном характере структурных изменений российского общества (точнее, его дезинтеграции). В частности, он пишет: «Главным признаком российской политики является практически полное отсутствие социально-слоевой идентификации политических партий. Многочисленные попытки отдельных партий и лидеров установить предполагаемую классическими политологическими учениями “принципиальную координацию” между партией с ее доктриной и соответствующим социальным слоем многократно и красноречиво проваливались. Рабочие отказываются идти в лоно социал-демократии, промышленники не поддерживают ни гайдаровскую партию, ни партию экономической свободы, которые собственно для них и создавались. Нет партии рабочих и партии крестьян, нет партии бедных и партии богатых.
Формирование блоков и движений регулируется не социальной (социально-слоевой) близостью участвующих партий, а именно актуальными политическими темами, по которым может возникнуть временная общность целей, и конкретными политическими ситуациями. Социально обусловленной идиосинкразии политиков разных ориентаций не возникает. И это не неразборчивость и беспринципность, как о том любит шуметь пресса, а принципиальная характеристика политики, в корне изменившейся вместе с ликвидацией и очевидной бесперспективностью восстановления традиционной классово-слоевой структуры общества» [50].
Эти отчуждение от политики, отсутствие в картине мира каких-либо целей по воздействию на реальность в условиях системного кризиса общества как раз и говорят о деградации социокультурной группы, которую воспринимали как рабочий класс.
Разрушение актива («рабочей аристократии»)
Мы говорили о воздействии реформы на связность всей общности промышленных рабочих, понимаемой в терминах современной социологии (в частности, в понятиях концепции П. Бурдье). Теперь подойдем с другой стороны: каково воздействие реформы на группу, представляющую рабочих. При всех типах связи этого актива со всей общностью признается безусловная необходимость наличия этого актива для воспроизводства общности. Что произошло в 1990-е гг. с этими группами представителей?
Вспомним общий вывод Л.Г. Ионина о том, что биографии представителей наиболее «активной части общества, ориентированной на успех, сопровождающийся общественным признанием… в любом обществе, являют собой культурные образцы и служат средством культурной и социальной интеграции. И наоборот, разрушение таких биографий ведет к прогрессирующей дезинтеграции общества и массовой деидентификации» [5].
Как удар приватизации по «наиболее активной части общества» (за исключением «авантюристов») сказался на общности рабочих? Из кого состояла представляющая их группа? Вот что говорится о составе этой группы и ее связи со всей общностью: «Практически на каждом крупном советском предприятии существовал слой так называемых кадровых рабочих, которые составляли как бы рабочую элиту предприятия. Основные социально-производственные характеристики кадровых рабочих: большой производственный стаж, высокая квалификация и профессиональный опыт, стабильность пребывания в коллективе (отражаемая в непрерывности стажа). Из кадровых рабочих складывалось большинство партийных организаций промышленности. Они были наиболее социально-активным слоем рабочих. Само понятие “кадровый рабочий” как бы растворялось среди многих обозначений (передовики, новаторы, ударники и пр.). Соответственно, они имели ряд привилегий и занимали высшую ступень в рабочей иерархии на предприятии…
Формальные привилегии — это те, что были закреплены в официальных, чаще всего внутризаводских, документах. Типичным примером являются “Положения о кадровых рабочих”.
К неформальным привилегиям можно отнести и негласные квоты: прием в партию, получение наград и выдвижение на общественные должности (в президиум), дающие преимущество рабочим, как “правящему классу”. Через таких людей, которые являлись неотъемлемой частью каждого предприятия, рабочие имели возможность какого-то давления на администрацию, возможность “качать права”. Этот канал влияния и эта прослойка рабочих исчезли вместе с парткомами и старой системой привилегий…
Потеря идеологической поддержки, переход к коммерческим заказам, развал старой системы неформальных отношений воспринимаются многими работниками оборонных предприятий как утрата своего особого положения, своего статуса. Личное мастерство рабочего, к которому персонально, в случае острой необходимости, могли обращаться руководители разного уровня, вплоть до генерального директора, перестало играть сколько-нибудь значимую роль. Значение группы кадровых рабочих падает. Зависимость от коммерческих заказов, отсутствие стабильности в работе не дают им внутреннего удовлетворения и не позволяют им уважать себя за свой труд» [44].
Деградация элиты рабочего класса началась уже в годы перестройки как вследствие социально-экономических условий, так и в ходе «боевых действий» на дискурсивно-символическом фронте.156 В целом, шло снижение технологического уровня промышленности, резко сократилось производство наукоемкой продукции, снижалась доля в персонале предприятий высококвалифицированных рабочих.
Обследование предприятий Самары показало: «Внутри трудового коллектива изменились положение и традиционные статусы социальных групп. Эти процессы отразились в статистике — в изменении численности и соотношения профессиональных групп. В частности, значительно сократилась численность основных производственных рабочих, среди которых немалую часть составляют высококвалифицированные, с большим трудовым стажем, так называемые кадровые рабочие, что свидетельствует о снижении статуса этой ранее привилегированной группы. Уменьшение количества квалифицированных рабочих мест указывает на сокращение доли квалифицированного труда на предприятиях и невостребованность высококвалифицированных рабочих.
Рабочая сила перемещается внутри предприятия из основного производства в непроизводственную сферу… Происходит активное перемещение внутри предприятия из сферы производства на стройку, в подсобные хозяйства, на комбинаты питания» [51].
Статус кадровых рабочих изменился уже в первый год реформы вследствие практической ликвидации Советов трудовых коллективов, делегатами которых были представители актива рабочих:
«В процессе происходящих социально-экономических преобразований рабочие все больше устраняются от управления. Для наглядности сравним первые законодательные акты экономической реформы с последующими законами и практикой…
Сопоставим следующие друг за другом законы: Закон СССР “О государственном предприятии (объединении)” (1987 г.) и “О предприятиях в СССР” (1990 г.). По Закону 1987 г. общее собрание трудового коллектива могло рассматривать и утверждать планы экономического и социального развития предприятия, определять пути увеличения производительности труда, укрепления материально-технической базы производства. В Законе 1990 г. исключены функции трудового коллектива, относящиеся не только к планированию и эффективности производства, но и к его контролю. По Закону 1990 г. трудовой коллектив и его орган (общее собрание) уже не имеют полномочий в управлении и использовании доходов предприятия, оплате труда. Руководитель предприятия (представитель собственника) “решает самостоятельно все вопросы деятельности предприятия.”. Констатацией “исключительности” прав администрации устраняется влияние профсоюза и других общественных организаций» [52].
В цитированных работах констатируется (отмечается), что «представлявшие» рабочий класс группы были во время перестройки и реформы 1990-х гг. демонтированы и «пересобраны» таким образом, что они полностью перестали выполнять свои функции, необходимые для существования и воспроизводства промышленных рабочих России как «общности для себя». Из них были, во-первых, исключены кадровые рабочие — основной контингент в составе актива. От общности рабочих были оторваны и даже противопоставлены ей управленческие работники предприятий и госаппарата («Рабочих как социальную силу перевели в разряд объектов и даже потенциальных оппозиционеров, каковыми реально они вскоре и сделались» [28]). Наконец, в новую политическую систему были включены профсоюзы, которые не завоевали легитимности в глазах рабочих и потому не могли быть их доверенными институциями.
О политических партиях и говорить нечего, они в настоящее время не связаны ни с какими социальными группами («рабочие отказываются идти в лоно социал-демократии, промышленники не поддерживают гайдаровскую партию»). В этом отношении рабочие мало чем отличаются от других социальных групп — политические установки хаотичны и матрицей для сплочения общностей служить не могут.
Социологи констатируют: «Сегодня подавляющее большинство россиян (72,4%) либо отказываются, либо затрудняются с самоидентификацией в рамках сложившегося идеологического спектра. С ростом доли россиян, не определившихся в идейно-политическом отношении, снижается число приверженцев всех без исключения течений. Особенно резко выглядит падение популярности идеологии так называемого центризма: с 24,6 до 7,6% всего за три года» [49].
Таким образом, основные пучки связей, собиравших небольшие локальные группы работников промышленных предприятий в организованную профессиональную общность «рабочего класса России», были за 20 лет разрыхлены, разорваны и перепутаны так, что можно говорить о глубокой дезинтеграции этой общности. Если учесть, что рабочие лишились представлявшей всю эту общность активной группы (субститута), а политическая система с помощью СМИ вывела рабочих в глубокую «социальную тень», то можно сказать, что в настоящее время «рабочий класс-в-себе» существует лишь латентно, не представляя из себя социальную и политическую силу. Это состояние определяется в таких формальных терминах:
«Поскольку социальные группы определяются их институционализацией в устойчивых, признанных de facto или гарантированных de jure статусах, постольку перечень социальных групп, которые признаются доксой157 существующими, определяется в каждый момент времени исходом борьбы, одновременно символической, политической и социальной, между агентами, занимающими различные позиции социального пространства» [47].
Промышленные рабочие России снова станут профессиональной общностью, когда смогут выстроить с помощью союзных социокультурных сил свою новую мировоззренческую матрицу (шире — когнитивную структуру), информационные связи, язык и культурный стиль. Этот процесс только начинается, но его динамику прогнозировать трудно, она может резко ускориться.
Разумеется, очень многие из соединявших ранее рабочих связей сохранились, они непрерывно воспроизводятся под воздействием объективных условий труда и быта, под воздействием памяти, разума и культуры. Примером может служить сохраненный в трудных условиях коллективизм — даже на фоне атомизации и сдвига к индивидуализму. Вот вывод из исследований (2008 г.):
«Культурные традиции взаимопомощи в работе, коллективной ответственности за использование рабочего времени, хороших отношений с товарищами по работе продолжают сохраняться у большинства рабочих в постсоветское время. Однако происходит это скорее по инерции, а не под влиянием новых менеджериальных технологий или организованных усилий самих рабочих. Их сохранению способствуют успешная деятельность предприятий, лучшие возможности для заработка, устоявшиеся традиции советских принципов организации труда… В целом, можно утверждать, что по мере становления предприятий на новых основах отношений собственности: будь то частной, созданной “с нуля”, либо бывшей государственной, а ныне акционерной, происходит распространение трудового корпоративизма на основе культурных традиций советского прошлого. Причем преобладающую роль в этом играют не специально разработанные управленческие технологии, а культурные практики самих работников» [53].
Эта инерция коллективизма — ценный материал, который надо беречь и обновлять, но для обретения системного качества его недостаточно.
Новая сборка общности рабочих — условие модернизации
Возрождение рабочего класса как сплоченной общности — срочная общенациональная задача. Социологический анализ существующих в России социокультурных групп, которые могут стать социальной базой индустриализации и модернизации, привел к неожиданным результатам.
В важной статье академика М.К. Горшкова сделан такой вывод: «И в самосознании населения, и в реальности в современной России имеются социальные группы, способные выступать субъектами модернизации, но весьма отличающиеся друг от друга. Принимая в расчет оценки массового сознания, можно сделать вывод, что основными силами, способными обеспечить прогрессивное развитие России, выступают рабочие и крестьяне (83 и 73% опрошенных соответственно). И это позиция консенсусная для всех социально-профессиональных, возрастных и т. д. групп… Если говорить о степени социальной близости и наличии конфликтных отношений между отдельными группами (что важно, поскольку межгрупповые конфликты могут в силу возникающей из-за них социальной напряженности препятствовать продвижению России по пути модернизации), то один социальный полюс российского общества образован сегодня рабочими и крестьянами, тогда как второй — предпринимателями и руководителями» [4].
Поразительно, что это «консенсусная позиция для всех социально-профессиональных, возрастных и т. д. групп». Во всех группах, включая предпринимателей и чиновников, большинство возлагает свои надежды именно на рабочих и крестьян — общности, которые были в первую очередь демонтированы во время реформы 1990-х гг. Какая безумная доктрина! Как можно до сих пор ее поддерживать, ведь она была основана на фундаментально ложных посылках.
В.В. Путин писал в 2012 г.: «В России надо воссоздать рабочую аристократию. К 2020 г. она должна составить не меньше трети квалифицированных работников — около 10 млн человек» [59]. Да, это абсолютно необходимая для развития программа. Но как она будет выполняться? Ведь совсем недавно была завершена программа ликвидации рабочей аристократии СССР (общности «кадровые рабочие»). Эта программа была инструментом деклассирования промышленных рабочих и нанесла им тяжелейшую травму. Как теперь ее залечить? Это трудно, но необходимо.
Каковы в настоящий момент ресурсы для новой сборки общности рабочих? В последние годы социологи приступили к анализу этой проблемы. Вот постановка вопроса в исследовании, проведенном на ряде машиностроительных предприятий в Удмуртии (2007 г.): «По прогнозам специалистов в ближайшие годы серьезные риски в кадровом обеспечении ожидаются в группе квалифицированных рабочих индустриальных отраслей. За предстоящие 20 лет потери по естественным причинам составят 80-90% от сложившейся численности занятых в этой группе. Этот кризис обычно связывают с двумя основными причинами: институциональный дисбаланс подготовки кадров и потребностей экономики и низкий престиж среди молодежи рабочих профессий, а также профессий, связанных с производством. Расчеты показывают, что уже в ближайшие пять лет почти треть рабочих может уйти на пенсию, т. е. ежегодно будет выбывать около 2 млн рабочих. Непривлекательность рабочих профессий вызвана не только низким уровнем зарплаты в большинстве групп рабочих, но и неблагоприятными условиями труда на предприятиях, отсутствием технологических инноваций, взаимосвязи между затраченными усилиями и оплатой труда, перспектив карьерного роста и т. д…
Наблюдается замкнутый круг: чтобы профессия рабочего стала более престижной, нужно повысить заработную плату, обеспечить рост и модернизацию экономики, однако существующая ныне система профессиональной подготовки и ценностная система общества не в состоянии предоставить экономике квалифицированные рабочие кадры» [46].
Утрачена преемственность поколений, которая являлась важным фактором социализации молодежи, выбирающей профессию рабочего: «В возрастной группе старше 50 лет продолжали семейную традицию 22,6% рабочих, в группе 40-49 лет эта доля составила уже 13,8%, а в группе 20-29 лет она упала до 4,8%».
Автор особо указывает на установки той части рабочей молодежи, которая пришла на заводы уже с профессиональным образованием и в перспективе могла стать консолидирующей общность группой: «Наряду с невысокой зарплатой и недостатком перспектив роста этих рабочих, обладающих более высоким уровнем образования, волнуют также плохие условия труда (28,4%) и устаревшая техника (31,8%). Для этой группы важность приобретают факторы, связанные с общим состоянием производства, им небезразлично положение, в котором находится экономика предприятия или отрасли, они могут более адекватно оценить ее техническое оснащение.
Таким образом, воспроизводственная группа рабочих может быть потенциально эффективной и расширять свои границы лишь при создании определенных условий, которые связаны уже не только с заработной платой,… но и с возможностями перспектив развития и повышения квалификации, самореализации работников. В противном случае этой группе грозит размывание» [46].
Отдельно рассматривается часть молодых рабочих с карьерными устремлениями. Условия для повышения их статуса также неблагоприятны: «Это еще более молодая группа, нежели предыдущая — 77% ее представителей имеют возраст до 30 лет, 57% работают менее трех лет. Для них престиж работы наиболее важен при выборе профессии, причем с большим отрывом: на 11% по сравнению с другими факторами и на 17% выше, чем у предыдущей группы. Также усилили свою роль ориентиры развития способностей. Можно говорить поэтому о формировании нового, индивидуалистического типа рабочего, который, впрочем, характерен и для других профессиональных групп в современном обществе. Рост индивидуалистических, перфекционистских ориентаций у молодежи не способствует их самореализации в рамках рабочих профессий, и это необходимо учитывать. Недаром одна пятая представителей этих группы считает свою нынешнюю работу временной.
Около 60% представителей этой группы в данный момент получают образование, причем 18% — высшее. Почти все — 94,4% — хотели бы повысить свою квалификацию. Важно отметить, что для них в качестве факторов, вызывающих неудовлетворенность трудом, наряду с выделенными представителями предыдущих групп (зарплата, условия труда, устаревшая техника) приобретает большую значимость отсутствие возможностей для карьерного роста (второе место после заработной платы — 21,6%) и содержательные аспекты труда — 10,8% считают свою работу неинтересной (по сравнению с 2,3% у предыдущей группы)” [46].158
Выявлена еще одна группа, ориентированная на карьеру: «Последний тип — “непроизводственно-карьерный” — также связан с последующим уходом из рабочих профессий, но в отрасли непроизводственной сферы. Эта довольно незначительная по данным опроса (10,8% опрошенных) группа согласно высказываниям экспертов имеет тенденцию к увеличению… Почти 70% из них в настоящее время получают образование.
Эта группа является наиболее образованной — около 80% ее представителей имеют профессиональное образование, причем почти половина — начальное профессиональное. В то же время для этой группы характерен самый низкий процент работающих по специальности — всего 34%, поэтому и выбор рабочей профессии был сделан скорее в силу сложившихся условий. Рабочие профессии и в целом производственная сфера не являются привлекательными для этой группы. Скорее всего, большая часть из них, получив образование, уйдет с предприятий» [46].
Таким образом, даже небольшой наличный контингент молодых профессионально подготовленных рабочих, которые и должны стать в ближайшие годы ядром обновленной социокультурной общности, будет трудно удержать на промышленных предприятиях. Требуется глубокое преобразование социального уклада предприятий и серьезные изменения в промышленной и образовательной политике.
Заранее можно сказать: это труднейший исторический вызов постсоветской России. Он потребует и от власти, и от всего общества хладнокровия и мужества — надо будет отрешиться от идеологических фантомов, в которых находят утешение или оправдание наши перенесшие культурную травму люди. Надо, наконец, признать, что молодежь из семей трудящихся в большой мере оказалась подвергнута социальной сегрегации. Вот выводы из исследования рабочей молодежи в 2011 г.: «Сравнение с такой категорией молодежи, как выпускники дневных средних школ (большинство их поступает учиться в вузы), выявляет относительно более низкие материальные ресурсы родительских семей будущих молодых рабочих. Молодежь, идущая в рабочие, чаще завершает школьное обучение на ступени неполного, нежели полного среднего образования. В результате в составе молодых рабочих тех, кто окончил 9-летку (9 классов), больше (51,2%), чем завершивших 11-летнее образование (46,6%); еще 2,2% покинули школу, не доучившись и до 9 класса… Кадры молодых рабочих формируются почти на четверть за счет не получивших первоначального профессионального образования (после школы сразу пошли работать и обучались на рабочем месте). Не получившие предварительной подготовки в 87,9% случаев устраиваются без квалификационного разряда… По нашим данным, от года к году квалификация растет главным образом примерно до 5 лет трудового стажа, далее лишь очень небольшая часть молодых рабочих продолжает наращивать квалификацию» [41].
В целом, проблема сборки и воспроизводства общности рабочих — особая тема. Она требует исследований, обсуждения на разных уровнях и разработки большой и сложной программы. Эмпирического материала достаточно только для начала такой разработки. В решении этой задачи должна принять участие вся патриотическая интеллигенция. Кроме того, общий кризис индустриализма делает нашу национальную задачу частью общемировой проблемы.
А. Турен в своей драматической по выводам работе писал: «Для предотвращения варварства социальная теория и социальное действие в равной мере апеллируют к способности создать и воссоздать узы, которые могут быть и узами солидарности, и узами регулирования экономики» [1].
Создать и воссоздать эти узы — национальная задача современной России.
Доклад подготовлен С.Г. Кара-Мурзой
Литература
1. Турен А. Социология без общества // СОЦИС. 2004. № 7.
2. Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д. Процессы интеграции и дезинтеграции в социальной структуре российского общества // СОЦИС. 1999. № 9.
3. Ионин Л.Г. Культура и социальная структура // СОЦИС. 1996. № 2.
4. Горшков М.К. Социальные факторы модернизации российского общества с позиций социологической науки // СОЦИС. 2010. № 12.
5. Ионин Л.Г. Идентификация и инсценировка (к теории социокультурных изменений) // СОЦИС. 1995. № 4.
6. Бурдье П. Оппозиции современной социологии // СОЦИС. 1996. № 5.
7. Кара-Мурза С. Демонтаж народа / С. Кара-Мурза. М.: Алгоритм, 2005.
8. Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д. Профессионалы: портрет на фоне реформ // СОЦИС. 2005. № 2.
9. Горшков М.К. Фобии, угрозы, страхи: социально-психологическое состояние российского общества // СОЦИС. 2009. № 7.
10. Иванова В.А., Шубкин В.Н. Массовая тревожность россиян как препятствие интеграции общества // СОЦИС. 2005. № 2.
11. Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д. Социальная структура общества: в поиске адекватных ответов // СОЦИС. 2008. № 7.
12. Бойков В.Э. Социально-политические ценностные ориентации россиян: содержание и возможности реализации // СОЦИС. 2010. № 6.
13. Динамика социально-экономического положения населения России (по материалам «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения. 1992-2006 гг.») // Информационно-аналитический бюллетень Института социологии РАН. 2008. Вып. 2. С. 74.
14. Бойков В.Э. Социально-экономические факторы развития российского общества // СОЦИС. 1995. № 11.
15. Кармадонов О.А. Социальная стратификация в дискурсивно-символическом аспекте // СОЦИС. 2010. № 5.
16. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н.А. Бердяев. М.: Наука, 1990. С. 88-89.
17. Максимов Б.И. Рабочие как акторы процесса трансформаций // СОЦИС. 2008. № 3.
18. Тульчинский М.Р. Наукометрический анализ «развития социологии» в начале 90-х гг. // СОЦИС. 1994. № 6.
19. Максимов Б.И. Рабочий класс, социология и статистика // СОЦИС. 2003. № 1.
20. Заславская Т.И. Социализм, перестройка и общественное мнение // СОЦИС. 1991. № 8.
21. Темницкий А.Л., Максимова О.Н. Мотивация интенсивного труда рабочих промышленного предприятия // СОЦИС. 2008. № 11.
22. Яременко Ю.В. Правильно ли поставлен диагноз? // Экономические науки. 1991. №1.
23. Шмелев Н.П. Экономические перспективы России // СОЦИС. 1995. № 3.
24. Шмелев Н.П. // Московская среда. 2003. № 4.
25. Нетреба П. Герман Греф оказался вне конкуренции // Коммерсантъ. 2004. № 62 (2901).
26. Сурков В. Русская политическая культура. Взгляд из Утопии // ‹http:// www. kreml. org/opinions/152681586›.
27. Стратегия-2020: Новая модель роста новая социальная политика» // ‹›.
28. Максимов Б.И. Состояние и динамика социального положения рабочих в условиях трансформации // СОЦИС. 2008. № 12.
29. Бессокирная Г.П. Стратегии выживания рабочих // СОЦИС. 2005. № 9.
30. Максимов Б.И. Шахтеры, власть, народ // СОЦИС. 1999. № 4.
31. Силласте Г.Г. Конверсия: социогендерный аспект // СОЦИС. 1993. № 12.
32. Тихонова Н.Е. Особенности дифференциации и самооценки статуса в полярных слоях населения // СОЦИС. 2004. № 3.
33. Балабанов А.С., Балабанова Е.С. Социальное неравенство: факторы углубления депривации // СОЦИС. 2003. № 7.
34. Козырева П.М. Некоторые тенденции адаптационных процессов в сфере труда // СОЦИС. 2005. № 9.
35. Удальцова М.В., Воловская Н.М., Плюснина Л.К. Социально-трудовые ожидания незанятых людей и их отношение в самостоятельной занятости // СОЦИС. 2003. № 7.
36. Жидкова Е.М. Ориентация на незанятость среди проблемных групп рынка труда // СОЦИС. 2005. № 3.
37. Денисова Ю.С. Трудовая перегрузка работников добрая воля или принуждение? // СОЦИС. 2004. № 5.
38. Римашевская Н.М. Бедность и маргинализация населения // СОЦИС. 2004. № 4.
39. Алексеева Л.С. Бездомные как объект социальной дискредитации // СО-ЦИС. 2003. № 9.
40. Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д., Казаринова И.В. Маргинальный слой: феномен социальной самоидентификации // СОЦИС. 1996. № 8.
41. Чередниченко Г.А. Образовательные и профессиональные траектории рабочей молодежи // СОЦИС. 2011. № 9.
42. Патрушев В. Жизнь горожанина (1965-1998) / В. Патрушев. М.: Academia, 2001.
43. Патрушев В.Д., Темницкий А.Л. Собственность и отношение к труду // СОЦИС. 1994. № 4.
44. Борисов В.А., Козина И.М. Об изменении статуса рабочих на предприятии // СОЦИС. 1994. № 11.
45. Бессокирная Г.П. Динамика ценности и мотивов труда рабочих (20032007 гг.) // СОЦИС. 2010. № 2.
46. Макарова М.Н. Стратегии воспроизводства рабочих как отражение их трудовых и образовательных ориентаций // СОЦИС. 2007. № 8.
47. Качанов Ю.Л., Шматко Н.А. Как возможна социальная группа (к проблеме реальности в социологии) // СОЦИС. 1996. № 12.
48. Бизюков П.В. Подземная шахтерская забастовка (1994-1995) // СОЦИС. 1995. № 10.
49. Петухов В.В. Новые поля социальной напряженности // СОЦИС. 2004. № 3.
50. Ионин Л.Г. Культура и социальная структура (ч. 2) // СОЦИС. 1996. № 3.
51. Козина И. Изменения социальной организации промышленного предприятия // СОЦИС. 1995. № 5.
52. Кузнецова А.П. Может ли рабочий стать хозяином? // СОЦИС. 1992. № 1.
53. Темницкий А.Л. Коллективистские ориентации и практики трудового поведения // СОЦИС. 2008. № 12.
54. Горяинов В.П. Социальное молчание как концепция особого вида поведения (о книге Н.Ф. Наумовой «Философия и социология личности») // СОЦИС. 2007. № 10.
55. Пришвин М.М. Дневники. 1914-1917 / М.М. Пришвин. М.: Московский рабочий, 1991.
56. Дмитриев А.В., Пядухов Г.А. Этнические группы мигрантов и конфликты в анклавных рынках труда // СОЦИС. 2005. № 8.
57. Малахов В. Зачем России мультикультурализм? // Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ. М., 2002. С. 48-60.
58. Конобевцев Ф.Д. Регулирование неформальной трудовой занятости в Российской Федерации // Автореф. дисс… канд. эконом. наук. М., 2012.
59. Путин В.В. Строительство справедливости. Социальная политика для России // Комсомольская правда. 2012. 13 февраля.
60. Путин В.В. О наших экономических задачах // Российская газета. 2012. 30 января.
ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: РЕЗУЛЬТАТЫ И ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В 1990-е гг. глубокая трансформация всего жизнеустройства постсоветской России нанесла ее населению сильную культурную травму. Изучение последствий этой травмы стало важной главой социологии и культурологи. Особо велика инерция травмы, нанесенной духовной (символической) сфере человека. Так, в коллективной памяти большинства населения России остался ноющий рубец, нанесенный приватизацией промышленности в 1992-1995 гг. Для устранения последствий этой травмы требуется программа реабилитации и прежде всего — диалог власти с обществом. Для этого необходимо изучение ситуации и тенденции ее изменения.
Доклад представляет собой обзор изучения общественного мнения о приватизации промышленности, проведенной в 1990-е гг. Это изучение специально проводили несколько групп ученых; кроме того, многие авторы касались проблемы как частного аспекта других тем, но при этом тоже внесли ценный вклад в общий массив информации.
В исследовании 2005-2006 гг. — самом основательном в последнем десятилетии — так определяется статус приватизации как социального факта: «Самым существенным моментом в экономических, а стало быть, и в социальных, преобразованиях в России в последние пятнадцать лет явилось кардинальное изменение роли частной собственности в жизнедеятельности российского социума. Именно ее утверждение в качестве базовой формы собственности означало переход от одной общественно-экономической формации (так называемый “развитый социализм”) к другой (олигархический капитализм)… Очевидно, что главным инструментом [реформаторов] и в 1990-е годы, и в настоящее время является приватизация. Именно на ее основе была осуществлена небольшой группой номенклатурных чиновников экспроприация собственности государства и денежных средств населения» [1].159
Политическая цель приватизации. Не составляет секрета, что выбор доктрины реформ России преследовал политические цели. Главной целью были демонтаж советской политической системы, ликвидация Варшавского блока и самого СССР. В 2010 г. в СМИ был передан ролик с записью интервью с А. Чубайсом, относящегося к 2001 г. В этом интервью Чубайс так говорил о ваучерной приватизации, организатором которой он считается: «Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма. Это разные задачи, с разной ценой. Мы знали, что каждый проданный завод — это гвоздь в крышку гроба коммунизма. Дорого ли, дешево, бесплатно, с приплатой — двадцатый вопрос, двадцатый. А первый вопрос один: каждый появившийся частный собственник в России — это необратимость. Это необратимость… Приватизация в России до 97 года вообще не была экономическим процессом. Она решала главную задачу — остановить коммунизм. Эту задачу мы решили. Мы решили ее полностью» [2].
Примерно так же он представлял цели залоговых аукционов 1995-1996 гг.: «Моя позиция вообще такая неэкономическая. Я до сих пор считаю, что залоговые аукционы создали политическую базу для необратимого разгрома коммунистов на выборах в 1996 году. Это же были настоящие “командные высоты”, крупнейшие предприятия страны с “красными директорами” во главе. И этого одного достаточно, чтобы считать их позитивным явлением. И ты поэтому должен согласиться, что результаты выборов появились в значительной степени благодаря залоговым аукционам» [3].160
В этом плане интервью Чубайса не стало новостью: реформаторы и не ждали от их реформы каких-то положительных экономических результатов, они проводили большую операцию против СССР, не считаясь с потерями, которые несли экономика и население. Задолго до Чубайса об этом писала западная пресса. Вот газета «Файнейшнл Таймс» от 16 апpеля 1991 г.: «Западные пpавительства и финансовые институты, такие как Междунаpодный валютный фонд и Всемиpный банк, поощряли восточноевpопейские пpавительства к pаспpодаже госудаpственных активов, что было пpизвано послужить средством пpивлечения западных инвестиций, создания pыночной экономики и pазpушения оплота в лице госудаpственной бюpокpатии. Со своей стоpоны, пpавительства pассматpивали пpиватизацию как средство разрушения базы политической и экономической власти коммунистов» [4].
Публикуя 6 апpеля 1991 г. обзоp амеpиканской печати о ходе пpиватизации в Восточной Евpопе, газета «Таймс» пpизнает: «Поскольку пpиватизация считается болезненным, а поpой и сомнительным пpоцессом, такие западные финансовые учpеждения, как Всемиpный банк, Междунаpодный валютный фонд и новый Евpопейский банк pеконстpукции и pазвития, должны оказать помощь, чтобы она пpошла успешно. Пpофессоp Сакс говоpит: “Нам на Западе пpидется подкупать и уговаpивать эти пpавительства идти вперед”».
А. Чубайс в интервью представляет приватизацию как благородное дело борьбы с «империей зла». Но невозможно скрыть две другие стороны дела:
— приватизация была невиданным по масштабам присвоением национального достояния небольшой прослойкой «новой элиты», повязанной этой дележкой;
— приватизация привела к избыточным разрушениям народного хозяйства и общества, каких не требовалось для решения политической задачи; она привела к такому глубокому регрессу Россия, что объективно оценивается как большая операция в «войне наций» (или даже цивилизаций).
От рассмотрения этих сторон приватизации А. Чубайс и старается отвести своим «сенсационным» признанием.
Что касается криминального раздела национального достояния России, спора и не возникает. Нобелевский лауреат Дж. Стиглиц так говорит о приватизации самых рентабельных предприятий через залоговые аукционы: «Частные банки оказались собственниками этих предприятий путем операции, которая может рассматриваться как фиктивная продажа (хотя правительство осуществляло ее в замаскированном виде “аукционов”); в итоге несколько олигархов мгновенно стали миллиардерами. Эта приватизация была политически незаконной. И тот факт, что они не имели законных прав собственности, заставлял олигархов еще более поспешно выводить свои фонды за пределы страны, чтобы успеть до того, как придет к власти новое правительство, которое может попытаться оспорить приватизацию или подорвать их позиции» [6].
«Подкупить и уговорить» новую власть России Западу не составило труда, поэтому в 1991 г. Верховный Совет СССР, а затем и Верховный Совет РСФСР приняли законы о приватизации промышленных предприятий, а в 1992-1993 гг. эта массовая приватизации была проведена — так торопливо, что даже и закон игнорировали.
Предмет приватизации 1990-х годов. Эта приватизация является самой крупной в истории человечества акцией по экспроприации — изъятию собственности у одного социального субъекта и передаче ее другому. При этом никакого общественного диалога не было, власть и не спрашивала согласия собственника на приватизацию. По своим масштабам и последствиям она не идет ни в какое сравнение с другой известной нам экспроприацией — национализацией промышленности в 1918 г. Тогда много крупнейших заводов и до этого были государственными (казенными), а большая часть промышленного капитала в России принадлежала иностранным фирмам. Поэтому национализация непосредственно коснулась очень небольшой части буржуазии, которая к тому же была в России очень немногочисленной.
Совершенно иной характер носила экспроприация промышленности в 90-е гг. ХХ века. Теперь небольшой группе «частных собственников» была передана огромная промышленность, которая изначально была практически вся построена как единая государственная система. Это был производственный организм совершенно нового типа, не известного прежде. Он был важным основанием российской цивилизации индустриальной эпохи ХХ века.
Советское хозяйство, на 90% построенное уже после войны, к 1990 г. представляло собой специфическую систему, созданную как единый сросшийся с государством организм. Аналогии с западным или дореволюционным российским хозяйством советская промышленность не имеет, нечего на них и ссылаться. Никаких теоретических разработок для переделки такого хозяйства в рыночную экономику западного типа у реформаторов не было. Их доктрина не имела никаких разумных оснований, кроме стремления «уничтожить коммунизм» и при этом нагреть руки.
Приватизации подверглись не те предприятия, которые были национализированы в 1918-1920 гг. Предприятия, которые сохранились после 7 лет Первой мировой и Гражданской войн (1914-1921 гг.) и были национализированы, производили всего 0,17% объема производства промышленности СССР 1990 года. После 1991 г. была приватизирована промышленность, полностью созданная советским народом — в основном, поколениями, родившимися после 1920 г. Большого числа отраслей не существовало в 1913 г. Многие под идеологическим давлением перестройки и реформ это как будто забыли.
Приватизация ни в малейшей степени не была «возвращением предприятий, национализированных советской властью, их законным хозяевам». Приватизация — это изъятие промышленных предприятий у народа, который их построил и содержал, вкладывая в них свой неоплаченный труд и ограничивая себя даже в скудном потреблении — чтобы оставить потомкам сильную и независимую страну. Так тогда понимали это дело те, кто строил заводы и на них работал.
Экономические последствия приватизации. В экономическом, технологическом и социальном отношении расчленение промышленной системы России означало катастрофу, размеров и окончательных результатов которой мы и сейчас еще не можем полностью осознать. Система пока что сохраняет, в искалеченном виде, многие свои черты. Но уже сейчас зафиксировано в мировой науке: в России приватизация привела к небывалому в истории по своей продолжительности и глубине экономическому кризису, которого не может удовлетворительно объяснить теория.
Власти и СМИ старательно отвлекают еще от одного смысла приватизации: она была механизмом деиндустриализации России и ряда постсоветских республик. Были созданы условия, когда новым собственникам стало выгодно не получать предпринимательский доход от эксплуатации предприятия, а прекратить производство, продать за рубеж оборудование и запасы материалов, а здания сдавать в аренду — или вообще продать иностранцам пакет акций, даже противозаконно, чтобы они ликвидировали это производство в России. Так были уничтожены самые высокотехнологичные производства и целые отрасли промышленности. Как показывает опыт, в нынешней системе шансов на возрождение этих отраслей очень мало или их нет совсем. Россия выпала из числа промышленных держав.161
Вот непосредственные последствия приватизации.
— Были разорваны внутренние связи промышленности, и она потеряла системную целостность. Были расчленены (в среднем на 6 кусков) промышленные предприятия, вследствие чего они утратили технологическую целостность. Объем промышленного производства упал в 1998 г. до 46,3% от уровня 1990 г. (а в машиностроении он сократился в 6 раз).
— Произошла структурная деформация промышленности — резкий сдвиг от обрабатывающей к сырьевой (и экспортным отраслям, производящим «упакованную» энергию в виде энергоносителей, металлов и удобрений). Ряд системообразующих отраслей почти утрачены — как, например, тракторостроение, авиационная и фармацевтическая промышленность.
— Была разрушена сбалансированная система цен, что парализовало отечественный рынок многих видов продукции (например, сельскохозяйственных машин и удобрений). В ряде отраслей новые «собственники» распродали основные фонды (так, Россия утратила 75% морского торгового флота). В добывающей промышленности не воспроизводится сырьевая база — разведка полезных ископаемых сократилась многократно. Сооружения, машины и оборудование эксплуатируются хищнически, на износ. Беспрецедентная авария на Саяно-Шушенской ГЭС — это глас свыше нынешней власти.
Уход государства из хозяйственной системы (ликвидация Госплана, Госснаба, Госстандарта и Госкомцен) неизбежно и моментально привел к ее краху. Ход процесса был довольно точно предсказан отечественными экономистами. Академик Ю.В. Яременко писал в 1990 г.: «Пока нет другого способа поддержания равновесия кроме целенаправленной, централизованной деятельности Госплана. Отсюда вытекает и необходимость сохранения главных инструментов этой деятельности — значительной величины централизованных капитальных вложений, существенного объема госзаказа на сырьевые ресурсы» [8].
Только благодаря «партизанскому» сопротивлению и самих хозяйственных структур, и среднего звена госаппарата удалось сохранить для России хотя бы половину ее экономического потенциала. На рис. 1 видно, какого масштаба промышленное строительство было осуществлено в послевоенные годы в СССР, а также темп и глубину спада промышленного производства в совокупности постсоветских республик (СНГ) после приватизации.
Рис. 1. Индексы промышленного производства СССР и СНГ (1940 = 1)
Последствия приватизации — не плод заблуждений власти. Приватизация 1990-х гг. сопровождалась замалчиванием важного знания об этом процессе, включая знание о свежем опыте приватизации в Польше и Венгрии. Более того, имела место и дезинформация о важных сторонах проблемы. В 1992 г. группа ведущих иностранных экспертов (социологов и экономистов) под руководством М. Кастельса посетила Москву. Она провела интенсивные дискуссии с членами Правительства Российской Федерации. После отъезда группа составила доклад Правительству России, который был опубликован лишь в 2010 г.
В докладе эти эксперты критикуют доктрину приватизации и, изложив свои аргументы, напоминают хорошо известные вещи: «Рыночная экономика не существует вне институционального контекста. Основной задачей реформаторского движения в России сегодня является в первую очередь создание институциональной среды, т. е. необходимых условий, при которых рыночная экономика сможет функционировать. Без подобных преобразований рыночная экономика не сможет развиваться, не создавая при этом почвы для спекуляций и воровства. То есть создание эффективной рыночной экономики принципиально отличается от простой задачи передачи прав собственности от государства и старой номенклатуры к успешным частным управляющим… Культура куда важнее масштабов приватизации».
Приватизация 1990-х гг. стала небывалым в истории случаем теневого соглашения между бюрократией и преступным миром. Две эти социальные группы поделили между собой промышленность России. Этот союз бюрократии и преступности нанес по России колоссальный удар, и неизвестно еще, когда она его переболеет.
Молодой аспирант-биохимик Каха Бендукидзе «скупил ваучеры» и приобрел «Уралмаш». Сам он так говорит в интервью газете «Файнэншл Таймс» от 15 июля 1995 г.: «Для нас приватизация была манной небесной. Она означала, что мы можем скупить у государства на выгодных условиях то, что захотим. И мы приобрели жирный кусок из промышленных мощностей России. Захватить “Уралмаш” оказалось легче, чем склад в Москве. Мы купили этот завод за тысячную долю его действительной стоимости» [9]. Заплатив за «Уралмаш» 1 млн долл., Бендукидзе получил в 1995 г. 30 млн долл. чистой прибыли.
Зарубежные эксперты так характеризуют общности, которым в ходе приватизации передавалась основная масса промышленной собственности: «В настоящий момент все они так или иначе демонстрируют паразитическое поведение, их действия носят не инвестиционный, а спекулятивный характер, свойственный в большей мере странам третьего мира… Такая ситуация характерна скорее не для зарождающегося, а для вырождающегося капитализма. Фактически идет процесс передела накопленной собственности, а не создание нового богатства. В этих условиях исключительно либеральная экономическая политика, основанная на непродуманной и неконтролируемой распродаже государственной собственности, обречена на провал, что приведет лишь к усилению власти спекулятивных групп в российской экономике».
И вот общий вывод: «Резюмируя все сказанное, мы утверждаем, что существующая концепция массовой приватизации является главной ошибкой, которую Россия может совершить в ближайший год реформ» [10].
М. Кастельс, А. Турен и их коллеги-эксперты высказали принципиальные, очень важные суждения о начавшейся в России приватизации, которые быстро получили эмпирические подтверждения. Но эти суждения не были приняты во внимание и скрыты от общества и от научной общественности.
Чтобы как-то смягчить эффект от небывалого подлога, который совершали политики и высшие чиновники экономического блока правительства, в социологический лексикон был введен термин идеи-кентавры. Инициатор применения этого термина Ж.Т. Тощенко пишет:
«Что представляют собой кентавр-идеи, как они рождаются? Во-первых, это полный или частичный разрыв между реальностью и представлениями о том, что должно или может быть. Нередко они содержат идеализированное или умышленно искаженное представление о состоянии или возможности решать конкретные проблемы, исходя из воображаемых методов и средств, сконструированных умозрительно. В современной действительности кентавр-идеи приобретают порочную, порой зловещую определенность при попытке реализации, несмотря на то, что никак не коррелируют с реальностью, в которую их собрались внедрить. В результате авторы этих идей продолжали настаивать на их выполнении при жесточайшем (к сожалению, нередко пассивном) сопротивлении тех, на кого идеи были направлены. Кентавризм создавал огромные помехи в организации нормальной жизни людей…
Что касается нашей действительности, можно привести идеи Гайдара и его сторонников о том, какая должна быть Россия в будущем. Порок их задумок состоял в том, что они не имели отношения к действительности и не учитывали реальности российской жизни, состояние экономики, менталитет народа. Гайдар и подобранная им команда не знали реальной жизни, судили о ней по статистическим сборникам. И была у них ничем не подкрепленная вера, что рынок сам, без участия государства, все отрегулирует, напоит и накормит страну. И вопреки обещаниям, “научным” расчетам, что реализация их идей приведет к повышению цен в 3-5 раз, в первый же год реформ цены в среднем скакнули на 2600%. И это при полном игнорировании интересов и потребностей народа. Когда в феврале 1992 г. Гайдару доложили, что в Зеленограде зафиксировано 36 голодных смертей, он спокойно ответил: “Идут радикальные преобразования, уход из жизни людей, не способных им противостоять, дело естественное”» [11].
Не будем гадать, по неведению действовали «Гайдар и его команда» или по осознанному рациональному плану, опираясь на точное знание «реальности российской жизни, состояния экономики, менталитета народа». Важно, что речь идет о грубом и даже жестоком воздействии на реальность при сокрытии и целей, и предполагаемой социальной цены.
Описанный выше класс подобных идей вернее будет назвать «волки в овечьей шкуре», но авторитетные социологи предложили политкорректный термин — пусть будут кентавр-идеи.
Для нас важно, что концепция приватизации никак не могла быть заблуждением реформаторов — масштаб противоречия между их концепцией и российской реальностью был им прекрасно известен. Ж.Т. Тощенко так пишет о приватизации:
«Кентавр-идеи появляются в случае смешения научного и политического (идеологического) подходов. То, что наука заинтересована в объективном знании, не оспаривается никем. Как и то, что политика и идеология преследуют цели, не всегда совпадающие с логикой научного познания. Но в реальной политической жизни появляются идеи, которые базируются вроде бы на научных основах, но преследуют отнюдь не научно-обоснованные цели. Особенно наглядно это проявилось в так называемой ваучеризации, идею которой приписывают Чубайсу (по утверждению соратника по “кружку” Чубайса В. Найшуля, он эту идею продвигал в советское время), которая породила вопиюще несправедливое распределение национального богатства и его концентрацию у немногих» [11].
Признаком кентавр-идеи была сама Концепция закона о приватизации (1991 г.), в которой называются такие главные препятствия ее проведению: «Миpовоззpение поденщика и социального иждивенца у большинства наших соотечественников, сильные уравнительные настpоения и недовеpие к отечественным коммеpсантам (многие отказываются пpизнавать накопления коопеpатоpов честными и тpебуют защитить пpиватизацию от теневого капитала); пpотиводействие слоя неквалифициpованных люмпенизиpованных pабочих, pискующих быть согнанными с насиженных мест пpи пpиватизации».
Антиpабочая фpазеология официального документа, присущая социал-дарвинизму времен «дикого капитализма», пришла под лозунгами демократии! Опять же, не будем спорить, имело ли здесь место «смешение научного и политического (идеологического) подходов». Почти очевидно, что в кентавр-идее приватизации не было ни атома научного подхода.
Перейдем к рассмотрению отношения населения России к приватизации промышленности. Для этого надо сделать следующие замечания методологического характера.
Приватизация как зло. Известно, что объективный факт не воспринимается в общественном сознании сам по себе, как нечто данное в своей истинности. Его образ создается идеологическими и культурными средствами (в нашем случае, грубо говоря, «телевизором»). Американский социолог Дж. Александер пишет, что реальное событие переживается в зависимости от того, как его преломляют в культуре: «События — это одно дело, представление этих событий — совсем другое. Травма не является результатом переживания групповой боли… Коллективные акторы “решают”, представлять ли им социальную боль как фундаментальную угрозу их чувству того, кто они есть, откуда они пришли, куда они идут» [12].
Для нашей темы из этого следует, что оценка приватизации как «добра» или «зла» есть, по выражению Александера, «продукт культуральной и социологической работы». Очевидно, что приватизация, будучи «главным инструментом» реформ, имела информационную поддержку в виде такой позитивной пропаганды, какую только могли обеспечить «культуральные и социологические» ресурсы новой политической системы.
Отсюда вытекает вопрос: что действительно измеряет социолог, какую скрытую (латентную) величину он оценивает, используя как индикатор «долю положительных и отрицательных оценок» — осознанное мнение опрошенных или качество пропаганды приватизаторов? В любом случае, сдвиг в сознании, произведенный пропагандой в сторону положительных оценок, надо иметь в виду.
Если «события — это одно дело, представление этих событий — совсем другое», то к чему относится оценка общества? Индикатором чего является выраженная в пропорции ответов оценка? Как разделить веса двух разных величин, которые являются антиподами, но смешиваются в таблицах социолога и совместно определяют оценку? Первая величина — это реальная «групповая боль», превращенная размышлениями трудящихся и их неслышным каждодневным плебисцитом в образ, интеллектуальную и духовную конструкцию, которая работает в сознании и чувстве. Социологи именно это имеют в виду, говоря об отношении населения к приватизации.
Но ведь с этой величиной суммируется и вторая величина, «нейтрализующая» первую, — «продукт культуральной и социологической работы» идеологической машины реформаторов. Сила этой величины определяется количеством и качеством этого продукта, производство которого никак не связано с мнением населения. Каким образом можно нейтрализовать в работе социолога эту вторую величину, чтобы измерить искомую первую величину, ставшую латентной, «покрытой» и деформированной продуктом идеологической машины?
Какого-то одного надежного метода нет; нужны аргументы, усиливающие или ослабляющие правдоподобность выводов. Для этого полезно построить временной ряд оценок, т. е. измерить сходные параметры в разные моменты действия идеологической машины. Надо также произвести дополнительные измерения — независимыми методами с иными индикаторами.
Для первого подхода ценный материал стал накапливаться лишь с течением времени. Непосредственно в период приватизации информированность работников была крайне скудной и, соответственно, отношение было сдвинуто в позитивную сторону. Смысл операции и ее прогнозируемые последствия от самих работников скрывались. Эта тактика реформаторов в дальнейшем нанесла сильный удар по легитимности приватизированной собственности.
Первый этап восприятия приватизации. Вот, для примера, описание процесса приватизации Кировского завода — одного из крупных предприятий машиностроения:
«…В начале 1992 г. конференция трудового коллектива по инициативе руководства приняла еще одно решение об акционировании предприятия. Далее процесс можно уже было назвать собственно акционированием: появилась законодательная база, действовали Закон и Программа приватизации (на 1992 г.), другие директивные и методические документы… Однако отношение работников к собственно приватизации отличалось от прежней активной позиции, походило скорее на реакцию “здорового консерватора”, недоверчивого ко всяким нововведениям. Реакция в целом характеризовалась индифферентностью, была сродни той, которая наблюдается при проведении ваучеризации, приватизации жилья. По результатам социологического опроса были согласны с приватизацией завода, даже после того, как акт акционирования состоялся, около 60%. Противников акционирования было мало (примерно 15%), но и активных сторонников (именно активных) тоже оказалось немного. Таким образом, отношение было похоже на непротивление, не более.
Более 80% опрошенных считали, что приватизация предприятия не отвечает или отвечает лишь в незначительной степени их личным интересам. Некоторые выражали даже опасения ухудшения своего положения. Информированность людей об условиях и целях приватизации была низкой.
Наименьшей активностью отличались рядовые работники, наибольшей — руководители. Рабочие проявили наименьшую заинтересованность в акционировании (согласна с приватизацией лишь половина опрошенных, намеревались покупать акции своего предприятия за деньги 37%). Именно они в первую очередь выражали опасения ухудшения своего положения. С их стороны никаких организованных выступлений ни за приватизацию, ни против нее не было. ИТР заняли среднюю позицию. Среди руководящих работников выделяется группа руководителей верхнего уровня. Они, так сказать, полностью повернулись лицом к приватизации и продвигают ее. Данная группа доминирует в проведении приватизации.
Руководство предприятия занимало однозначную позицию в вопросе распределения акций между работниками, состоявшую в недопущении преобладания коллективной собственности. Здесь сказывались как личные интересы высшего звена руководства, так и желание выполнить требования программы приватизации» [13].
Вот явная неопределенность отношения: согласны с приватизацией завода около 60% работников, но при этом 80% считают, что приватизация предприятия не отвечает или отвечает лишь в незначительной степени их личным интересам. Ведь одно это должно было насторожить социолога. Каков ход мысли многотысячного коллектива рабочих, которые соглашаются с изменением, противоречащим их личным интересам? Можно ли принимать такое «согласие» за рациональный осознанный выбор? Это скорее именно признак манипуляции сознанием.
Рабочие ни «за», ни «против», ИТР тоже, активно за приватизацию выступали лишь руководители верхнего уровня. Они и были информированной и сплоченной группой и успешно добились своих целей. При свободе выбора в таком случае возникают социальное противоречие и какая-то форма протеста.
Академик Т.И. Заславская, видный идеолог перестройки, в 1995 г. так говорила об отношении населения к приватизации: «Что касается экономических интересов и поведения массовых социальных групп, то проведенная приватизация пока не оказала на них существенного влияния… Прямую зависимость заработка от личных усилий видят лишь 7% работников, остальные считают главными путями к успеху использование родственных и социальных связей, спекуляцию, мошенничество и т. д.» [14].
Иными словами, Т.И. Заславская косвенно вводит как индикатор отношения к приватизации отсутствие открытого протеста, поскольку проведенная приватизация пока якобы не оказала существенного влияния на экономические интересы и поведение. Но тут есть натяжка. Сказано ведь, что после приватизации 93% работников не могут жить как раньше, за счет честного труда. Они теперь вынуждены искать сомнительные, часто преступные источники дохода («спекуляцию, мошенничество и т. д.»). Как же можно утверждать, что приватизация не повлияла на экономическое поведение? Протест и экономическое поведение — разные вещи.
Однако другие социологи (в том числе и либерального направления) оценивают установки работников иначе. Уже в 1994 г., еще в ходе приватизации, они наблюдали важное явление: неприятие приватизации сочеталось с молчанием населения. Многие тогда замечали, что это молчание — признак гораздо более глубокого отрицания, чем явные протесты, митинги и демонстрации. Это был признак социальной ненависти, разрыв коммуникаций — как молчание индейцев во время геноцида.
Социолог Н.Ф. Наумова писала, что «российское кризисное сознание формируется как система защиты (самозащиты) большинства от враждебности и равнодушия властвующей элиты кризисного общества». На это важное наблюдение В.П. Горяинов заметил: «Сказанное как нельзя точно подходит к большинству населения России. Например, нами по состоянию на 1994 год было показано, что по структуре ценностных ориентаций население России наиболее точно соответствовало социальной группе рабочих, униженных и оскорбленных проведенной в стране грабительской приватизацией» [15].
Здесь произнесено символическое определение: грабительская приватизация. Это — осознание приватизации как зла. Запомним это определение приватизации как грабительской, оно будет важно при интерпретации более поздних опросов.
В исследовании, проведенном в июне 1996 г. (общероссийский почтовый опрос городского и сельского населения), сделан такой вывод:
«Радикальные реформы, начатые в 1992 году, получили свою оценку не только на выборах, но и в массовом сознании. Абсолютное большинство россиян (92% опрошенных) убеждено, что “современное российское общество устроено так, что простые люди не получают справедливой доли общенародного богатства”. Эта несправедливость связывается в массовом сознании с итогами приватизации, которые, по мнению 3/4 опрошенных, являются ничем иным как “грабежом трудового народа” (15% не согласны с такой оценкой, остальные затруднились с ответом).
Девять из десяти взрослых жителей страны считают, что “основные отрасли промышленности, транспорт, связь должны быть собственностью государства, принадлежать всему народу, а не группе людей”. Серьезные аналитики и политики не имеют права не учитывать такую позицию трудящегося населения страны, как бы они ее не оценивали.
Данные опроса подтвердили ранее сделанный вывод о происходящем ныне процессе преобразования латентной ценностной структуры общественного мнения в форме конфликтного сосуществования традиционных русских коллективистских ценностей, убеждений социалистического характера, укоренившихся в предшествующую эпоху, и демократических ценностей, индивидуалистических и буржуазно-либеральных взглядов на жизнь» [16].
Вот главное: 75% воспринимают приватизацию как грабеж. Эта травма так глубока, что произошел раскол общества по ценностным основаниям.
Здесь — сложная методологическая проблема, о которой надо кратко сказать. Какой должна быть программа социологических опросов при наличии «латентной ценностной структуры общественного мнения в форме конфликтного сосуществования» двух разных систем ценностей? Как интерпретировать ответы людей, приверженных разным системам? Ведь одна часть опрошенных надеется прожить под покровительством экономического и административного капитала, а другая ведет катакомбное духовное существование. Строго говоря, программы социологических исследований должны строиться по-разному для разных частей расколотого общества — системы ценностей у них разные, значит и смысл понятий и терминов — разные, для них нельзя (или очень трудно) найти какие-то «стыковочные» понятия.
Здесь — проблема несоизмеримости ценностей двух общностей, но в российской социологии об этой проблеме не говорят и как будто вообще не слышали о ней.
Более того, в ходе приватизации имела место дезинформация о важных сторонах этой операции конкретно для России. Граждане осознали смысл приватизации слишком поздно, но это стало важным фактором раскола общества и углубления кризиса 1990-х гг. Понятно, что социолог не должен своими вопросами оказывать идеологическое давление на опрашиваемых. Но разве не требует научная этика дать опрашиваемым хотя бы минимум объективного знания, которого их лишили политики?
Конкретно, в случае приватизации, социологи оказались именно в такой ситуации. Выше говорилось о работе в 1992 г. группы ведущих экспертов (М. Кастельс, А. Турен, Ф.Э. Кардозу, М. Карной и С. Коэн), которые обсуждали с членами Правительства России (в том числе с Г.Э. Бурбулисом, Е.Т. Гайдаром, А.Н. Шохиным) доктрину приватизации. Но ведь в качестве экспертов с российской стороны выступали видные социологи — профессора Ю.А. Левада, Л.Ф. Шевцова, О.И. Шкаратан и В.А. Ядов. Им сказали, что «существующая концепция массовой приватизации является главной ошибкой, которую Россия может совершить в ближайший год реформ», и привели веские доводы, совершенно понятные и неоспоримые для социологов.
Ведущие российские социологи услышали эти суждения и доводы в ходе прямой дискуссии. Ну ладно, политическое руководство скрыло это знание от общества и населения — нечего о нем и говорить. Но разве не требует профессиональная этика социологов ввести это знание в научный оборот, чтобы исследователи могли учесть его в своих проектах? Разве социолог — не врач и просветитель для общества? В случае обсуждения доктрины приватизации упомянутые авторитетные социологи скорее выглядят как бойцы идеологического спецназа в гражданской информационно-психологической войне в своей стране.
Одно дело, когда социолог действует как разведчик, отправленный в общество, как «в тыл противника». Другое дело, когда социолог следует нормам науки как открытого знания, способствующего рациональному самопознанию общества и государства и выработке общественного договора.
Вот поучительный случай. В октябре 1993 г. ВЦИОМ объявил о положительном отношении населения к действиям президента Ельцина против Верховного Совета. Основывая свой вывод на данных опроса городского населения, Л. Седов писал, что «результаты этих событий были восприняты россиянами как ожидаемое потрясение на пути установления порядка и предотвращения сползания страны к хаосу и анархии». Он обосновал свое заключение о якобы положительном мнении всего населения тем, что 26% респондентов, «не будучи сбиты с толку декларациями законодательной власти, думают, что этот сдвиг осуществлен во имя демократии» [17].
Это как, уважаемые «демократические социологи», — объявлять положительную оценку 26% респондентов «отношением населения»?
Выводы исследований после 2000 года. М.К. Горшков пишет по результатам опросов 2001 г.: «Один из ключевых вопросов — как оценивают россияне свое прежнее и нынешнее отношение к реформам начала 90-х гг. Так, почти половина опрошенных заявила о том, что десять лет назад они в той или иной степени поддерживали начавшиеся тогда экономические и политические реформы, тогда как 34% либо сомневались, либо были категорически против них. Отвечая же на вопрос о своем нынешнем отношении к реформам, наши сограждане оказались более сдержанными и критичными. В результате негативные оценки десятилетнего периода реформ являются сегодня преобладающими. Так оценивают их 60% респондентов. Изменили свою точку зрения прежде всего те, кто заявлял о том, что еще на начальном этапе реформ занимал колеблющуюся позицию. Вместе с тем, и среди бывших твердых сторонников реформ оказалось достаточно много тех, кто изменил свое отношение к реформам со знака плюс на знак минус — это более 40% опрошенных» [18].
В 2001 г. Ж.Т. Тощенко ввел термин метаморфозы — «своеобразный результат деформаций общественного сознания, знаменующий появление его превращенных форм на всех уровнях социальной организации общества» [19]. При этом фундаментальной причиной таких деформаций «на всех уровнях социальной организации общества» он считал именно приватизацию. Это изменение в народном хозяйстве было поистине коренным сдвигом в экономике и политике, более того — во всем жизнеустройстве народа. Состояние, при котором рабочий согласен на приватизацию и одновременно чувствует, что она противоречит его интересам, — хороший пример такой метаморфозы. Но когда метаморфозы подобного типа происходят «на всех уровнях социальной организации общества», речь уже идет о национальной катастрофе.
Ж.Т. Тощенко писал: «Вступление России в 90-е гг. в рыночную экономику усугубило процессы деформации общественной жизни, породив новые метаморфозы общественного сознания с еще более глубокими и кардинальными социальными последствиями. Эти превращенные формы общественного сознания особенно мощно стали формироваться в связи с реализацией политики экономических реформ и в первую очередь приватизацией, которая имела на первом этапе облик ваучерной (1992-1994), на втором этапе (с 1994 г.) — денежной, продолжающейся до сих пор» [19].
Если так, то искренний переход тех, кто в момент приватизации был ее противником, в лагерь ее сторонников, почти невероятен. Гораздо вероятнее был переток сторонников приватизации в лагерь ее искренних противников. Травма была глубока, и дальнейший ход событий ее лишь углублял. Однако жизнь продолжается, и люди надели маски — это вполне разумный конформизм.
Такое предположение подтверждается изучением отношения к перестройке, которая воспринимается как подготовительный этап реформы. Спустя 20 лет исследователи пишут: «После 1988 г. число поддерживающих идеи и практику перестройки сократилось почти в два раза — до 25%, а число противников выросло до 67%. И сегодня доля россиян, позитивно оценивающих перестройку, хотя и несколько возросла и составляет 28%, тем не менее, большинство населения оценивает свое отношение к ней как негативное (63%)» [20].
А общий вывод из этого исследования 2005 г. весьма жесткий: «Приведенные данные фиксируют очень важное обстоятельство — ни перестройка сама по себе, ни последовавшие за ней либеральные реформы, ни социальные трансформации сегодняшнего дня не смогли создать в России той общественной “среды обитания”, которая устроила хотя бы относительное большинство населения» [20].
Вернемся от перестройки к восприятию населением приватизации.
В обзоре результатов общероссийского исследования «Новая Россия: десять лет реформ», проведенного в конце 2001 г. Институтом комплексных социальных исследований РАН под руководством М.К. Горшкова [18], говорится: «Проведение ваучерной приватизации в 1992-1993 гг. положительным событием назвали 6,8% опрошенных, а отрицательным 84,6%».
Даже разгон Верховного Совета России с расстрелом из танков здания в октябре 1993 г. не вызвал такого возмущения: его оценили «скорее положительно» 26%, «скорее отрицательно» — 38,3% и «безразлично» — 35,6%.
Таким образом, в 2001 г. общественная оценка приватизации подавляющим большинством населения была негативной. От неопределенности 1992-1993 гг. большинство населения России сдвинулось к молчаливой ненависти в отношении центральной акции всей реформы — приватизации под прикрытием обмана.
Пройдем дальше по оси времени. Вот сравнение результатов двух исследований — 1998 и 2003 гг. Предмет — «отношение к кардинальным реформам, социально-экономическим переменам, которые произошли в нашей стране с начала 90-х годов. Важнейшая из них — приватизация общественной собственности» [21]. Метод — измерение толерантности жителей Москвы — специфической выборки контингента, в наибольшей степени приверженной ценностям рыночной реформы.
Автор, профессор РАГС В.М. Соколов, пишет: «Уровень толерантности москвичей виден из ответов на вопрос “Нужно ли в судебном порядке пересмотреть итоги приватизации, проводившейся в нашей стране с 1992 по 2000 гг.?” 32% уверены, что “обязательно нужно”. “В какой-то мере, может быть, и нужно” — 33; “не нужно” — 18; затруднились с ответом — 17%.
То есть, 65% горожан не только отрицательно относятся к прошедшей в нашей стране приватизации, но и выступают за ее полный или частичный пересмотр. Столь же нетерпимо отношение москвичей к основным авторам и исполнителям данных реформ: Е. Гайдару, А. Чубайсу, другим активным деятелям, проводившим социально-экономические реформы 90-х годов (свободные цены и т. д.)… 33% относятся отрицательно, так как “они принесли России больше вреда, чем пользы”; 30% высказались резко отрицательно, считая, что “надо судить за их дела”.
Неоднозначные установки москвичей были выявлены в результате изучения отношения населения города к очень богатым людям в России. 10% респондентов ответили: “Уважаю в любом случае”; 29% — “Уважаю, но только в том случае, если богатство получено честным путем”; 21% — “Не уважаю, так как в России нельзя получить большое богатство без обмана, мошенничества, присвоения общественного добра”; а 24% ответивших считают, что обязательно надо в судебном порядке рассмотреть деятельность всех российских миллионеров, каким способом они разбогатели.
Таким образом, низкий уровень толерантности к богатым характерен для 45% опрошенных, терпимое отношение — почти 40%. По сравнению с данными опроса по аналогичной проблеме, проведенного в 1998 г., толерантность москвичей в этом отношении заметно выросла. Пять лет назад только 5% опрошенных уважали богатых людей и почти 60% требовали той или иной репрессивной меры по отношению к ним» [21].162
Социальные последствия приватизации. Десять лет наблюдений за последствиями приватизации позволили социологам выявить ряд явлений, которых массовое сознание в хаосе 1990-х гг. не фиксировало и не включало в образ, создаваемый в ходе «культуральной работы» двух сторон баррикады. Вот некоторые элементы реальности, которые были означены и ассимилировались общественным сознанием. Это прежде всего осознание неизбывности того типа массовой бедности, которую породила приватизация как лишение половины населения «дивидендов», получаемых им от общенародной собственности.
Н.М. Римашевская пишет: «“Устойчивая” бедность связана с тем, что низкий уровень материальной обеспеченности, как правило, ведет к ухудшению здоровья, деквалификации, депрофессионализации, а в конечном счете — к деградации. Бедные родители воспроизводят потенциально бедных детей, что определяется их здоровьем, образованием, полученной квалификацией. Социальные исследования устойчивости бедности подтвердили эту гипотезу и показали, что люди, “рождающиеся как постоянно бедные”, остаются таковыми в течение всей жизни…
Возникла категория “новых бедных”, представляющих те группы населения, которые по своему образованию и квалификации, социальному статусу и демографическим характеристикам никогда ранее (в советское время) не были малообеспеченными. Все специалисты пришли к выводу о том, что работающие бедные — это чисто российский феномен.
Драматичность ситуации состоит в том, что две трети детей и одна треть престарелого населения оказались “за порогом” социальных гарантий, в группе бедности. Между тем, основная часть пожилых людей своим прошлым трудом обеспечила себе право на, по крайней мере, безбедное (по “новой метрике”) существование, а с бедностью детей нельзя мириться, так как она несомненно приводит к снижению качества будущих поколений и, как следствие, — основных характеристик человеческого потенциала нации» [22].
Известно, что приватизация промышленности непосредственно ударила по производственному персоналу предприятий и прежде всего по рабочим. Они — главный объект социального воздействия этой части реформы, причем воздействия системного, вплоть до деклассирования. Вот оценка этого воздействия: «С наступлением кардинальных реформ положение рабочих ухудшалось, притом практически по всем параметрам, относительно прежнего состояния и в сравнении с другими социально-профессиональными группами работников. Занятость рабочих — первая, пожалуй, наибольшая проблема, выпавшая на их долю во время кардинальных преобразований. Число безработных доходило до 15%; нагрузка на 1 вакансию — до 27 человек; неполная занятость в промышленности была в 2-2,5 раза выше среднего уровня; число рабочих, прошедших состояние полностью или частично незанятого с 1992 по 1998 г., составило 30-40 млн человек, что сопоставимо с общей численностью данной группы.
Крушение полной занятости сопровождалось материальными, морально-психологическими лишениями, нарушением трудовых прав: длительным поиском нового места работы, непостановкой на учет в центрах занятости, неполучением пособия по безработице и других услуг, “недостатком средств для жизни”, в том числе для обеспечения семьи, детей, моральным унижением”, по некоторым данным — даже разрушительными действиями на личность» [23].
Крайняя степень депривации — бездомность, большинство ее жертв в прошлом были рабочими, которых приватизация лишила их рабочих мест. Вот оценка состояния этой проблемы на 2003 г.: «Всплеск бездомности — прямое следствие разгула рыночной стихии, “дикого” капитализма. Ряды бездомных пополняются за счет снижения уровня жизни большей части населения и хронической нехватки средств для оплаты коммунальных услуг… Бездомность как социальная болезнь приобретает характер хронический. Процент не имеющих жилья по всем показателям из года в год остается практически неизменным, а потому позволяет говорить о формировании в России своеобразного “класса” людей, не имеющего крыши над головой и жизненных перспектив. Основной “возможностью” для прекращения бездомного существования становится, как правило, смерть или убийство» [24].
Бездомность сопряжена с приватизацией двойной связью: приватизация предприятий лишила массу людей рабочих мест, а приватизация жилья позволила изъять его у людей, оставшихся без средств к существованию (так же, как приватизация общинных земель всегда вела к обезземеливанию крестьян). Исследователи бездомности отмечали в 2003 г.:
«Начавшееся в 90-е годы реформирование российского общества породило резкую социальную дифференциацию… Нынешняя российская действительность возвратила нас в мир, где бездомность приобрела характер социального бедствия, не только в силу многочисленности этой категории, но и из-за явной тенденции ее роста.
Каковы же причины роста бездомности? Одной из основных причин являются резкое ухудшение социально-экономического положения в стране, трудности или невозможности адаптации части ее населения к новым условиям жизнедеятельности. Объективно способствует росту бездомности проведенная в начале 90-х годов приватизация и создание рынка жилья, возможность его купли-продажи. Среди воспользовавшихся этой возможностью были безработные люди, которые, продав свою квартиру или дом, оказались на улице, а вырученные деньги попросту пропивали» [25].
Наконец, приватизация деформировала общественную систему «сверху». Принять господство олигархических структур (плутократии) — это немыслимый регресс, с которым общество с современной культурой не может примириться. Это состояние может быть терпимо лишь как временная аномалия.
А.Е. Крухмалев пишет: «В России утвердившийся в первой половине 1990-х гг. режим, связанный с именем Ельцина, во многом способствовал формированию плутократии. В экономической сфере стал господствовать частнособственнический уклад. Свобода предпринимательства и результаты конкуренции (банкротство и поглощение проигравших) вели к возникновению монополий, чудовищной концентрации и централизации капитала.
В России были особенности, стимулирующие возникновение плутократии. Имеется в виду, прежде всего, специфика методов проведения приватизации “сверху” с помощью указов президента, без обсуждения и принятия законов. Реализовывала ее сугубо бюрократическая организация — Госкомимущество РФ. Раздел общественной собственности происходил путем передачи ее не всем гражданам, как первоначально пропагандировалось, а “своим”, так называемым, “эффективным собственникам”, которых режим пытался создать в кратчайшие сроки из поддерживавших его “активистов”. Особенно “лакомым куском” стала добыча нефти. Приватизация, по сути дела, проходила вне рыночного механизма. Имитировалось, в частности, конкурсное распределение через пресловутые залоговые аукционы 1995 г. Масса предприятий по низким ценам попала в руки склонных к плутовским приемам дельцов… Это порождало дальнейшую неразбериху в разделе и переделе собственности, вело к росту криминализации в сфере экономики» [26].
В исследовании 2004 г. сделан такой кардинальный вывод: «Чрезмерная поляризация общества, прогрессивное сужение социальных возможностей для наиболее депривированных его групп, неравенство жизненных шансов в зависимости от уровня материальной обеспеченности начнет в скором времени вести к активному процессу воспроизводства российской бедности, резкому ограничению возможностей для детей из бедных семей добиться в жизни того же, что и большинство их сверстников из иных социальных слоев» [27] (выделено авторами статьи).
Трудно представить себе общество, которое положительно оценило бы такой тип социального бытия, — даже если бы в опросе не участвовали бедные.
Приведем данные некоторых поздних крупных исследований, в которых опрошенные дают косвенные оценки приватизации через свое отношение к вызванным ею изменениям в жизнеустройстве. Вот сравнение результатов двух больших исследований образа жизни — в 1981-1982 гг. (опрошено 10 150 человек) и в 2008 г. (опрошено 2017 чел.). Общий вывод таков: «Наиболее противоречиво оцениваемые изменения в российском образе жизни за прошедшие четверть века произошли в одной из главных сфер человеческого взаимодействия и общения — в микросреде» [28].
Авторы (А.А. Возьмитель и Г.И. Осадчая) пишут: «Общий вектор происшедших изменений — активное расширение зоны действия норм негативных и сужение позитивных. Так, в 8,4 раза уменьшилась доля микросред, в которых почти все люди уверены в завтрашнем дне, и в 2 раза стало меньше тех, в ближайшем социальном окружении которых также почти все стремятся работать как можно лучше… В 4,4 раза стало больше людей, в ближайшем социальном окружении которых почти все озабочены исключительно собой, личным благополучием. Мы наглядно видим, что лучше работать постепенно заменяется на лучше потреблять”, взаимопомощь на эгоцентризм, уверенность в завтрашнем дне на социальную и национальную напряженность. Все это признаки явной деструкции социальных отношений, масштабы которой достаточно хорошо видны из сравнительного анализа характера социального окружения людей в советское и нынешнее время. Отчетливо видна тенденция замены благоприятной для нормального человека социальной среды на неблагоприятную, паразитически-эгоистическую, агрессивно-враждебную. Все эти процессы являлись прямым результатом вполне определенной экономической, социальной и идеологической политики, проводившейся в пореформенные годы.
Последовательное и целенаправленное разрушение экономических, социальных, политических и идеологических основ советского государства в течение последних пятнадцати лет при фактическом отсутствии созидательно-творческой деятельности (если, конечно, не считать таковой криминальную приватизацию общественной и коллективной собственности, постоянную борьбу за ее передел, а также разрушение принципов солидарности, коллективизма во всех сферах жизни общества) привели к вполне ожидаемым и закономерным результатам: нынешняя Россия — государство, в представлениях сегодняшних россиян, в основном криминальное (65,3%), основанное на индивидуализме (51,9%), безнравственное (45,4%), обирающее своих граждан (47,1%) бедное (40,7%), зависимое (36,3%), слабое (34,7%), опасное для своих граждан (35,8%). В основе всех этих “достижений”, как показывает исследование, индивидуализм, эгоизм, отчуждение людей друг от друга, насаждаемые в течение двух последних десятилетий.
Правда, результаты нашего мониторинга социальной ситуации в России фиксируют в последние пять-шесть лет улучшение всех составляющих социального самочувствия населения. Однако наметившиеся позитивные сдвиги, как мы видим, не компенсируют социально-экономических и психологических издержек проведенных реформ» [28].163
В.Э. Бойков приводит данные опросов населения в возрасте 18 лет и старше (объем выборочной совокупности — 2400 человек) и экспертов (242 человека), проведенных Социологическим центром РАГС и Институтом социальных исследований (осень 2009 г.) в 24 субъектах Российской Федерации. Предмет — социально-политические ориентации россиян, в которых оценка приватизации выражена косвенно.
Автор начинает статью с проблемы дезинтеграции общества именно по ценностным основаниям: «Достижение ценностного консенсуса между разными социальными слоями и группами является одной из главных задач политического управления в любой стране. Эта задача актуальна и для современного российского общества, так как в нем либерально-консервативная модель государственного управления, судя по материалам социологических исследований, нередко вступает в противоречие с традициями, ценностями и символами, свойственными российской ментальности» [29].
Каков же главный критерий оценки пореформенного жизнеустройства России при взгляде граждан через призму нравственных ценностей? Автор делает исключительно важный вывод: «В иерархии ценностных ориентаций ключевое значение имеет “социальная справедливость”. Для большинства опрошенных она по-прежнему означает преимущественно социальное равенство, что проявляется в оценке различий между людьми по принципу получения ими доходов. Во взглядах респондентов на соответствие оплаты труда трудовым усилиям произошел существенный сдвиг в сторону социального равенства… Оценки социальной справедливости с точки зрения морали предстают как осознание людьми общественно необходимого типа отношений.
Как показывают данные исследований, распределение мнений о сути социальной справедливости и о несправедливом характере общественных отношений одинаково и в младших, и в старших возрастных группах. Именно несоответствие социальной реальности ментальному представлению большинства о социальной справедливости в наибольшей мере отчуждает население от политического класса, представителей бизнеса и государственной власти» [29].
Справедливость — ценность фундаментальная, и приватизация, которую 75% населения считают грабежом, не может получить позитивную оценку. Ответы, которые социологи принимают за положительные оценки, требуют особой интерпретации, они говорят о том, что у этих респондентов искомая латентная величина «замаскирована» или подавлена каким-то побочным фактором.
Методологические трудности анализа восприятия общества. Разберем более подробно результаты большого Всероссийского исследования (май 2006 г.), о котором было сказано в начале статьи. Его результаты изложены в статье В.Н. Иванова «Приватизация: итоги и перспективы» [1].
Приведенные в ней данные и их трактовка служат хорошим материалом для обсуждения методологических проблем кризисной социологии. Проблемы, о которых пойдет речь, имеют общий характер, и данное исследование мы привлекаем как объект анализа именно потому, что оно по масштабу и широте подхода выделяется из частных опросов и позволяет ставить общие вопросы, которые возникли со сменой поколений в первое десятилетие XXI в. Различия в мнении поколений всегда существуют, но именно с выходом на общественную сцену первого постсоветского поколения (рождения 1980-х гг. и позже) обнаружился разрыв непрерывности, «некоммуникабельность» (несоизмеримость ценностных шкал) молодежи и старших поколений. Это и породило совершенно новые методологические проблемы, которые надо обсудить.
В работе [1] поднят ряд проблем — адаптации разных социальных групп и слоев к тому жизнеустройству, которое складывается в ходе реформ; отношения россиян к частной собственности и к общности собственников и т. д. Здесь затронем проблему интерпретации данных и выводов только по одному вопросу — о той оценке приватизации, которая сложилась в обществе за время после ее проведения.
Общепризнано, что приватизация расколола российское общество, и сегодня уже ее осознанная и отложившаяся в культуре оценка стала фактором, определяющим динамическое равновесие процессов консолидации и дезинтеграции общества.
Заметим, что здесь, как и в исследовании [1], не идет речь о нашей (социологов) оценке приватизации, это совершенно другая тема. Мы говорим о совсем другом социальном явлении — восприятии приватизации и ее последствий в обществе. Конечно, сама приватизация и ее восприятие — суть разные срезы одного явления, но в аналитических целях мы их разделяем. В известном смысле, образ приватизации создается в общественном сознании.
С.А. Кравченко приводит рассуждение Дж. Александера: «Для того, чтобы травматическое событие обрело статус зла, необходимо его становление злом. Это вопрос того, как травма входит в знание, как она кодируется… Я бы хотел предложить само существование категории “зла” не рассматривать как нечто существующее, а как атрибутивное конструирование, как продукт культуральной и социологической работы» [12].
Пожалуй, многие посчитают преувеличением сказать, как Александер, что холокост — это социально сконструированный «культуральный факт». Еще сильнее заострено такое утверждение: «Холокост никогда не был бы обнаружен, если бы не победа союзных армий над фашизмом». Иной конспиролог заподозрит, уж не намекает ли Дж. Александер на то, что холокост — это «культуральный факт», сконструированный политработниками союзных армий? Нет, конечно! Но эта аналогия создает новую проблему для интерпретации ответов, полученных при проведении социологических опросов.
Вот главный вывод исследования, который в отчете (2007 г.) выделен курсивом: «Несмотря на расхождения в оценках приватизации, следует признать, что ее экономические результаты и последствия оцениваются обществом во многом положительно. В значительной степени, как считают опрошенные, те цели и задачи, которые она преследовала, удалось решить».
Выделим главное — вывод, что экономические результаты и последствия приватизации оцениваются обществом во многом положительно.
Этот вывод оказывается в противоречии с результатами исследований не только 1990-х гг., но и середины нового десятилетия XXI в. Тут требовалось выяснить, что респонденты понимают под термином «экономические результаты и последствия». Как можно кризис, приведший к спаду промышленного производства вдвое и к утрате ряда необходимых отраслей, назвать «положительным результатом»? Здесь налицо когнитивный (мыслительный) разрыв и между группами опрошенных, и между респондентами и социологами. Ведь этого кризиса 1990-х гг. невозможно было не заметить ни новым собственникам, ни тем, кто «потерял» от приватизации. В 2001 г. приватизацию 1992-1993 гг. положительным событием назвали 6,8% опрошенных, а отрицательным — 84,6%. Такой разрыв в оценках нельзя оставить без анализа, здесь есть методологическая проблема, которую необходимо хотя бы обозначить. Разберем ее по частям.
1) Поскольку приватизация к 2005-2006 гг. уже стала данностью, то причины такого резкого изменения «оценки общества» надо искать в тех новых факторах, которые возникли за предыдущие пять лет. Назовем лишь факторы, лежащие на поверхности.
— За пять лет из поля зрения социологов выпала часть противников приватизации, и им на смену пришло новое поколение молодежи, не испытавшее культурной травмы начала 90-х гг. Это, конечно, изменило баланс отрицательных и положительных оценок, но не могло изменить до такой степени.
— С 2002 г. резко улучшилась конъюнктура на внешнем рынке, в Россию стал поступать поток нефтедолларов, который породил надежды на благополучие. Они вытеснили пессимистические ожидания 90-х гг. Но не могли же эти надежды совсем стереть из памяти образ кризиса 1990-х гг.
— Воздействие на сознание СМИ, которые вели легитимизацию реформы, достигло порога интенсивности и качества, и в сознании части населения был ослаблен или ликвидирован образ приватизации как зла. Эта часть общества примирилась с приватизацией и «адаптировалась» к новым условиям.
— Новый президент (В.В. Путин), воспринимаемый как антипод Ельцина, завоевал симпатии населения и получил большой кредит доверия. Часть населения «простила» власти приватизацию в знак лояльности режиму.
Все эти факторы не были связаны с приватизацией и не могли изменить ее рациональной оценки, они могли лишь побудить к забвению. Без этого не мог бы человек «примириться» с реальностью, ему надо было прибегнуть к социальной мимикрии. Но это значит, что социолог в исследовании [1] имел дело с социальной маской. Она кивает и улыбается… Но выражают ли эти знаки действительное мнение? По каким показателям можно судить о выражении лица под маской?
Человек, чтобы жить, должен как-то справиться с полученной травмой. Он загоняет боль в глубину сознания, и когда его спрашивают об отношении к травме, он говорит не о ней, а о той жизни, которую ему удалось наладить с этой скрытой болью. Но при таком «сознательном забвении» его ответы никак нельзя принимать за индикатор отношения к травме. Это было бы большой ошибкой. «Жизнь после приватизации во многом наладилась», — вот как можно трактовать «положительные» ответы.
Перед нами скорее всего тот фантом общественного сознания, о котором писал Ж.Т. Тощенко: «В условиях коренных сдвигов в экономике и политике в общественном сознании зреют и продолжают существовать взаимоисключающие ориентации, которые противостоят друг другу, исключают друг друга, несовместимы между собой. Исключительность этой ситуации состоит в том, что не только общество, не только социальные группы и слои, но и сам человек как личность парадоксален в своем сознании, представляет уникально-противоречивое явление, которое во многом олицетворяет сегодняшний облик страны» [30].
Но ведь это требует принципиальных изменений в методологии социологических опросов!
2) Неопределенность вывода усиливается неопределенностью меры: «результаты приватизации оцениваются обществом во многом положительно». Применимо ли здесь выражение во многом? Его принятая коннотация означает в преобладающей части. Но общность тех, кто положительно оценил результаты приватизации, вовсе не является преобладающей. К тому же в обыденном сознании экономическая и социальная эффективность обычно не разделяются, а при тех опросах, в которых эти понятия разделяются, подавляющее большинство дает приватизации резко негативную оценку.
В докладе сказано: «Оценивая политические и социальные последствия приватизации, 80% респондентов согласны с тем, что коррупция власти, криминализация и “теневизация” экономики стали массовыми явлениями (число их оппонентов составляет 7%). Подавляющее число россиян (81%) считают, что в результате ее произошло разграбление национальных богатств страны (7% с этим не согласны). Значительная часть (66%) отмечают, что приватизация до крайней степени обострила социальные проблемы и противоречия (14% с этим мнением не согласны)» [1].
Но это совершенно противоречит общему выводу. 81% считают, что в результате приватизации «произошло разграбление национальных богатств страны». — Ну как они могли назвать это «положительным результатом»?! Что касается «экономических результатов и последствий» приватизации, то вывод об их положительной оценке обществом представляется какой-то совсем уж небывалой метаморфозой сознания. Даже в Москве люди были так травмированы экономическим кризисом, что никакими «культуральными действиями» этого вытеснить из сознания было невозможно. Если бы это было так, то социологи получили бы уникальный феномен для исследования.
Как же объясняют социологи этот парадокс? Вот объяснение авторов исследования: «Экономические результаты и последствия [приватизации] оцениваются обществом во многом положительно. В значительной степени, как считают опрошенные, те цели и задачи, которые она преследовала, удалось решить».
Вот в чем дело — операция приватизации промышленности удалась.
Но из того, что грабителю удалось достичь цели, которые он преследовал, никак не следует, что мы эти цели одобряем. Употребив метафору грабежа, которую принимают 75% населения, мы можем сказать, что грабителям, снявшим с Акакия Акакиевича шинель, «удалось достичь той цели, которую они преследовали». Но ведь подавляющее большинство опрошенных ощущают себя в положении Акакия Акакиевича! Нельзя же констатацию успеха грабителей принимать за их одобрение.164
3) Возможно, перед нами опять метаморфоза общественного сознания, описанная выше: в суждении о приватизации в контексте поставленных социологами вопросов представление людей расщепляется, из него вытесняется память о самой приватизации. Сознание опрошенных переключается на их отношение не к конкретному социальному изменению 1990-х гг. — приватизации отечественной промышленности, — а совсем к иным сторонам общественных отношений. То есть, опрошенные говорят о совсем ином предмете, чем их спрашивают социологи.
Так, в [1] сказано: «По отношению к частной собственности, как социальному институту, российское общество раскололось на три группы. Первую группу (ее численность составляет около 20% от общего числа опрошенных) составляют сторонники института частной собственности. Они (по своим мировоззренческим представлениям) разделяют основные базовые принципы рыночной экономики… Хотя в эту группу входят представители всех слоев общества, однако, как показал опрос, в молодежной среде и среди людей с более высоким уровнем образования сторонников частной собственности значительно больше, чем в более старших возрастных категориях» [1].
Эта группа, видимо, отнесена к тем, кто позитивно оценил приватизацию.
«Вторую группу, выделенную по критерию отношения к частной собственности, составляют ее открытые противники. Их численность не превышает 20%. Эти респонденты по своим идейно-политическим воззрениям изначально являются принципиальными противниками приватизации, и как бы она не проходила, все равно выступали бы с ее критикой и осуждением» [1].
Эта группа, видимо, отнесена к тем, кто оценил приватизацию негативно.
«Третью группу, самую многочисленную, составляют респонденты, которые испытывают по отношению к институту частной собственности двойственные чувства. Не являясь ярыми противниками или сторонниками ее, они занимают по многим вопросам промежуточную позицию и в зависимости от конкретной ситуации могут становиться на сторону то одних, то других. Общая численность группы составляет около 40% опрошенных» [1].
Если так, то имеет место ошибка в интерпретации. Очевидно, что отношение к собственности, в принципе, никак не отражает отношения к конкретной экспроприации одного собственника и к наделению изъятой собственностью другого субъекта. Если в темном переулке с меня сняли пальто, мое отношение к этой операции никак не связано с «идейно-политическими воззрениями» на частную собственность. Своими суждениями о частной собственности все три группы не дали никакой информации об их оценке приватизации. Возможно, при опросе эти люди подавали какие-то знаки одобрения или порицания приватизации, но по тексту отчета судить об этом трудно.
Неопределенность присуща и следующему выводу о «доминирующей в массовом сознании оценке»: «С позиций “целесообразности” значительная часть респондентов и экспертов считают, что приватизация государственной собственности была полезна для общества, хотя и носила болезненный характер. Эта, как нам представляется, доминирующая в массовом сознании оценка связана с тем, что практически для пятой части россиян (22%) приватизация и переход к рыночной экономике были лично выгодны им и членам их семей» [1].
Во-первых, неопределенной является мера. «Значительная часть респондентов» — это сколько? Судя по предыдущему утверждению, «полезной для общества» приватизацию считают очень немногие — всего 7% не согласны с тем, что приватизация привела к «разграблению национальных богатств страны». Ну кто же назовет такое разграбление полезным для общества?
Во-вторых, и это главное, целесообразность поведения в условиях социального конфликта не может служить оценкой. В момент грабежа часто оказывается целесообразным подчиниться силе и даже выказать знаки лояльности грабителю, затаив гнев и ненависть. Да и сам факт, что приватизация была лично выгодна 22% россиян, еще ничего не говорит о том, сколько россиян даже из числа этих 22% положительно оценивают операцию, в результате которой им удалось поживиться. Выгода и одобрение — вещи разные и не совпадают очень и очень часто. А что уж говорить о тех, кто явно проиграл от приватизации («был ограблен»)! Ответы, содержащие такую оценку, трудно принять за чистую монету, методология их интерпретации требует еще специальных разработок.
4) Сомнение вызывает и применение в качестве критерия оценки приватизации ее соответствие или несоответствие закону. Исследователи пишут: «Около 15% опрошенных и 29% экспертов считают, что приватизация собственности в нашей стране осуществлялась в основном по закону. Большинство же придерживается противоположной точки зрения. Более того, 77% респондентов уверены, что хозяева крупной частной собственности, в своем большинстве владеют ею не по праву (оппонентов — 10%, затруднившихся ответить — 13%)» [1].
Видимо, респонденты здесь смешивают легальность и легитимность. Одни оценивают приватизацию «по закону», а другие — «по совести». Как известно, приватизация проводилась «по указу», Закон о приватизации промышленных предприятий, принятый Верховным Советом РСФСР 3 июля 1991 г., был проигнорирован. Но на это никто бы не обратил внимания, если бы приватизация получила легитимность в массовом сознании (была бы признана правильной «по совести»). Так не вышло, и большинство посчитало ее незаконной. Строго говоря, этот ответ тем и важен для социолога, что он неверен фактически — законность определяется не общественным мнением, а правом. В момент приватизации, очевидно, действовало революционное право, и Указ президента имел приоритет перед Законом. Мнение о незаконности приватизации надежно свидетельствует о ее негативной оценке именно по «суду совести».
Да это прямо следует из такого суждения исследователей: «Тот факт, что образ приватизации, которая проходила в России, начиная с 1990-х годов, носит нелицеприятный характер, не стоит даже обсуждать, так как это становится сегодня общим местом» [1].
Поэтому трудно согласиться с выводом исследования: «Такая ситуация говорит о том, что легитимность приватизации находится, скорее, не в сфере законности и права (которые, кстати, достаточно критично воспринимаются респондентами), а в сфере „целесообразности”, как экономической, так и политической» [1].
Скорее, как раз наоборот — Указ президента был достаточным правовым основанием, чтобы считать приватизацию законной, а вот легитимности она не приобрела ни в экономической, ни в политической сфере.
5) Дискуссионным является вывод о том, что мнения относительно справедливости приватизации разделились. В отчете написано: «С позиций “справедливости” оценка приватизации населением выглядит вполне в соответствии с логикой анализа. Ответы на вопрос: “Соответствует или нет понятию справедливости…” представлены в таблице 1. Как видно из приведенных данных, если в отношении “законности” приватизации мнение большинства россиян совпадает, то в плане “целесообразности” и “справедливости” ее проведения позиции респондентов разделились» [1].
Выражение «мнения разделились» употребляется в ситуации, когда голоса делятся приблизительно поровну. В данном случае основания для такого выражения не видно. Из таблицы такого вывода сделать нельзя, «акционирование государственных предприятий» посчитали справедливым 37%, а несправедливым — 59%. О целесообразности данных нет.
Более того, из этой таблицы следует, что «возвращение государству всех крупных частных предприятий» считают справедливым 62% опрошенных, а «возвращение государству предприятий, добывающих нефть, газ и другие полезные ископаемые» — 85%! Считать справедливым такое конфликтогенное действие, как экспроприация новых собственников всех крупных частных предприятий, — это позиция несравненно более радикальная, нежели осудить приватизацию этих предприятий. Поэтому вывод о «во многом положительной» оценке приватизации трудно считать обоснованном — где-то здесь есть провал в понимании вопросов или ответов.
Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: «Соответствует или нет понятию справедливости…» (в %)
Выше было сказано, что главный критерий оценки пореформенного жизнеустройства России при взгляде граждан через призму нравственных ценностей — социальная справедливость. Руководитель указанного исследования В.Э. Бойков в 2010 г. отмечает прямую связь приватизации с проблемой справедливости: «Идею национализации крупных предприятий и сельскохозяйственных земель полностью одобрили более 40% опрошенных, однако общая совокупность показала, что такое отношение к идее национализации для почти половины населения означает, скорее, несогласие с результатами приватизации, чем желание реанимировать прежнюю экономическую систему» [29].
Но восстановление «прежней экономической системы» — совершенно другая проблема. Понятно, что возврат к советским отношениям собственности невозможен («из кризиса не выходят, пятясь назад»), речь может идти только о развитии — уже с гораздо худшего стартового уровня, чем в 1990 г., но ничего не поделаешь — в тот год уже не вернешься. Если человек с развилки поехал не той дорогой и заметил ошибку через 50 км, почти никогда нет смысла возвращаться на ту же развилку, приходится искать «третий путь», чтобы приехать в нужное место или выехать на правильную дорогу.
А главное, травма ограбленного не залечивается тем, что у грабителя отнимут и вернут твою вещь, — грабежом она превращена, как зомби. Тут требуется сложный ритуал, и народ России еще не решил, как следует обойтись с грабителями. Возможно, даже наградят тех, кто уберег производство.
Для нашей темы важен тот факт, что культурная травма, нанесенная приватизацией, не растворилась в нефтедолларах, а «перекристаллизовалась». В 2011 г. Институт социологии РАН опубликовал большой доклад, подводящий итоги исследований восприятия реформы в массовом сознании — с начала реформ до настоящего момента. Большой раздел посвящен «социальному самочувствию» граждан, т. е. состоянию их духовной сферы. В докладе сказано:
«Рассмотрим ситуацию с негативно окрашенными чувствами и начнем с самого распространенного по частоте его переживания чувства несправедливости всего происходящего вокруг. Это чувство, свидетельствующее о нелегитимности в глазах россиян самого миропорядка, сложившегося в России, испытывало в апреле 2011 г. хотя бы иногда подавляющее большинство всех россиян (свыше 90%), при этом 46% испытывали его часто. …На фоне остальных негативно окрашенных эмоций чувство несправедливости происходящего выделяется достаточно заметно, и не только своей относительно большей распространенностью, но и очень маленькой и весьма устойчивой долей тех, кто не испытывал соответствующего чувства никогда — весь период наблюдений этот показатель находится в диапазоне 7-10%. Это свидетельствует не просто о сохраняющейся нелегитимности сложившейся в России системы общественных отношений в глазах ее граждан, но даже делегитимизации власти в глазах значительной части наших сограждан, идущей в последние годы» [31].
Более того, и авторы исследования [1] в повествовательной части приводят данные, говорящие именно о преобладании негативной оценки приватизации по критерию справедливости. И по своей интенсивности, и по количественным параметрам эта негативная оценка намного пересиливает положительные последствия (такие как, например, «ликвидация дефицита товаров» при резком сокращении их производства!).
В отчете написано: «Отношение населения к итогам приватизации носит неоднозначный характер… В “пассиве” итогов [приватизации] респонденты отмечают такие социальные и экономические проблемы, которые она вызвала или обострила: усиление расслоения граждан на бедных и богатых (79%); рост коррупции (70%); рост преступности (53%); рост цен на товары и услуги (41%); распространение бедности и нищеты (39%); бесправие наемных работников перед хозяевами и работодателями (36%); дальнейший уход товаропроизводителей в теневую экономику (28%).
Главным итогом приватизации, по мнению опрошенных, стало изменение общественного строя в России — не стало ни свободного, классического капитализма (только 3% идентифицировали подобным образом общественно-государственное устройство страны), ни социально ориентированного рыночного строя (5%), ни “народного капитализма” (2%). Тот общественный строй, который сложился в России, большинство респондентов определяет как олигархический капитализм (41%) и “криминальный капитализм” (29%), который не защищает интересы простых людей, а проводимая государством политика не отвечает интересам большинства населения страны (так считают 67% респондентов)» [1].
Заметим, что нельзя назвать «пассивом» такие последствия, как возникновение криминального капитализма. Это именно «актив» — острый и страшный. «Пассивных» результатов приватизации практически нет. Трудно обосновать вывод, что «отношение населения к приватизации носит неоднозначный характер», когда 75% считают ее грабительской, а 67% заявляют, что «проводимая государством политика не отвечает интересам большинства населения страны». Здесь под сомнение ставится уже не приватизация, а легитимность самой государственной власти.
Именно поэтому власти следовало бы объясниться с населением. Похоже, концепции такого объяснения до сих пор не выработано. Через десять лет после приватизации президент В.В. Путин сказал в «телефонном разговоре с народом» 18 декабря 2003 г.: «У меня, конечно, по этому поводу есть свое собственное мнение: ведь когда страна начинала приватизацию, когда страна перешла к рынку, мы исходили из того, что новый собственник будет гораздо более эффективным. На самом деле — так оно и есть: везде в мире частный собственник всегда более эффективный, чем государство».
Это объяснение не отвечает уровню и «качеству» возмущения, которое вызвала приватизация. К тому же именно «собственное мнение» президента о результатах приватизации, сложившееся в десятилетнем опыте, не было высказано. Говорилось, «из чего исходили» приватизаторы команды Ельцина в 1992 г. Они, в лучшем случае, исходили из ничем не обоснованного предположения — и ошиблись!
Этот вопрос в «телефонном разговоре» давал президенту хорошую возможность дистанцироваться от «дела Чубайса» и сказать слова, исцеляющие культурную травму общества, — ведь требовалась лишь символическая оценка, никто и не ратует за то, чтобы проводить национализацию.
Кроме того, речь шла не о том, что происходит «везде в мире», а о том, как «частные собственники» управились с хозяйством именно в России. Кстати, не только в России, но и нигде в мире частный собственник не является более эффективным, чем государство. Эффективность частного предпринимателя и государства несоизмеримы, поскольку они преследуют разные цели и оцениваются по разным критериям. У частника критерий эффективности — прибыль, а у государства — жизнеспособность целого (страны). Сравнивать эффективность частных и государственных предприятий по прибыльности в принципе неверно и потому, что в рыночной экономике государственные предприятия создаются именно в неприбыльных отраслях, из которых уходит капитал.
Исследование [1] дало очень богатый эмпирический материал, который позволяет формулировать большое число и методологических, и прикладных проблем. На поверхности лежат такие задачи:
— Должен ли социолог, составляя программу исследования и формулируя вопросы, использовать то знание о состоянии общества и идущих в нем процессах, которым еще не обладают опрашиваемые? Ведь опросы ставят разные цели: или оценить осведомленность общества (например, о доктрине приватизации), или выяснить отношение общества к социальному явлению. От этого зависит и тип вопросов, и трактовка ответов.
— В какой мере для социолога допустимо или обязательно информировать привлеченных к исследованию граждан о тех представлениях, которые сложились в научном сообществе об изучаемом предмете?
— Что даст более адекватное знание о мнении или позиции гражданина? Первый подход — побудить его вопросами социолога к тому, чтобы он сам осознал суть социального явления и его последствий (как например, приватизации) и высказал свое суждение. Второй подход — предварительно кратко изложить ему альтернативные взгляды на явление с аргументами «за» и «против», а потом предложить сделать выбор между этими вариантами.
Вопросы непростые. Данная социологом информация повлияет на мнение опрашиваемого, его ответ не будет импульсивным, «наивным». С другой стороны, допустимо ли «злоупотребление незнанием»? Ведь ответы людей, от которых скрыты сведения, позволяющие им сделать более рациональный выбор, влияют на поведение общества и самих этих людей. Не является ли сокрытие информации разновидностью манипуляции сознанием?
Рефлексии социологического сообщества требует и тот факт, что в прикладной социологии наблюдается сдвиг от изучения общественного мнения к его формированию. Имидж беспристрастного знания становится маской. Становится нормой, что социолог задает рамки рассуждений, навязывает понятийный аппарат и узкий набор «ответов». Он предлагает тему и определяет, что важно, а что не важно в нашей действительности. Он проблематизирует тему, отбирая неявные гипотезы объяснения реальности, а затем прибегает к редукционизму, пpевpащая пpоблемы в упрощенные модели и выражая их посредством «доступных» клише. Что же остается от научного подхода?
История приватизации дала важные уроки, и их следовало бы обсудить. Как пример, можно привести опрос ВЦИОМа 1994 г., выяснявший отношение людей к приватизации. Отношение это было скептическим, подавляющее большинство в нее не верило с самого начала и тем более — после проведения. Но при опросе проблема была редуцирована таким образом, что 64% опрошенных выбрали как самый приемлемый вариант ответа такой: «Эта мера ничего не изменит в положении людей». Они назвали приватизацию «показухой» (такую семантику им предложили для выражения своего неприятия).
Речь шла о фундаментальном изменении всего социального порядка, которое затрагивало благополучие каждого человека, но из заданных социологами моделей этот смысл был вычищен. Опрос стал инструментом искусственного «отключения» дара предвидения. Как может приватизация всей государственной собственности и, значит, большинства рабочих мест ничего не изменить в положении людей! Как может ничего не изменить в их положении массовая безработица, которую те же социологи предвидели как следствие приватизации! Адекватность вопросов структуре проблемы следовало бы считать важным критерием при разработке программы исследований. Нарушение этой нормы, не вызывающее никакой критики коллег, разрыхляет профессиональное сообщество.
С другой стороны, упрощенные модели и клише, предлагаемые социологами, облегчают ответы, создают у респондентов иллюзию «компетентности без усилий». Трудно преодолеть соблазн такого сговора. Если представить респондентам проблему в ее реальной сложности и противоречивости, пусть даже найдя для этого ясные формулировки, то ответы также будут противоречивыми и сложными для интерпретации. Возникает вопрос: должен ли социолог обсуждать в публикации проблему когерентности ответов, выражающих мнение опрошенных? В ситуации когнитивного хаоса и фантомности сознания это делает исследование гораздо более трудоемким. Но можно предположить, что имеет смысл повысить качество выводов за счет сокращения количества эмпирических данных.
К этому вопросу примыкает проблема несоизмеримости ценностей. Редуцирование этой проблемы путем предъявления ложных дилемм («Вы за свободу или за порядок?») углубляет раскол в обществе и усиливает «фантомность» общественного сознания. В реальности приходится следовать ценностям не только несоизмеримым, но и конфликтующим. Политики и демагоги решают эту проблему путем ее примитивизации и дискредитации неудобных для них ценностей (так, в дискурсе реформаторов были репрессированы ценности равенства и справедливости в пользу эффективности). Но социологи не должны предлагать обществу этот путь. Образ мира, выраженный в их вопросах, не должен быть опущен ниже некоторого критического уровня упрощения.
Наконец, в условиях быстрого изменения социальной структуры общества в состоянии его ценностного раскола перед социологом встает сложная проблема взвешивания ответов людей из групп, занимающих разное положение в социальном конфликте. Вот, например, в исследовании общественной оценки приватизации обнаружено: «значительная часть респондентов считает, что приватизация была полезна для общества». Исследователи считают, что эта «доминирующая в массовом сознании оценка связана с тем, что для 22% приватизация была лично выгодна им и членам их семей» [1].
При этом не раз было зафиксировано, что около % населения считают приватизацию «грабежом». Очевидно, эти люди не считают приватизацию полезной для общества. Выходит, мнение тех, кому приватизация была выгодна, исследователи посчитали более весомым, чем мнение «проигравших» («ограбленных»). Их оценка признана доминирующей в массовом сознании.
Как обосновать и учесть это фактическое неравенство в социологических исследованиях? Но если эту сторону реальности просто замалчивать, понятийный аппарат социолога становится неадекватным и реальности, и массовому сознанию.
Строго говоря, мы сталкиваемся даже не с разницей веса респондентов из разных групп, а во многих случаях с несоизмеримостью их весов, их принципиальным качественным различием. Измеряя частоту разных ответов представителей разных групп, мы часто измеряем совершенно разные латентные величины. Уходить от этой проблемы нельзя. Сытый голодного не разумеет. А грабитель разумеет ограбленного? Разве они одинаково поймут вопрос социолога? Вот, спрашивают мнение о приватизации. Рабочий, в результате приватизации потерявший работу, а потом и жилье, видит один образ — и отвечает, что это «грабеж трудового народа». Брокер видит совсем другой образ, и говорит: «полезно для общества».
Эти два образа несоизмеримы, для интерпретации ответов нужен специальный аппарат — если вообще есть задача совместить эти две картины мира. Если такая задача не ставится, то надо две общности опрашивать по принципиально разным программам, не говоря уж о вопросниках. И дело не только в адекватности инструментов исследования. Ответы на один и тот же опросный лист углубляют ценностный раскол между и так уже разошедшимися общностями. Как безработный воспримет ответ брокера «полезно для общества»? Как он воспримет вывод, что это мнение — доминирующее? Вероятно, воспримет так: «Значит, я — уже вне этого общества». Что же тогда удивляться интенсивности «российской аномии»!
Голоса выигравших и проигравших в любом конфликте неравноценны, они качественно различны — особенно если выигрыш основан на «грабительской» акции. Это надо учитывать и при разработке программы, и при конструировании выборки. Мнение о травмирующем событии — это продукт непосредственного опыта и его осознания. Очевидно, что неравноценны голоса тех, кто пережил культурную травму приватизации, и молодежи, для которой приватизация есть историческое событие, изложенное в жанре реформаторской мифологии. Задавать одни и те же вопросы людям разных поколений — тем, кто были свидетелями и участниками события, и тем, которые родились позже и знают о нем из идеологизированных источников — очень сомнительный метод. Представьте себе: на улице произошло ДТП, полиция опросила свидетелей этого события. Назавтра следователь собирает другую группу людей, которые самого этого происшествия не видели, а слышали о нем лишь краем уха, и просит их высказать свое мнение. А потом ответы опрошенных из обеих групп смешиваются и усредняются.
Молодых людей рождения 1980-1990-х гг. не затронула травма приватизации — при советском строе в сознательном возрасте они не жили. Они не имеют коллективной истории жизни при общенародной собственности промышленных предприятий. Скупые рассказы взрослых социальную боль другому поколению не передают — тут требуется постоянная «культуральная работа», для которой у «ограбленных» нет ресурсов. Молодежь, строго говоря, и не может оценить, является ли приватизация добром или злом. Она осознала себя уже в совершенно ином социальном поле, у нее иной, нежели у старших, габитус и нет оснований для отрицания приватизации. Они осознали себя уже в мире с частной собственностью на предприятия — у них нет системы координат, чтобы сравнивать этот мир с советской системой.
Более того, частью изъятого во время приватизации национального достояния оплачен потребительский всплеск 2000-2010 гг., который укрепил притязания и ожидания постсоветского поколения и особенно «среднего класса». Общности респондентов из разных поколений и слоев общества говорят о разных вещах. И отвечают на вопросы, понятые по-разному, хотя внешне эти вопросы кажутся одними и теми же. Как же можно их ответы усреднять?
В принципе, программа таких исследований должна опираться на «карту» общностей, выделенных соответственно их отношению к тому социальному событию или процессу, которые и представляют изучаемое противоречие (как например, приватизация). Можно предположить, что отдельным срезом проблемы является отношение к приватизации бывших рабочих сферы промышленности, которые сегодня составляют половину социального «дна» России. Чтобы «узнать общество, в котором мы живем», надо понять ход мысли этих рабочих, которые в 1991 г. не видели в приватизации социальной угрозы.
По-иному должно строиться изучение познавательной и ценностной системы людей старших поколений и молодежи. В историко-социологическом обзоре перестройки (2005 г.) сказано: «Среди сторонников перестройки выделяются такие социально-профессиональные группы, как гуманитарная и творческая интеллигенция, студенты, мелкие и средние предприниматели, в меньшей степени инженерно-техническая интеллигенция и военнослужащие. Среди противников — в основном представители малоактивных слоев населения, малоквалифицированные, малообразованные, живущие преимущественно в сельской местности и просто пожилые люди, для которых перестройка означала разрушение их привычного мира (пенсионеры, жители сел, рабочие)» [20].
Доклад подготовлен С.Г. Кара-Мурзой
Литература
1. Иванов В.Н. Приватизация: итоги и перспективы // СОЦИС. 2007. № 6.
2. Открытая электронная газета. Forum.msk.ru. URL: -msk.org/material/video/2493684.html.
3. «Представление о справедливости у народа мы сломали ваучерной приватизацией». Петр Авен и Альфред Кох ищут правду о 1990-х. Интервью с Анатолием Чубайсом. 27 августа 2010 г. // Forbes. URL: http://www. forbes.ru/ekonomika/lyudi/55203-intervyu-s-anatoliem-chubaisom.
4. Демпси Дж. Пора определиться в вопросах собственности // «Файнейшнл Таймс». 1991. 16 апреля. — Бюллетень ТАСС «КОМПАС». 1991. Апрель.
5. Ясин Е. Демократы, на выход! // Московские новости. 2003. № 44. 18 ноября.
6. Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. М.: Мысль. 2003.
7. Шмелев Н.П. Экономические перспективы России // СОЦИС. 1995. № 3.
8. Яременко Ю.В. Правильно ли поставлен диагноз? // Экономические науки. 1991. № 1.
9. Голос Родины. 1995. № 22.
10. Кардозу Ф.Э., Карной М., Кастельс М., Коэн С., Турен А. Пути развития России // Мир России. 2010. № 2.
11. Тощенко Ж.Т. Кентавр-идеи как деформация общественного сознании // СОЦИС. 2011. № 12.
12. Кравченко С.А. Культуральная социология Дж. Александера // СОЦИС. 2010. № 5.
13. Мирошниченко Н.С., Максимов В.И. Приватизация Кировского завода как процесс // СОЦИС. 1994. № 11.
14. Заславская Т.И. Россия в поисках будущего // СОЦИС. 1996. № 3.
15. Горяинов В.П. Социальное молчание как концепция особого вида поведения (о книге Н.Ф. Наумовой «Философия и социология личности») // СОЦИС. 2007. № 10.
16. Рукавишников В.О., Рукавишникова Т.П., Золотых А.Д., Шестаков Ю.Ю. В чем едино «расколотое общество»? // СОЦИС. 1997. № 6.
17. Шляпентох В.Э. Предвыборные опросы 1993 г. в России (Критический анализ) // СОЦИС. 1995. № 10.
18. Десять лет российских реформ глазами россиян // СОЦИС. 2002. № 10.
19. Тощенко Ж.Т. Метаморфозы современного общественного сознания: методологические основы социологического анализа // СОЦИС. 2001. № 6.
20. Перестройка глазами россиян: 20 лет спустя // СОЦИС. 2005. № 9.
21. Соколов В.М. Толерантность: состояние и тенденции // СОЦИС. 2003. № 8.
22. Римашевская Н.М. Бедность и маргинализация населения (социальное дно) // СОЦИС. 2004. № 4.
23. Максимов Б.И. Состояние и динамика социального положения рабочих в условиях трансформации // СОЦИС. 2008. № 12.
24. Алексеева Л.С. Бездомные как объект социальной дискредитации // СОЦИС. 2003. № 9.
25. Осинский И.И., Хабаева И.М., Балдаева И.Б. Бездомные — социальное дно общества // СОЦИС. 2003. № 1.
26. Крухмалев А.Е. Плутократия как феномен трансформирующейся России // СОЦИС. 2010. № 2.
27. Давыдова Н., Седова Н. Особенности образа жизни бедных и богатых в современной России // СОЦИС. 2004. № 3.
28. Возьмитель А.А., Осадчая Г.И. Образ жизни в России: динамика изменений // СОЦИС. 2010. № 1.
29. Бойков В.Э. Социально-политические ценностные ориентации россиян: содержание и возможности реализации // СОЦИС. 2010. № 6.
30. Тощенко Ж.Т. Фантомы общественного сознания и поведения // СОЦИС. 2004. № 12.
31. Двадцать лет реформ глазами россиян (опыт многолетних социологических замеров). Аналитический доклад. М.: Институт социологии РАН. 2011.
РЕФОРМА: ОТ НАРОДНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ — К ПРОДАЖЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Введение
Летом 2012 г. проходило общественное обсуждение проекта постановления Правительства РФ «Об утверждении порядка и условий предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг пациентам». Как было объявлено, это обсуждение заканчивалось 31 июля. Термин «общественное обсуждение» употреблен некорректно — общество в тот период было отвлечено более захватывающими событиями, и очень мало кто вообще обратил внимание на замысел этого правительственного постановления.
Проект его был подготовлен Министерством здравоохранения и социального развития и был утвержден Постановлением Правительства РФ № 1006 от 4 октября 2012 г. Этот проект выводился из принятого в ноябре 2011 г. Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан», который официально разрешил государственным медицинским учреждениям взимать плату с пациентов.
В принципе этот закон можно было посчитать нарушающим Конституцию РФ, ст. 41 которой гласит: «Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений».
Как было сказано, новый порядок гарантирует, что по-прежнему не надо будет платить за первичную медико-санитарную помощь — за амбулаторный прием и лечение в поликлинике. А дальше… узнаем из прейскуранта, его обещают напечатать большими буквами, чтобы читался с восьми метров.
Объяснения, которые давали чиновники, назвать ясными и искренними было трудно: они утверждали, что «ничего не изменится», поскольку пациенты и так тайком платят медперсоналу, так лучше это сделать «прозрачным». Это неубедительно. Теперь придется заключать договор, платить в кассу, а также тайком приплачивать и медперсоналу, как раньше. На пациентов перекладываются именно расходы государства на производственную деятельность медицинского учреждения, а не маленькая сумма в благодарность санитарке или нянечке, а редко и врачу.
Очевидно, что постановление юридически оформляет сокращение бесплатной для пациентов медицинской помощи и увеличение платной компоненты — увеличение постепенное, но практически ничем не ограниченное. В самом проекте видны широкие законные возможности заставить пациента платить за то, что до сих пор оплачивала государственная система здравоохранения.
Депутат Госдумы, член Комитета по охране здоровья Сергей Дорофеев объяснил в газете: «Безусловно, по мнению всех законодателей, основная медицинская помощь должна оказываться бесплатно… А каждый человек должен быть ознакомлен с программой государственных гарантий и понимать, что ему положено. Для этого в доступной форме должна быть представлена необходимая информация в любой государственной клинике» [2].
Разве это объяснение! Что это за понятие — «основная медицинская помощь»? Что именно «положено» получить гражданину — какой-то паек или лечение от болезни, о природе которой часто и врач не знает? Кто у нас в стране «ознакомлен с программой государственных гарантий»? Разве когда-нибудь министры объяснили, что «нам положено»? Они и сами этого не знают, и никакой программы государственных гарантий нет и быть не может, это бессмысленная комбинация слов.
Так не годится — производится фундаментальное и драматическое изменение в жизнеустройстве всего народа, и не дается внятного изложения его сути. Не получив объяснения у официальных лиц, граждане обращаются к СМИ. Но их сообщения лишь повышают уровень тревоги.
Пресса делает упор на то, что предвидимое вовлечение практически всех врачей в коммерческую деятельность приведет к неконтролируемому теневому рынку услуг. Этот рынок сделает пациентов беззащитными перед охватившей медицинские учреждения коррупцией — их будут разными способами заставлять оплатить услуги, входящие в официальный перечень бесплатных; им будут навязывать ненужные дорогие анализы и процедуры, отказ от которых чреват конфликтом с врачом.
Риск такого сдвига очевиден. Сами представители медицинского сообщества это признают. Вот интервью интернет-газете «Доктор-Питер»: «Некоторые положения правил оставляют лазейки для навязывания пациенту платных услуг. Это делает здравоохранение напрямую заинтересованным в увеличении числа не здоровых, а больных, уверены член бюро исполкома Пироговского движения врачей Юрий Комаров и председатель правления Санкт-Петербургской профессиональной ассоциации медицинских работников и член президиума Национальной медицинской палаты Александр Редько. Этот интерес подогревается еще и системой оплаты труда докторов: врачу платят за каждого пролеченного больного, и чем больше медицинских услуг он окажет, тем больше ему заплатят. Поэтому увеличение числа больных, и лучше — длительно болеющих, которым можно оказывать больше услуг, становится выгодным…
“Коррупционная система в медицине только укрепилась, а порядок оказания платных услуг стал одним из ее инструментов”, — считает Александр Редько. Комаров и вовсе считает: “Документ упорядочивает то, чего вообще не должно быть: по Конституции медицинская помощь в государственных учреждениях здравоохранения должна оказываться бесплатно. Бесплатные услуги легко трансформируются в платные. И разговоры о якобы четком их разделении никак не обоснованы, — утверждает Юрий Комаров. — Дело в том, что правила разрешают бюджетным медицинским учреждениям оказывать за деньги медицинские услуги, входящие в ОМС, причем в полном объеме. Правда, при добровольном согласии пациента и при условии, что он информирован об объеме помощи, которую может получить бесплатно. Понятно, что вряд ли кто-то по доброй воле захочет отдавать деньги за то, что он может получить бесплатно. А если очередь?”» [4].
И все же, прогнозируемая волна коррупции — далеко не главное. Это — лишь отягчающее обстоятельство рискованного поворота. СМИ маскируют главное — сам отказ от идеи народного здравоохранения. Реальность России, не имеющая никакого подобия с социальной системой и экономическими возможностями развитых капиталистических стран, сделает рынок медицинских услуг механизмом апартеида. Он отбросит значительную часть населения (по многим признакам — около половины) от фундаментального социального блага, каким является равный доступ к современной медицинской помощи. Да, эта помощь за последние двадцать лет существенно ослабла, система обветшала, врачи устали и обеднели. И все же эта система самоотверженно охраняет здоровье именно всех граждан. Более того, она до сих пор их греет и соединяет в народ.
Вот об этом надо подумать. В настоящем докладе приведены данные из официальной статистики Росстата, из государственных докладов о здоровье населения, из социологической литературы и прессы, а также много выдержек из выступлений и сообщений самих врачей — из их интервью прессе и на профессиональных форумах в Интернете.
Сначала вспомним генезис и закат здравоохранения, «которое мы теряем».
Какие структуры и функции изменяются в ходе реформы здравоохранения?
В 1991 г. антисоветские силы, при политической недееспособности большинства населения, ликвидировали СССР и его политическую систему. В постсоветской России сразу начался поэтапный демонтаж экономической и социальной систем, что привело к глубокому системному кризису. Это — факт, как к нему ни относись.
Одной из важнейших систем жизнеобеспечения России, унаследованной от СССР, является здравоохранение. Ее демонтаж ведется постепенно и осторожно, поскольку утрата доступа к медицинской помощи порождает исключительно острые социальные страхи и тяжело сказывается на социально-психологическом состоянии большинства населения. Ощущение, что твое здоровье и здоровье твоих близких охраняет мощная государственная система, — ценность особого рода. Утрата этой ценности травмирует человека сильнее, чем обеднение или даже резкое увеличение риска самой смерти.
ВЦИОМ, завершая в 2002 г. серию ежегодных опросов, сделал такой вывод: «Максимум изменений к худшему за последние годы — в деятельности государства по охране здоровья и безопасности россиян. В работе больниц и поликлиник, милиции и других правоохранительных органов, в состоянии окружающей среды и личной безопасности граждан — во всех этих сферах изменения к худшему из года в год отмечаются в три-пять-десять раз чаще изменений к лучшему».
Выводы социологов в 2004 г. еще более ясны: «То, что части бедных все-таки удается пользоваться платными медицинскими услугами, скорее отражает не их возможности в этой сфере, а очевидное замещение бесплатной медицинской помощи в России псевдорыночным ее вариантом и острейшую потребность бедных в медицинских услугах. Судя по их самооценкам, всего 9,2% бедных на сегодняшний день могут сказать с определенной долей уверенности, что с их здоровьем все в порядке, в то время как 40,5%, напротив, уверены, что у них плохое состояние здоровья. Боязнь потерять здоровье, невозможность получить медицинскую помощь даже при острой необходимости составляют основу жизненных страхов и опасений подавляющего большинства бедных» [5].
К категории «бедных» в этой работе отнесены две нижние квинтили населения (40% населения).
Тем не менее, в настоящий момент, судя по ряду программных заявлений, а также по практическим действиям власти и ее экспертов, начинается большая программа по трансформации остатков государственного здравоохранения в «рынок медицинских услуг», предоставляемых организациями разных форм собственности. Предполагается сохранить лишь сектор «бесплатной медицинской помощи» с сильно урезанными обязательствами государства.
Народное здравоохранение (теперь чаще говорят «предоставление медицинских услуг») — самая идеологизированная, наряду с политэкономией, сфера деятельности. Это — факт, открытый в социальной философии последних десятилетий. Идеологическая основа здравоохранения выводится из антропологии — представления о человеке. На это представление нанизываются все главные категории человеческого бытия: права и обязанности, способ соединения людей в общество, взаимные обязательства народа и власти и т. д. Здесь и пролегла главная пропасть, разделившая большинство населения России и ту элиту, которая в ходе реформы завладела рычагами власти и львиной долей национального богатства.
Представления о человеке в сознании большинства населения и элиты противоположны и несовместимы. В 1990-е гг. правящая элита России была объектом интенсивных исследований социологов. Авторы большого исследования 1995 г. делают вывод: «Динамика сознания элитных групп и массового сознания по рассматриваемому кругу вопросов разнонаправлена. В этом смысле ruling class постсоветской России — маргинален» [6]. До сих пор политики и СМИ маскировали эту пропасть. Но сейчас, когда началось фронтальное наступление на остатки советских норм, перспектива становится все более ясной.
Почему люди, выросшие под защитой советского здравоохранения (даже ослабленного и деформированного за последние двадцать лет), испытывают страх перед угрозой его замены на «рынок услуг»? Почему это «составляет основу жизненных страхов и опасений»? По двум причинам. Во-первых, взрослые обитатели постсоветского пространства знают и помнят лишь единственную систему здравоохранения — советскую. За ее утратой им видится ничто.
«Россия, которую мы потеряли», была сословным обществом, и подавляющее большинство жителей России не имело доступа к специализированной врачебной помощи просто потому, что она существовала лишь в крупных городах. Распределение врачей по территории было очень неравномерным, и для населения обширных районов врач был недоступен.
В 1913 г. в Российской империи на 10 тыс. чел. населения приходилось 1,77 врача, а в РСФСР в 1990 г. — 47 врачей. К этому и привыкли — а значит, боялись, что вернется «Россия, которую мы потеряли», а вовсе не Швеция или США.
В 1913 г. на 770 человек было одно место в больнице. Средних медицинских работников (включая ротных фельдшеров и повивальных бабок) всего насчитывалось 46 тыс., а уже в 1940 г. — 472 тыс., в 1990 г. — 1 млн 817 тыс., т. е. в 40 раз больше. Это слишком большая разница.
Во-вторых, за последние двадцать лет население на опыте пришло к выводу, что если вместо советской системы здравоохранения что-то и будет построено, то это что-то будет похоже на коттедж «нового русского» за высоким забором. А на воротах будет висеть плакат с известным афоризмом одного из мелких отечественных олигархов: «У кого нет миллиарда, пусть идет в…».
Да и пропаганда столыпинской России на это намекает. Контраст между дореволюционной и советской системами разительный. Из-за социальных и бытовых условий жизни большинства населения — 85% его составляли крестьяне — был очень высоким уровень детской смертности: 425 умерших на 1 тыс. родившихся (1897 г.)!
После революции и Гражданской войны главной задачей государства было преодоление последствий войн и разрухи, недопущение массовых эпидемий. Поэтому на селе сразу стали создаваться учреждения, которых в дореволюционное время практически не существовало, но которым теперь придавалось приоритетное значение. Так, в систему здравоохранения вошли ясли, консультации, туберкулезные пункты, «венерические отряды». Стали проводиться обследования школьников, велась большая работа по санитарному просвещению в деревнях. Были созданы мобильные санитарные пункты, которые передвигались и по железным дорогам, и по водным путям. Бригады мобильной медицинской помощи на остановках открывали временные фельдшерские и консультативные пункты, пока судно стояло у пристани.
Эти проведенные в 1920-е гг. большие программы предотвратили возникновение эпидемий и резко снизили заболеваемость инфекционными болезнями, ликвидировали особо опасные инфекции. В середине 1920-х гг. в результате интенсивной профилактической работы резко снизилась младенческая смертность, в результате чего средняя ожидаемая продолжительность жизни сразу выросла с 32 лет в 1897 г. (по 50 губерниям Европейской России) до 44,4 лет в 1926-1927 гг. (по Европейской части СССР). В результате обязательной (проводимой начиная с 1919 г.) массовой иммунизации к 1936-1937 гг. в СССР была полностью ликвидирована оспа. С 1950-х гг. структура заболеваемости и причин смерти в СССР стала типичной для экономически развитых стран.
Люди почувствовали, что их здоровье, как народа, находится под надежной защитой. Это совсем не то же самое, что возможность богатого человека купить себе любую дорогую медицинскую услугу на рынке. Министры РФ и их эксперты делают вид, что не понимают этой разницы?
Опыт 1920-х гг. и найденные тогда новые социальные формы здравоохранения были спасительными для населения СССР и во время Великой Отечественной войны. За всю операцию по перемещению на Восток 20 млн человек эвакуированного населения не было ни одной эпидемии. При гораздо меньших масштабах перемещения людей во время Гражданской войны от эпидемий в период 1918-1920 гг. умерло более 5 млн человек.
В условиях, когда половина всех врачей были мобилизованы на фронт и в военные госпитали, страна прошла войну без крупных эпидемий и большого повышения уровня смертности от болезней. Только за 1941-1943 гг. было сделано 250 млн предохранительных прививок. Помощь заболевшим приходила так быстро, а лечение было таким тщательным, что смертность всех пораженных инфекционными заболеваниями по стране составила в 1944-1945 гг. всего 5,1%. В СССР был достигнут самый высокий уровень возврата раненых и больных в строй (за время войны — 72,3% раненых и 90,6% больных воинов). Все это — итог общего дела, специфически советской социальной организации здравоохранения.
Еще более важным условием сохранения и прироста населения стало здравоохранение в индустриальном обществе. Создание и развитие здравоохранения в современных формах — одна из главных национальных программ СССР. Она сыграла важную роль не только в формировании всей социальной системы, но и в нациестроительстве, в устройстве здорового межэтнического общежития.
После 1920-х гг. была предпринята вторая серия больших программ здравоохранения — и ожидаемая продолжительность жизни в СССР выросла с 44,4 лет до 68,6 лет. Только с 1939 г. по 1955 г. она выросла на 20,1 лет! Как сказано в обзоре 2009 г., это было достигнуто «титаническими усилиями зарождающейся советской системы здравоохранения». Одна за другой были ликвидированы основные эпидемические болезни и массовые желудочно-кишечные заболевания. Вот это и называется «национальный проект» — объектом охраны здоровья был весь народ. Потому и сошли практически на нет массовые болезни.
Рис. 1. Обеспеченность населения СССР больничными койками (на 10 тыс. населения)
Новая форсированная программа строительства и модернизации системы здравоохранения началась после войны.165 С середины 1950-х гг. к 1990 г. число коек на душу удвоилось, а число больниц не изменилось — больницы укрупнялись и специализировались, создавалось ядро сети медицинских учреждений с высокими технологиями.
И в то же время здравоохранение продолжало выполнять критерий быстрой доступности врачебной помощи в стационаре на обширной территории. Максимально быстрая помощь на начальной стадии болезни или травмы — залог эффективности лечения, часто более важный, чем доступ к высоким медицинским технологиям.
Как пример, можно привести опыт советской военной стоматологии. Во время ВОВ было целиком излечено и возвращено в строй 85,1% раненых в челюстно-лицевую область, а в группе с изолированными повреждениями мягких тканей лица — 95,5%. А незадолго до этого подобные ранения приводили к чрезвычайно большим потерям. В ходе войны 1914-1918 гг. летальность в случае ранения бойцов в челюстно-лицевую область составляла 53%, а уже в ходе боевых операций на реке Халхин-Гол эта доля погибших в войсковом районе снизилась до 0,4%. В ходе финской войны летальность раненых в челюстно-лицевую область колебалась в войсковом районе от 0,4 до 1,1%. Это было достигнуто во многом потому, что 63% раненым в челюстно-лицевую область специальная помощь была оказана непосредственно в войсковом районе [25].
Исходя из этого, в СССР до последнего момента в сельской местности действовала сеть участковых больниц со средней мощностью около 30 коек. Число больничных коек в таких больницах составляло всего около 8% всего числа по стране, но каждый знал, что больница и врач для него пространственно доступны в краткое время.
Ликвидация СССР и его социальной системы радикально изменила ситуацию. Что мы наблюдаем сегодня в России? Подход, противоположный принципам советского здравоохранения, хотя правительство этот поворот маскирует второстепенными деталями. Еще не меняя структуру системы здравоохранения, государство стало ослаблять все ее элементы — и пропагандой, и ресурсным голодом.
С первого же года перестройки СМИ была начата большая кампания по дискредитации советского здравоохранения и медицинских работников. Социолог О.А. Кармадонов на основании контент-анализа прессы пишет об изменении в годы перестройки и реформы статуса врачей — одной из самых крупных групп интеллигенции: «Специфична дискурсивно-символическая трансформация врачей. Анализ “АиФ” [“Аргументы и факты”] 1984 года показывает положительное к ним отношение — 88% сообщений такого характера. Доминирующую триаду формируют символы советских медиков: „профилактика”, “высококвалифицированные”, “современные”, “бесплатные”, “лечат”. Объем внимания составлял 16%, частота упоминания — 11%.
В 1987 году показатели обрушиваются до 0,1%. После этого освещение группы в медийном дискурсе приобретает нестабильный характер, не поднимаясь выше 5% по частоте и 6% по объему. Рост этих показателей объясним популяризацией “национального проекта” здравоохранения больше, чем вниманием к его работникам.
Показательна тональность оценок в сообщениях “АиФ” о данной группе. С 1987 года больше пишут о недостатках; врачи становятся “труднодоступными” для пациентов. В 1988 году тенденции усугубляются, появляются первые статьи о врачебных ошибках (доминирующий Д-символ “вредят”), о врачах-мошенниках, нетрудовых доходах (доминирующий К-символ “преступники”). Но еще много “профессионалов”, ’’заботливых” и “самоотверженных” докторов.
В 1989 году появляются статьи о халатности и безответственности врачей… В 1993 году вновь доминируют термины “непрофессиональные”, “вредят”, что является, помимо всего, следствием сокращения финансирования здравоохранения, в том числе на обновление технической базы и на повышение квалификации врачей.
Триада-доминанта 1995 года: “энтузиасты”, “малообеспеченные”, “работают”, — сообщает о снижении материального достатка медиков, продолжающих, тем не менее, активную профессиональную деятельность — феномен группового пафоса, суррогат социального престижа.
На протяжении 2002, 2004, 2006, 2007 годов доминируют символы исключительно негативной окраски: “преступники”, “дилетанты”, “убийцы”. Присутствуют символы “специалисты” (2003 г.), “советчики” (2004 г.), “профессионалы” (2005 г.), “повышение квалификации” и “нехватка врачей” (2008 г.). В 2008 году значительное место в медийном дискурсе занял “кадровый голод”, свидетельство неэффективности структуры трудовых ресурсов здравоохранения, ухода из государственной медицины специалистов. Аффективный символ, доминирующий в 2004 и 2008 годы, — “равнодушные”.
Тем самым, наряду со снижением количественных показателей освещения группы врачей в текстах “АиФ”, происходила и негативизация их символических характеристик; “профессионалов” превращали в “дилетантов” и “мошенников”» [7].
Так постепенно меняли образ врача в массовом сознании — приучали к мысли, что он не выполняет священный долг защиты своего народа от болезней, а торгует услугами, наживаясь на больных. Есть деньги — можешь купить его товар, нет — иди с Богом, болей и умирай.
Строго говоря, население готовили к ликвидации здравоохранения. По самому смыслу слова здравоохранение — это объект заботы государства, а не частного предпринимательства. Подчинять здравоохранение стихии рынка — это все равно, что во время отечественной войны заменить армию частными охранными фирмами.
Дискредитация врачей — это действия в сфере символов. Результатом их (вкупе со снижением социального статуса врачей) стало резкое падение престижа профессии, отток квалифицированных кадров, ухудшение подготовки и мотивации молодых специалистов. Как пишут эксперты, «сейчас каждый третий выпускник медицинского вуза не идет работать по специальности». Министр здравоохранения Т.Е. Голикова перед уходом со своего поста вдруг объявила, что «у нас не хватает 150 тысяч врачей и 800 тысяч медсестер» — это после шести лет пребывания во главе министерства. А ведь дело не только в численности, а в структурных изъянах сообщества. Одно это говорит о глубокой деградации отрасли.
Сокращение сети лечебных учреждений и деградация основных фондов
Параллельно с пропагандистской кампанией после 1988 г. были начаты массивные изъятия из основных фондов здравоохранения, а затем и сокращение ассигнований на деятельность лечебных учреждений. В этом докладе мы почти не касаемся финансовой стороны проблемы, а говорим о социально-философской основе структурных изменений в здравоохранении России. Однако надо зафиксировать тот факт, что в ходе реформы, даже в относительно благополучное десятилетие после 2000 г., в здравоохранении наблюдается острая нехватка средств.
С.И. Колесников, академик РАМН, заместитель председателя Комитета ГД РФ по охране здоровья, профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ, сказал в интервью: «Недофинансирование медицинской сферы сегодня составляет 40-45 процентов от общей стоимости услуг. У нас на здравоохранение тратится примерно 650 долларов на человека в год, а в Европе — от 4 до 6 тысяч евро. Они могут себе позволить немного сократить затраты. У нас же либо придется перекладывать их на население, загоняя его в платные медуслуги, либо повышать страховые платежи не менее чем в два раза» [21].
Вернемся к основным фондам. В 1985 г. коэффициент обновления основных фондов (в сопоставимых ценах) был равен 7,2%, в 1990 г. — 5,7%. К 1995 г. он упал до 1,5%, прошел через минимум в 1998 г. (0,7%) и затем держался на уровне 0,9%, а в 2005 г. составил 1,6%.166
Стала сокращаться сеть больниц, причем в разных постсоветских республиках по-разному. В РФ эта сеть за время реформ сократилась вдвое — были закрыты участковые больницы в сельской местности и в райцентрах (рис. 2).
Рис. 2. Число больничных учреждений в РСФСР и РФ
Это сокращение числа больниц не вело к такому же укрупнению учреждений или малых больниц — уменьшилось число коек на душу населения (рис. 3). Сокращение принципиальное — к 2011 г. на 32%. Сильнее всего это ударило по жителям сел и деревень, удаленных от больших городов. С начала 2013 г. началась программа по «оптимизации» сети малых родильных домов. Она приняла драматический характер, и о ней надо говорить в особом докладе.
Рис. 3. Число больничных коек в РСФСР и РФ на 10 тыс. человек населения
В 1990 г. в РСФСР было 4813 участковых больниц, имевших в сумме 156,3 тыс. больничных коек. Эта система продержалась, с некоторыми сокращениями, до конца 1990-х гг.: в 1995 г. было 4409 больниц (129 тыс. коек), в 2005 г. осталось 2631 больница (62,3 тыс. коек). Затем эта сеть была практически демонтирована всего за один год: в 2006 г. в РФ имелось только 628 таких больниц, обладавших в сумме 18,1 тыс. коек, а в 2010 г. — 400 больниц с 11,2 тыс. коек. Резко сократилось и число районных больниц в сельской местности — со 178 больниц в 1990 г. до 91 больницы в 2006 г. и 79 больниц в 2010 г. В целом только с 2005 г. по 2007 г. в сельской местности было закрыто 2186 больниц (или 60,6%).
В результате сокращения строительства (рис. 4) и капитального ремонта больниц в РФ началось ослабление созданной ранее системы больничной сети.
Рис. 4. Ввод в действие больниц в РСФСР и РФ, тыс. коек (до 1955 г. среднегодовые величины по пятилеткам)
Заведующий хирургическим отделением районной больницы в Вологодской области С. Соколов пишет: «Государство утверждает, что в стране очень высокий уровень госпитализаций, что 30-40% всех госпитализируемых больных не нуждаются в госпитализации. Так ли это? Государство само утверждает объемы госпитализации в виде так называемого муниципального заказа. Эти объемы закладываются в годовой план работы каждого муниципального учреждения здравоохранения, а каждый заведующий отделением обязан на 100% выполнить годовой план на пролеченных больных…
Государство в рамках оптимизации работы коечной сети фактически выдавливает свои кадры из муниципального здравоохранения. Как закрыть 30-коечное хирургическое отделение? Его нужно сделать 10-коечным. В этом случае отделение становится неоперирующим, сокращаются штаты, в том числе вылетают на улицу члены операционной бригады. У заведующего отделением остается 0,5 ставки, прекращается льготный хирургический стаж, и врач вешает на двери отделения большой амбарный замок.
Планирование здравоохранения носит откровенно деструктивный характер, не отвечает основным целям и задачам, стоящим перед здравоохранением, умышленно ставит ЛПУ на грань финансового краха, делает здравоохранение неэффективным, малодоступным, сверхбюрократизированным. Ближайшая перспектива — дезорганизация и необратимая деградация отрасли, более выраженная на периферии, и кадровый кризис.
Пример такого планирования: 2 врача-хирурга на 30 койках хирургического отделения Красавинской районной больницы № 1 в 1985 г. выписали 616 человек, в 1986 г. — 584, в 1987 г. — 607 человек, в 1988 г. — 593 при среднем пребывании больного на койке 14,5 койко-дня. В 2009 г. для 13 стационарных коек и 5 дневных хирургического отделения на одну врачебную ставку годовой план на пролеченных больных составил 569 человек на 10 койко-днях. В 2010 г. то же самое количество коек уже на 8 койко-днях должно пролечить почти 700 человек и сделать это за 9,5 месяца. Так как для большинства больных общехирургического и травматологического профиля требуется лечение в течение 10 дней и более, то для остальных пациентов среднее пребывание составит 5-6 дней, а с учетом закрытия отделения на период отпуска — 4-5 дней. Подобное планирование есть подлость не только по отношению к медикам, но и к пациентам. В этих цифрах ответ на вопрос и о качестве медицинской помощи, и об уровне госпитализации и т. д.» [17].
Но и с основными фондами дело обстоит не лучше. В Отчете Правительства РФ перед Государственной думой в 2010 г. была затронута проблема основных фондов здравоохранения — зданий и оборудования. Было сказано: «Сегодня более 30% всех лечебных учреждений страны находятся в аварийном или требующем капитального ремонта состоянии. И это несмотря на все то, что уже было сделано в рамках национального проекта. Многие поликлиники и больницы не имеют достаточного оборудования для оказания медпомощи в соответствии с современными требованиями. Поэтому в течение двух ближайших лет мы выделим около 300 млрд рублей на приведение всей сети здравоохранения страны в порядок».
Понятно, что 300 млрд руб. — это сумма, которую Правительство выделило на то, чтобы разрешить самые критические угрозы, возникшие из-за износа основных фондов. Но нельзя сказать, что эти средства даны «на приведение всей сети здравоохранения страны в порядок» — масштаб проблемы и размер выделенных средств несоизмеримы.
Сеть здравоохранения России состоит из 40 тыс. зданий больниц, поликлиник и других лечебных учреждений. Из них около 14 тыс. (Росстат дает подробные данные) надо сносить или капитально ремонтировать. Приборный парк надо закупать практически полностью, он изношен физически и морально. 300 млрд руб. — это в среднем по 7 млн руб. на одну больницу или поликлинику. В Москве это — стоимость однокомнатной квартиры. Можно ли на эти деньги привести в порядок здание и оборудование больницы? Такие утверждения создают иллюзии, а гораздо важнее помочь обществу осознать суровую действительность, преодоление которой потребует от государства и населения больших, даже самоотверженных усилий.
Чтобы определить реальный масштаб проблемы, надо было бы сказать, сколько денег «недовложили» в систему здравоохранения за 20 лет по сравнению с нормальными затратами на ее воспроизводство (на строительство, капитальный ремонт зданий и сооружений, на содержание и обновление приборов и оборудования).
Вернемся к принципиальному изменению — сокращению сети медицинских учреждений, приближенных к населению. От ликвидации участковых и районных больниц перешли к сокращению сети амбулаторно-поликлинических учреждений (АПУ).
В сельской местности располагалось около половины всех АПУ России. Демонтаж этой сети также произошел в последние годы. В 1995 г. в сельской местности оставалось 9217 АПУ из общего числа 21 071, в 2005 г. — 7495 (из 21 783), а в 2010 г. — 2979 (из 15 732). Доступность медицинской помощи в АПУ на селе сильно сократилась по сравнению с городом. При этом пространственно поликлиника в городе несравненно более приближена к жителям, чем в сельской местности.
Вот что пишут в интернет-газету «Аргументы.ру»: «В Москве в 2012 году началась реформа, известная как модернизация амбулаторно-поликлинического звена. Она иллюстрирует то, что должно произойти во всей России — и уже происходит в регионах. Старые поликлиники и стационары должны заменить многопрофильные суперсовременные центры, где будет все: от врача редкой специальности до томографа, выпущенного в США месяц назад. Такие центры назвали амбулаторно-поликлиническими объединениями. Москвичи все чаще воспринимают реформу как слухи о закрытии больниц. А те, кто попадает к врачу, замечают: докторов реально стало меньше…
Дело в том, что медцентры создаются на базе старых клиник. 5-6 медучреждений, находящихся относительно недалеко друг от друга, просто объединяют. С юридической точки зрения. От контроля штатной численности медиков законодатель отказался. Сколько будет врачей в учреждении — решать главврачу. Вот доктора и сокращаются. А в больницах сокращается число мест в стационарах. Иногда закрывают целые отделения.
Строят федеральные перинатальные центры — закрывают сельские роддома. Роженицам предлагают ехать в крупные города — где всего-то за сто километров от дома обязательно окажут медицинскую помощь. Но в суперсовременных учреждениях банально не хватает мест. Так происходит во всех медицинских сферах: федеральные учреждения строят, районные — закрывают. Медицинская помощь все больше отдаляется от пациента» [11].
Возможно, реструктуризация сети медицинских учреждений с резким снижением ее плотности на территории и с ее концентрацией в городах была вынужденной мерой в условиях экономической реформы и вызванного ею кризиса. Но ведь массовая ликвидация «маломощных» больниц и поликлиник представлялась как положительное изменение, как модернизация системы, хотя такое резкое отдаление ресурсов медицины от поселений, где проживают 38 млн человек, надо считать регрессом.
Это стало одной из причин исключительно высокой смертности от внешних причин (травм и отравлений), успех лечения которых определяется скоростью предоставления помощи. На фоне роста травматизма в России ежегодно 9-10 человек из 100 нуждаются в срочной помощи, но возможности для этого при перестройке сети больниц и поликлиник сократились. Обеспеченность врачами в сельской местности (12,2 врача на 10 тыс. населения) в 5 раз ниже, чем в городе (52,9 врача на 10 тыс.). Намного хуже и обеспеченность инструментами и расходными материалами.
Врач-травматолог пишет в Интернете: «Основная масса экстренных больных проходит через районные или городские травмотделения, соответственно, и потери, за которые иногда бывает стыдно! Ко всему привыкаем! А как быть, если вдруг объявляют: “остались только такие антибиотики, физраствора нет, рентгеновская пленка кончается — перерасход за тот месяц”, гепарина нет уже давно, про клексан с фраксипарином можно не заикаться, список бесконечен. Говорить больным, что чего-то нет, “низзя”, а вдруг пожалуются в Департамент?! Зарплаты мизерные, обеспечение тоже, штатное оборудование старое… Сверла точим, винты и пластины со штифтами ставим “пока на ком-нибудь не сломаются”… Миллионы и миллиарды нефтедолларов надо тратить на оказание экстренной помощи на местах. Немногие могут оплатить лечение в Центрах, не надо лукавить, чаще всего это огромные деньги. Основные средства должны тратиться на местах, на оказание экстренной помощи! По-серьезному: с нормативами, с положенным штатом, окладами, по современным стандартам. Тогда будет прок. Не будут умирать молодые ребята после травм десятками и сотнями тысяч!» [9].
Сокращается и сеть диспансеров — важной структуры профилактической медицины. Так, одним из важнейших классов заболеваний в России являются болезни костно-мышечной системы, от них страдают 18,3 млн человек (2010 г.), ежегодно диагноз этих заболеваний ставится еще почти 5 миллионам человек. Экономические потери огромны — и от утраты трудоспособности, и от больших затрат на лечение (23% от расходов на лечение всех болезней). Но из всех зарегистрированных больных под диспансерным наблюдением находились 7,1% (2005 г.), специализированная амбулаторная помощь была малодоступна.
Особо глубокая деградация системы профилактического здравоохранения произошла в сельской местности. Социологи-аграрии пишут: «Вследствие неудовлетворительной охраны труда среди аграрных работников высок уровень профзаболеваний. В структуре их более половины — заболевания опорнодвигательного аппарата, 28% — бруцеллез и 7% — болезни органов дыхания. Наиболее высок уровень профзаболеваний у животноводов: среди доярок уровень их достигает 99%, операторов свиноводства — 80, зоотехников — 47%. Две трети профзаболеваний выявляются лишь при обращении в медучреждения, т. е. когда болезнь уже перешла в хроническую форму. Обязательные ежегодные медицинские осмотры сельхозработников, особенно женщин-животноводов и трактористов-машинистов, практически не проводятся…
По этим причинам многие работники утрачивают трудоспособность. Большинству их инвалидность устанавливается в 30-49 лет, т. е. в период наибольшей работоспособности. Ситуация с трудоспособностью людей усугубляется по мере упразднения служб охраны труда в сельском хозяйстве и снижения затрат на его охрану.» [8].
Мы не говорим здесь о резком расслоении по доступу к медицинской помощи между регионами — в середине нулевых годов они различались по душевому расходу на здравоохранение в 12 раз, за последние годы разрыв немного сократился, но остается большим. Так, расходы на здравоохранение консолидированных бюджетов на душу населения в 2010 г. составляли в Республике Дагестан 2,3 тыс. руб., а в Ханты-Мансийском автономном округе — 22 тыс. руб. Жители Дагестана поэтому вынуждены относительно больше тратить средств на платные медицинские услуги, в среднем на душу населения, чем в Ханты-Мансийском автономном округе.
Как это можно — допускать такую разницу в бюджетных расходах, если Конституция РФ гарантирует равный доступ к медицинской помощи для всех граждан на всей территории России!
Каковы стратегические планы реформы?
К чему же поведет сокращение сети лечебных учреждений и коечного фонда системы здравоохранения? Каким видится образ этой системы, когда завершится этот этап реформы?
В сентябре 2010 г. в Саратове состоялся 9-й съезд травматологов-ортопедов России. После него участники и врачи из всех регионов обсуждали общие проблемы своей области и всего здравоохранения. Вот что написал один из участников: «Нет ничего удивительного в нынешнем состоянии дел в травматологии, ортопедии и медицине в целом. Реализуется реформа здравоохранения, направленная на полную его коммерциализацию. Одномоментно это сделать невозможно, поэтому процесс разделен на несколько этапов. Этап первый — разделение медицинских учреждений на муниципальные, региональные и федеральные /выполнен/.
Этап второй — резкое сокращение коечного фонда и объемов /госзаказа/ муниципальных учреждений. В идеале — сокращение до участковых служб и врачей общей практики, но не думаю, что это удастся реализовать. Оставление за муниципальными учреждениями возможности оказания лишь неотложной помощи. Одновременно частично решается вопрос кадрового дефицита по схеме — нет коек и объемов — нет ставок — не нужны кадры. Данный этап реализуется в настоящее время.
Этап третий — создание искусственных очередей на плановое лечение и обследование в региональных лечебных учреждениях (ведь их коечный фонд никто увеличивать не собирается) и принуждение пациентов к обращению за платной помощью, где очередей нет или они не так значительны.
Впоследствии, думаю, на базе ОФОМС [областной фонд ОМС] или без него создадутся частные страховые компании, которые и будут заниматься оплатой плановой медицинской помощи за счет средств пациентов. Бесплатная медицина канет в Лету вслед за прочими, так называемыми, “завоеваниями Октября”.
Несмотря на создаваемые условия, мы, безусловно, выживем, но, как написано в книжке про Винни-Пуха, это будет совсем другая история…».
Ему отвечают: «Вы один в один пересказали то, что мне рассказывали местные функционеры от здравоохранения разного уровня. Четвертый и пятый этапы будут, когда монстрам (Газпром, Роснефть, Альфа-группа и пр.) отдадут на откуп стационарное лечение по-дорогому: кардиология, ортопедия, онкология, нейрохирургия, оставив муниципальные больницы для бедных с минимальным набором возможностей лечения и минимальными затратами. Мы выживем и даже заработаем, только как-то совестно лишать специализированной помощи около 70% населения России» [9].
Приведем фрагменты из анализа общей доктрины реформы, данного в статье в «Медицинской газете» С. Соколовым, заведующим хирургическим отделением Красавинской районной больницы № 1 (г. Красавино, Вологодской области).
Он пишет: «Непосредственная задача Национального проекта “Здоровье” — поднять российское здравоохранение, сделать его приемлемым для народа. Декларируемые цели — уменьшить заболеваемость, смертность, инвалидизацию, увеличить рождаемость, среднюю продолжительность жизни путем модернизации здравоохранения… Меня и моих коллег поражают способы решения основных задач, стоящих перед нами.
Чтобы наши люди болели меньше, оказывается, по мнению наших чиновников, нет проблем! Нужно сделать медицинскую помощь малодоступной. Путем централизации здравоохранения на российских территориях, сокращения врачебных ставок, выдавливания узких специалистов, сокращения и закрытия отделений, введения талонной системы, системы предварительной записи, формирования очередей на плановую госпитализацию, очередей на прием к врачу, стимулирования обращения граждан в платные медицинские центры, к знахарям, гадалкам. Иными словами, чем больше затруднен путь пациента к врачу, тем меньше посещений, тем меньшее число случаев попадет в статистику. Давайте представим себе деревню с народонаселением в 10 человек и чтобы до ближайшего врача было 200 км. По российским меркам — пустяки. Так вот, регистрируемая заболеваемость в этой деревне в течение года будет равна нулю. Превратим всю российскую провинцию в сеть таких вот деревень, и цифры заболеваемости приятно удивят. В том числе и весь мир.
Как снизить первичную инвалидизацию и смертность? Сделать и это, оказывается, элементарно. Бюро МСЭ работает по квотам, выдаваемым свыше. Это понятно, так как каждая группа инвалидности должна быть финансово подтверждена. Мы уменьшаем количество квот, например на 50%, ужесточаем показания к выходу на инвалидность, и через год можно смело докладывать Президенту РФ о том, что вследствие проводимого Национального проекта “Здоровье” количество инвалидов в России уменьшилось вдвое.
Здоровье каждого конкретного человека не интересует систему ОМС — таково мое убеждение. Понятие “реальный больной” в ОМС заменено понятием “больной среднестатистический”, который в хирургическом отделении районной больницы, например, должен пролежать в среднем не более 8-10 дней, не чаще одного раза в год и на его лечение должно быть затрачено не более 68 руб. в сутки. Длительное лечение отдельных тяжелых больных должно быть компенсировано за счет сокращения сроков лечения остальных пациентов, ибо не оплачивается ОМС. Система ОМС оставляет в России видимость бесплатного лечения, прописанного Конституцией РФ, предоставляет пациенту некий суррогат из списка медицинских услуг, гарантированных государством в порядке общей очереди. Лечение в стационаре — только по минимуму за счет государства, амбулаторное лечение — это лечение за свой счет. Именно поэтому стационарная помощь объявлена пережитком проклятого социалистического прошлого и подлежит частичному уничтожению до установленных федеральных нормативов.
Давно хочется задать вопрос, а какую роль выполняют в ОМС страховые медицинские компании? СМК — это частные структуры, непосредственно осуществляющие страхование медицинских услуг. В системе ОМС имеются две основные функции. Первая — посредническая. СМК распределяют денежные потоки из ТФОМС в ЛПУ за “долю малую”. И настолько эта доля мала, что на рынке страхования медицинских услуг идет жесткая конкурентная борьба. Побеждает та страховая компания, которая имеет больший административный ресурс. Вторая функция СМК — контролирующая. Контроль за “качеством” лечения сводится к контролю за качеством оформления медицинской документации, а если быть более точным — это инструмент для изъятия части денег, заработанных ЛПУ в виде штрафных санкций. Функции СМК — функции паразитов.
Государство сокращает невостребованные койки, но для приведения коечного фонда в соответствие с федеральными нормативами этого мало. А можно ли востребованные койки сделать невостребованными? Не можно, а нужно!.. Пример: по плану хирургическое отделение МУЗ “Красавинская районная больница № 1” за год на 18 койках должны пролечить 570 человек при среднем пребывании больного на койке 10 дней. Это то же самое количество больных, которых раньше, до сокращений, отделение пролечивало на 30 койках. От сокращений отделений количество больных не уменьшается. Поэтому организаторы здравоохранения заставляют работать уже сокращенные отделения более интенсивно, уменьшая показатель среднего пребывания больного на койке на единицы, при этом план на пролеченных больных увеличивается в арифметической прогрессии. На практике, 10 койко-дней для хирургического отделения районной больницы означают, что отделение захлебывается в потоке реальных, а не “среднестатистических” больных, персонал сбивается с ног, часть больных откровенно не долечивается, развертываются нелегальные приставные койки, а план, если выполняется, то с трудом. Невыполнение плана на пролеченных больных означает, что отделение не заработало себе денег на зарплату и подлежит сокращению. При показателе 9 койко-дней и ниже план становится космическим и невыполнимым при любом количестве коек.
Фокус в том, что организаторы здравоохранения, сокращая коечную сеть, задают оставшимся койкам такой режим работы, что чисто физически такой план эти койки выполнить не могут. Самое ужасное то, что делается это осознанно, умышленно, что в результате подобного планирования отделения и больницы заведомо попадают в финансовую яму, а организаторы здравоохранения при этом получают научное обоснование дальнейшего сокращения коек… Способов посадить больницу в финансовую яму много. Если закон о доплатах до МРОТ не профинансирован, а необходимость доплат работникам до минимума возлагается на внутренние резервы больницы, которых нет, больница в финансовой яме. Если врач в отделении один и на период трудового отпуска ему замены нет, отделение на период отпуска закрывается, и план на пролеченных больных нужно выполнить за 10,5 месяца. А если врач уехал на очередную учебу, то план должен быть выполнен за 9,5 месяца… Мировой финансовый кризис все упростил. Например, наш Департамент здравоохранения вынужден просто объявить, что снижен муниципальный заказ, и в больницах летят койки, штаты, персонал, зарплата без всякого объяснения причин.
В здравоохранении на сокращенных койках устроена погоня за количеством, и на этом фоне заявления руководителей государства о необходимости повышения качества медицинского обслуживания кажутся полным бредом.
В здравоохранении должна быть профилактическая направленность. Но как это выражается в системе ОМС? Врач работает, получая зарплату по объемам. Принцип: “сколько принял — столько получил, но не выше нормы, установленной муниципальным заказом”. Поэтому в системе ОМС врач заинтересован в росте заболеваемости. Какая профилактика?..
Государство сажает все здравоохранение на объемы, которые само же и определяет, и тут же следуют фарисейские утверждения, что эти объемы чрезмерны, что нужно искать пути для их уменьшения, т. е. для дальнейшего сокращения коечной сети и разгона узких специалистов и персонала. Один из предлагаемых путей — организация во всех больницах приемно-диагностических отделений, где поступившие больные в течение 6-12 часов (?!) проходят полное обследование, по итогам которого будет приниматься решение о тактике дальнейшего лечения. Проблема в том, что диагностические койки не финансируются ни ОМС, ни бюджетом, они вообще висят в воздухе. Мысль обслужить 30-40% пациентов за счет внутренних резервов больницы, которых нет, очень здравая.
Существует мнение, что система ОМС спасла отечественное здравоохранение в 90-е годы. Чушь! Отечественное здравоохранение спасли кадры. И даже сейчас, если где-то что-то в муниципальном здравоохранении (а особенно на периферии) еще работает, то это работает не система ОМС, это дорабатывают свой срок кадры, оставшиеся в здравоохранении с советских времен. И когда эти люди уйдут, Национальный проект “Здоровье” тут же издаст громкий неприличный звук, напоминающий фальшиво сыгранную на пионерском горне джазовую композицию» [17].
Обратимся к рассуждениям влиятельных специалистов, разрабатывающих доктрины реформ. Ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ В. Мау изложил свои представления о том, как надо вести модернизацию здравоохранения в России [3]. Статья принципиально важная по трем причинам.
Во-первых, РАНХиГС — кузница кадров высшего эшелона власти, и программное выступление ее ректора приоткрывает тот «образ будущего», который закладывается в головы следующих поколений наших руководителей и чиновников. Надо знать их программное обеспечение, ведь жизнь населения России будет вписана в его рамки.
Как уже говорилось, представления о человеке в среде элиты несовместимы с представлениями большинства. В. Мау прояснил эти различия, надо в такие статьи вникать.
Во-вторых, В. Мау не просто излагает свои мысли об «улучшении» здравоохранения, он встраивает этот предмет в стратегическую концепцию модернизации. Судя по другим программным документам (например, [1]), предложенная в статье В. Мау стратегия хорошо отражает замысел российской модернизации. Статья излагает кредо влиятельной части элиты, ее символ веры. Рассмотрим основные утверждения рационально, пройдем по тезисам в порядке поступления.
В. Мау пишет: «В России всегда доверяли государственному университету, но частному врачу».
Тезис мифологический и даже странный. Что значит, что в России «всегда» доверяли частному врачу? И кто доверял, какой процент населения, чтобы представлять это «доверие» как всеобщую социальную норму в России? И почему же эти частные врачи, которым якобы так доверяла вся Россия, мирились с таким высоким уровнем детской смертности — 425 умерших на 1 тыс. родившихся в 1897 г.? Ведь причины такой смертности были тривиальными, томографов не требовалось. Может, врачей почти не было? И почему к середине 1920-х гг., сразу после создания государственной системы здравоохранения, младенческая смертность снизилась так резко, что средняя ожидаемая продолжительность жизни сразу выросла на 12 лет (в Европейской части СССР)?
Трудно поверить, что человек, занимающий пост ректора, не знает, что большинство жителей дореволюционной России не имело доступа к врачебной помощи! В России просто не было той общности «частных врачей», которым население могло верить или не верить, сравнивая их с «государственными». А когда стала возникать сеть больниц, врачи в них были земскими, а не частными, а затем — советскими государственными.
Как же видит В. Мау главные проблемы здравоохранения в нынешней России в среднесрочной перспективе? Видит так странно, что просто ставит читателя в тупик: «При обсуждении принципов функционирования и реформирования современного здравоохранения можно выделить две ключевые проблемы. Во-первых, быстро растущий интерес образованного человека к состоянию своего здоровья. Во-вторых, асимметрия информации».
Что это такое? Население больно, иммунитет подорван стрессом, идет деградация остатков советского здравоохранения, огромное «социальное дно» лишилось доступа к медицинской помощи (нищие, бездомные и беспризорники не регистрируются по месту жительства и не имеют полиса). Выводы социологов ясны и понятны: «Боязнь потерять здоровье, невозможность получить медицинскую помощь даже при острой необходимости составляют основу жизненных страхов и опасений подавляющего большинства бедных».
Это — экзистенциальная проблема практически для всего населения, которое страдает при виде бедствия соотечественников и от своей беспомощности помочь им — а нам выдают какие-то туманные намеки насчет «растущего интереса образованного человека к здоровью» и «асимметрии информации».
О ком же заботится В. Мау? На кого рассчитана его «модернизация»? Этого он не скрывает: «Стремление не экономить на здоровье растет по мере повышения экономического благосостояния и общей культуры общества… По мере роста благосостояния и образования ценность человеческой жизни неуклонно возрастает, и человек готов заниматься своим здоровьем не только тогда, когда он заболевает».
Вот она, новая антропология хозяев России. Ценность человеческой жизни возрастает по мере роста благосостояния больного! Это ли не оскорбление чувств верующих православных? Неужели в этом и есть суть предлагаемой модернизации здравоохранения России? Жизнь состоятельного человека намного ценнее жизни среднего статистического гражданина, который с трудом дотягивает до получки. Значит, и спасение этих двух разных жизней должно быть организовано по-разному. Значит, надо перенаправить потоки бюджетных средств на строительство анклава «современной медицины» для элиты, а менее образованная низкооплачиваемая масса пусть удовлетворится карболкой и аскорбиновой кислотой.
Это прямо и предлагается сделать приоритетом государственной политики: «Государство должно сосредоточить внимание на создании медицинских учреждений и школ, способных конкурировать на глобальном рынке. Критерием успешности клиники должно быть… количество иностранных пациентов, желающих в этой клинике лечиться и, соответственно, готовых платить за это свои деньги. Такие учреждения надо создавать, стимулируя приток в них платежеспособного спроса и отечественных пациентов.
Этот подход можно считать элитарным, противоречащим принципам социальной справедливости. Однако на практике именно элитные учреждения могут становиться локомотивами, стимулирующими поднятие общего уровня медицины в стране» [3].
Вот вам и демократия, за которую шла на баррикады наша либеральная интеллигенция. Дискурс («язык» — в широком смысле слова) В. Мау как видного представителя интеллектуальной команды государственной власти теперь обращен почти исключительно к благополучной (и даже богатой) части общества, составляющей меньшинство населения. Более того, в некоторых заявлениях таких представителей даже подчеркивается классовый, а не национальный, характер государственной социальной политики. Ряд больших общностей абсолютно исключены как субъекты права на охрану их здоровья.
Еще недавно здравоохранение России, которое сложилось уже в советское время, по ряду позиций было признано лучшим в мире. Элитными учреждениями, которые поднимали общий уровень медицины в стране, считались те, которые успешно и новаторски излечивали больного человека, а не те, которые заманивали богатых иностранных клиентов. И ценность жизни их пациентов была константой, а не определялась их платежеспособным спросом.
А сегодня первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон утверждает: «Государство практически уже не в состоянии наращивать свои усилия в здравоохранении — не хватает и средств, и менеджерских усилий. Частное здравоохранение необходимо прежде всего самой государственной системе — для развития конкуренции и повышения качества».
Красноречивое признание реформаторов здравоохранения. А официальная «Российская газета» внушает читателям мысль, что государственное здравоохранение в принципе недееспособно, а Российская Федерация не имеет средств его обеспечить. Это — демагогия.
В. Мау откровенно предлагает изъять из национальной системы здравоохранения России лучшие клиники и медицинские центры и сделать их частью глобального рынка платных услуг. Остальная часть будет прозябать на медные пятаки пациентов и за счет благотворительности. Так и сказано: «Массовое здравоохранение с простыми случаями заболеваний вполне может быть предметом частных расходов семей (или частного медицинского страхования)».
И даже сам В. Мау как-то застенчиво признал, что «этот подход можно считать элитарным, противоречащим принципам социальной справедливости». Да уж…
Остановимся кратко на утопии создания в России рынка медицинских услуг на основе частного бизнеса по западным образцам. Эта «модернизация» не только игнорирует экономическую и культурную реальность современной России и ее перспективы, но и ложно представляет обществу реальность западной системы, которую якобы предполагается скопировать.
Прежде всего посмотрим на фактические результаты двадцатилетнего эксперимента по переходу к «рынку услуг». Новая жизнеспособная социальная форма, тем более при поддержке власти и СМИ, расцвела бы за пять лет, даже несмотря на противоречия первого этапа (как, например, было с колхозами). Но сделанные в начале реформы прогнозы, согласно которым частные медицинские учреждения могут стать в России реальной альтернативой для государственной системы здравоохранения, оказались ошибочными. Декларации, что частный капитал, на рыночных основаниях, позаботится о системе медицинского обслуживания, ни на чем не были основаны. Никогда и нигде в моменты серьезных кризисов частный бизнес не брал на себя заботу о социальной сфере, ибо эта забота по определению не может быть прибыльной в широких масштабах, пока не нарастет толстый слой среднего класса. Подчинение этой сферы рыночным механизмам многократно увеличивает затраты и населения, и государства, а в России с финансами неважно у обоих этих субъектов.
Реально, в РФ в 2006 г. в частных больничных учреждениях находилось 0,3% всего фонда больничных коек, а в сельской местности — всего 0,1% от общего числа коек. Мощность частных АПУ (выраженная в числе посещений в смену) составила в 2010 г. 4% от общей по России. В негосударственных медицинских учреждениях в 1994 г. работали всего 0,63% врачей, практикующих в РФ; к 1999 г. эта доля выросла до 1,42%.167
Единственной отраслью медицины, в которой частный сектор оказывает значительную долю услуг, является стоматология. Здесь для бизнеса были созданы максимально благоприятные условия — резко сокращена сеть отделений поликлиник и зубоврачебных кабинетов в школах, на предприятиях и в сельской местности (с 10 тыс. в 2000 г. до 6,9 тыс. в 2006 г.). Сокращалось и число зубопротезных отделений (кабинетов) в системе Минздравсоцразвития — оно составляло в 1995 г. 3,77 тыс., а в 2010 г. — 2,32 тыс.
И как же в результате обеспечено население стоматологической помощью?
Прежде всего резко сократился охват населения профилактическими осмотрами, которые позволяли получить помощь стоматолога на ранней стадии болезни: в 2010 г. стоматологи осмотрели в порядке профилактики 12,3% населения, а среди подростков и взрослых — 7,5%. При этом оказалось, что из осмотренных подростков и взрослых 56,8% уже нуждались в лечении. Фактически, более чем для 90% населения в возрасте старше 14 лет перестали применяться методы упреждения болезни, т. е. охраны здоровья; в системе стоматологической медицинской помощи произошел кардинальный сдвиг к лечению болезни.
Сокращение участия государства в оказании стоматологической помощи уже нанесло здоровью населения тяжелый ущерб — оплатить услугу в частной клинике могут 20-25% населения, а 70-80% не в состоянии платить за лечение зубов, а тем более за протезирование. Согласно Государственному докладу о состоянии здоровья населения РФ в 2005 г., на тот момент свыше 80% населения в возрасте 20-60 лет нуждалось в протезировании зубов. Однако ортопедическая стоматологическая помощь была доступна лишь 5-10% населения страны.
С тех пор доступность этой помощи неуклонно снижается — цены на эти услуги обгоняют рост доходов. Численность лиц, получивших зубные протезы, еще в 1995 г. составила 3,18 млн человек, в 2000 г. — 2,6 млн и в 2010 г. — 1,86 млн человек.
Все это наглядно показывает, что частный сектор в медицине реально не оказывает на здоровье населения России почти никакого влияния. Поэтому платные услуги начал предоставлять не столько частный, сколько государственный сектор — после 2000 г. с ускорением производится коммерциализация государственных медицинских учреждений. Если в 2000 г. расходы населения на платные медицинские услуги составили 27,4 млрд руб., то к 2010 г. эти расходы достигли 244,4 млрд руб., причем без большого расширения частного сектора.
Как сказано в «Государственном докладе о состоянии здоровья населения РФ» (2005 г.), медицинские учреждения произвели разделение потоков «платных» и «бесплатных» пациентов по месту и времени — так, чтобы разные категории пациентов не входили в контакт. Обоснование такой сегрегационной меры дается очень туманное («чтобы избежать злоупотреблений»). Так или иначе, в системе здравоохранения началось реальное разделение граждан по принципу платежеспособности. С равенством граждан перед лицом болезни формально покончено даже в лоне государственной системы.
Это — фундаментальное изменение, исторический выбор, переход (или пока что попытка перехода) на иную цивилизационную траекторию. Министры здравоохранения и их эксперты об этой стороне дела не говорят, все сводят к техническим вопросам; но надо вникнуть в суть этого поворота. Речь идет об отказе от здравоохранения, которое обеспечивало воспроизводство жизни всего населения России, не разделяя его на избранных и отверженных в зависимости от платежеспособности. Это была система национальная, солидарного типа. А смысл разделения людей перед лицом болезни был сформулирован еще во времена позднего Средневековья. Классовый антагонизм возник (т. е. был осознан) в Европе во время первых эпидемий чумы.
Историки (Ф. Бродель) относят возникновение упорной классовой ненависти к периоду Возрождения. Возникла эта ненависть не из-за разделения людей по доступу к материальным благам, а из-за сегрегации по отношению к болезни. Именно это было воспринято как разрыв с идеей религиозного братства — разрыв не социальный, а экзистенциальный. Тогда в больших городах Европы при первых признаках чумы богатые выезжали на свои загородные виллы, а бедные оставались в зараженном городе, как в осаде (но при хорошем снабжении во избежание бунта). Происходило «социальное истребление» бедняков. По окончании эпидемии богачи сначала вселяли в свой дом на несколько недель беднячку-«испытательницу».
Россия избежала такого классового разделения народа, а его вторжение в российскую действительность в конце ХIX в. вскоре привело к революции. И вот теперь такое разделение производит сама государственная власть. Что же нас ждет в конце этого тоннеля? Угроза для нас велика, отказ от здравоохранения и сдвиг к покупке медицинских услуг — ложная рыночная утопия, которая уничтожает великое достижение цивилизации и социального государства.
Если реализация этой утопии заходит далеко, право на здоровье стягивается к небольшому богатому меньшинству. А строго говоря, после некоторого порога этого права не остается ни у кого. В Западной Европе уже сейчас богатые люди, заболев серьезно, обращаются к государственной системе социального здравоохранения — сидят в очереди в поликлинике, ложатся в общую палату в больнице. Потому что только эта, организованная государством, коммунальная система обладает возможностью создать и содержать целостную научно-техническую, информационную и организационную основу современной медицины. Эта медицина представляет сегодня огромную отрасль, даже точнее — межотраслевую сферу типа ракетно-космической отрасли, которую содержать может только государство или союз государств. Частные фирмы и госпитали в такой медицине могут быть лишь миноритарными элементами этой системы, работая в симбиозе с государством.
Российские экономисты и политики, предлагающие перевести здравоохранение с государственного финансирования на сбор средств через страхование (работодателями и самими «потребителями услуг»), замалчивают тот факт, что одним из важнейших результатов кризиса в США стал кризис страховой частной медицины. А ведь именно эта модель здравоохранения считается наиболее желанной в российском правительстве. Они как будто не замечают важное обстоятельство: страховой медицинский полис в этой модели есть финансовый документ, ценная бумага того, кто страхует здоровье. К чему привели обвал фондовых рынков США и банкротства крупных банков и корпораций? К социальному бедствию — обесцениванию страховых полисов. Но ведь нынешняя Россия становится все более и более уязвимой для таких кризисов: это показал опыт 2008-2010 гг.
Н. Хомский в этом видит третий главный срез кризиса США, наряду с кризисом финансовой и производственной системы. Он пишет: «Таинственным монстром является система медицинского обеспечения, не только безнадежно неэффективная, но к тому же очень жестокая. Огромное число людей просто не получает медицинского обслуживания.
Доступ к медицинскому обслуживанию в США определяется состоянием, а не потребностью… Около 50 миллионов американцев не имеют никакой медицинской страховки, а медицинские страховки десятков миллионов других не покрывают их нужды.
Наша система медицинского обслуживания приватизирована — в единственной стране промышленно развитого мира. Она обходится в два раза дороже, чем в других развитых странах, и дает самые худшие результаты.
Если ваше медицинское обслуживание привязано к работе, скажем, в “Дженерал Моторс”, а “GM” оказывается банкротом, банкротом оказывается и ваша медицинская страховка. Это порождает беспокойство и неуверенность. Большинство американцев десятилетиями мечтают о национальной системе здравоохранения, однако им привычно заявляют, что это политически невозможно» [10].
Сейчас, когда российским обществом тоже овладели беспокойство и неуверенность, логично было бы спросить правительство, зачем оно с такой настойчивостью стремится заменить кризисоустойчивую государственную систему здравоохранения на пресловутую «страховую медицину»?
Пусть горстка богачей построит себе роскошные больницы и хосписы, хоть в Куршевеле. Но не ломайте ту систему, которая за сто лет сложилась в России и которая лечит 99% жителей страны! Улучшить ее будет гораздо гуманнее, и стоить это будет гораздо дешевле, чем имитировать американский бизнес на болезнях.
Разве не странно — брать за пример модель США, которая вызывает столько нареканий и России совершенно не по карману? Систему продажи медицинских услуг, заменившую в США систему здравоохранения, сами же американцы считают неэффективной и жестокой. Обаму избрали президентом именно за обещание ее изменить. Зачем вы это тащите в Россию? Ответьте внятно!
Куда ведет система ОМС?
Поэтапная коммерциализация деятельности государственных лечебных учреждений заставила по-другому воспринимать смысл страховой медицины.
С. Соколов пишет: «Приведите примеры лечебно-профилактических учреждений, “процветающих” в системе ОМС. Необходимо посетить любую муниципальную больницу, переговорить с врачами и сравнить, что было и что есть сейчас. Маленький пример: Красавинская районная больница № 1, территория обслуживания — 10 тыс. человек, великолепная материально-техническая база и… полный разгром! Коечный фонд больницы урезан больше чем втрое, прекращен прием врача-инфекциониста, закрыты остатки детского отделения. На его базе организовано отделение коек сестринского ухода для бесхозных бабушек и бомжей. Закрыты эндоскопический кабинет, стоматологическая поликлиника, муниципальной стоматологии больше нет, в 2008 г. уволился последний стоматолог-терапевт. А совсем недавно здесь работало 5 стоматологов, профосмотры в школах и детских садах делали, зубы детям санировали. Сейчас милости просим к платному стоматологу, 4 пломбы — месячная зарплата медсестры. С 25 декабря 2009 г. закрыто родильное отделение. Это забота о материнстве и детстве? Хирургическое отделение на 8 койко-днях и терапевтическое отделение на 10 койко-днях с 2010 г. обречены. План нереален, и выполнять мы его не собираемся. Ломать — не строить!» [17].
При обсуждении финансирования здравоохранения через ОМС некоторые врачи предполагают, что ОМС — это шаг к дальнейшему свертыванию государственной сети лечебных учреждений. На форуме врачей-ортопедов один из собеседников писал: «Добьет существующую государственную систему новый закон об ОМС, в котором предполагается участие в оказании помощи по ОМС коммерческих медицинских организаций. Принцип, я думаю, будет следующий: допустим, услуга по ОМС стоит 150 р. (консультация), а в частной организации она стоит 300 р. Пациент оплачивает в кассу 150 р., а остальные 150 оплачивает страховая компания. Таким образом, поток пациентов в частные структуры увеличится, а в государственные — уменьшится. Это будет еще один гвоздь в крышку гроба» [9].
Но дело даже не в том, что частный врач, приглашая пациентов лечиться «бесплатно» за счет фонда ОМС, одновременно возьмет с пациента деньги за дополнительную услугу сверх стандарта. Главное в том, что из средств фонда, собранного из обязательных страховых взносов, в принципе должна финансироваться вся национальная система народного здравоохранения, а частный врач использует полученный гонорар на личное потребление и содержание своего кустарного кабинета.
На форумах представителей частной медицины (например, Ассоциации частных клиник) нередко делаются предложения гражданам «обращаться за помощью в частные медучреждения, работающие по программам ОМС, на условии соплатежей или подключения полисов добровольного медицинского страхования. То есть часть помощи за вас оплачивает система ОМС, либо вы лично». Эксперты НИУ «Высшая школа экономики» уже подготовили Дорожную карту под названием «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере». Лоббирование частной медицины ведут и эксперты Совета Федерации.
А. Элинсон, член экспертного совета по здравоохранению комитета Совета Федерации по социальной политике, заявил в «РБК daily» (24.08.2012): «Бесплатные лечебные учреждения сейчас перегружены пациентами, они испытывают острый недостаток квалифицированного персонала, диагностической и терапевтической техники, лекарств. В то же время частные клиники готовы работать с более мощным потоком пациентов, чем есть сейчас. Уровень сервиса и скорость обслуживания в частных клиниках на порядок выше, кроме того, частные клиники ведут активную кадровую политику.
Партнерство государства с частными клиниками позволит решить целый комплекс проблем. Прежде всего, в бесплатных учреждениях сократятся очереди. Далее, приток пациентов в частные клиники стимулирует развитие рынка платной медицины. В настоящий момент рынок только начинает развиваться, доля самых крупных компаний составляет не более 1% рынка».
При этом эксперт не может не знать, что «бесплатные лечебные учреждения перегружены пациентами и испытывают острый недостаток квалифицированного персонала» именно потому, что в государственных лечебных учреждениях на треть сократили число коек, а число больниц — вдвое. Государство передает пациентов частному капиталу — вместе с их страховыми взносами.
Вот что пишет «Российская газета»: «Количество частных медицинских организаций, которые вошли в программу обязательного медицинского страхования и принимают застрахованных пациентов бесплатно, выросло до 1655, более чем вдвое за три года, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова… В 2013 году тарифы существенно выросли, и многие частные клиники открыли двери для пациентов, лечение которых оплачивает ФОМС.
“Мы в два раза увеличили количество частных медицинских учреждений, работающих по программе госгарантий. На будущий год зарегистрировалось еще большее количество. Им это стало выгодно. Уже 17,5 процента от всех медицинских организаций, оказывающих бесплатную помощь по полисам ОМС, — это частные организации”, — сообщила сегодня министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Теперь достаточно большое количество коммерческих клиник готовы работать в первичном звене — оказывая амбулаторную помощь. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области отрабатывается пилотный проект, по которому в микрорайонах, где пока нет поликлиники в шаговой доступности, открывают кабинеты частнопрактикующие врачи. “Конечно, для основной диагностики и лечения у специалистов больным придется все равно обращаться в поликлинику, но для первичной консультации доктор, который находится в соседнем доме — это удобно, это повышает доступность и качество медицинской помощи”, — пояснила Стадченко [председатель ФОМС]» [20].
Надо отметить поразительный факт: программа разгосударствления и коммерциализации здравоохранения идет под знаменем демократии и свободы. Казалось бы, купи страховку — и ты свободен, лечись в частной больнице, как в США! Зачем при этом демонтировать огромную систему, которую строили целый век?
А каково общественное мнение по этой проблеме? Хотят ли граждане этой свободы? Это редкий случай, когда даже богатые отвергают вторжение частного бизнеса в медицину. Во время опроса в октябре 2006 г. только 1,4% опрошенных высказались за то, чтобы медицинские услуги предоставляли частные организации, а за исключительно государственное здравоохранение — 60,6%. Еще 22,6% допускают частно-государственное партнерство на равных.
Каковы последствия двадцатилетнего реформирования российского здравоохранения?
Представим их крупными мазками, которые в совокупности дадут грубую, но достаточно верную картину.
Своим реформированием правительство уже довело Россию до «беспрецедентного для современного уровня здравоохранения показателя смертности». Этот рост продолжался до 2005 г. (табл. 1). В 2008 г. он был в два раза выше среднемирового показателя! Продолжительность жизни в «новейшей России» сократилась на 4 года. В обзоре (2009 г.) сказано: «Психоэмоциональные стрессы, разваливающаяся система здравоохранения, коммерциализация медицинских услуг на фоне низкой покупательной способности сыграли свою роль в сокращении продолжительности жизни россиян».
Таблица 1
Число умерших в РСФСР и РФ, тыс. человек
Государственный доклад «О состоянии здоровья населения Российской Федерации в 1999 году» (М., 2000) констатирует: «Непосредственными причинами ранних смертей является плохое, несбалансированное питание, ведущее к физиологическим изменениям и потере иммунитета, тяжелый стресс и недоступность медицинской помощи».
В этой формуле медицинская помощь — лишь элемент, а в целом говорится именно о здравоохранении. Врачи сами по себе не могли защитить население от стресса или потери иммунитета, но они могли бы в благоприятных условиях предупредить государство и общество о тех угрозах, которые таила в себе сама доктрина реформ, которую выбрало правительство. Ведь такое предупреждение — важный элемент здравоохранения. Этот элемент уже в годы перестройки, а затем в начале 1990-х гг. был уничтожен политическими средствами, в частности, кампанией дискредитации врачей и здравоохранения.
Обсуждая эту проблему, президент Общественного совета по защите прав пациентов А. Саверский сказал: «Рост смертности и снижение рождаемости были вызваны огромным социальным стрессом и развалом одной из лучших систем здравоохранения в мире. По статистике Всемирной организации здравоохранения, Советский Союз занимал 22-е место в мире по качеству медицинской помощи. А США, что тогда, что сейчас, занимают лишь 37-ю строчку в мире» [15].
Главной причиной смертей в РФ являются болезни системы кровообращения. Среди факторов, которые приводят к этим болезням, главенствует артериальная гипертония. Частота ее возникновения, особенно в детском, молодом и трудоспособном возрасте, резко возросла в ходе реформы. В цитированном Государственном докладе на этот счет сказано:
«Причиной ухудшения эпидемиологической ситуации по артериальной гипертонии в России за последнее время является одновременное воздействие комплекса крайне неблагоприятных социальных факторов, являющихся источником стрессовых напряжений и факторами риска возникновения артериальной гипертонии: падение жизненного уровня большей части населения, психологическая неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие механизмов, стимулирующих граждан к поддержанию достаточного уровня своего здоровья, снижение у большинства населения возможностей организации адекватного отдыха, занятий физической культурой и спортом, распространение курения, алкоголизма, наркомании.
Неблагоприятная ситуация усугубляется недостаточной работой органов и учреждений здравоохранения по снижению распространенности артериальной гипертонии… В последние годы резко снизились объемы профилактической работы, ориентированной прежде всего на организованные коллективы, количество которых из-за экономического спада и проводимой реструктуризации промышленных предприятий значительно уменьшилось… Несвоевременная диагностика и неэффективное лечение приводят к развитию тяжелых форм артериальной гипертонии и обусловленных ею сердечно-сосудистых заболеваний».
Важным показателем воздействия реформы на здоровье населения стала вспышка заболеваемости «социальной» болезнью — туберкулезом. В 1990 г. на 100 тыс. населения было 34,2 случая заболевания активным туберкулезом с впервые установленным диагнозом, в 2000 г. таких случаев было 89,8 и в 2010 г. — 76,9. В 2000 г. у 45,9% больных с диагнозом «туберкулез органов дыхания» отмечалась болезнь в фазе распада, в 2010 г. — у 42,7%.
Уже в Государственном докладе «О состоянии здоровья населения Российской Федерации в 1992 году» говорится: «Рост заболеваемости наблюдается при значительном и почти повсеместном сокращении охвата населения профилактическими обследованиями на туберкулез; последнее в значительной мере объясняется дороговизной и перебоями в снабжении рентгенофлюорографической пленкой, реактивами, бактериальными препаратами, мединструментарием…
В 1992 г. положение с выявлением туберкулеза усугубилось в связи с тем, что все виды профосмотров, в том числе и на туберкулез, стали осуществляться не из средств госбюджета, а за счет предприятий, учреждений и личных средств граждан. В условиях снижения уровня жизни населения возникает реальная угроза эпидемических вспышек туберкулеза на различных территориях страны.
Вместе с тем, из-за недостаточного финансирования четко отлаженная и эффективно проводимая ранее система централизованного управления и контроля за деятельностью туберкулезных учреждений в части профилактики, выявления, диагностики и лечения туберкулеза практически перестает функционировать».
В этом официальном документе определенно сказано, что «практически перестает функционировать» имевшаяся в стране до реформы четко отлаженная и эффективная система, и это происходит в результате тех изменений в социально-экономической обстановке, которые вызваны реформой.
Прошло 7 лет, и в упомянутом выше Государственном докладе 2000 г. сказано о причинах вспышки туберкулеза, относящихся к здравоохранению: «В 1999 году в России эпидемиологическая обстановка по туберкулезу продолжала ухудшаться. Почти все показатели, характеризующие уровень противотуберкулезной помощи населению, снизились. В целом ситуацию с туберкулезом следует оценить как крайне напряженную… Максимальный уровень заболеваемости населения туберкулезом зарегистрирован в возрастной группе 25-34 года (155 на 100 000)».
Можно ли устранить эти причины при помощи обязательного страхования, платности медицинских услуг или даже компьютерной томографии? Нет, потому что остановить эту лавину может только здравоохранение, а не рынок услуг.
Одним из главных ухудшений в оказании противотуберкулезной помощи населению стало резкое сокращение массовых медицинских обследований работников (диспансеризации), которые были важным направлением советской профилактической медицины. Согласно новому законодательству, профилактические медицинские осмотры должны были финансироваться за счет средств ОМС (обязательного медицинского страхования). Однако в Программе РФ по ОМС такие осмотры не были предусмотрены, и средств на них реально не выделялось. Это сразу сказалось на здоровье населения, что красноречиво показывают данные по заболеваемости туберкулезом.
Не менее красноречивым социальным результатом реформы стала и небывалая вспышка заболеваемости венерическими болезнями.
Так, заболеваемость сифилисом выросла с 1990 г. по 1997 г. в 50 раз. Затем этот показатель, если судить по статистике, пошел на убыль, но все равно остается на исключительно высоком уровне. В «Государственном докладе» за 1999 г. сказано: «Среди причин, приведших к увеличению заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, следует указать, прежде всего, на происшедшие изменения социально-экономических отношений, приведших к расслоению населения, повлиявших на поведенческие, в том числе сексуальные, реакции людей.
Рост числа зарегистрированных больных также зависит от недостаточности первичной профилактики среди широких слоев населения, особенно среди подрастающего поколения, что зависит от слабого финансирования этой работы. Вместе с тем необходимо отметить, что регистрируемый уровень инфекций, передаваемых половым путем, не отражает истинной заболеваемости населения страны, так как коммерческие структуры и организации, а также частнопрактикующие врачи не заинтересованы (в основном по финансовым соображениям) в полной регистрации и сообщении сведений в органы здравоохранения о числе принятых ими больных».
Таким образом, в официальном документе подчеркивается, что в результате реформы не просто резко изменилась реальная эпидемиологическая обстановка, но и были созданы условия, толкающие к сокрытию истинной заболеваемости населения. Это, в свою очередь, само становится фактором, ухудшающим положение. В то же время, ухудшилось положение с выявлением источников заражения. В 1990 г. по 60,2% случаев впервые установленного заболевания сифилисом были выявлены и привлечены к лечению лица, ставшие источником заражения; в 2004 г. — 20,2% и в 2006 г. — 20,7%.
Это — пример деградации здравоохранения, которая никак не сказывается на предоставлении услуг, а даже способствует развитию частного бизнеса. Больные сифилисом не выявляются, не регистрируются, а многие из них и не лечатся, а заражают новых и новых «потребителей услуг». Здесь медицина переплетается с работой школы, СМИ, МВД — здравоохранение и есть их общая миссия.
Социолог-криминалист пишет: «Телевизионная и Интернетпропаганда насилия, всякого рода пороков, снижение нравственных барьеров “взрослого” общества способствовали развитию и такого явления как детская и подростковая проституция. По данным социологических исследований, проституцией занимается 5,7% опрошенных в возрасте 12-22 лет. Если в 1991 г. средний возраст, в котором молодежь начинала сексуальную жизнь, составлял 16,3 года, в 1996 г. — 15,4, то в 2001 г. — 14,3 года» [13].
Но уже в самом начале реформы положение было таково: «Чаще других среди проституток преобладают представительницы сферы обслуживания, а также студентки вузов, учащиеся техникумов и ПТУ, школьницы… Ежегодно от проституток заражается свыше 350 тыс. мужчин. Более 1/3 проституток перенесли венерические заболевания, причем некоторые из них по два, три и более раз. Наблюдается рост венерических заболеваний от 20 до 200% в различных регионах страны, в основном у несовершеннолетних… Так, в Новосибирской области 16-летняя проститутка-“дальнобойщица” за короткое время заразила сифилисом 27 водителей» [14].
Реформа здравоохранения, порождающая тревогу неопределенностью своих последствий для большинства населения, ухудшает социально-психологическое настроение граждан, и так уже усугубленное новым витком кризиса. Но и до кризиса 2008 г. это настроение было проникнуто пессимизмом.
В выводах исследования «Влияние поведенческих факторов на состояние здоровья населения» (Росстат при участии Минздравсоцразвития России, Росспорта, Института социальных исследований; 2008 г.) сказано: «Наличие социально-психологических стрессов, которые могут провоцировать дезадаптацию личности, отклоняющееся поведение, угнетающе воздействовать на физическое и психическое состояние людей, выявлялось по показателям состояния тревожности респондентов, их беспокойства по поводу социальных рисков, возникновения чувства одиночества и угнетенности.
В результате исследования установлено, что чувство очень большой или большой тревоги по поводу неопределенности своего будущего испытывают 71,9% респондентов. Судя по данным многолетних опросов населения, проводимых Социологическим центром РАГС по общенациональной репрезентативной выборке, состояние неуверенности многих людей в завтрашнем дне приобрело хронический характер (табл. 2).
Таблица 2
Распространенность тревог в связи с неясностью будущего, %
Данные опроса дают веские основания для вывода о том, что главным источником стрессов является социальная неустроенность» [12].
Вот и объяснили бы министры и их советники, как они создали такую обстановку в стране и как может ее исправить коммерциализация здравоохранения.
Тяжелый стресс, вызванный реформой, сказался и на психическом здоровье населения. В «Государственном докладе» за 1999 г. сказано: «В целом в состоянии психического здоровья и психиатрической службы сохраняются негативные тенденции… По данным эпидемиологических исследований, проведенных в последние годы НЦПЗ РАМН, а также в результате экспертной оценки установлено, что примерно у 1/3 населения России, т. е. приблизительно у 52,5 млн человек имеются психические расстройства различной степени».
В 2005 г. на конференции «Медико-социальные приоритеты сохранения здоровья населения России в 2004-2010 гг.» директор ГНЦ им. Сербского, бывший министр здравоохранения РФ Т. Дмитриева сообщила, что уровень психических расстройств с начала 1990-х гг. увеличился в 11,5 раз. Доля освобожденных от призыва по соответствующим показателям составляет 22,4% от общего числа призывников. Растут и смертность, и число тяжелых заболеваний, связанных с психическими расстройствами. В частности, 80% инсультов в стране происходят на фоне депрессий.
Особая группа риска — дети и подростки. На их здоровье реформа сказалась самым страшным образом — от социального бедствия их организм и психика страдают сильнее, чем у взрослых. Вот представление этого процесса. В Государственном докладе 1999 г. отмечено: «Ухудшающееся состояние здоровья детей обуславливает нарастание инвалидизации детского населения». В 2005 г. уровень детской инвалидности составил 205 на 10 тыс. детей в возрасте до 16 лет (1995 г. — 119,3). Таким образом, произошло пятикратное увеличение уровня детской инвалидности: в 1990 г. в РСФСР на 10 тыс. детей было 38,6 инвалидов.
Приведем еще некоторые выдержки из цитируемого доклада: «Число здоровых дошкольников за последние годы уменьшилось в 5 раз, и при поступлении в школу их количество не превышает 10%… Отмечено увеличение до 26,5% детей с дисгармоническим и резко дисгармоническим развитием. Число неготовых к систематическому обучению детей увеличилось в 5 раз».
Кризис здравоохранения, вызванный реформой, сильнее всего ударил по обедневшей части населения, и кризис этот углубляется, поскольку иссякает запас прочности унаследованной от СССР системы. Люди с низкими доходами болеют вдвое чаще и тяжелее, чем зажиточные граждане (табл. 3). На них сильнее всего надавит бремя коммерциализации здравоохранения. Уже и сейчас очень большая часть граждан перестала обращаться к врачу и занимается самолечением. Из числа опрошенных 62,7% предпочитают лечиться самостоятельно, применяя лекарства и «народные» средства. Из них даже при заболевании только 37,3% прибегают к врачебной помощи [12].
Таблица 3
Заболеваемость в группах с разным уровнем доходов, %
Особые отношения со здравоохранением сложились у категории граждан, находящихся в состоянии социального бедствия — депривации. В России к 1996 г. образовалось «социальное дно», составлявшее около 10% городского населения или 11 млн человек. В состав его входят нищие, бездомные, уличные проститутки и беспризорные дети. Отверженные выброшены из общества — о них не говорят, их проблемами занимается лишь МВД, их не считают ближними. Этим людям де-факто отказано в праве на медицинскую помощь. Они не имеют полиса, поскольку не зарегистрированы по месту жительства. Ну и что? Государство обязано лечить их просто как людей, а не квартиросъемщиков.
Это их конституционное право, записанное в ст. 41 Конституции РФ. При этом практически все бездомные больны, их надо прежде всего лечить, класть в больницы. Больны и 70% беспризорников. Им не нужны томографы за миллион долларов, им нужна теплая постель, заботливый врач и антибиотики отечественного производства — но именно этих простых вещей им не дают. Где в приоритетном Национальном проекте в области медицины раздел о лечении этих детей?
Предполагает ли правительство принять в этой сфере какие-то специальные меры, чтобы облегчить положение именно бедной части населения?
Переход от здравоохранения к продаже медицинских услуг
Медленно привыкают люди к новым порядкам — их внедрение стараются не форсировать. Но в прессе все чаще и чаще им об этом напоминают, и рано или поздно все привыкнут. Вот типичный репортаж: «С января 2013 года медицинская помощь в России уже фактически стала платной. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1006 от 4 октября 2012 “Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг” гражданин должен платить за “самостоятельное обращение” за помощью. А это любой поход к врачу-специалисту без направления от терапевта.
“Постановление фактически означает платность любого лечения. Ожидаю социального взрыва. Только представьте себе: люди приходят в поликлиники, а им говорят — вот касса, или сидите в очереди к терапевту, а терапевты-то с этим справятся?” — говорит президент “Лиги защитников пациентов” А. Саверский.
Еще одно достижение финансовой части реформы здравоохранения: в соответствии с тем же Постановлением Правительства от 4 октября 2012 года медучреждение вправе брать деньги, если человек лечится “на иных условиях”, чем предусмотрено в государственных, территориальных или целевых программах лечения. Стоит доктору немного отклониться от утвержденного Минздравом стандарта медицинской помощи — и пациент тут же “имеет право” оплатить лечение…
Еще в 2011 году эксперты предупреждали: “право гражданина” заплатить за медицинскую помощь и деление помощи врача на “обязательную” и “дополнительную” приведут лишь к одному — медицина станет платной. Правда, никто не предполагал, что Правительство издаст Постановление, в котором обяжет людей платить за посещение любого врача, не являющегося терапевтом. Люди считали: плату за лечение будут требовать лишь периодические — ссылаясь на расплывчатые формулировки закона» [11].
Иногда СМИ даже перегибают палку — пугают людей, а потом все оказывается не так страшно. Вот сообщение о предупреждении Т. Голиковой: «Качество и доступность медицинских услуг, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, может резко ухудшиться с 1 января 2014 г., предупредила, выступая в Госдуме, глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова. По ее словам, это связано с тем, что действующим законодательством предусматривается перевод финансирования расходов на здравоохранение из федерального бюджета в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). “Еще одна важная тема — расходы на здравоохранение. В отличие от других статей бюджета, они значительно уменьшаются”, — сказала она, отметив, что механизмы не созданы и нет понимания, как будет осуществляться перевод расходов здравоохранения из федерального бюджета в ФОМС.
“Если соответствующие системы и механизмы не будут созданы, то с 1 января 2014 г. качество и доступность медицинских услуг будут резко снижаться в федеральных учреждениях. Особенно это касается столичных регионов”, — сказала Т. Голикова, занимавшая в 2007-2012 гг. пост министра здравоохранения и социального развития РФ» [16].
Чтобы как-то узаконить разделение медицинской помощи на бесплатную и дополнительную, Минздрав стал создавать исключительно сложную бюрократическую систему стандартизации медицинских услуг.
В Послании 2004 г. Федеральному собранию Президент России сказал: «Главная цель модернизации российского здравоохранения — повышение доступности и качества медицинской помощи для широких слоев населения. Из этого прежде всего следует, что гарантии бесплатной медицинской помощи должны быть общеизвестны и понятны… По каждому заболеванию должны быть выработаны и утверждены стандарты медицинских услуг — с обязательным перечнем лечебно-диагностических процедур и лекарств, а также — с минимальными требованиями к условиям оказания медпомощи. Детализация стандартов дает возможность посчитать реальную стоимость этих услуг и перейти от сметного принципа содержания медицинских учреждений к оплате за оказанный объем и качество медицинской помощи. Причем, такая оплата должна производиться в соответствии с принципами обязательного страхования».
Из этого рассуждения следует, во-первых, что цель правительства — «повышение доступности медицинской помощи для широких слоев населения». Это — важное изменение, поскольку в 1990-е гг., по инерции, говорили о праве на медицинскую помощь для всего населения, а не его слоев. Судя по всему, бедные попадают в те «неширокие» слои населения, для которых врач будет становиться все менее и менее доступным.
Второй вывод таков. Власть предполагает сделать здравоохранение доступным, хотя бы для широких слоев, не с помощью бюджетного финансирования отрасли, а посредством стандартизации медицинских услуг по каждому заболеванию! В этом есть нечто иррациональное. Как могут бумаги с надписью «Стандарт» заменить врача, больницу, лекарства? Что значит «обязательное страхование», из средств которого будет оплачиваться счет за все стандартные услуги, оказанные безработному человеку без постоянного дохода?
Как можно требовать перехода здравоохранения целиком на финансирование через обязательное страхование, если большинство регионов не исполняют свои обязанности по перечислению средств в Фонд страхования? В результате обязательное страхование неработающих граждан покрывает только 40% необходимых затрат на их лечение, а в России 82,9 млн человек — неработающие.168 Соответственно, в большинстве регионов имеет место хроническое недофинансирование лечебных учреждений. Вот сообщение прессы: «В июле 2013 г. президент России Владимир Путин заявил на заседании президиума Госсовета, что 54-м регионам РФ недостает более 120 млрд руб. на организацию бесплатной медицинской помощи. Глава государства отметил, что по сравнению с прошлым годом, когда в 66 регионах дефицит составил 164 млрд руб., ситуация несколько улучшилась, однако серьезные проблемы все еще остаются. “Если в региональных программах гарантируется определенный набор услуг, но средства на это не выделяются, значит, никаких гарантий нет”, — подчеркнул он» [16].
Итак, «никаких гарантий нет» — такие уж у нас регионы, а государство за них не отвечает. Все это надо понимать так, что доступность медицинской помощи для обедневшей части населения и дальше будет снижаться.
В Отчете Правительства РФ перед Государственной думой в 2010 г. было сказано, что правительство в сфере страховой медицины добивается «прежде всего… четкого определения объемов финансового обеспечения госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи на основе единых стандартов и подходов».
Это утверждение трудно понять, а тем более объяснить. Как может «госгарантия оказания бесплатной медицинской помощи» базироваться «на основе единых стандартов и подходов»? Медицинская помощь по определению должна соответствовать конкретному заболеванию конкретного пациента. Судя по утверждению, правительство озабочено не тем, чтобы врачи лечили болезнь, а чтобы они расходовали полагающийся «объем финансового обеспечения госгарантий». При этом теряет смысл само понятие здравоохранение. Разве охранение здоровья от болезни исходит из лимитов, выведенных на основе единых стандартов? Здравоохранение — система коммунальная, а не индивидуальный рацион услуг. Если бы каждый требовал положенную ему по единому стандарту сумму, то большинство тяжелобольных, которым требуются дорогие лекарства, сразу умерли бы.
Было также сказано, что новый порядок «даст возможность оказывать медицинскую помощь людям в строгом соответствии с государственными стандартами». Невозможно понять логику столь необычного намерения правительства. Принцип здравоохранения — оказывать медицинскую помощь «в строгом соответствии с медицинскими показаниями», а не умозрительными стандартами, составленными чиновниками министерства. Ведь почти очевидно, что все эти стандарты не могут быть эффективным инструментом в лечении. Они не для этого созданы! Они лишь дают грубые ориентиры для привязки структуры распределения средств в соответствии со структурой заболеваемости.
В ходе интервью президента Общественного совета по защите прав пациентов А. Саверского журналист «Свободной прессы» сказал, что «11 марта [2013 г.] премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что очень часто врачи в медучреждениях требуют плату за те услуги, которые должны оказывать совершенно бесплатно».
Ответ был таков: «В реальности ситуация в здравоохранении сегодня куда хуже, чем ее представляет себе премьер-министр. В перечне бесплатных услуг не могут разобраться даже врачи. Что уж говорить о пациентах? В общем перечне в числе бесплатных услуг числятся десятки тысяч наименований. Только для того, чтобы поставить зубную пломбу, может потребоваться не менее 10 разных операций: обезболивание, удаление нерва и т. п. Находясь в зависимом положении, когда пациент в больном виде обращается за помощью, как он будет разбираться в списке платных и бесплатных услуг? Пациент не может понять, нужна ему или нет та помощь, которую предписывают. Может из него просто деньги хотят выкачать? Совершенно смешно думать, что поручение навести порядок, которое Медведев недавно дал Минздраву, может исправить ситуацию! Оно же попросту нерабочее…
Представьте, Минздрав должен определить объем бесплатной медицинской помощи, который входит в базовую программу госгарантий. То есть возникает вопрос: какая помощь достаточна, а какая сверх нее? Но это же бред! Надо оказывать всю необходимую помощь!.. Давайте вспомним статью 41 Конституции РФ: “Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. Там прямо говорится, что всем гражданам обязаны оказывать бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных больницах. В городских и муниципальных учреждениях — все бесплатно, в частных клиниках — за деньги. Премьер-министр, являясь юристом, должен это прекрасно понимать» [15].
Но вернемся к стандартам. А. Саверский сделал акцент на том, что сама эта идея на уровне «производственного процесса» лечения не операциональна, врач и пациент не смогут воспользоваться этим инструментом просто потому, что в «общем перечне в числе бесплатных услуг числятся десятки тысяч наименований». У врача, если он попытается сделать реальную калькуляцию стоимости своей помощи больному, просто не останется времени на лечение.
При этом само создание комплекса стандартов превратилось в одну из крупных статей расходов здравоохранения. Специалисты Урала пишут в журнал «Эксперт»: «Больше всего средств израсходуют на внедрение единых стандартов медпомощи, хотя полноценной базы для них нет». Из средств, выделенных на программы модернизации здравоохранения уральских регионов, на внедрение стандартов предусмотрено 49 млрд руб. (57,5% всех ассигнований), а на вложения в материально-техническую базу 33,2 млрд руб. (39%) [23]. Для наглядности они даже составили такую диаграмму:
Но не успели еще внедрить стандарты, начался переход Минздрава к новой инициативе. В середине ноября 2013 г. «Российская газета» пишет: «Большие надежды возлагались на внедрение в отрасли медико-экономических стандартов. Но на их выполнение средств в большинстве регионов недостаточно даже при переходе на одноканальное финансирование через систему обязательного медстрахования (ОМС). Не помогло и введение нормативного тарифа страхования за неработающее население (прежде медпомощь пенсионерам, инвалидам, безработным нередко финансировали по остаточному признаку).
Новые надежды на повышение эффективности расходуемых средств минздрав связывает с новым форматом финансирования стационарного лечения — уже не по стандартам, а по клинико-статистическим группам (КСГ). Это оплата за один законченный случай по усредненному тарифу за лечение всех подобных больных. Предполагается, что так больницы не будут заинтересованы в завышении объемов помощи, а сроки лечения сократятся. Но не получится ли, что больных, напротив, будут выписывать не долечив?
“В законе есть один критерий — оплата медпомощи по стандарту, а понятие клинико-диагностических групп отсутствует, — пояснила директор департамента по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на здравоохранение, образование, культуру, кинематографию и средств ФФОМС Счетной палаты Ольга Кривонос. — Права на издание такого приказа у минздрава нет. На практике мы столкнемся с тем, что ведомство выпустит методические указания, которые не являются нормативным актом”. Не утверждена методика расчета стоимости медуслуг, стандартов, нет стандартов по лечению инфаркта, аппендицита, холецистита и многих других заболеваний. Цены на услуги с 2010 года не пересматривались. А бюджет на следующие годы уже сформирован» [21].
Как же в такой неопределенности работать государственным учреждениям?!
Выше приведено замечание врача С. Соколова, что его и его коллег «поражают способы решения основных задач», стоящих перед здравоохранением. Здесь — фундаментальная методологическая проблема. В 1990-е гг. все население России перенесло тяжелую культурную травму, результатом которой была деформация всей системы рационального мышления. Сильнее всего это бросается в глаза в поведении политиков и чиновников — к ним особое внимание. В государственном управлении вообще — и в управлении здравоохранением в частности — наблюдалась с начала 1990-х гг. деградация (и часто — полная утрата) навыков структурно-функционального анализа — совершенно необходимого навыка управленца (и политика). Ведь при подготовке любого решения — большого и малого — прежде всего встает вопрос «зачем?». Зачем нужно вносить какое-то изменение в деятельность уже сложившихся систем? Зачем предлагается ввести какую-то новую функцию или изменить прежнюю? Другой вопрос «что делать?». Какую новую структуру (материально-техническую, организационную, культурную и пр.) надо создать, чтобы успешно выполнялась новая функция? Эти два вопроса, две стороны одной проблемы, часто разъединены.
На деле мы постоянно видим такие действия на всех уровнях управления, которые именно поражают. Невозможно понять — зачем? И еще менее понятно, почему изобретается такая странная структура?
Вот, например, в 2010 г. Правительство РФ объявило о новой инициативе в отношении «пожилых граждан», чтобы улучшить для них качество медицинских услуг. В Госдуме было сказано: «На лицевые счета пожилых граждан государство будет зачислять по одной тысяче рублей в год. Эти деньги могут быть использованы в качестве соплатежа за медицинскую страховку. А если в течение определенного периода времени необходимости обращаться к врачу не будет — средства будут зачисляться на пенсионный счет гражданина. Понятно, да? Гражданин имеет тысячу, обратился к врачу, значит оттуда пошло софинансирование. Не захотел идти к врачу, нет необходимости, значит, эта тысяча пойдет на пенсионный счет».
Недоумение вызывает само понятие «соплатеж за медицинскую страховку». Что это такое, зачем эта новая структура? Каждый гражданин имеет полис медицинского страхования и никаких платежей за него не вносит. Разве он, обращаясь к врачу, совершает какой-то платеж, к которому теперь может присовокупить свою данную государством тысячу? Куда, в какое окошечко он эту тысячу протянет? А если он не захочет пойти к врачу, кому и как он докажет, что у него «нет необходимости» лечиться, чтобы истратить эту тысячу, скажем, на подарок внуку? И что это за «пенсионный счет», на который кто-то перечислит тысячу рублей и с которого старик может эту тысячу взять? У кого есть такие счета и как оттуда можно получить деньги? Понятно, да?
Но главное возражение вызывает сама идея: вот тебе тысяча рублей, хочешь — лечись, хочешь — потрать на что угодно. Эта идея принижает сам смысл социального здравоохранения как формы «коллективного спасения», она соблазняет людей тем, что деньги на медицину — твои, потрать их на себя. Здесь — высказанный пока неявно отказ о здравоохранения как общенародной и общегосударственной системы.
Без этой основы за свою тысячу никто не получит никакой помощи, ему порекомендуют отвар медвежьего ушка. А основа создается, когда эту тысячу каждый отдает в общий котел, а не «тратит на себя». Надо же глядеть в корень!
При этом и десятки тысяч стандартов никак не помогут пациенту. При переходе от бесплатного здравоохранения к продаже медицинских услуг кардинально изменяются отношения между пациентами и врачами. Возможно (хотя и вряд ли), через несколько поколений восстановятся, в условиях «купли-продажи услуг», традиционные отношения взаимной помощи и уважения, но на первом этапе, как сказано выше, частные клиники будут заинтересованы «в увеличении числа не здоровых, а больных». Вот в чем суть этого перехода!
Эксперты говорят: «Если от покупки бесплатной услуги пациент еще может отказаться, то, подписав договор на платное лечение или несколько обследований, он должен будет согласиться на все назначения врача, которые изначально не оговаривались и потребность в которых появилась в процессе лечения. Пункт 27 проекта порядка оказания платных медицинских услуг гласит: “Если заказчик не дал согласие на превышение приблизительной сметы расходов, исполнитель вправе отказаться от договора и потребовать от заказчика оплаты уже оказанных медицинских услуг”» [4].
А почетный председатель Ассоциации частных клиник Петербурга Надежда Алексеева отмечает: «Пациенту смогут навязать любую медицинскую услугу вне зависимости от ее реальной необходимости. И если пациент хочет и дальше лечиться в этой клинике, он должен будет оплатить все, что предложит ему врач.
Стандарты здесь не помогут: в документе четко прописано, что объем платной медицинской помощи может их превышать. Таким образом, “развод” больных на деньги, о котором так много говорят, может стать законным» [4].
В этих условиях врачи и пациенты будут расходиться на подозревающие друг друга, а то и враждебные общности. Смогут ли остатки нашей культуры нейтрализовать эту враждебность?
При обсуждении этой проблемы в газете «Новые Известия» приведены такие суждения: «Эксперты считают, что большинство граждан не знают, какие права у них есть при получении медпомощи. И хотя готовящееся постановление содержит целый параграф, посвященный информированию об услуге, врачи могут сознательно ограничивать пациентам доступ к информации. “Эта декларация будет нарушаться в 90% случаев”, — уверен медицинский адвокат Дмитрий Айвазян. Он напомнил “НИ”, что соответствующая норма присутствует и в действующем законе “Об основах охраны здоровья”. “Врачи не заинтересованы предоставлять информацию пациентам, а пациенты в большинстве случаев считают ознакомление с ней формальностью, — говорит г-н Айвазян. — Еще в части случаев им приходится с боями выдирать информацию, рискуя лояльностью доктора. Пациенты становятся заложниками страха испортить отношения с медиком”.
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев также не уверен в том, что параграф об информировании пациентов будет действовать. По его мнению, нечеткость формулировок дает врачам возможность “исподволь расширять список платных медуслуг”… В случае жалобы пациента на качество медуслуг выносить решение о справедливости претензий будет экспертная комиссия. Однако в проекте не написано, что это будут за эксперты. “Это вполне может оказаться группа медиков из того же учреждения, что и доктор, к которому предъявляют претензии, — размышляет г-н Айвазян. — Естественно, они будут проявлять врачебную солидарность в худшем смысле этого слова”» [24].
Какую же ценность мы утрачиваем с переходом к рыночной медицине! И всего-то ради миски чечевичной похлебки для небольшого меньшинства.
Материально-техническая база здравоохранения
Исключительно сильный удар в годы реформ нанесен по отечественной медицинской и фармацевтической промышленности. Многие производства практически прекратили существование, выпуск даже самых необходимых лекарств сократился во много раз. Так, уровень производства сульфаниламидных и салициловых препаратов стабильно рос с 1970-х гг. и полностью обеспечивал потребности страны при достаточно высоком качестве и низких ценах на эти лекарства массового спроса. Это производство свернуто.
В РСФСР было создано большое и вполне современное производство почти всех витаминов и большинства антибиотиков. По своему качеству они соответствовали мировому уровню, а по стоимости были доступны всем слоям населения. В результате реформы производство антибиотиков упало к 2005 г. в 14,2 раза и почти не растет. На отечественном рынке они, как и витамины, заменены импортными препаратами.
В РСФСР было недостаточно развито производство медицинской техники, некоторые ее виды закупались за рубежом. Однако основная масса отечественной аппаратуры исправно служила в системе здравоохранения и составляла главную часть ее материально-технической базы. Во время реформы не произошло модернизации этого производства и освоения производства новой продукции на базе новых технологий, пусть и импортных. Производство было в основном свернуто.
За последние двадцать лет Россия резко отстала от современных стандартов в оказании высокотехнологичной медицинской помощи — мир ушел далеко вперед, причем даже бедные страны. Импортное оборудование, лекарства и материалы в России доступны не всем слоям населения, а отечественное производство медицинской техники было практически ликвидировано и восстанавливается медленно.
Вот примеры из доклада 2005 г. В современной медицине в массовом масштабе применяются кардиостимуляторы. В тот момент в Западной Европе и США число их имплантаций составляло 750 на 1 млн человек населения, а в РФ — 101. Единственная причина — нехватка средств. Имплантация дефибрилляторов спасала бы в РФ жизнь 200 тыс. человек в год, но этих операций делают лишь 5% от необходимых — тоже по финансовым соображениям.
Но это и значит, что произошло разделение граждан перед лицом вполне преодолимых угроз их жизни по принципу платежеспособности. Состоятельные люди могут оплатить имплантацию кардиостимулятора, а обедневшие — не могут.
В качестве способа преодоления этого провала правительство предлагает модернизацию здравоохранения. Так, 20 ноября 2008 г. премьер-министр В.В. Путин заявил: «Необходимо ускорить модернизацию в отраслях, ориентированных на человека. Сегодняшние инвестиции в образование, здравоохранение, социальную сферу — завтра станут нашим конкурентным преимуществом».
Эта сложная задача выдвинута в первой фазе тяжелого кризиса. В этот момент, при острой нехватке средств и тяжелом стрессе, который переживают люди и организации, «ускорить модернизацию» очень трудно. Главной задачей во время кризиса обычно становится сохранение систем в их целостности и подготовка к модернизации на ветви выхода из кризиса. Сохранение систем при дефиците ресурсов — особая задача, структурно иная, нежели развитие в стабильный период или программа модернизации. Понятно, что программа начиналась трудно.
Вот сообщение с сайта травматологов (2010 г.): «Строительство 15 федеральных центров высокотехнологичной помощи откладывалось и переносилось много раз. Из 4 центров травматологического направления построен единственный в Чебоксарах, “да и в том работать некому, питерцы вахтовым методом ездят проводить операции”, — говорят специалисты ЦИТО без диктофонов. Они же утверждают, что приходится выписывать прооперированных пациентов “в никуда”. В субъектах [Федерации] травматологов-ортопедов единицы. К примеру, в республике Тыва их на всю республику восемь человек. Кто и как будет “доводить” и реабилитировать прооперированных больных, не знает никто».
Однако в отчете Правительства РФ перед Государственной Думой в 2010 г. было сказано: «Потребность в высокотехнологичной медицинской помощи сейчас удовлетворяется на 60%, хотя еще несколько лет назад такие услуги были доступны только каждому десятому гражданину нашей страны».
Это заявление вызвало вопросы. Каковы параметры, индикаторы и критерии, с помощью которых сделан такой вывод? Речь ведь идет об измерении сложного и плохо формализованного явления, в описании которого все понятия размыты, — и вот, без всяких ссылок на методологию и методики, объявляется точный результат — 60%. Он вызывает большие сомнения. В каких документах и в какой форме вообще фиксируется потребность в медицинской помощи, которую медицинское учреждение не удовлетворяет по причине ее «недоступности»?
В докладе Госдуме не сказано, каким образом удалось «за несколько лет» поднять «удовлетворение потребности» с 10% до 60%? Откуда взялись в России все эти «высокие технологии» — оборудование, материалы, квалифицированные специалисты? Как могло общество всего этого не заметить?
По официальным данным (2010 г.), «в 2010 году в РФ медики в 108 клиниках всех уровней смогут оказать ортопедическую и травматологическую помощь 44 734 больным» — это по всем видам ортопедической и травматологической помощи! А, например, эндопротезирование крупных суставов требуется ежегодно для 300 тыс. больных, но за год делалось, по данным 2005 г., 20 тыс. операций (6,7% от потребности).
Как говорилось выше, от болезней костно-мышечной системы в РФ страдают 18,3 млн человек (2010 г.), эти болезни наносят огромный экономический ущерб, не говоря уже о страданиях больных. Одним из важнейших методов лечения стало эндопротезирование крупных суставов. Этот метод уже не считается высокотехнологическим, однако требует высокого качества материалов, квалификации врачей и организации реабилитации пациентов. Как пишут врачи, «маленькая Чехия опережает нас по абсолютному количеству эндопротезирований». В США на 2030 г. прогнозируется проведение 572 тыс. операций по протезированию тазобедренного сустава и 3,48 млн — коленного сустава (несложно прикинуть, какова потребность в них в России). Может ли коммерческая медицина удовлетворить эти потребности?
В Интернете можно узнать расценки на протезирование тазобедренного сустава во всех клиниках мира. Вот, для примера: «Стоимость нормальной операции в нормальных условиях — от 200 тыс. рублей (в России, в РНИИТО, почти столько же в клинике Bharathirajaa, Chennai, Индия)». Почему в России делают эти операции около 7% тех, кому они необходимы? Потому что 93% не могут выкроить из своих доходов эти 200 тыс. руб. Если говорят, что эти операции уже доступны для 60%, то скорее всего значительные контингенты больных просто не учитываются.
Кроме того, модернизация технологии не сводится к приобретению «железа» — приборов и крупной аппаратуры. Нужен большой спектр современных инструментов и материалов, даже не всегда дорогих, — а для этого надо иметь современную компетентную службу, которая работает в контакте с врачами. Требуется и непрерывное образование самих врачей — модернизация их знаний.
Заведующий нейрохирургическим отделением Детской клинической больницы № 5 Петербурга А.П. Ляпин рассказывает: «Отличие сегодняшней медицины от прежней в том, что это медицина технологий. Понятие “длительность заболевания” вообще напрямую от них зависит. Допустим, после операции образовался дефект твердой мозговой оболочки, который надо закрывать. Если есть искусственная оболочка — пришиваешь, и все. Если нет — выкраиваешь, например, из бедра, теряешь время, пациент дольше находится в наркозе и тяжелее из болезни выходит. Логично — применять искусственную. Но в ОМС она не входит! А стоит 3 тысячи рублей. Трепанацию черепа можно делать час — фрезами и пилкой; или 10-15 минут краниотомом» [19].
Но главное в технологии вообще, — а в медицине особенно — квалификация, мотивация и этика тех работников, которые применяют инструменты, аппараты и материалы. Здесь в модернизации наблюдаются структурные деформации.
С. Соколов пишет: «Оптимизация работы коечной сети в проводимом виде закладывает под муниципальное здравоохранение большую бомбу. Узкие специалисты — это уникальный инструмент, они с пустого места не берутся. Если молодой человек окончил мединститут, прошел интернатуру по хирургии, то это не означает, что он стал хирургом. Его минимум лет 10 нужно готовить на рабочем месте. А на каких рабочих местах государство собирается готовить молодые кадры, если даже у основного врачебного состава в ходе оптимизации урезается все? Мы построим медицинские центры, мы обеспечим их современной аппаратурой! А где вы в будущем возьмете квалифицированные кадры?..
Государство оснащает больницы диагностическим и лечебным оборудованием… А разве у нас аппаратура осуществляет диагностический и лечебный процесс? Насколько эффективно будет работать новый современный фиброгастроскоп, если врач, которому надоело подрабатывать на ФГДС-исследованиях по совмещению за 250 руб. в месяц, отказался от этой подработки? Насколько качественно будет выполнять операции большой операционный набор, если из больницы ушел последний хирург? Как удобно будет лежать роженице на новом гинекологическом кресле, если в рамках оптимизации родильное отделение закрыто?» [17].
Немного с другой стороны подходит к вопросу А.П. Ляпин: «Медицина — тоже отрасль народного хозяйства. В каком-то смысле это производство: если мы человека спасаем от неминуемой смерти, и он работает — он производящая единица. Чтобы любое производство давало хороший результат (а результат — это выжившие дети, вовремя исцеленные), должны быть вложения. Уже доказано, что инвестиции в здравоохранение окупаются сторицей. Цивилизованные страны вкладывают в медицину от 8 до 12% своего ВВП. К милосердию это не имеет отношения. Государство — это структура, у которой и не должно быть таких духовных понятий, оно просто должно эффективно работать.
В России на здравоохранение выделяется 3,7% ВВП. То есть уместнее ставить вопрос не о том, насколько плоха наша медицина, а насколько эффективно она работает в условиях такого дефицита финансирования — и окажется, что она очень результативна…
Существует жесткий показатель: летальность. При одинаковых заболеваниях она примерно одинакова и у нас, и на Западе. Но есть такой фактор, как эффективность. В России на то, чтобы оставаться в тех же рамках летальности, что и, например, в Германии, тратится гораздо больше усилий докторов, персонала.
Если в Германии одна медсестра на пять детей, у нас — на 30. Их усилия несравнимы…
По ОМС операции разделены на 5 категорий сложности: 1-ю, при которой, грубо говоря, нужно просто зашить рану, ОМС оценивает в 1,5 тысячи рублей. Операция пятой категории, длящаяся до 8 часов, стоит 7 тысяч рублей. Но эти операции несопоставимы! Рану зашивает 1 доктор и медсестра; при длительной операции работает бригада врачей, используется сложное оборудование, наркоз. Соотношение должно быть один к тридцати, не меньше» [19].
Большие средства, вложенные в федеральные центры высокотехнологичной помощи, пока что не получили адекватного финансирования для осуществления ими регулярного производственного процесса.
Вот что писала «Российская газета» в ноябре 2013 г.: «Опасения, что ситуация в государственном здравоохранении со следующего года может стать хуже, не раз высказывали эксперты. Это связано в том числе с сокращением финансирования федеральных медицинских центров, поскольку не созданы механизмы, которые бы компенсировали его за счет их участия в системе ОМС. Как известно, в программы ОМС перейдут более 460 видов высокотехнологичной медпомощи, однако тарифы на их оплаты здесь существенно меньше, чем средства, которые за них платил федеральный бюджет. Примеры такого сокращения приводились и на заседании экспертного совета. Так, на лечение гнойного остеомиелита в федеральном центре выделялось 300 тысяч рублей, а в региональных клиниках — всего 30» [21].
Сама десятикратная разница стоимости лечения гнойного остеомиелита в двух учреждениях одной системы — признак какой-то деформации.
Воздействие реформы на социальное положение врачей
Этой очень важной для здравоохранения темы мы коснемся очень кратко, так как о ней надо говорить особо.
Понятно, что быстрое сокращение числа больниц вдвое и числа больничных коек на треть — само по себе явилось тяжелым ударом по сообществу российских медицинских работников как социальной системе. Значительная их часть потеряли работу и были вынуждены менять место жительства, что нередко означает бедствие для семьи.
В июле 2013 г. пресса писала: «Медпомощь становится платной — а врачей становится меньше. Как только объединяются поликлиники — увольняются доктора. Оставшимся врачам приходится принимать не по 15, а по 60 человек в день. Правда, за лечение им заплатят больше — но это уже никак не скажется на качестве работы перегруженных медиков. О какой профессиональной помощи может идти речь, если на каждого из 60 пациентов выделено по 5 минут? Если только сунуть каждому приходящему по пачке арбидола на все случаи жизни» [11].
С. Соколов пишет о том, как сказалась недавняя реформа на кадровом составе его больницы: «Всех узких специалистов этой больницы можно назвать словом “последний”. Последний врач-инфекционист — 0,75 ставки, последний окулист — 0,5 ставки, последний невролог — 0,5 ставки, последний акушер-гинеколог — 0,75 ставки, последний врач-рентгенолог — 0,75 ставки, последний заведующий ОКСУ (бывший педиатр стационара) — 0,75 ставки, последний хирург больницы — в ближайшем будущем ставка на двух рабочих местах. Ноль с запятой и последующими цифрами означает, что в будущем ни один врач на это место уже не придет. Муниципальное Учреждение Здравоохранения “Красавинская районная больница № 1” — это маленькая реальная трагедия среди великих абстрактных свершений и дел» [17].
Вот что говорит координатор общественного движения «Вместе — за достойную медицину» смоленский врач-кардиолог В. Иванов (11 апреля 2013 г.): «Условия работы постоянно усложняются: растет количество пациентов, но уменьшается время на прием, увеличивается бумажная волокита… Нагрузка на врача постоянно возрастает, а материальное положение его не улучшается. Люди не выдерживают и увольняются. Первыми уходят те, кто в вузе были отличниками: люди, имеющие амбиции и не желающие мириться с невыносимыми условиями работы и низким уровнем зарплаты. Кадровый дефицит приводит к образованию очередей: в поликлиниках, на плановые операции в больницах. Наши пациенты должны понимать, что практикующие врачи просто не в состоянии повлиять на многие вещи, например — на те же очереди…
С экранов телевизоров в обществе насаждается миф о благополучии медиков. Власть же заняла по отношению к врачам очень лицемерную позицию: с одной стороны, медикам платят катастрофически мало в надежде, что их прокормят пациенты, а с другой стороны — обществу говорят, что зарплаты в здравоохранении постоянно растут.
Зарплата медика в регионе за одну ставку на сегодня составляет порядка 10 тысяч рублей или немногим более. Мой знакомый, заведующий отделением в Смоленске, работая на 1,5 ставки, получает 16 тысяч “грязными”. В 2008 году была упразднена единая тарифная сетка, и заработная плата рядового сотрудника медучреждения стала зависеть от главного врача: он лично решает, кому и сколько доплачивать. Штат сотрудников теперь делится на “любимчиков” и всех остальных.
Я получаю много писем от врачей из разных регионов страны, они рассказывают о своих зарплатах, делятся проблемами. Позволю себе процитировать некоторые из них, не называя имен.
Вот что недавно написал сотрудник станции скорой помощи: “Кемеровская скорая: сократили зарплату примерно на 40%. По распоряжению главврача квитки не выдают на руки. Получила только главная подстанция, и то далеко не все. Кроме «федералки» пропали стимулирующие выплаты”.
Вот что пишет врач-рентгенолог одного областного города: “Получил зарплату — 7 тысяч с копейками, как у санитара. Заведующий лишил стимулирующих по формальному поводу. Когда я ему сказал, что отвезу квиток в Москву, в Минздрав, испугался и предложил 10 тысяч положить в карман. Я отказался. Сколько еще это может продолжаться? В понедельник пишу заявление об увольнении”.
И еще два письма от врачей из Ржева и Псковской области: “Я — врач-педиатр с 32-летним стажем. Оклад — 6300. С нового 2013 года отменили надбавки за участковость в размере 10 тысяч. После того, как мы подняли шум в прессе, пригрозив “итальянской забастовкой”, деньги тут же нашлись. Но теперь нам грозят драконовскими штрафами, которые могут быть применены по любому поводу”.
“Те копейки, которые именуются врачебной зарплатой, обеспечивают если только физическое выживание. У кого появляется хоть малейшая возможность — уходят. Молодежь не идет в медицину, особенно в сельскую. Из шести коллег в моем окружении — пятеро пенсионного возраста. Страшно подумать, что будет с нашим здравоохранением через 5-7 лет”» [26].
В. Иванов иллюстрирует свои слова двумя квитками зарплаты. На первом видно, что оклад медицинской сестры муниципальной поликлиники — 4211 рублей. Второй лицевой счет принадлежит врачу-хирургу высшей категории. Его оклад — 6239 рублей.
Очень трудно предположить, что В. Иванов фальсифицировал фотографии этих документов, тем более на весьма авторитетном сайте. Подобных этим фотографиям очень много представлено в Интернете. Невозможно представить себе, что ни служащие и руководители региональных департаментов здравоохранения, ни чиновники Минздрава не видели этих фотографий и не дали бы в прессе и в Интернете официальных опровержений, если бы речь шла о фальсификации. Следовательно, мы должны этим документам верить.
Да и врач-хирург С. Соколов, который в большой статье в «Медицинской газете» дал панораму состояния конкретной районной больницы, приводит схожие данные. Есть ли у нас основания заподозрить его в фальсификации? Таких оснований у нас нет, как нет и официальных опровержений. А он пишет (26 декабря 2012 г.): «Каковы же расценки, по которым врач работает в системе ОМС? Хирург с первой квалификационной категорией и стажем 18 лет, работая по совмещению на общехирургическом приеме, получает за одного принятого взрослого человека 5 руб. 54 коп. Дети ценятся несколько дороже — 6 руб. 29 коп., вызов на дом — 25 руб. 17 коп. Профосмотр одного взрослого человека — 2 руб. 62 коп., профосмотр одного ребенка — 5 руб. 24 коп., одна амбулаторная операция — 15 руб. 01 коп. Из вышеуказанных сумм вычитаем подоходный налог, профсоюзные и для прикола попробуем эти суммы перевести в доллары США, точнее в центы… Возвращаюсь к вопросу о качестве медицинской помощи. Ну разве будет заинтересован хирург качественно провести профосмотр при норме 5 минут на одного обследуемого и оплате 2 руб. 62 коп. за каждого!» [17].
На 2013 г. был запланирован существенный рост заработной платы медицинских работников. Эти решения выполнялись с трудом и конфликтами. В первом квартале во многих регионах зарплаты даже снижались. «Новая газета» собрала много случаев, приведем лишь один пример: «А вот сообщение врача-педиатра из поликлиники Центральной районной больницы Иркутской области: “На прикрепленной территории 2093 ребенка. Протяженность территории — 40 км! Работает один педиатр — Я! Зарплата производится за одну ставку. Говорят, вакансии нет. На руках квиток за январь (немного разрисованный, так как даже ребенок за документ не принимает)”. Врач, который работает больше чем на ставку, но получает одну зарплату, имеет на руки — 9390 руб.» [30]. Приводится и фотография квитка:
В феврале в прессе сообщалось: «С января зарплаты многих медиков сократились на треть. Объявленное с 2013 года повышение зарплат врачам в реальности обернулось понижением, так как рост окладов сопровождался отменой одних надбавок и урезанием других. Наиболее пострадавшими оказались узкие специалисты поликлиник, лишившиеся трети заработка. В Министерстве здравоохранения снижение зарплат медикам не комментируют» [27].
В августе на сайте Минздрава РФ были обнародованы такие данные Фонда обязательного медицинского страхования: «зарплаты российских врачей в 2013 году выросли на 12,3 процента по сравнению со среднегодовым значением 2012 года, а средняя зарплата врача в России теперь составляет 40,36 тысячи рублей». По этим данным, терапевты-участковые получают теперь в среднем 36,8 тысячи рублей, педиатры-участковые — 37,9 тысячи рублей, врачи общей практики — 34,3 тысячи рублей. Медсестры теперь получают в среднем 22,5 тысячи рублей [28].
В возмущенных комментариях врачи опровергали эти данные. Представитель профсоюза врачей заявил, что, согласно методике Росстата, сотрудник, работающий в одной организации на две или полторы ставки, учитывается как один человек, и выплаченная зарплата делится на количество работников конкретной категории, невзирая на то, что подавляющее большинство из них получает зарплату за 1,5-2 ставки. «Так и получаются завышенные показатели средней зарплаты по больнице, а затем и по региону», — пояснил врач [28].
В октябре 2013 г. перед Госдумой выступила министр Вероника Скворцова. Вот выдержка из репортажа: «Что касается выполнения указа президента о повышении зарплаты врачам — она выросла в среднем до 38,7 тыс. рублей, среднего медперсонала — до 22,4 тысячи… Отвечая на вопросы депутатов, В. Скворцова признала: средняя зарплата по стране — это буквально “средняя температура по палате”. Так как базовая ставка в ней составляет лишь 40%, а остальное — стимулирующие и премиальные выплаты, “фактор субъективизма” имеет место, и “иногда доходы врачей в стационарах, расположенных на одной и той же улице, различаются в 9-10 раз”. И вот — “у 80% медработников повышена зарплата, а у 20% даже возникла тенденция к ее снижению”.
Аудитор Счетной палаты А. Филипенко обратил внимание на то, что территориальные программы госгарантий оказания медпомощи в 54 регионах дефицитны в целом на 121 млрд рублей. «В большинстве регионов бюджет здравоохранения планируется, не исходя из фактических потребностей населения, а исходя из финансовых возможностей территории”, — сказал г-н Филипенко. — Нашли деньги на повышение зарплат — зато выросла задолженность по платежам за коммунальные услуги”» [29].
Надежные данные получим позже, но очевидно, что социально-психологическая обстановка во врачебном сообществе неблагоприятна.
На чем же еще держится наше здравоохранение и что с ним будет, когда эти опоры будут ликвидированы? На наш взгляд, гражданам и политикам, потенциальным больным и пациентам, следует вдуматься в откровенные рассуждения В. Иванова о жизни и работе врача. Он говорит:
«Чтобы получить медицинский диплом, нужно затратить много сил и времени. И если учиться хорошо, то ни на что, кроме медицины, времени не остается. После шести лет обучения в вузе — прохождение интернатуры и/или ординатуры; в итоге обучение занимает 7-9 лет. Многим после этого жалко своих знаний и затраченных усилий, поэтому тяжело уходить из медицины. Вообще считается, что из медицины уйти можно только один раз: быстро забываются знания, утрачиваются профессиональные навыки — и врачи просто боятся потерять этот пласт своей жизни, на который они потратили ее лучшие годы. Работа на одну ставку не позволяет элементарно выжить медработнику и его семье. Сегодня можно оставаться в медицине, только имея дополнительные возможности заработка где-то на стороне. Молодые специалисты, столкнувшись с реальностью, понимают, что перспектив у них нет, что они не смогут элементарно содержать свои семьи, если только не начнут брать взятки.
Многие порядочные, честные и гуманные люди не могут работать в этой системе, не могут вымогать деньги у пациентов и вынуждены увольняться.
В здравоохранении из рядового состава недовольны все, но медицина еще держится, держится на энтузиастах, на людях предпенсионного возраста, которым просто некуда деваться, и на людях, приспособившихся к системе, т. е. научившихся “брать”… Они открыто говорят своим пациентам, сколько стоит оказание помощи. Пациент может обратиться в прокуратуру, в полицию, но там ему медицинскую помощь не окажут. А зачастую не бывает альтернативы, потому что нет другой больницы или другого специалиста, вот и получается: либо умирай, либо плати.
Но это миф, насаждаемый властями и СМИ, что всех медиков “благодарят” пациенты. Мы в социальных сетях проводили опрос населения: как вы относитесь к тому, чтобы материально “отблагодарить” врача в случае успешно проведенного лечения?
Больше половины опрошенных высказались категорически против подобных “благодарностей”. Часть ответила, что они в принципе допускают такую возможность. И только менее 10% ответили, что делали или делают это регулярно. Это ответы людей молодого и среднего возраста. Если этот же опрос провести среди людей предпенсионного возраста и пенсионеров, то ответивших, что они категорически против “благодарностей”, я уверен, будет значительно больше.
Глупо считать, что все медики берут взятки, многим врачам совесть не позволяет этого делать, а кто-то просто не имеет такой возможности: например, есть вспомогательные службы, есть смежные специальности, не связанные с работой с пациентами, есть медицинские сёстры, получающие убийственно низкие зарплаты» [26].
* * *
Все эти провалы и разруха — следствие смены философских и антропологических оснований национальной системы здравоохранения постсоветской России и сдача этой великой и благородной системы в руки общности людей с рыночным сознанием. Коммерциализация медицинской помощи и утопия благотворного воздействия жажды прибыли, которая якобы заставит частный бизнес протянуть руку помощи ближнему, означают отказ от великой идеи охраны здоровья народа как долга Российского государства перед гражданами. Перспективы создать вместо этого служения рынок услуг эфемерны. Наоборот, отчуждение от медицинской помощи все большего числа граждан приведет к быстрой деградации и элитарной части системы, так что и нынешний слой богатой «элиты» окажется без хороших врачей — ей останется разве что маяться со своими болезнями в очень комфортабельных больницах, уставленных томографами.
Доклад подготовлен С.Г. Кара-Мурзой
Литература
1. Стратегия-2020: Новая модель роста — новая социальная политика // URL: .
2. Селихова А. Минздрав предупреждает коррупцию? // Новая Сибирь. 24 августа 2012. № 33 (1035).
3. Мау В. Как модернизировать здравоохранение // Ведомости. 27.07.2012. URL: zdravoohranenie?full#cut.
4. Ртищева Е. За официально бесплатную медицину придется официально платить // URL: /.
5. Давыдова Н.М., Седова Н.Н. Материально-имущественные характеристики и качество жизни богатых и бедных // СОЦИС. 2004. № 3.
6. Головачев Б.В., Косова Л.Б. Ценностные ориентации советских и постсоветских элит. — «Куда идет Россия?.. Альтернативы общественного развития». М.: Аспект-Пресс, 1995. С. 183-187.
7. Кармадонов О.А. Социальная стратификация в дискурсивно-символическом аспекте // СОЦИС. 2010. № 5.
8. Проблемы возрождения современного российского села // Россия: процесс консолидации власти и общества. Социальная и социальнополитическая ситуация в России в 2007 году. (Ред. Г.В. Осипов и В.В. Ло-косов). М.: ИСПИРАН, 2008.
9. URL: .
10. Хомский Н. Надежда и отчаяние. Опыт 1930-х и сегодняшний кризис // URL: .
11. АлтайскаяЕ. Куда идет отечественное здравоохранение? // Аргументы.ру. 13 июля 2013 г. URL: .
12. Краткие итоги выборочного обследования «Влияние поведенческих факторов на состояние здоровья населения» // URL: / free_doc/2008/demo/zdr08.htm.
13. Быстров Б. Действующий Уголовный кодекс не защищает детей от растления // Правда России. 20-26 февраля 2002. №7. (Цит. по: Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Россия под властью плутократии).
14. Карпухин Ю.Г., Торбин Ю.Г. Проституция: закон и реальность // СОЦИС. 1992. № 5.
15. Расчетная стоимость жизни // URL: / article/65415/14 марта 2013 г.
16. Голикова Т. С 1 января услуги врачей могут стать хуже и недоступнее // URL: .
17. Соколов С. Маленькие трагедии на фоне больших перемен // Медицинская газета. 2012. № 97. 26 декабря. URL: /.
18. URL: /.
19. URL: /3-intervyu-osnovatelya-fonda.html.
20. Невинная И. Частные клиники согласны лечить пациентов бесплатно // Российская газета. 05.11.2013.
21. Батенёва Т. Тариф на инфаркт. Хватит ли денег вылечить всех больных в 2014 году // Российская газета. 14.11.2013.
22. Батенёва Т. Россияне заплатили «в карман» врачам 138 млрд рублей // Российская газета. 10.12.2013.
23. Белоусов А. Реанимация бесполезна // Эксперт Урал. №28-31 (519). URL: -bespolezna/media/149804/.
24. Алехина М. Больной платит дважды // Новые Известия. 31 июля 2012 г.
25. Стоматология ХХ века // URL: -stomatologii/ stomatologiya-hh-veka. —stanovlenie-i-razvitie.html.
26. Иванов В. Из медицины уйти можно только один раз // URL: http://www. scepsis.net/library/id_3439.html.
27. Колесниченко А. Модернизация надбавки // Новые Известия. 12.02.2013.
28. Средняя зарплата российского врача превысила 40 тысяч рублей // URL: /.
29. Озерова М. Как главу Минздрава Скворцову «терзали» в Госдуме // Московский комсомолец. 23 октября 2013 г. № 26366.
30. Рыбина Л. Я — педиатр… // Новая газета. 6 мая 2013 г. № 48.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современная Россия находится в исторической ловушке. После краха СССР страна оказалась в настоящем водовороте проблем социально-экономического, культурного и политического свойства. Речь идет не просто о проблемах, а о целом комплексе неразрешимых противоречий. Они оплели наше общество такой плотной сетью, что мы зачастую даже не представляем себе их масштабов, так как видим их изнутри. За долгие годы мы приспособились к их существованию и научились извлекать выгоду из факта их наличия. На словах мы готовы бороться с ними, но в реальности мы не представляем свою жизнь без того фона, который формируют эти проблемы.
Они настолько хорошо «маскируются», что очень часто мы их даже не видим. Более того, их акцентирование кажется нам чем-то неестественным и надуманным. В какой-то степени, они стали частью нас самих. Мы прячем голову в песок, пытаясь, таким образом, скрыться от них. Но проблемы от этого не исчезают, и, отказываясь признать их существование, мы лишь загоняем болезнь внутрь. У нас принято винить власть во всех смертных грехах, но нам не приходит в голову, что власть, как и мы все, затянута в это болото проклятых вопросов, на которые нет однозначного ответа. Мы все живем сегодня в «Замке» Кафки, подспудно осознавая ненормальность процессов, происходящих в стране, но не в состоянии даже их осмыслить.
Сейчас много говорят о едином учебнике истории, но мало кто рассматривает этот сюжет как сложную общественно-политическую проблему. Только ленивый не ругает приватизацию, но никто до сих пор не препарировал ее как вопрос социального свойства. По поводу упадка культуры везде ломаются копья, но мало кто может конкретно объяснить, в чем его корни. Мы назвали эти сюжеты «порочными кругами» современной России. «Порочными» в том смысле, что мы не знаем, как из них выйти. Они непрерывно расходятся по водной глади нашей истории со времени краха СССР в 1980-1990-е гг. Предпосылки кризиса, уничтожившего Советский Союз, возникли задолго до 1991 г., а его последствия проявляются по сей день в виде тех самых неразрешимых проблем, о которых мы ведем речь. Они весьма разнообразны в своих проявлениях, однако у них у всех общий корень — разрушение культурной матрицы советского проекта. Мы подобны пучку энергии, вырвавшемуся из недр взорвавшейся сверхновой и летящему с космической скоростью в неизвестном направлении.
Для того, чтобы найти пути выхода из этого «порочного круга» необходима напряженная работа десятков научных коллективов, сопряженная с детальным изучением актуальной ситуации, оценки последствий кризисных явлений, анализом успешного опыта их преодоления и его адаптации к нашим условиям. В данном сборнике мы не ставили своей целью эту работу. Нашей задачей было лишь артикулировать эти невидимые нашему «замыленному» глазу вопросы, поставить их в явном виде, наметить их истоки. Мы считаем, что это — необходимый подготовительный этап их успешного разрешения. В данном томе мы собрали лишь те из них, которые больше всего наболели и требуют первоочередного внимания. Однако этих проблем — десятки. Самые фундаментальные из них порождают проблемы второго порядка, те — третьего и т. д. Причем каждая из них в наших условиях обретает особые формы. Каждую из них надо рассматривать в отдельности, но в увязке с остальными.
Поэтому то дело, за которое мы взялись и первым результатом которого является предлагаемый сборник, — это настоящая комплексная аналитическая работа. Данная книга — лишь первый ее результат. Мы хотим последовательно пройти через все заколдованные круги современной России и осветить ход своего исследования в целом цикле подобных сборников. Возможно, этим мы упростим задачу тех, на плечи которых ляжет основной груз по выведению страны из кризиса.
Вершинин А.А., кандидат исторических наук
1
А.С. Ципко писал: «Большой вклад в формирование реального, современного образа человека внес советский хирург академик Н.М. Амосов. Он напомнил политикам и обществоведам, что люди от природы разные, отличаются и силой характера, и устремленностью к самостоятельности в личной самореализации. Чрезвычайно важна мысль о существовании пределов воспитуемости личности… Наверное, настало время серьезно поразмышлять о самой проблеме неравенства, вызванного естественными различиями людей в смекалке, воле, выносливости. Жизненный опыт каждого подтверждает предположение Н.М. Амосова о том, что в любой популяции люди сильные, с ярко выраженным желанием работать составляют от 5 до 10%» [2].
(обратно)2
Антрополог М. Салинс (США) говорит об этом представлении: «Гоббсово видение человека в естественном состоянии является исходным мифом западного капитализма… В сравнении с исходными мифами всех иных обществ миф Гоббса обладает необычной структурой, которая воздействует на наше представление о нас самих. Насколько я знаю, мы — единственное общество на Земле, которое считает, что возникло из дикости, ассоциирующейся с безжалостной природой. Все остальные общества верят, что произошли от богов… Судя по социальной практике, это вполне может рассматриваться как непредвзятое признание различий, которые существуют между нами и остальным человечеством» [3, с. 131].
(обратно)3
Андрей Синявский в 1974 г. заметил, что советская власть победила силою трех слов, намертво вбитых в народное сознание: «совет», «большевик», «ЧК».
(обратно)4
С 7 декабря 2012 г. на сайте агентства Regnum.ru проводился опрос, в котором участвовали 3619 человек. Вопрос гласил: «МГУ заявил о разгроме гуманитарного образования в России. Вы согласны?». Ответы были таковы: «Да» — 84,9%, «Нет» — 8,8%, «Не знаю» — 6,4%.
(обратно)5
Лучше считать, что эти две концепции особого состояния общества «перекрываются», а не являются генетически связанными (хотя частная собственность как генератор отчуждения у К. Маркса — продукт модерна и разрушения традиционного общества). Однако из контекста обычно становится понятно, когда понятие отчуждения эквивалентно аномии.
(обратно)6
В 1997 г. в РФ было зарегистрировано 1,4 млн тяжких и особо тяжких преступлений, в 1999 г. — 1,8 млн, в 2000 г. — 1,74 млн.
(обратно)7
Подробнее см. в [43].
(обратно)8
Ученый должен был бы сообщить, что на тот момент в США было 702 больших водохранилища (объемом более 100 млн м3), а в России 104. А больших плотин (высотой более 15 м) было в 2000 г. в Китае 24 119, в США 6389, а в России 62. Отставание России в использовании гидроэнергетического потенциала рек колоссально, но общество убедили в том, что водное хозяйство приобрело у нас безумные масштабы. Кроме того, не мог экономист не знать, что за счет ГЭС значительно снижалась цена электроэнергии в стране, что сказывалось и на производстве, и в быту. Так, в 2008 г. Усть-Илимская, Братская и Иркутская ГЭС поставляли на рынок электроэнергию по цене 1,45 коп./кВт-ч. Это в 30 раз дешевле, чем электрическая энергия близлежащих тепловых станций той же компании «Иркутскэнерго».
(обратно)9
Якунин В.И., Сулакшин С.С., Симонов В.В. и др. Социальное партнерство религиозных организаций и государства. Монография. М.: Научный эксперт, 2009. С. 31.
(обратно)10
Мчедлова М.М. Роль религии в современном обществе. Статья // СОЦИС. 2009. № 12. С. 80.
(обратно)11
Там же.
(обратно)12
Мчедлов М.П., Гаврилов Ю.А., Кофанова Е.Н., Шевченко А.Г. Вероисповедные различия в социальных ориентациях. Статья // Религия и право. № 1. 2005. С. 4-5.
(обратно)13
Лункин Р Христиане на карте России: вера в Бога в постправославной стране. Статья // ‹-lunkin-hristiane-na-karte-rossii-vera-v-boga-v-postpravoslavnoy-strane›.
(обратно)14
Синелина Ю.Ю. Православные и мусульмане: сравнительный анализ религиозного поведения и ценностных ориентаций. Статья // СОЦИС. 2009. № 4. С. 91-92.
(обратно)15
Кобзева Н.А. Религиозность студенческой молодежи в трансформируемой России: социологический анализ. Автореф. дис… канд. социол. наук. М., 2006. С. 19, 21; Рязанова С.В., Михалева А.В. Феномен женской религиозности в постсоветском обществе (региональный срез). Пермь: Изд-во Пермского государственного национального университета, 2011. С. 173, 218; Клюева В.П., Поплавский Р.О, Бобров И.В. Пятидесятники в Югре (на примере общин РО ЦХВЕ ХМАО). Монография. СПб.: РХГА, 2013. С. 151-152; Чеснокова И.А. Влияние сект, культов и нетрадиционных религиозных организаций на личность и ее жизнедеятельность. Автореф. дис… канд. психол. наук. М., 2005. С. 16.
(обратно)16
Забаев И.В., Орешина Д.А., Пруцкова Е.В. Три московских прихода: основные социально-демографические показатели и установки представителей общин крупных приходов. Монография. М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. С. 46; Михалева А.В. Мусульманские общины в политической жизни немусульманских регионов: сравнительный анализ России и Германии. Автореф. дис… канд. полит. наук. Пермь, 2004. С. 24; Иваненко С.И. Вайшнавская традиция в России: история и современное состояние: учение и практика, социальное служение, благотворительность, культурно-просветительская деятельность. Монография. М.: Философская книга, 2008. С. 58.
(обратно)17
Моисеева В.В. Религиозность как социальный ресурс профилактики наркотизации в молодежной среде. Автореф. дис… канд. социол. наук. М., 2009. С. 21.
(обратно)18
Почему дети воцерковленных родителей уходят из Церкви? Беседа с протоиереем Георгием Тарабаном, священником Виталием Шатохиным и иеромонахом Макарием (Маркишем). // ‹http://www. pravoslavie.ru/guest/39176.htm›; Современная религиозная жизнь России. Энциклопедия. В 4 т. Т. 1 / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: Логос, 2004. С. 277, 282; Власова В.В. Старообрядческие группы коми: конфессиональные особенности социальной и обрядовой жизни. Монография. Сыктывкар: Коми научный центр УрО РАН, 2010. С. 76; Шапиро В.Д., Герасимова М.Г. Отношение к религии и конфессиональная толерантность подростков. Статья // Россия реформирующаяся. Ежегодник. Вып. 7 / Отв. ред. М.К. Горшков. М.: Институт социологии РАН, 2008. С. 322; Клюева В.П., Поплавский Р.О., Бобров И.В. Пятидесятники в Югре (на примере общин РО ЦХВЕ ХМАО). Монография. СПб.: РХГА, 2013. С. 234.
(обратно)19
Чапнин С.В. Церковь в постсоветской России: возрождение, качество веры, диалог с обществом. М.: Арефа, 2013. С. 27; Забаев И.В., Орешина Д.А., Пруцкова Е.В. Три московских прихода: основные социально-демографические показатели и установки представителей общин крупных приходов. Монография. М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. С. 10; Мирзаханов Д.Г. Особенности политизации исламской общины Дагестана на современном этапе. Автореф. дис… канд. филос. наук. Махачкала, 2005. С. 18.
(обратно)20
Астэр И.В. Современное русское православное монашество как социокультурный феномен. Автореф. дис… канд. филос. наук. СПб., 2009. С. 20; Власова В.В. Старообрядческие группы коми: конфессиональные особенности социальной и обрядовой жизни. Монография. Сыктывкар: Коми науч. центр УрО РАН, 2010. С. 68; Фишман О.М. Жизнь по вере: тихвинские карелы-старообрядцы. Монография. М.: Индрик, 2003. С. 262; Хабибуллина З.Р. Мусульманское духовенство Башкортостана на рубеже XX-XXI веков. Автореф. дис… канд. истор. наук. Ижевск, 2012. С. 19; Яхиев С.-У.Г. Суфизм на Северном Кавказе: история и современность. Автореф. дис… канд. филос. наук. М., 1996. С. 16-17.
(обратно)21
6.6. Разрушение религиозных скреп российской государственности // Национальная идея России. В 6 т. Т. 3. Монография / Под общ. ред. С.С. Сулакшина. М.: Научный эксперт, 2012. С. 1905.
(обратно)22
Уланов М.С. Буддизм в социокультурном пространстве России. Монография. Элиста: Изд-во Калмыцкого ун-та, 2009. С. 174; Асеев О.В. Язычество в современной России: социальный и этнополитический аспекты. Автореф. дис… канд. филос. наук. М., 1999. С. 19; Иваненко С.И. Саентология и бизнес: у каждой эпохи — своя религия. СПб.: Древо жизни, 2011. С. 59.
(обратно)23
Уланов М.С. Буддизм в социокультурном пространстве России. Монография. Элиста: Изд-во Калмыцкого ун-та, 2009. С. 193.
(обратно)24
Резниченко С. Ашрамы и гуру в русском православии. Статья // ‹http://www. apn.ru/publications/artide23380.htm›.
(обратно)25
Лункин Р. Религия Радастеи: запланированное счастье человека-луча. Статья // ‹http://www. keston. org.uk/_russianreview/edition32/02lunkin-about-radasteya. html›; Современная религиозная жизнь России. Энциклопедия. В 4 т. Т. 4 / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: Логос, 2006.
(обратно)26
Социологический ответ на национальный вопрос: пример Республики Башкортостан. Информационно-аналитический бюллетень Института социологии РАН. М., Уфа: Восточная печать, 2012. С. 43; Казьмина О.Е. Русская Православная Церковь и новая религиозная ситуация в современной России: этноконфессиональная составляющая проблемы. Автореф. дис… докт. ис-тор. наук. М., 2007. С. 29; Фишман О.М. Жизнь по вере: тихвинские карелы-старообрядцы. Монография. М.: Индрик, 2003. С. 183;. Родикова С.Ю. Старообрядчество в социокультурной системе современного мира: на примере Якутии. Автореф. дис… канд. культурологии. М., 2006 С. 23; Мирзаев С.Б. Суфизм на Северо-Восточном Кавказе: причины возникновения, сущность и особенности функционирования. Автореф. дис… канд. филос. наук. М., 2012. С. 27; Уланов М.С. Буддизм в социокультурном пространстве России. Монография. Элиста: Изд-во Калмыцкого ун-та, 2009. С. 191, 193; Зомонов М.Д. Бурятский шаманизм как целостная мировоззренческая система. Автореф. дис.. докт. филос. наук. СПб., 2003. С. 18; Булгакова Т.Д. Шаманство в традиционной нанайской культуре: системный анализ. Автореф. дис.. докт. культурологии. СПб., 2001. С. 20-21; Атлас современной религиозной жизни России. В 3 т. Т. 1 / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М., СПб.: Летний сад, 2005; Филатов С.Христианские религиозные сообщества России как субъект гражданского общества. Статья // ‹http://www. strana-oz.ru/2005/6/hristianskie-religioznye-soobshchestva-rossii-kak-subekt-grazhdanskogo-obshchestva›; Лункин Р. Нехристианские народы России перед лицом христианства. Статья // ‹http://www. keston. org.uk/encyclo/19%20Mission%20in%20national%20regions. html›.
(обратно)27
Денильханов М.-Э.Х. Шариат и светское право в общественном сознании народов Северного Кавказа. Монография. М.: Воробьев А.В., 2011. С. 108; Дарханова А.И. Шаманизм бурят Предбайкалья в постсоветский период: социальные функции, традиции и новации. Автореф. дис… канд. истор. наук. Улан-Удэ, 2010. С. 26; Филатов С. Христианские религиозные сообщества России как субъект гражданского общества. Статья // ‹http://www. strana-oz.ru/2005/6/ hristianskie-religioznye-soobshchestva-rossii-kak-subekt-grazhdanskogo-obshchestva›; Атлас современной религиозной жизни России. В 3 т. Т. 1 / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М., СПб.: Летний сад, 2005.
(обратно)28
Гаврилов Ю.А., Шевченко А.Г. Ислам и православно-мусульманские отношения в России в зеркале истории и социологии. Монография. М.: Культурная революция, 2010. С. 306; Лункин Р. Христиане на карте России: вера в Бога в постправославной стране. Статья // ‹-lunkin-hristiane-na-karte-rossii-vera-v-boga-v-postpravoslavnoy-strane›.
(обратно)29
Зубанова С.Г. Социальное служение. Учебное пособие. М.: Лика, 2012. С. 68.
(обратно)30
Кнорре Б. Социальная миссия РПЦ МП: успехи, упущения и идейные парадоксы. Статья // ‹http://www. keston. org.uk/_russianreview/edition46/02-knorre-church-social-work. htm›.
(обратно)31
Иваненко С.И. Вайшнавская традиция в России: история и современное состояние: учение и практика, социальное служение, благотворительность, культурно-просветительская деятельность. Монография. М.: Философская книга, 2008. С. 192.
(обратно)32
Сулакшин С.С., Каримова Г.Г., Куропаткина О.В. и др. Благотворительность в России и государственная политика. Монография. М.: Научный эксперт, 2013. С. 34-35.
(обратно)33
Антонова О.И. Социальное служение религиозных общностей в современной России: опыт социологического исследования. Автореф. дис… канд. со-циол. наук. Екатеринбург, 2009. С. 21; Заболотнева В.В. Социальные учения и социальная деятельность новых религиозных объединений в современной России. Автореф. дис… канд. филос. наук. М., 2012. С. 23.
(обратно)34
Гаврилов Ю.А., Шевченко А.Г. Ислам и православно-мусульманские отношения в России в зеркале истории и социологии. Монография. М.: Культурная революция, 2010. С. 301-302; Лункин Р. Христиане на карте России: вера в Бога в постправославной стране. Статья // ‹-lunkin-hristiane-na-karte-rossii-vera-v-boga-v-postpravoslavnoy-strane›.
(обратно)35
Лункин Р. Христиане на карте России: вера в Бога в постправославной стране. Статья // ‹-lunkin-hristiane-na-karte-rossii-vera-v-boga-v-postpravoslavnoy-strane›.
(обратно)36
Забаев И.В., Орешина Д.А., Пруцкова Е.В. Три московских прихода: основные социально-демографические показатели и установки представителей общин крупных приходов. Монография. М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. С. 70, 28.
(обратно)37
Религия в самосознании народа (религиозный фактор в идентификационных процессах). Монография / Отв. ред. М.П. Мчедлов. М.: ИС РАН, 2008. С. 314.
(обратно)38
За кого будут голосовать верующие? Статья // ‹http://www. pravmir.ru/za-kogo-budut-golosovat-veruyushhie/›.
(обратно)39
43% россиян не видят ничего общего между терроризмом и исламом — опрос общественного мнения. Статья // ‹http://www. pravmir.ru/43-rossiyan-ne-vidyat-nichego-obshhego-mezhdu-terrorizmom-i-islamom-opros-obshhestvennogo-mneniya/›.
(обратно)40
Боева Е.С. Нетрадиционные религиозные организации в российском обществе: факторы роста и оценки населения. Автореф. дис… канд. социол. наук. Хабаровск, 2012. С. 15.
(обратно)41
Андреева Л.А. Феномен секуляризации в истории России: цивилизационноисторическое измерение. Монография. М: Ин-т Африки РАН, 2009. С. 92-93; Кондакова Н.С. Протестантизм на конфессиональном поле Забайкальского края. Автореф. дис… канд. филос. наук. Чита, 2010. С. 17.
(обратно)42
Атлас современной религиозной жизни России / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. В 3 т. М.: Летний сад, 2005-2009; Лункин Р. Церковь Виссариона: божество с человеческими страстями. Статья // ‹http://www. keston. org.uk/_ russianreview/edition31/03vissarion. html›.
(обратно)43
Лункин Р. Христиане на карте России: вера в Бога в постправославной стране. Статья // ‹-lunkin-hristiane-na-karte-rossii-vera-v-boga-v-postpravoslavnoy-strane›.
(обратно)44
Религия в самосознании народа (религиозный фактор в идентификационных процессах). Монография / Отв. ред. М.П. Мчедлов. М.: ИС РАН, 2008. С. 124, 117.
(обратно)45
Фаликов Б. Ржавые скрепы недоверия. Статья // ‹http://www. gazeta.ru/ comments/2013/05/27_a_5349605.shtml›.
(обратно)46
Синяева Ю. РПЦ вплотную подступилась к столичному образованию. Статья // ‹›.
(обратно)47
Атлас современной религиозной жизни России. Т. 1-3. / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М., СПб.: Летний сад, 2005-2009.
(обратно)48
Религия в самосознании народа (религиозный фактор в идентификационных процессах). Монография / Отв. ред. М.П. Мчедлов. М.: ИС РАН, 2008. С. 314.
(обратно)49
Каргина И.Г. Самоидентификация верующих: социальная мотивация. Статья // СОЦИС. 2004. № 1. С. 49.
(обратно)50
Атлас современной религиозной жизни России. В 3 т. Т. 1, 2. М: Летний сад, 2005-2006; Силантьев Р.А. Ислам в современной России. Энциклопедия. М.: Алгоритм, 2008.
(обратно)51
Гаврилов Ю.А., Кофанова Е.Н., Мчедлов М.П., Шевченко А.Г. Сфера политики и межнациональные отношения в восприятии религиозных общностей. Статья // СОЦИС. 2005. № 6. С. 61, 63.
(обратно)52
Лункин Р. Христиане на карте России: вера в Бога в постправославной стране. Статья // ‹-lunkin-hristiane-na-karte-rossii-vera-v-boga-v-postpravoslavnoy-strane›.
(обратно)53
Салафизм в популярной литературе часто называется «ваххабизмом» по имени одного из главных идеологов этого направления — теолога XVIII в. Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба. Данное направление выступает за «очищение» ислама от культурных и этнических примесей.
(обратно)54
По материалам: Современная религиозная жизнь России. Энциклопедия. В 4 т. Т. 4. / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: Логос, 2006.
(обратно)55
Религия в самосознании народа (религиозный фактор в идентификационных процессах). Монография / Отв. ред. М.П. Мчедлов. М.: ИС РАН, 2008. С. 123.
(обратно)56
Ковальчук Ю.С. Стратегии евангелизации этнических сообществ в протестантской миссиологии в ХХ в.: от теории к практике. Статья // Религиоведение. 2008. № 1. С. 34.
(обратно)57
Тагиров И.Р. История национальной государственности татарского народа и Татарстана. Монография. Казань, 2008.
(обратно)58
Алов А.А., Владимиров Н.Г. Иудаизм в России. Монография. М., 1996.
(обратно)59
Кравчук В. Проблемы взаимоотношений государства и НРД в современной России. Статья // ‹http://www. religare.ru/print5942.htm›.
(обратно)60
6.6. Разрушение религиозных скреп российской государственности // Национальная идея России. В 6 т. Т. 3. Монография / Под общ. ред. С.С. Сулакшина. М.: Научный эксперт, 2012. С. 1902-1903.
(обратно)61
Гаврилов Ю.А., Шевченко А.Г. Ислам и православно-мусульманские отношения в России в зеркале истории и социологии. Монография. М.: Культурная революция, 2010. С. 304.
(обратно)62
Там же. С. 58.
(обратно)63
Там же. С. 301.
(обратно)64
43% россиян не видят ничего общего между терроризмом и исламом — опрос общественного мнения. Статья // ‹http://www. pravmir.ru/43-rossiyan-ne-vidyat-nichego-obshhego-mezhdu-terrorizmom-i-islamom-opros-obshhestvennogo-mneniya/›.
(обратно)65
Мазхаб — религиозно-правовая школа в исламе.
(обратно)66
Тарикат — суфийский орден.
(обратно)67
Достаточно вспомнить нашумевший опрос ВЦИОМ, в ходе которого гражданам задавали вопрос «Кто, согласно Конституции, является носителем суверенитета и источником власти в Российской Федерации?». Более половины носителем суверенитета и источником власти назвали Президента РФ (55,33%), граждан (народ) — лишь 19,32% опрошенных (см.: . php?s_id=140&q_id=11818&date=07.12.2005).
(обратно)68
В преамбуле Конституции Российской Федерации сказано о принятии конституции «… исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями». Еще раз термин «ответственность» в значении позитивной ответственности используется в заключительных положениях в контексте изменения структуры федеральных органов исполнительной власти.
(обратно)69
Заявление КГИ об общенациональном учебнике истории // ‹http://www. echo.msk.ru/blog/a_kudrin/1041256-echo/›.
(обратно)70
Altbach P.G. Textbooks in Comparative Context // Murray Thomas R., Kobayashi V.N., eds., Educational Technology. — Its Creation, Development and Cross-Cultural Transfer. Oxford, 1987. P. 159.
(обратно)71
Baques M.-C. L’ evolution des manuels d’histoire du lycee. Des annees 1960 aux manuels actuels // Histoire de l’ education. № 114. 2007. P. 140-141.
(обратно)72
Stray Ch. «Quia nominor leo»: vers une sociologie historique du manuel // Histoire de l'education. № 58. 1993. P. 77.
(обратно)73
Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004.
(обратно)74
Нора П. Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. СПб., 1999.
(обратно)75
Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // ‹. ru/nz/2005/2/ha2.html›.
(обратно)76
Цит. по кн.: Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М., 2001. С. 35.
(обратно)77
Хобсбаум Э. Принцип этнической принадлежности и национализм в современной Европе / ред. Б. Андерсон и др. // Нации и национализм. М., 2002. С. 332.
(обратно)78
Нойманн И. Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М., 2004.
(обратно)79
Ренан Э. Что такое нация? // ‹/ Artide/Ren_Nacia.php›.
(обратно)80
Les manuels d'histoire oublient les heros de 14-18 // Le Figaro. 27.08.2012.
(обратно)81
Historians speak out against proposed Texas textbook changes // Washington Post. 18.03.2010.
(обратно)82
Durante L. History Textbooks as an Instrument of the Nation-building Process. The Case of Israel // ‹ an_Instrument_of_the_Nation-Building_Process_the_Case_of_Israel›.
(обратно)83
Yeow Tong Chia. History Education for nation Building and State Formation. The Case of Singapore // Citizenship Teaching and Learning. V. 7. N. 2. 2012. P. 191207.
(обратно)84
Бранденбергер Д. Национал-большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931-1956). СПб., 2009.
(обратно)85
Подробнее см. далее.
(обратно)86
Lebanon's history textbooks sidestep civil war // The New York Times. 10.01.2007.
(обратно)87
Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. C.188-189.
(обратно)88
Кара-Мурза С.Г. Причины краха советского строя: результаты предварительного анализа // От СССР к РФ: 20 лет — итоги и уроки. Материалы Всероссийской научной конференции (Москва, 25 ноября 2011 г.). М., 2012. С. 70-76.
(обратно)89
Дружба О.В. Великая Отечественная война в историческом сознании советского и постсоветского общества. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук / О.В.Дружба. Ростов н/Дону, 2000. С. 16.
(обратно)90
Гудков Л.Д. «Память» о войне и массовая идентичность россиян // ‹http:// magazines.russ. ru/nz/2005/2/gu5.html›.
(обратно)91
Соловьев С.С. Трансформация ценностей военной службы // СОЦИС. 1996. № 9.
(обратно)92
Свешников А.В. Борьба вокруг школьных учебников истории в постсоветской России: основные тенденции и результаты // ‹. г и/ nz/2004/4/sv10.html›.
(обратно)93
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XX век. Учебник для 9 класса. М., 1995; Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. Россия в XX веке. 10-11 классы. М., 1997.
(обратно)94
«Учебник Филиппова»: продолжение последовало // ‹-filippova›.
(обратно)95
Гудков Л.Д. «Память» о войне и массовая идентичность россиян // ‹http:// magazines.russ. ru/nz/2005/2/gu5.html›.
(обратно)96
Александер Дж. Смыслы социальной жизни: культурсоциология. М., 2013. С. 111.
(обратно)97
Baques M.-C. Involution des manuels d’histoire du lycee. Des annees 1960 aux manuels actuels // Histoire de leducation. № 114. 2007. P. 141.
(обратно)98
What Japanese history lessons leave out // ‹/ magazine-21226068›.
(обратно)99
Россиянам понравилась идея единого учебника истории // ‹http://www. mterfax.ru/news.asp?id=310996›.
(обратно)100
В этой особенности России А. де Кюстин усматривает одну из основ ее мощи. В 1951 г. его книга была издана в США с предисловием директора ЦРУ Б. Смита, в котором было сказано, что «книга может быть названа лучшим произведением, когда-либо написанном о Советском Союзе».
(обратно)101
В общество поступал поток продуктов культуры, прямо не относящихся к категории научно-популярных, но созданных учеными. Для его «производства» требовалось многочисленное научное сообщество. Вот, например, «Книга о вкусной и здоровой пище». Она издавалась с 1952 г. почти ежегодно, каждое издание по 500-600 тыс. экземпляров, причем тираж расходился в кратчайшие сроки. В этой книге кулинарные рецепты сопровождаются комментариями ученых на тему рационального питания, состава и свойств продовольственных продуктов, процессов консервирования, лечебного питания и пр. Эти тексты написаны ведущими учеными и врачами, в сочетании с чисто практическими «бытовыми» рекомендациями они оказывали большое влияние на сознание массы людей.
(обратно)102
Гляциолог из Института географии РАН рассказывает: «После схода ледника в 1969 г. по заказу Совета министров Северной Осетии на Колку отправили экспедицию из сотрудников Института географии РАН. Несколько лет в 1970-х гг. специалисты-гляциологи изучали ледник и его поведение. В частности, был вычислен объем ледника, его критическая масса… Как только масса превышает эту отметку, ледник не выдерживает своего веса и сходит вниз». Но затем, по его словам, научные работы из-за прекращения финансирования в начале реформы были свернуты, ледник был оставлен без присмотра. В дальнейшем в ходе реформы наблюдения за ледниками прекратились в РФ практически повсеместно.
(обратно)103
Сейчас многим трудно понять, что строить систему научных учреждений в 1918-1920 гг. означало прежде всего сохранить самих ученых в буквальном смысле слова. В 1919 г. был принят декрет «Об улучшении положения научных специалистов». Им были выданы пайки на усиленное питание (сначала 500, к сентябрю 1921 г. 4786 пайков, а в 1922 г. продуктовые пайки получали 22 589 работников науки и техники).
(обратно)104
В 1938 г. в АН СССР была образована Комиссия по атомному ядру. Ее планы и отчеты, переписка с руководством правительства опубликованы — это полная комплексная программа, которая предусматривала добычу 10 т урана в 1942-1943 гг. и строительство большого ускорителя в 1941 г. Эта программа была принята к исполнению, когда еще было неясно, возможно ли осуществление цепной реакции на уране. Научная система работала на опережение. Точно так же обстояло дело с созданием ракет. В августе 1933 г. состоялся первый полет ракеты ГИРД-09, в ноябре того же года — ГИРД-10, а уже в 1940-е гг. над созданием ракетной техники работали 13 НИИ и КБ и 35 заводов.
Британская энциклопедия фиксирует этот факт: «В течение десятилетия [1930-1940 гг.] СССР действительно был превращен из одного из самых отсталых государств в великую индустриальную державу; это был один из факторов, который обеспечил советскую победу во Второй мировой войне».
(обратно)105
Средства, вложенные советским государством в 1920-1930-е гг. в науку (прежде всего, в капитальное строительство, оборудование и подготовку кадров), были очень велики даже по западным меркам. С 1923 г. Академия наук посылала своих представителей почти на все важные научные конференции Европы, Америки и Азии. Стали довольно распространенными командировки ученых за границу для обучения и стажировок по программам наркоматов. Сотрудник Фонда Рокфеллера в 1935 г. писал в отчете: «Даже максимум, что RF [Фонд Рокфеллера] мог бы сделать в России, был бы лишь каплей по сравнению с огромным нынешним финансированием, по крайней мере в бумажных рублях».
(обратно)106
Заметим здесь, что, когда в науке нащупывали очередную критическую точку (подобно тому, как А. Стаханов отыскивал такую точку в пласте угля), сигналы об этом по разным каналам шли в массовое сознание. Из него, «снизу», должны были исходить духовные импульсы, дававшие ощущение миссии служения народу тем, кто привлекался к решению проблемы. Организация разработки атомного оружия началась в СССР с 1942 г., после того как молодой физик Г.Н. Флеров, в тот момент фронтовой капитан, написал письмо И. Сталину о необходимости возобновить прерванные войной работы над атомной проблемой. Но быстро развернуть такую крупномасштабную программу было бы невозможно, если к этому не были бы готовы достаточно широкие круги общества. Эта работа велась заранее.
В «Правде» № 1 за 1941 г. помещен новогодний шарж Кукрыниксов — около елки самые прославленные люди страны: Д. Шостакович, М. Шолохов, П. Капица… и молодые физики г. Флеров и К. Петржак, которые в мае 1940 г. открыли спонтанное деление урана. В том же номере стихи С. Кирсанова:
Мы в Сорок Первом свежие пласты земных богатств лопатами затронем; и, может, станет топливом простым уран, растормошенный циклотрономИ рисунки Кукрыниксов, и такие стихи просто так в новогоднем номере «Правды» не появлялись. Для этого требовалось знание власти. А накануне, 31 декабря 1940 г., целый подвал в газете «Известия» занимала статья под названием «Уран-235».
(обратно)107
Во время Нюрнбергского процесса фельдмаршалу фон Паулюсу был задан вопрос: «Правда ли, что Вы в дни, когда Ваше отечество находилось в состоянии войны с Советской Россией, читали лекции о стратегии в высшей военной академии противника?». Фон Паулюс ответил: «Советская стратегия оказалась настолько выше нашей, что я вряд ли мог понадобиться русским, хотя бы для того, чтобы преподавать в школе унтер-офицеров. Лучшее тому доказательство — исход битвы на Волге, в результате которой я оказался в плену, а также и то, что все эти господа сидят сейчас вот здесь на скамье подсудимых».
(обратно)108
В 1985 г., на большом собрании в Доме Союзов И.В. Петрянов-Соколов рассказал, как в годы войны был командирован в Соликамск, где вышла из строя очень сложная установка. Железная дорога была забита, и в Соликамск он прибыл только через десять дней. К его изумлению, установка уже работала: инженеры и рабочие сами докопались до сути и, творчески устранили поломку. Они пошли на большой риск для себя лично, но это был риск разумный, потому что они действовали умно и докопались до сути. Как сказано в отчете о том собрании, «И.В. Петрянов-Соколов выразил большую обеспокоенность тем, что ценный и поныне полезный опыт взаимодействия науки и производства в годы войны сегодня плохо изучается».
(обратно)109
Осенью 1941 г. остро встала проблема борьбы с вражескими танками. Исходя из новой гидродинамической теории (исследования М.А. Лаврентьева в теории струй) была выдвинута идея боеприпаса нового типа — кумулятивных снарядов и мин. Они были испытаны в мае 1942 г. и показали удивительную эффективность: пробивали броню, по толщине равную калибру орудия, а мины — даже броню толщиной 200 мм.
(обратно)110
Они создали первую в мире автоматизированную линию агрегатных станков для обработки танковой брони — производительность труда сразу возросла в 5 раз. Институт электросварки АН УССР под руководством Е.О. Патона, эвакуированный в Нижний Тагил, в 1942 г. создал линию автоматической сварки танковой брони под флюсом, что позволило организовать поточное производство танков. Общая производительность труда при изготовлении танков повысилась в 8 раз, а на участке сварки — в 20 раз. Немцы за всю войну не смогли наладить автоматической сварки брони.
На основе развития теории баллистики и решения ряда математических проблем были улучшены методы проектирования артиллерийских орудий, способы стрельбы и живучесть артиллерийских систем. Были значительно улучшены дальнобойность скорострельность, кучность стрельбы, маневренность, надежность в эксплуатации и мощность артиллерийского вооружения. Коллектив, возглавляемый В.Г. Грабиным, в начале войны создал лучшую в мире (по признанию союзников и германских экспертов) дивизионную пушку 76-калибра ЗИС-3, причем снизил стоимость каждой пушки по сравнению с ее предшественницей в 3 раза, что позволило в достатке обеспечить армию этой пушкой. Была усовершенствована и реактивная артиллерия.
Благодаря трудам С.А. Христиановича, М.В. Келдыша и других ученых были достигнуты высокие аэродинамические качества новых образцов самолетов, усилена их броня, вооружение, упрощена технология изготовления, что позволило значительно обогнать германские заводы по производительности. Конструкторы удвоили мощность авиационных моторов, не увеличив при этом их массу. За период войны было создано 23 типа мощных двигателей. Увеличился срок службы самолетов, снизилась их уязвимость в боях, упростилось управление ими. Появились совершенные для своего времени боевые машины. Они обеспечили господство в воздухе во второй половине войны.
Мобильность и эффективность советской научно-технической системы не укладывалась в западные стандарты. В 1939-1940 гг., показывая свою верность Пакту о ненападении, Германия продала СССР ряд образцов новейшей военной техники и новейших технологий. Гитлер разрешил это, получив от немецких экспертов заверения, что СССР ни в коем случае не успеет освоить их в производстве. Это было ошибкой.
(обратно)111
Академик А.Л. Яншин рассказывает, что после оккупации Украины был утрачен главный источник марганца — Никопольское месторождение. Остался лишь марганец Чиатуры, но перевозка руды оттуда на Урал была затруднена. Было известно, что на Урале есть мелкие разрозненные вкрапления марганца, но их никогда не разрабатывали из-за ничтожных запасов. Теперь геологи решили срочно их разведать и разработать. В эти места с металлургических заводов отправлялась автоколонна с рабочими и геологами. Геологи отыскивали пятна руды, она вся выбиралась и той же автоколонной отправлялась на завод. Все делалось так быстро, что на Урале не произошло сбоев производства из-за отсутствия марганца. Так же вели дело на Алтае — создавали временные коллективы, включавшие от геологов и горняков до горнообогатителей и металлургов. Решения принимали прямо на месте, в течение суток, а то и часов. Находили руду, открывали рудник, все вместе работали на добыче. Объем металлургического производства был увеличен вдвое.
(обратно)112
А. Деникин писал, что ни одно из антибольшевистских правительств «не сумело создать гибкий и сильный аппарат, могущий стремительно и быстро настигать, принуждать, действовать. Большевики бесконечно опережали нас в темпе своих действий, в энергии, подвижности и способности принуждать. Мы с нашими старыми приемами, старой психологией, старыми пороками военной и гражданской бюрократии, с петровской табелью о рангах не поспевали за ними…».
(обратно)113
Академик А.П. Александров писал об организации «атомной программы» в конце 1940-х годов: «Кроме специально созданных крупных научных учреждений в Москве, Харькове и других местах отдельные участки работ поручались практически всем физическим, физико-химическим, химическим институтам, многочисленным институтам промышленности. К работам широко была привлечена промышленность: машиностроение, химическая, цветная и черная металлургия и другие отрасли».
(обратно)114
В СССР в 1931 г. в издательстве «Наука» была создана серия «Научно-популярная литература». Уже в 1940 г. выпуск научно-популярных книг достиг в СССР годового тиража 13 млн экземпляров. К началу 1970-х годов тиражи выросли до 70 млн, а в 1981 г. выпуск научно-популярной литературы в СССР составил 2451 наименование общим тиражом 83,2 млн экземпляров. В 1933 г. начал издаваться научно-популярный журнал «Техника молодежи», в 1934 г. — журнал «Наука и жизнь». Тиражи научно-популярных журналов стали массовыми (в 1980-е гг. журнал «Наука и жизнь» выходил тиражом 3,4 млн экземпляров), однако спрос на эти издания полностью не удовлетворялся.
Другим важным каналом распространения научных знаний и пропаганды науки были публичные популярные лекции, нередко с показом научных экспериментов. Лекциями ученых была охвачена значительная часть трудовых коллективов, сельских клубов, школ, воинских частей. В 1930-е гг. чтение лекций рабочим на предприятиях было одной из самых распространенных «общественных нагрузок» научных работников.
В 1947 г. было учреждено Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний («Знание»). Учредительное собрание проходило в Большом театре, Обществу был передан Политехнический музей. В 1951 г. было создано издательство «Знание», оно печатало журналы «Международная жизнь», «Знание — сила», ежегодник «Наука и человечество» и брошюры по различным отраслям знаний (недавно о них вспомнили: «изумительные по доступности и одновременно строгости изложения научного материала брошюры»).
(обратно)115
Это разделение нарушает и сложившуюся в науке систему социодинамики знания. В реальной информационной структуре науки фундаментальное и прикладное знания переплетены, также неразделимы они институционально. И. Лэнгмюр писал: «Существенной пользой, которую промышленная лаборатория получает от того, что некоторые ее работники занимаются фундаментальными исследованиями, является стимулирующее действие данного факта на весь коллектив. Это привлекает в лабораторию людей различного склада из числа тех, кто обычно занимается инженерными исследованиями, и создает в ней условия для значительно большего стремления быть в курсе новейших взглядов в отношении новых научных разработок. Люди, занимающиеся фундаментальными исследованиями, нередко являются неоценимыми советниками и консультантами для работающих над разрешением практических проблем».
(обратно)116
В 2009 г. заместитель министра образования и науки А.В. Хлунов сказал в интервью «Российской газете»: «Ее [российской науки] главная проблема — это сложившаяся еще со времен СССР система финансирования. У нас деньги получают институты. Но не секрет, что сегодня в них успешно работают две-три лаборатории. Так вот в идеале именно они должны получать львиную долю бюджетных денег… Хорошо бы расставить приоритеты среди институтов. Что и должна сделать предлагаемая нами система оценок, которая позволит выделить прорывные коллективы и обеспечить их хорошим финансированием за счет тех, кто не очень активен». Однако НИИ — это система, а две-три успешных лаборатории — ее видимая для министерства часть, которая без «незаметных» лабораторий вряд ли и выживет.
(обратно)117
В 1990-е гг. были, например, прекращены гидрологические разрезы на Черном море, начатые еще в XIX в. и проводившиеся во время Великой Отечественной войны даже при непосредственной опасности бомбежек и обстрелов гидрологических судов.
(обратно)118
Надо отметить, что приводимые в разных источниках абсолютные величины существенно различаются.
(обратно)119
Журнал «Известия Американского математического общества», призывая американских математиков делать пожертвования для спасения советской математической школы, называл причину вполне однозначно: «Политическая смута последних лет в Восточной Европе поставила на грань катастрофы научные и математические исследования в бывшем Советском Союзе… Советский Союз обладал исключительно сильными традициями в математических науках, с блистательными научными достижениями и крупным вкладом в математическое образование. В настоящее время возникла угроза полной гибели этого сообщества».
(обратно)120
В 2002–2004 гг. в шкале престижности профессий в США наука занимала первое место («член Конгресса» — 7 место, «топ-менеджер» — 11, «юрист» — 12, «банкир» — 15 место). В Китае научный работник занимал второе место после врача. В России ученые занимали в те годы 8 место после юристов, бизнесменов, политиков. В США 80% опрошенных были бы рады, если сын или дочь захочет стать ученым, а в России рады были бы только 32%.
(обратно)121
Вот сообщение агентства «Росбалт» (ноябрь 2006 г.): «Архиепископ Уфимский и Стерлитамакский Никон обратился с письмом к гендиректору Первого канала К. Эрнсту с требованием “остановить производство телепередач, пропагандирующих оккультные антинаучные знания и методы оздоровления”. Глава епархии констатировал, что в эфире канала изобилуют программы о магии, гадании, сглазе и порче… Архиепископ отметил, что в программах “практически отсутствует контрмнение священнослужителей, медиков и психологов на представленную проблему либо оно крайне коротко”. Он упрекнул менеджеров Первого канала в лоббировании оккультного просвещения и призвал вспомнить, что главной функцией телеканала “является просветительская функция”».
В своем обращении священнослужитель выразил даже изумление: «Это просто невероятно! XXI в. на дворе, и я, архиерей Русской Православной Церкви, не раз ложно обвиняемой в противлении научному прогрессу, встаю на защиту науки и просвещения, в то время как “прогрессивная элита” массмедиа тиражирует на многомиллионную аудиторию лженаучные знания, средневековое мракобесие и суеверия».
(обратно)122
Пример — пуск в начале сентября 2008 г. большого ускорителя элементарных частиц (коллайдера) в ЦЕРНе. Перед этим почти целую неделю в информационных программах российского телевидения сообщалось об этом событии, и главным содержанием этих сообщений были опасения, которые якобы овладели населением и даже учеными развитых стран, как бы эксперимент на этом ускорителе не привел к возникновению черной дыры, которая поглотит планету. Это говорилось совершенно серьезно. Хотя вскользь сообщалось, что граждане России не слишком напуганы этой перспективой, однако делалось все, чтобы они напугались. При этом никому из ученых не дали слова, чтобы спокойно и внятно разъяснить иррациональность этих страхов. Если кто-то из физиков, практически неизвестных широкой публике, все-таки появлялся на экране, они давали такие невнятные и бессвязные реплики, что было ясно: из их объяснений режиссеры телевидения вырезали и дали в эфир именно невнятные и вырванные из контекста фразы.
Ввод в действие крупной экспериментальной установки — важное событие в науки, но в нем нет ничего эпохального. Однако из него сделали сенсацию, более того, его постарались использовать для внушения людям параноидального страха и фобий по отношению к науке.
(обратно)123
В 1992 г., во время первой большой атаки на Академию, д-р филологических наук В. Иванов пишет в «Независимой газете»: «У нас осталась тяжелая и нерешаемая проблема — Академия наук. Вот что мне, депутату от академии, абсолютно не удалось сделать — так это изменить ситуацию, которая здесь сложилась. Академия по-прежнему остается одним из наиболее реакционных заведений».
(обратно)124
В июне 2005 г. Фонд «Общественное мнение» провел в 44 регионах РФ опрос об отношении населения к плану реформирования науки, предложенному правительством. Был задан вопрос: «Знаете ли Вы, что-то слышали или слышите сейчас впервые о планах правительства провести реформу Российской Академии наук?» Только 5% ответили на него: «Знаю». 67% «слышали впервые», остальные «что-то слышали», но не знали сути дела.
(обратно)125
В ведущем авиационном вузе России МАИ зарплата доктора технических наук, профессора в конце 2003 г. была равна 4800 руб. при средней зарплате в Москве 11 000 руб.
(обратно)126
«Мышление в духе страны Тлён» — аллегория, приложенная Дж. Греем к современному обществоведению либерализма, гораздо более она справедлива в отношении российского обществоведения, которое продолжило методологическую линию советской социальной и политической философии 1970–1980-х годов. Эта аллегория удивительно точна, вспомним ее суть.
В рассказе-антиутопии Хорхе Луиса Борхеса «Тлен, Укбар, Orbis tertius» (1944) говорится о том, как ему странным образом досталась энциклопедия страны Тлён. В ней были подробно описаны языки и религии этой страны, ее императоры, архитектура, игральные карты и нумизматика, минералы и птицы, история ее хозяйства, развитая наука и литература — «все изложено четко, связно, без тени намерения поучать или пародийности». Но весь этот огромный труд был прихотью большого интеллектуального сообщества («руководимого неизвестным гением»), которое было погружено в изучение несуществующей страны Тлён. Жители этой страны были привержены изначальному тотальному идеализму.
(обратно)127
Для выживания системы «ячеистых» НИИ и всей науки необходим отсутствующий в настоящее время структурный компонент — сеть «центров анализа информации». Анализ производимой и уже произведенной в мировой науке информации позволяет «вводить в страну» научное знание с затратами в 100 раз меньшими, чем требуется для содержания исследований, осуществляющих такую «перекачку» знания. В условиях кризиса роль таких центров еще важнее: «анализ информации» может на несколько лет стать дешевым заменителем собственных исследований и средством включения оставленных для выживания ячеек в контекст современной системы знания. Он вовлечет в эффективную творческую работу многих пожилых ученых, которые освободят рабочее место в лаборатории молодым. Следует предусмотреть создание в новых НИИ центра анализа информации как исследовательского подразделения. Речь должна идти примерно о сотне таких центров.
(обратно)128
Шмелев Н.П. Экономические перспективы России // СОЦИС. 1995. № 3.
(обратно)129
URL: /a/#p/overview/executivesummary.
(обратно)130
Инвестиции в основные фонды Российской Федерации в 2010 г. были чуть больше половины от уровня 1990 г. Но и в этой небольшой величине львиная доля направлена на финансирование анклавов хозяйства, работающих на мировой рынок, или обслуживание этих анклавов. Инвестиции в добычу энергоресурсов и металлургию, в транспорт и связь, в операции с недвижимостью составили в 2010 г. 59% всех инвестиций.
(обратно)131
Анализ текущего состояния жилищного фонда. М.: Институт экономики города. 2011. С. 27 // Европейский банк реконструкции и развития. URL: http:// .
(обратно)132
Федорук В. Капремонт многоквартирных домов (История всероссийского обмана) // За права человека. Общероссийское общественное движение. URL: -smi/kapremont-mnogokvartirHyx-domov-istoriya-vserossijskogo-obmana.
(обратно)133
В 2009 г. в РФ снесено 2,9 млн м2 ветхого и аварийного жилищного фонда (2,9% от официально объявленной общей площади ветхого и аварийного жилищного фонда).
(обратно)134
В 2000 г. пресса писала: «5,5% жилого фонда Москвы находится в аварийном и ветхом состоянии, еще 18% — в неудовлетворительном. Такие данные были приведены на заседании правительства столицы» [Деловая Москва, 17.07.2000]. Рост с 5,5 до 14% за шесть лет — правдоподобная величина.
(обратно)135
URL: = 159.
(обратно)136
Шкель Т. Ломать и строить. Государство начнет масштабный капремонт ветхого жилья // Российская газета. № 4390. 16 июня 2007 г. URL: http://www. rg.ru/2007/06/16/zhkh.html).
(обратно)137
М.И. Бесхмельницын. Отчет о проверке эффективности и целевого использования государственных капитальных вложений за 2003-2004 годы, выделенных на реализацию подпрограммы «Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда», входящей в состав Федеральной целевой программы «Жилище» // Счетная палата Российской Федерации. URL: /.
(обратно)138
Счетная палата вскользь делает странное замечание: «Минюстом России письмом от 23 апреля 2004 года № 07/4174-ЮД отказано в государственной регистрации данного постановления».
(обратно)139
Администрация города Омска. Анализ долгосрочных тенденций социально-экономического развития г. Омска. Аналитический отчет. Омск, 1998.
(обратно)140
URL: =view&id=2217&Itemid=197.
(обратно)141
URL: .
(обратно)142
В. Словецкий. Эффект «черной дыры» // Новые известия. 5 августа 2013 г. URL: -08-05/186736-effekt-chernoj-dyry. html.
(обратно)143
М.И. Бесхмельницын. Отчет о проверке эффективности и целевого использования государственных капитальных вложений за 2003-2004 годы, выделенных на реализацию подпрограммы «Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда», входящей в состав Федеральной целевой программы «Жилище» // Счетная палата Российской Федерации. URL: /.
(обратно)144
Л. Шабалина. Сенсация не случилась? // Экономика и время. 18 июня 2012 г. URL: .
(обратно)145
В.В. Путин поддержал: «Это нужно будет сделать одновременно с изменением соотношения софинансирования между регионами и федеральным бюджетом в сторону увеличения нагрузки, конечно, на федеральный бюджет».
(обратно)146
Федеральная служба государственной статистики. URL: -f/jkh42.htm.
(обратно)147
Это, например, произошло в русской революции, где роль актива перешла от эсеров к большевикам. Конечно, этого бы не произошло, если бы большевики не вели интенсивной политической борьбы с эсерами, но исход борьбы во многом определялся той частью солдат, рабочих и крестьян, которые внимательно следили за этой борьбой и соотносили позиции сторон со своими чаяниями. Но и когда большевики вышли на первый план, об их отношении с революционными массами Б. Брехт сказал: «Ведомые ведут ведущих».
(обратно)148
В работе этого социолога есть даже целый раздел под заголовком «Пауперизация как причина социальной терпимости». Так, с помощью пауперизации была достигнута «социальная терпимость» граждан ценой распада общества.
(обратно)149
В 1898 г. под Хартумом отряд англичан, вооруженный 6 пулеметами «Максим», уничтожил 11 тыс. суданских воинов, потеряв убитыми 21 человека.
(обратно)150
Данные на приведенных рисунках взяты из официальных статистических ежегодников ЦСУ РСФСР и Росстата РФ.
(обратно)151
В другой статье того же автора поясняется: «Если учесть среднее время поиска работы (“нахождения в состоянии безработного”), замещение одних групп безработных другими, то получится, что прошли через статус незанятого с 1992 г. по 1998 г. примерно по 10 млн каждый год и всего более 60 млн человек; из них рабочие составляли около 67%, т. е. более 40 млн человек» [19].
(обратно)152
Н.Е. Тихонова пишет о «полярном слое» — тех, кто живет в нищете: «Особенно велик здесь удельный вес неквалифицированных рабочих, почти каждый пятый из которых живет в условиях нищеты (в среднем по массиву — лишь каждый двадцатый россиянин), и еще 25,9% — на уровне “просто бедности”» [32].
(обратно)153
Отношение к провинциальным крестьянам собственной страны, как к варварам, как людям иных народов, встречается в заметках многих путешественников из европейских столиц. Например, Бальзак сравнивал крестьян юга Франции с «дикими» американскими индейцами.
(обратно)154
По оценкам экспертов, в 2011 г. около 10% из 11 млн занятых в России в неформальном секторе экономики мигрантов работали в промышленности. Сложилась устойчивая тенденция: «Труд по найму частично перемещается в ту область, где Трудовой кодекс не защищает права работников» [58].
(обратно)155
Минимальное значение индекса равно 1, максимальное — 5.
(обратно)156
«Наиболее работоспособные кадровые рабочие еще с 1989 г. уходили в кооперативы и другие структуры, альтернативные государственным, где их заработная плата в три и более раза превышала зарплату рабочих тех же специальностей на госпредприятиях. Результатом стало то, что слой кадровых рабочих на предприятиях становился тоньше» [44].
(обратно)157
Докса — идущий от Аристотеля термин, означающий общепринятое мнение.
(обратно)158
Заметим, что доля рабочей молодежи с «индивидуалистическими, перфекционистскими ориентациями» была на советских предприятиях едва ли не больше, чем в настоящее время, но тогда они имели возможность «самореализации в рамках рабочих профессий» и не входили в противоречие с рабочим коллективом. Проблема не в психологии личности, а в социальных формах — их и надо модернизировать, раз уж отказались от советского уклада предприятия.
(обратно)159
Исследование проведено методом опроса выборки из 2800 человек, проживающих более чем в 50 населенных пунктах городского и сельского типа в основных географических и социально-экономических зонах страны, одновременно был проведен опрос 700 компетентных экспертов.
(обратно)160
Е. Ясин излагает смысл залоговых аукционов так: «Ельцин нарушил тогдашнюю Конституцию, то есть прибег к государственному перевороту. Это позволило удержать курс на реформы… Единственным социальным слоем, готовым тогда поддержать Ельцина, был крупный бизнес. За свои услуги он хотел получить лакомые куски государственной собственности. Кроме того, они хотели прямо влиять на политику. Так появились олигархи» [5].
(обратно)161
Н.П. Шмелев так определил перспективы России: «Наиболее важная экономическая проблема России — необходимость избавления от значительной части промышленного потенциала, которая, как оказалось, либо вообще не нужна стране, либо нежизнеспособна в нормальных, то есть конкурентных, условиях. Большинство экспертов сходятся во мнении, что речь идет о необходимости закрытия или радикальной модернизации от 1/3 до 2/3 промышленных мощностей» [7]. Реально ни о какой «радикальной модернизации» речи и не заходило, выполнялась именно программа деиндустриализации.
(обратно)162
Заметим, что ответ «Уважаю, но только в том случае, если богатство получено честным путем» вряд ли можно трактовать как свидетельство толерантного отношения к богатым — никто из них не предъявил и не предъявит справки о том, что «богатство получено честным путем».
(обратно)163
В примечании сказано: «Поскольку опрос завершен осенью 2008 г. (примерно в начале мирового финансового кризиса), можно ожидать, что и так весьма критичные оценки современного Российского государства сегодня были бы гораздо более жесткими. Синдром, вполне достаточный для подрыва экономических, политических и духовных основ любого государственного образования».
(обратно)164
Менее важным, но все же существенным является тот факт, что и цели приватизации население воспринимало нечетко и противоречиво. Этот аспект приватизации даже опрошенные эксперты (обычно более умеренные, чем население) оценили негативно: «Непродуманность и поспешность, с которой проводилась приватизация, слабый учет мирового опыта и игнорирование российской специфики привели к тому, что декларировались одни цели, а на практике все развивалось по иному сценарию. Так считают 95% экспертов. В итоге реальная собственность, по мнению 67% экспертов, была распределена в интересах узкого круга лиц, а подавляющее большинство россиян оказались обманутыми» (выделено нами) [1].
(обратно)165
За военные годы здравоохранение СССР лишилось 6000 больниц, 33 000 поликлиник, диспансеров и амбулаторий, 976 санаториев и 655 домов отдыха, 1125 санэпидстанций, 60 фабрик и заводов медицинской промышленности.
(обратно)166
В 2007 г. была произведена переоценка основных фондов бюджетных организаций, учтен их износ. Вследствие этого задним числом был сделан перерасчет коэффициента обновления основных фондов в стоимостном выражении. По отрасли «здравоохранение и предоставление социальных услуг» значение этого коэффициента составило: в 2004 г. — 3%, в 2005 г. — 3,7% и в 2006 г. — 4,5%.
(обратно)167
Среднесписочная численность всех работников отрасли «здравоохранение», работающих в частных учреждениях, достигла в 2000 г. 3,9% от общего числа в РФ, а в 2006 г. — 4,2% (184,6 тыс. человек). Кстати, зарплата медицинских работников в частных учреждениях в 2006 г. была немного (на 4,1%) ниже, чем в государственных.
(обратно)168
Это — данные из Государственного доклада о состоянии здоровья населения РФ 2005 г., но не было сообщений, что положение со страхованием неработающих граждан принципиально изменилось.
(обратно)
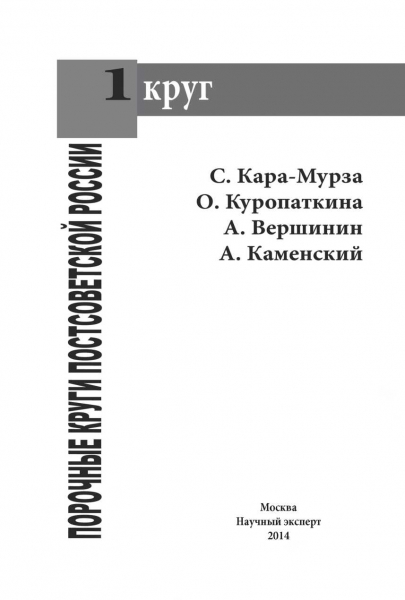


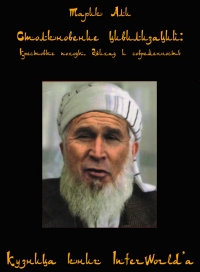



Комментарии к книге «Порочные круги постсоветской России т.1», Сергей Георгиевич Кара-Мурза
Всего 0 комментариев