Предлагаемая вниманию читателей книга впервые вышла в 1922 г. на родном для автора немецком языке под названием «Общественное хозяйство. Исследования социализма» [1*]. С тех пор этот труд Людвига фон Мизеса неоднократно переиздавался с дополнениями автора. С выходом в 1936 г. в Англии перевода с немецкого издания 1932 г., выполненного Дж. Кахане (J. Kahane), книга получила название «Социализм: экономический и социологический анализ» [2*]. Перевод Дж. Кахане использован во всех последующих англоязычных изданиях, в том числе и в последнем американском издании (1981), с которого и сделан настоящий перевод на русский язык [3*].
Перевод с немецкого, осуществленный Дж. Кахане, не буквальный. Поэтому в тех случаях, когда, по нашему мнению, в немецком оригинале лучше, отчетливее выражена авторская мысль, русский текст отредактирован с ориентацией на немецкий оригинал. Восстановлены и сделанные переводчиком отдельные купюры.
Источники цитат и ссылок (обозначеные в тексте ссылками со звёздочкой) приводятся в том виде, как они даны Людвигом фон Мизесом. Если же данная работа издана на русском языке, то издание также указывается (в скобках <>). В таких случаях приводимые Мизесом цитаты даются по опубликованному русскому переводу первоисточника. Цитаты из К. Маркса и Ф. Энгельса даются по тексту второго издания Сочинений, а цитаты из В. И. Ленина — по тексту пятого издания Полного собрания сочинений.
Немногочисленные авторские подстрочные примечания обозначены тем же знаком, что и источники.
Встречающиеся в авторском тексте и в предисловии Ф. Хайека ссылки на страницы публикуемой работы Л. Мизеса приведены применительно к настоящему изданию.
Для удобства читателей труд Людвига фон Мизеса снабжен постраничным комментарием, специально подготовленным для настоящего издания. Комментарий этот — сугубо фактологический и не несет никаких оценок излагаемых в авторском тексте идей и мнений.
Предметный и именной указатели также специально составлены для настоящего издания.
В американском издании 1981 г. текст Мизеса предваряется предисловием, написанным его учеником, лауреатом Нобелевской премии Фридрихом Хайеком. Издатели сочли целесообразным включить это предисловие в русское издание.
Предисловие
«Социализм», впервые появившись в 1922 г., произвел сильное впечатление. Эта книга постепенно изменила существо взглядов многих молодых идеалистов, которые вернулись к своим университетским занятиям после первой мировой войны. Я знаю это, потому что был одним из них.
Мы чувствовали, что цивилизация, в которой мы выросли, рухнула. Мы были нацелены на строительство лучшего мира, и именно это желание пересоздать общество привело многих из нас к изучению экономической теории. Социализм обещал желаемое — более рациональный, более справедливый мир. А потом появилась эта книга. Она нас обескуражила. Эта книга сообщила нам, что мы не там искали лучшее будущее.
Ряд моих современников, позднее приобретших известность, но тогда не знавших даже друг друга, прошли сходный путь (Вильгельм Рёпке в Германии и Лайонел Роббинс в Англии, например). [1] Никто из нас не был до этого учеником Мизеса. Я познакомился с ним, работая во Временном управлении австрийского правительства, которому было доверено проведение в жизнь некоторых положений Версальского договора. Он был моим начальником, директором департамента.
Тогда Мизес был больше известен своей борьбой с инфляцией. Он приобрел доверие правительства и, будучи финансовым советником Австрийской торговой палаты, постоянно подталкивал его на тот единственный путь, который обещал предотвратить полное крушение финансовой системы. (За первые восемь месяцев работы под его руководством мое жалованье увеличилось в 200 раз.)
Многие из нас, студентов начала 20-х годов, знали о Мизесе как о довольно замкнутом университетском преподавателе, который лет за десять до этого опубликовал книгу [4*], в которой положения австрийской школы предельной полезности были применены к теории денег. [2] Эту книгу Макс Вебер выделил как наиболее толковую по данному вопросу. [3] Возможно, нам следовало бы знать и то, что в 1919 году Мизес также опубликовал весьма глубокое исследование в области социальной философии, в котором рассматривались проблемы нации, государства и хозяйственной жизни [5*]. Эта книга, однако, так и не получила широкой известности, и я открыл ее для себя, только став его подчиненным в правительственном учреждении в Вене. Как бы то ни было, первая публикация книги «Социализм» была для меня большим сюрпризом [6*]. Насколько я знал, в предыдущие (и чрезвычайно загруженные) 10 лет у Мизеса едва ли было время для академических занятий, а эта книга представляет собой солидный трактат о социальной философии, свидетельствующий о независимом и критическом осмыслении автором почти всей существовавшей литературы.
В первые 12 лет нашего века Мизес, пока его не призвали в армию, изучал экономические и социальные проблемы. К этим вопросам его привлекла, как и мое поколение двадцатью годами позже, всеобщая увлеченность Sozialpolitik [4] — подобием английского «фабианского» социализма. [5] Его первая книга [7*], опубликованная когда он еще изучал право в Венском университете, была пронизана духом господствовавшей немецкой «исторической школы», сосредоточенной почти исключительно на проблемах «социальной политики». Позднее он даже присоединился к одной из тех организаций, которые побудили немецкий сатирический еженедельник изобразить экономистов как людей, которые обмеряют жилище рабочего и приговаривают: очень тесное. Но изучая в ходе занятий юриспруденцией политическую экономию, Мизес открыл для себя экономическую теорию Карла Менгера, который в то время как раз оставил профессуру и вышел в отставку. [6] Как говорит Мизес в автобиографических заметках [8*], книга Менгера «Основы учения о народном хозяйстве» [9*] сделала его экономистом. Пройдя через тот же опыт, я знаю, что он имеет в виду.
Первоначально Мизес интересовался преимущественно исторической стороной проблем и приобрел благодаря этому редкую среди теоретиков широту исторической эрудиции. Но, в конце концов, неудовлетворенность тем, как историки, а особенно историки экономики, истолковывали факты, подтолкнула его к изучению экономической теории. Он был вдохновлен Евгением Бём-Баверком [7], который вернулся к профессуре после службы на посту министра финансов Австрии [8]. В предвоенное десятилетие семинар Бём-Баверка был главным центром экономических дискуссий. В нем участвовали Мизес, Йозеф Шумпетер и выдающийся теоретик австрийского марксизма Отто Бауэр, выступления которого в защиту марксизма длительное время были в центре дискуссий. [9] В этот период идеи Бём-Баверка о социализме ушли, видимо, достаточно далеко за пределы того, что он успел опубликовать в нескольких работах перед своей ранней смертью. Нет сомнений, что именно здесь сложились основные идеи Мизеса о социализме, хотя сразу после публикации первой книги «Теория денег и кредита» (1912) он утратил возможности для дальнейшей работы, поскольку был призван в армию, где пробыл до самого конца первой мировой войны.
Почти все эти годы Мизес служил офицером артиллерии на Русском фронте, хотя последние месяцы войны он провел в экономическом управлении Министерства обороны. Следует предположить, что он начал работать над «Социализмом», только оставив службу в армии. Вероятно, большая часть книги была написана между 1919 и 1921 гг.: основной раздел об экономических вычислениях при социализме был спровоцирован цитируемой им книгой Отто Нейрата, вышедшей в 1919 г. [10] То, что в тогдашних условиях он выкроил время, чтобы сосредоточиться над обширнейшей теоретической и философской работой, остается истинным чудом для того, кто хотя бы в последние месяцы этого периода почти ежедневно видел его погруженным в дела службы.
Как я уже отметил выше, «Социализм» потряс наше поколение, и усвоение основной идеи этой книги было для нас делом нелегким и мучительным. Мизес, конечно же, продолжал размышлять над этими проблемами, и многие из его позднейших идей были развиты в ходе «частного семинара», который он начал вести примерно в то время, когда был опубликован «Социализм». Я присоединился к семинару двумя годами позже, после года занятий в докторантуре в США. Хотя вначале у него было немного бесспорных последователей, молодые люди, проявлявшие интерес к проблематике, лежащей на границе между философией и теорией общества, воспринимали его восторженно. Зрелые профессионалы восприняли книгу с безразличием либо враждебно. Я помню всего одну рецензию, в которой проявились следы понимания важности книги, да и ту написал престарелый либеральный политик — реликт XIX века. Тактика оппонентов заключалась в том, чтобы представить его экстремистом, идеи которого никто не разделяет.
Взгляды Мизеса и в следующие два десятилетия развивались и нашли выражение в первом немецком издании (1940) книги, которая стала знаменитой под названием «Человеческая деятельность» (Human Action). [10*] Но для первых последователей Мизеса именно «Социализм» навсегда остался его решающим вкладом в науку. Эта книга поставила под вопрос мировоззрение поколения и мало-помалу изменила мышление многих. Члены венского кружка не были учениками Мизеса. Большинство пришли к нему с уже законченным экономическим образованием и лишь постепенно смогли принять его нешаблонные взгляды. Возможно, на них не в меньшей степени повлияли его обескураживающе правильные предвидения дурных последствий текущей экономической политики, чем убедительность его аргументов. Мизес вряд ли ожидал, что они примут все его воззрения, и дискуссии очень выигрывали от того, что члены кружка только постепенно расставались со своими взглядами. «Школа Мизеса» возникла только позже, когда он завершил развитие своего учения об обществе. Сама открытость системы обогащала его идеи и дала возможность некоторым из его последователей развить их в несколько ином направлении.
Аргументы Мизеса было не так-то легко воспринять. Порой требовались личные контакты и обсуждения, чтобы понять их полностью. При том, что они были изложены обманчиво простым языком, изучающему требовалось еще и понимание экономических процессов — качество, встречающееся не так уж часто. Эта трудность особенно ясна в случае с его основным аргументом о невозможности экономических расчетов при социализме. При чтении оппонентов Мизеса возникает впечатление, что они на самом деле не понимают, зачем же нужны эти расчеты. Они рассматривают проблему экономических расчетов, как если бы все дело было в налаживании учета на социалистических предприятиях, а не в выборе того, что и как следует производить. Они удовлетворяются любым набором магических цифр, если он кажется пригодным для контроля за операциями управляющих — этих пережитков капиталистической эпохи. Похоже, им никогда и в голову не приходило, что вопрос не в игре цифр, а в подыскании тех единственных показателей, с помощью которых управляющие производством могут судить о значении своей деятельности в рамках взаимно согласующейся структуры хозяйственной деятельности. В результате Мизес пришел к осознанию того, что его критиков отличает совершенно иной интеллектуальный подход к социальным и экономическим проблемам, а не просто иное толкование отдельных фактов. Чтобы переубедить их, необходимо продемонстрировать потребность в совершенно иной методологии. Это и стало его основной заботой.
Публикация в 1936 г. английского издания «Социализма» была в основном заслугой профессора Лайонела Роббинса (теперь он — лорд Роббинс). Он нашел весьма квалифицированного переводчика — бывшего студента Лондонской школы экономики Жака Кахане (1900–1969), который остался активным членом кружка академических ученых этого поколения, хотя сам сменил поле деятельности. После многих лет работы в одной из крупнейших зерноторговых фирм Кахане завершил карьеру, работая в Риме в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и в Вашингтоне в Мировом Банке. [11] Последний раз я читал текст «Социализма» в форме машинописного перевода Кахане, а перечитал его только теперь, готовясь к написанию этого предисловия.
Все это побуждает к тому, чтобы поразмыслить о значимости некоторых аргументов Мизеса по прошествии столь долгого времени. Естественно, что значительная часть работы звучит сегодня не так оригинально или революционно, как в прежние годы. Во многих отношениях эта книга стала одним из «классических» сочинений, которую принимают как данность и в которой не ищут ничего нового и поучительного. Я должен признать, однако, что сам был поражен не только тем, сколь большая часть ее все еще актуальна для сегодняшних споров, но и тем, что многие аргументы, которые некогда я принимал лишь отчасти как односторонние и преувеличенные, оказались поразительно истинными. Я и до сих пор кое с чем не согласен, но не думаю, что сам Мизес был бы недоволен этим. Уж, конечно, он был не из тех, кто рассчитывает на некритичное восприятие последователями своей аргументации и на этой основе — на прекращение какого-либо интеллектуального прогресса. Но в целом я обнаружил, что различие наших взглядов намного меньше, чем я ожидал.
Я, в частности, не согласен с утверждением Мизеса, которое изложено в главе 33 (параграф 2) настоящего издания. У меня всегда возникали проблемы с этим основным философским утверждением, но только сейчас я в состоянии сформулировать природу этих проблем. Мизес утверждает в этом отрывке, что либерализм «рассматривает все виды общественного сотрудничества как эманацию разумно понимаемой пользы, когда всякая власть базируется на общественном мнении, а потому невозможны действия, способные помешать свободному принятию решений мыслящим человеком». Сегодня я полагаю, что неверна только первая часть этого утверждения. Крайний рационализм этого утверждения, которого Мизес как истинное дитя своего времени не мог избежать и с которым он, возможно, так и не расстался, теперь мне представляется совершенным заблуждением. Бесспорно, что рыночная экономика стала преобладающей формой не в силу разумного понимания ее выгод. Мне представляется, что основное в учении Мизеса — это демонстрация того, что мы приняли свободу не потому, что поняли, какие выгоды она могла бы принести; что мы не изобрели и, конечно же, не были достаточно умны, чтобы изобрести тот строй жизни, который начали слегка понимать только спустя долгое время после того, как увидели его действие. Человек сделал выбор его только в том смысле, что он научился отдавать предпочтение чему-то из уже существовавшего, а по мере того, как росло понимание, он смог и усовершенствовать условия своей деятельности.
К большой чести Мизеса, он смог в немалой степени освободиться от этой рационалистически-конструктивистской исходной посылки, но дело все еще не закончено. Более чем кто-нибудь другой Мизес помог нам понять нечто, чего мы не изобретали.
Есть и еще один момент, который требует осторожности от современного читателя. Полстолетия назад Мизес еще мог говорить о либерализме в смысле, который более или менее противоположен тому, что называется сегодня этим именем в США и все чаще в других местах. Он считал самого себя либералом в классическом смысле, как это было принято в XIX веке. Но прошло уже почти сорок лет с тех пор, как Йозеф Шумпетер был вынужден заявить, что в Соединенных Штатах враги свободы «сочли разумным присвоить себе это имя как высший, но совершенно незаслуженный комплимент».
В эпилоге, который был написан в Соединенных Штатах через 25 лет после первой публикации книги, Мизес демонстрирует свое понимание этого обстоятельства, комментируя неправильное использование термина «либерализм». Прошедшие с тех пор тридцать лет только подтвердили этот комментарий, так же как они подтвердили и последнюю часть первоначального текста — «Деструкционизм». Эти главы при первом чтении просто шокировали меня своим необычайным пессимизмом. При перечитывании я был потрясен скорее дальновидностью автора, чем его пессимизмом. На деле большинство современных читателей обнаружат, что «Социализм» гораздо актуальнее сейчас, чем в то время, когда впервые появился на английском языке, т. е. уже более сорока лет назад.
Ф. А. Хайек
Август 1978 г.
Предисловие ко второму английскому изданию
Сегодня мир расколот на два враждебных лагеря, сражающихся друг с другом с крайним неистовством, — на коммунистов и антикоммунистов. Мощная риторика обоих лагерей скрывает тот факт, что противники совершенно согласны между собой по вопросу о конечных целях экономической и социальной организации человечества. Оба стремятся к уничтожению частного предпринимательства и частной собственности на средства производства и к построению социализма. Оба хотят на место рыночной экономики поставить всесторонний правительственный контроль. Впредь решения отдельного человека — покупать или воздержаться от покупок — не смогут влиять на структуру производства, на количество и качество производимого. Все это будет определять единый правительственный план. «Отеческая» забота «государства благосостояния» низведет всех до положения крепостных работников, которые обязаны, не задавая вопросов, повиноваться приказам планирующих органов. [12]
Точно так же нет никаких существенных различий между намерениями самозваных «прогрессистов», с одной стороны, и итальянских фашистов и германских нацистов — с другой. Фашисты и нацисты не меньше стремились к всесторонней регламентации экономической деятельности, чем те правительства и партии, которые столь пламенно заявляли о своем антифашизме. Г-н Перон в Аргентине [13] пытается воплотить схему, которая в точности повторяет Новый курс и Справедливый курс и которая, если ее вовремя не остановят, приведет со временем к полному социализму. [14]
Не следует смешивать великий идеологический конфликт нашей эпохи с обычным соперничеством между различными тоталитарными движениями. Ведь дело не в том, кто именно будет управлять тоталитарным механизмом. Действительная проблема в том, сумеет ли социализм вытеснить рыночную экономику.
Именно этому вопросу и посвящена моя книга.
Мировая ситуация существенно изменилась с момента первой публикации книги. Но все эти чудовищные войны и революции, чудовищные массовые убийства и ужасные катастрофы не изменили основного: идет отчаянная борьба между теми, кто любит свободу, благосостояние и цивилизацию, и растущим приливом тоталитарного варварства.
В Эпилоге я рассматриваю важнейшие аспекты событий последних десятилетий. Более детальное исследование соответствующих проблем содержится в трех моих книгах, опубликованных издательством Йельского университета:
1. Omnipotent Goverment, the Rise of the Total State and Total War;
2. Bureaucracy;
3. Human Action, a Treatise on Economics.
Людвиг фон Мизес
Нью-Йорк, июль 1950 г.
Предисловие ко второму немецкому изданию
Далеко не ясно, существовал ли до середины XIX века какой-либо отчетливый вариант социалистической идеи, т. е. намерение обобществить средства производства и соответственно установить централизованный общественный, или, точнее, государственный, контроль над производством. Ответ зависит в первую очередь от того, считаем ли мы требование централизованного управления средствами производства во всем мире существенной чертой социалистической концепции. Для прежних социалистов «естественной» была идея об автаркии малых территорий, а любой товарообмен поверх границ они считали «искусственным» и вредным. Только после того, как английские фритредеры доказали преимущества международного разделения труда, а движение Кобдена сделало их взгляды популярными, социалисты занялись «конверсией» своих представлений о деревенском и районном социализме в идеи национального и, наконец, мирового социализма. [15] В любом случае, отвлекаясь от этого момента, можно считать, что основы концепции социализма были разработаны во второй четверти XIX века писателями, которых марксизм считает «утопическими социалистами». Планы социалистического устройства общества активно обсуждались в тот период, но результаты оказались не в пользу авторов. Утопистам не удалось создать общественные конструкции, которые бы выдержали критику экономистов и социологов. В их схемах зияли дыры: было легко доказать, что общество, основанное на таких принципах, будет нежизненным и недееспособным и уж во всяком случае не оправдает ожиданий. Потому-то к середине XIX столетия стало казаться, что идея социализма ушла в прошлое. Наука продемонстрировала ее ничтожность средствами строгой логики, и ее сторонники не смогли выдвинуть ни одного контраргумента.
В этот момент и появился К. Маркс. Выученик гегелевской диалектической школы, благоприятствующей всяким злоупотреблениям тех, кто стремится к интеллектуальной власти с помощью произвольных фантазий и метафизического многословия, он быстро вывел социалистическую идею из тупика. Поскольку против социализма свидетельствовали наука и логика, следовало разработать систему, которая была бы устойчивой к такой критике. За решение этой задачи и взялся Маркс. Он двигался в трех направлениях. Во-первых, он отверг притязание логики на истинность для всех времен и всех народов. Мышление, доказывал он, определяется классовой принадлежностью мыслителя, представляет собой «идеологическую надстройку» над его классовыми интересами. Рассуждения, которые отвергали социалистическую идею, были «разоблачены» как «буржуазные», как апология капитализма. Во-вторых, было заявлено, что диалектическое развитие с необходимостью ведет к социализму; целью и концом всей истории является обобществление средств производства мерами экспроприации экспроприаторов как отрицание отрицания. Наконец было постановлено, что никому не позволено выдвигать подобно утопистам какие-либо определенные планы устройства обетованной земли социализма. Поскольку приход социализма неизбежен, науке подобает категорически отвергать все попытки предопределить его устройство.
Никогда в истории никакое учение не встречало такой немедленной и полной поддержки, как это трехзвенное учение Маркса. Обычно недооценивают силу и размах его успеха. Эта недооценка имеет причиной то, что обычно к марксистам причисляют только тех, кто считает себя формально членом той или иной партии, объявляющей себя марксистской, и кто признает своей обязанностью безусловно придерживаться того толкования доктрины Маркса и Энгельса, которое признается их сектой. При этом, естественно, именно такие толкования и рассматривают как последний источник знаний об обществе и высшую норму политики. Но если мы обозначим как «марксистов» всех, кто признает основные принципы марксизма: классовую обусловленность мышления, неизбежность социализма и ненаучность попыток исследования природы и функционирования социалистического общества, мы обнаружим, что в Европе к востоку от Рейна очень мало немарксистов и даже в Западной Европе и в Соединенных Штатах его сторонников много больше, чем оппонентов. Верующие христиане нападают на материализм марксизма, монархисты — на его республиканизм, националисты — на его интернационализм. Но при этом все они желают считаться христианскими социалистами, государственными социалистами, национал-социалистами. Они утверждают истинность только своего социализма: именно он придет и принесет с собой счастье и удовлетворение. Другие виды социализма, говорят они, в отличие от их собственного не подлинны по своему классовому происхождению.
В то же самое время все они строго соблюдают запрет Маркса на любое исследование институтов социалистической экономики будущего и при этом пытаются доказывать, что существующая хозяйственная система неизбежно ведет к социализму в соответствии с неизменными законами исторического развития. Конечно же, не только марксисты, но и большинство тех, кто считает себя антимарксистами, следуют марксистской логике, принимают произвольные, недоказуемые и легко опровергаемые догмы марксизма. Если им удается добраться до власти, они управляют и действуют в полном соответствии с духом социализма.
Несравнимый ни с чем успех марксизма обязан обещанию исполнить мечты о счастье и мечты о возмездии, которые столь глубоко укоренились в душе человека с незапамятных времен. Он обещает рай на земле, страну с молочными реками и кисельными берегами, полную счастья и наслаждения, а также — что еще слаще для всех, кому пришлось плохо, — он обещает низвержение тех, кто сильнее и лучше массы. Естественно, что приходится отодвинуть в сторону логику и разум, которые могли бы показать абсурдность этих мечтаний о мести и блаженстве. Марксизм есть радикальнейшая из реакций против установленного рационализмом господства научной мысли. Марксизм — это антилогика, антинаука, антимышление, — ведь его главный принцип — это запрет на мышление и исследование, особенно в тех случаях, когда они затрагивают вопросы устройства и функционирования социалистической экономики. Показательно, что он нацепил на себя ярлык «научного социализма» и таким образом приобщился к престижу науки, доказавшей победоносность своих методов, но использовал свое влияние как раз для борьбы с применением научных методов в исследовании социализма. Русские большевики настойчиво твердят, что религия есть опиум для народа. Марксизм-то и есть опиум для тех высших слоев, которые могут мыслить и которых нужно отвратить от мышления.
В новом издании моей существенно переработанной книги я переступаю через почти повсеместно соблюдаемый Марксов запрет и подвергаю анализу проблемы социалистического устройства общества, анализу средствами социологической и экономической теории. Вспоминая с признательностью тех, чьи исследования сделали возможным работу в этой области для всех остальных, в том числе и для меня, я особенно рад тому, что именно мне удалось пробить дорогу через наложенный марксизмом запрет на научное исследование этих проблем. Задачи, на которые ранее не обращалось внимания, вышли на передний план научных интересов, и обсуждение проблем капитализма и социализма было поставлено на новую почву. Те, кто прежде отделывался немногими темными замечаниями о будущем социалистическом блаженстве, теперь принуждены изучать природу социалистического общества. Проблема выявлена и теперь ее уже нельзя игнорировать.
Как и следовало ожидать, социалисты всех мастей и оттенков — от экстремистских советских большевиков до «Edelsozialisten» [16] культурных стран — пытались опровергнуть мои доказательства и выводы. Успеха они не добились; они даже не сумели выдвинуть ни одного нового аргумента, который бы не был уже мною рассмотрен и отвергнут. В настоящее время научное изучение основных проблем социализма идет по тем направлениям, по которым шли мои исследования.
Особенно широкий отклик получили мои выводы, что в социалистическом обществе окажется невозможным экономический расчет. За два года до появления первого издания этой книги я опубликовал статью «Экономический расчет в социалистическом обществе» в Archiv für Sozialwissenschaft (47 Band, N 1), и этот текст почти слово в слово воспроизводится в обоих изданиях книги. [17] Проблема, которую до этого почти не замечали, стала предметом оживленной дискуссии не только в немецкоязычных странах, но и за их пределами. Можно с чистой совестью заявить, что дискуссия теперь закрыта; едва ли нынче кто-либо способен оспорить мои утверждения.
Вскоре после появления первого издания книги Генрих Херкнер, последователь Густава Шмоллера [18], опубликовал эссе, в котором поддержал все основные моменты моей критики социализма [11*]. Его заметки вызвали настоящую бурю среди немецких социалистов и в их литературном окружении. В результате в период катастрофической борьбы в Руре и гиперинфляции разгорелась острая полемика, получившая наименование «кризиса социальной политики». [19] Результаты полемики были скудными. «Выхолощенность» социалистической мысли, которую вынужден был признать пылкий социалист, стала особенно явной в этом случае [12*]. О плодотворных результатах, которые могут быть получены теми, кто подходит к социалистическим проблемам с методами прямого научного анализа, свидетельствуют замечательные работы Поле, Адольфа Вебера, Рёпке, Хальма, Зульцбаха, Бруцкуса, Роббинса, Хатта, Визера, Бенна и других. [20]
Но научного исследования проблем социализма недостаточно. Следует также разрушить стену предубеждений, которые сейчас препятствуют объективному постижению проблемы из-за господствующих социалистически-этатических представлений. [21] На любого сторонника социалистической политики смотрят как на адепта Блага, Нравственности и Благородства, как на самоотверженного борца за необходимые реформы, короче, как на человека, который бескорыстно служит своему народу и всему человечеству, и прежде всего как на честного и бесстрашного искателя истины. А всякий, кто подходит к социализму с меркой строгого научного анализа, объявляется носителем зла, негодяем, наемным слугой корыстных классовых интересов, угрожающих благосостоянию общества, и полным невеждой. Именно таков этот образ мыслей: то, что может быть установлено лишь научным исследованием, — капитализм или социализм лучше служит общему благу — считается само собой разумеющимся, безусловно решенным в пользу социализма. Результатам экономических исследований противопоставляются не аргументы, а «нравственный пафос», который столь характерен для стиля приглашений на Эйзенахский конгресс в 1872 г. [22] и к которому столь склонны и социализм, и этатизм, потому что им обоим нечего противопоставить научной критике их учений.
Старый либерализм, стоявший на почве классической политэкономии, утверждал, что материальное положение всех наемных работников может постоянно улучшаться только в меру возрастания капитала и что только капиталистическое общество, основанное на частной собственности на средства производства, может обеспечить это. Современная субъективная школа политической экономики усилила и укрепила такое понимание с помощью своей теории заработной платы. [23] Здесь современный либерализм целиком совпадает со старым либерализмом. Социализм верит, что он нашел в обобществлении средств производства систему, которая принесет всем богатство. Эти противоположные взгляды должны быть подвергнуты трезвому научному анализу: стремления к возмездию и моральные сетования ничем нам не помогут.
На самом деле социализм сегодня для многих, возможно, для большинства своих сторонников, есть предмет веры. Но у научной критики нет более благородной задачи, чем разрушение ложных верований.
Для защиты социалистического идеала от разрушительной критики предпринимаются ныне попытки иначе, чем было принято, определять понятие «социализм». Мое собственное определение социализма как политики, которая стремится к созданию общественного порядка, при котором все средства производства обобществлены, вполне согласуется со всем, что писали на эту тему в научной литературе. Полагаю, нужно быть исторически слепым, чтобы не видеть того, что в последние сто лет это, и только это, понималось под социализмом и что только в этом смысле великое социалистическое движение было и остается социалистическим. Но к чему спор о словах! Если кто-то хочет присвоить название социалистического тому общественному идеалу, который стремится утвердить частную собственность на средства производства, — пусть его! Человек может называть собаку кошкой, а солнце — луной, если ему так нравится. Но такое выворачивание привычной и понятной каждому терминологии не ведет ни к чему хорошему и только усиливает непонимание. То, что составляет предмет моей книги, — это обобществление собственности на средства производства, т. е. та самая проблема, вокруг которой уже более столетия идет в мире такая ожесточенная борьба, проблема χατεξοχην [24] для нашей эпохи.
Этого определения социализма нельзя обойти с помощью указания, например, что концепция социализма включает другие цели, помимо обобществления средств производства; возможно, что за всем этим стоит чисто религиозная идея или что социалистами движут на деле совсем другие мотивы. Сторонники социализма стоят на том, что единственная достойная своего имени разновидность социализма — это та, которая стремится к обобществлению средств производства по «благородным» мотивам. Другие, что слывут противниками социализма, согласны говорить о социализме, лишь если обобществление средств производства диктуется только «неблагородными» мотивами. Религиозные социалисты называют истинным социализмом только связанный с религией; атеистические социалисты настаивают на устранении Бога одновременно с частной собственностью. Но вопрос о том, как же может функционировать социалистическое общество, вполне отличен от вопросов: верить ли в Бога или нет, руководствоваться или не руководствоваться мотивами, которые господин Х считает благородными. Каждая группа социалистического движения убеждена, что лишь ее социализм правильный, а все остальные направления идут ложным путем; естественно, что при этом каждая партия пытается как можно резче подчеркнуть различие между особенностями собственных идеалов и особенностями идеалов других социалистических партий. Я уверен, что в ходе моего исследования сказал все, что необходимо, обо всех таких притязаниях.
В этом выпячивании особенностей отдельных социалистических направлений особенную роль играет их отношение к проблеме демократии и диктатуры. И здесь мне нечего добавить к сказанному в книге (гл. 3, 15 и 31). Достаточно отметить, что плановая экономика, к которой стремятся сторонники диктатуры, социалистична не меньше, чем социализм социал-демократов.
Капиталистическое общество есть воплощение того, что следовало бы назвать экономической демократией, если бы этот термин благодаря усилиям лорда Пассфилда и г-жи Вэбб не начали использовать исключительно для обозначения системы, в которой рабочие не только как потребители, но и как производители могут принимать решения о структуре и объемах производства. [25] Такое положение дел было бы столь же мало демократичным, как, скажем, политическое устройство, при котором правительственные служащие, а не весь народ, определяли бы способ управления государством, — нечто противоположное тому, что принято называть демократией. Когда мы называем капиталистическое общество демократией потребителей, мы имеем в виду, что власть над средствами производства, принадлежащая предпринимателям и капиталистам, может быть получена только с помощью голосов потребителей, собираемых ежедневно на рынках. Каждый ребенок, оказывающий предпочтение одной игрушке перед другой, опускает тем самым свой бюллетень в ящик для сбора голосов и, в конечном счете, определяет, кто же будет руководить производством. В этой демократии и на самом деле нет равенства: некоторые имеют много голосов. Но умноженное право голоса, которое дается большим доходом, может быть получено и удержано только в ходе выборов. Если потребление богатых давит на чашу весов сильнее, чем потребление бедных, — хотя, нужно заметить, есть немалая склонность переоценивать долю потребления состоятельных классов в общем балансе потребления, — то и это есть само по себе «результат выборов», поскольку в капиталистическом обществе богатство может быть получено и сохранено только в меру целенаправленного удовлетворения запросов потребителей. Так что богатство преуспевающих дельцов всегда является результатом плебисцита потребителей, и, однажды заслуженное, это богатство может быть сохранено, только если использовать его в соответствии с требованиями потребителей. Средний человек одновременно и более информирован, и менее подвержен коррупции, когда он принимает решения как потребитель, чем когда он участвует в политических выборах. Ведь есть же избиратели, которые, когда им приходится выбирать между свободной торговлей и протекционизмом, между золотым стандартом и инфляцией, не способны учесть все последствия своих решений. Покупатель, которому приходится выбирать между различными сортами пива или шоколада, решает, конечно, более легкую задачу.
Своеобразной особенностью социалистического движения является стремление часто обновлять обозначение своего идеально устроенного государства. Каждое изношенное обозначение заменяется другим, которое подстегивает надежды на конечное решение неразрешимых фундаментальных проблем социализма — и так до тех пор, пока делается ясным, что изменилось только имя. Последнее обозначение — «государственный капитализм». Не все понимают, что при этом имеется в виду то же самое, что и под именами «плановая экономика» и «государственный социализм», и что государственный капитализм, плановая экономика и государственный социализм только малыми деталями отличаются от «классической» идеи уравнительного социализма. Критика, содержащаяся в этой книге, направлена без различия на все мыслимые формы социалистического общества.
Отдельно рассмотрен только синдикализм в силу его фундаментального отличия от социализма (гл. 16, параграф 4).
Я надеюсь, что эти заметки убедят даже поверхностного читателя, что мои исследования и критика не ограничиваются марксистским социализмом. Я, конечно же, уделил марксизму места больше, чем другим разновидностям социализма, просто потому, что он сильно повлиял на все направления социалистического движения. Полагаю, что я рассмотрел все существенно важное для этих проблем и дал исчерпывающую критику основных черт немарксистских программ.
Моя книга — научное исследование, а не политическая полемика. Я проанализировал фундаментальные проблемы, обходя, насколько возможно, вопросы текущей экономической политики, политической борьбы правительств и партий. И я уверен, что это лучший путь, чтобы разобраться в основах политических проблем последних десятилетий и лет, и особенно в проблемах будущей политики. Только полное критическое рассмотрение идей социализма поможет нам понять, что же происходит вокруг.
Привычка говорить и писать об экономических вопросах, не разобравшись в существе проблем, сделала поверхностными публичные дискуссии по вопросам, жизненно важным для общества, а в результате направила политику прямо по пути разрушения цивилизации. Созданная немецкой исторической школой, а затем американскими институционалистами атмосфера недоброжелательства к экономической теории разрушила в этой сфере авторитет квалифицированных мыслителей. [26] Наши современники полагают, что все вопросы, относимые к экономической теории и социологии, доступны всякому и каждому. Предполагается, что чиновники профсоюзов и предприниматели просто в силу своего положения призваны решать национально-экономические проблемы. «Практические люди» такого сорта, даже если они сумели довести самих себя до разорения и банкротства, наслаждаются признанием в роли экономистов. Это положение должно быть изменено. Никакое желание избегнуть резких слов не должно в этом вопросе вести к компромиссу. Время сорвать маски с этих любителей.
Решение каждого из повседневно встречающихся экономических вопросов требует навыков мышления, которые доступны только тем, кто способен понять общую взаимозависимость экономических явлений. Только теоретические исследования, проникающие вглубь вещей, имеют действительную практическую ценность. Совершенно бесполезны диссертации, посвященные вопросам текущей политики: они слишком вдаются в частности и случайности, а потому и не видят главного и существенного.
Частенько говорят, что все научные исследования социализма бесполезны, потому что их могут понять только немногие, кто способен следить за ходом научной мысли. Массам все это так и останется непонятным. Для масс лозунги социализма звучат привлекательно, и люди пылко жаждут социализма, поскольку в ослеплении своем ожидают от него полного спасения и утоления жажды возмездия. Потому-то они и будут, как и прежде, работать на социализм, приближая неизбежный упадок цивилизации, которую тысячелетиями строили народы Запада. Все это обрекает нас на неминуемые хаос и нищету, на тьму варварства и уничтожение.
Я не разделяю этого мрачного взгляда. Так может случиться, но совсем не обязательно, что так все и будет. Большинство людей действительно не способны следить за сложными построениями мысли, и никакое обучение не поможет понять сложную мысль тем, кто не способен воспринять простую. Но как раз потому, что массы сами не способны мыслить, они следуют руководству тех, кого называют образованными людьми. Стоит убедить этих, и игра выиграна. Но я не хочу здесь повторять того, что уже говорил в первом издании книги в конце последней главы.
Я слишком хорошо знаю, насколько безнадежными кажутся усилия переубедить страстных поклонников социалистической идеи, логически демонстрируя, что их взгляды абсурдны и нелепы. Я хорошо знаю, что они не желают ничего слышать, видеть, а прежде всего думать, что они закрыты для любых аргументов. Но подрастают новые поколения с открытым умом и ясным зрением. И они будут подходить к вещам объективно, они будут взвешивать и анализировать, они будут мыслить и действовать осмотрительно. Для них написана эта книга.
Проведение более или менее либеральной политики на протяжении жизни нескольких поколений колоссально увеличило благосостояние мира. Капитализм поднял уровень жизни масс до уровня, который не могли бы и вообразить наши предки. Интервенционизм [27] и попытки устроения социализма уже несколько десятилетий подрывают основания мировой экономической системы. Мы на краю пропасти, которая способна поглотить нашу цивилизацию. Исчезнет ли навсегда цивилизованное человечество либо в последний час катастрофу удастся предотвратить и ступить на единственный путь к спасению — мы имеем в виду воссоздание общества, основанного на неограниченном признании частной собственности на средства производства, — этот вопрос встанет перед поколениями, которым суждено действовать в грядущие десятилетия. Ответ на вопрос зависит от идей, которые будут направлять их действия.
Людвиг фон Мизес
Вена, январь 1932 г.
Введение
1. Успехи социалистических идей
Социализм — это лозунг и отличительный признак нашего времени. Социалистическая идея — доминанта духа современности. Массам она нравится. Она выражает мысли и чувства всех; она поставила свое клеймо на наше время. Когда будущий историк дойдет до нашего времени, он назовет эту главу «Эпоха социализма».
И ведь так оно и есть. Социализм не создал общества, в котором бы воплотился его идеал. Но в течение времени большего, чем жизнь поколения, политика цивилизованных народов была направлена к постепенному воплощению социализма. [13*] В недавние годы движение заметно усилилось и осмелело. Некоторые народы попытались воплотить социалистическую программу в полном объеме — буквально одним ударом. На наших глазах русский большевизм уже совершил нечто, что независимо от нашей оценки значимости уже в силу самой грандиозности замысла должно рассматриваться как одно из самых поразительных свершений мировой истории. Никто и никогда не достигал столь многого. У других народов продвижению социализма вперед мешают только внутренние противоречия самого социализма и тот факт, что он не может быть воплощен полностью. Они также прошли сколько смогли при данных обстоятельствах. Принципиальной оппозиции социализму не существует.
Ни одна влиятельная партия сегодня не рискнет открыто защищать частную собственность на средства производства. Слово «капитализм» выражает в наше время тотальность зла. Даже противники социализма подчинены социалистическим идеям. Противостоящие социализму партии, особенно так называемые «буржуазные» или «крестьянские», которые пытаются противопоставить ему свои особые классовые интересы, косвенно признают существенность всех основных социалистических идей. Ведь если социалистической программе можно противопоставить только то, что она угрожает интересам части человечества, значит, социализм уже признан. Если кто-то осуждает систему социальной и экономической организации, основанную на частной собственности на средства производства, за то, что она служит интересам единственного слоя и сдерживает рост производительности труда, а потому требует (вместе со сторонниками разных «социал-политических» и «социал-реформистских» движений) государственного вмешательства в экономику, тем самым он признает принципы социалистической программы.
С другой стороны, если против социализма можно сказать только то, что он нереализуем в силу несовершенства человеческой природы или что при данных условиях хозяйствования не следует осуществлять полное обобществление, — это ведь и есть капитуляция перед социализмом. Националист также признает социализм, но только отрицает его интернационализм. Он желает соединения социализма с идеями империализма, чтобы бороться против других народов. Он — национальный, а не интернациональный социалист, но он также утверждает основные принципы социализма. [14*]
Среди сторонников социализма не только большевики и их друзья в различных странах, и не только члены многочисленных социалистических партий. Социалистами являются все, кто верит в экономическое и моральное превосходство социалистического строя перед строем, основанным на частной собственности на средства производства, даже если они по тем или иным причинам стремятся к постоянному или временному компромиссу между своими социалистическими идеалами и своими частными интересами.
Если мы определим социализм так широко, то увидим, что сегодня громадное большинство людей стоят на стороне социализма. Тех, кто исповедует принципы либерализма и считает единственно возможной формой экономической организации общества частную собственность на средства производства, очень немного. [30]
Вот поразительный факт, иллюстрирующий успех социалистической идеи: мы привыкли называть социалистическими только те виды политики, которые стремятся к немедленной и полной победе социалистических программ, а движения, которые стремятся к тем же целям, но более умеренными и постепенными методами, мы обозначаем иначе, даже считаем их порой врагами социализма. Это может быть только результатом того, что число истинных противников социализма крайне мало. Даже на родине либерализма, в Англии, в стране, которая стала богатой и могущественной благодаря либеральной политике, люди больше не понимают истинного смысла либерализма.
Сегодняшние английские «либералы» — это более или менее умеренные социалисты. [15*] В Германии, которая никогда не знала настоящего либерализма и которая обессилела и обнищала в результате антилиберальной политики, люди вряд ли имеют малейшее представление о том, что же такое на деле либерализм.
Громадная власть русских большевиков держится на полной победе социалистических идей в последние десятилетия. Сила большевизма не в советских пушках и пулеметах, но в том факте, что большая часть мира воспринимает их идеи с симпатией.
Многие социалисты считают большевистское предприятие преждевременным и провидят триумф социализма лишь в будущем. Но ни один социалист не остается равнодушным к словам, которыми Третий Интернационал призывает народы мира к войне с капитализмом. [31] По всей земле ощущается тяготение к большевизму. У вялых и слабых людей симпатия к большевизму смешивается с чувствами ужаса и восхищения, которые всегда возбуждают в робких оппортунистах отважные фанатики. Более смелые и последовательные люди безо всяких колебаний приветствуют наступление новой эпохи.
2. Научный анализ социализма
Исходный пункт социалистического учения — критика буржуазного устройства общества. Мы сознаем, что социалистические авторы были не слишком удачливы в этом деле. Мы знаем, что они не имели никакого представления о работе экономического механизма и что они не поняли функцию различных институтов общественного устройства, основанного на разделении труда и на частной собственности на средства производства. Нетрудно показать ошибки социалистических теоретиков при анализе экономических процессов: критики преуспели в разоблачении их экономических доктрин как грубого заблуждения. Но вопрос, является ли капиталистическое общество более или менее неудовлетворительным, не предопределяет решение вопроса, способен ли социализм предложить нечто лучшее. Мало доказать, что общественный порядок, основанный на частной собственности на средства производства, имеет недостатки и что он не создал лучшего из всех возможных миров; необходимо показать еще, что социалистическое устройство лучше. Только немногие социалисты пытались доказать это, а те, кто пытался, делали это большей частью в предельно ненаучном, порой даже в шутовском, стиле. Наука социализма пребывает в зародышевом состоянии, и не в последнюю очередь винить в этом следует ту ветвь социализма, которая называет себя научной. Марксизму было мало того, что он представил переход к социализму как необходимую стадию эволюции общества. Если бы он не пошел дальше, он не оказал бы столь пагубного влияния на научное исследование проблем общественной жизни. Если бы он ограничился описанием социалистического общественного порядка как лучшего мыслимого устройства общественной жизни, он не смог бы принести столько вреда. Но своей софистикой он помешал научному изучению социологических проблем и отравил интеллектуальную атмосферу эпохи.
В соответствии с марксистской концепцией общественное бытие определяет сознание. Классовая принадлежность автора определяет выражаемые им взгляды. Он не способен выйти за рамки своего класса или освободить свое мышление от давления классовых интересов. [16*] Так была отвергнута сама возможность существования всеобщего научного знания, имеющего силу для всех людей независимо от их классового происхождения, и Дицген [32] был совершенно последователен, когда шел к созданию особой пролетарской логики. [17*] Истинной может быть только пролетарская наука: «Идеи пролетарской логики являются не только партийными идеями, но и выводами логики вообще» [18*]. Так марксизм оградил себя от любой нежелательной критики. Не нужно опровергать врага: достаточно разоблачить его как агента буржуазии. [19*] Марксизм критикует всех инакомыслящих, представляя их в виде продажных слуг буржуазии. Маркс и Энгельс никогда не пытались противопоставить оппонентам какие-либо аргументы. Они оскорбляли, высмеивали, оплевывали, клеветали и порочили их. Последователи марксизма не менее умело пользуются всеми этими методами. Их полемика никогда не направлена на аргументы оппонента, но всегда — на его личность. Немногие смогли выдержать такой стиль полемики. Немногим, очень немногим хватило отваги, чтобы критически противостоять социализму, хотя это и является долгом ученого при подходе к любому объекту исследования. Только этим можно объяснить тот факт, что как сторонники, так и противники социализма без споров подчинились запрету, который марксизм наложил на подробное обсуждение экономических и социальных условий социалистического общества. С одной стороны, марксизм провозглашает, что обобществление средств производства есть цель, к которой все экономическое развитие ведет с неизбежностью законов природы; с другой стороны, он представляет это же обобществление как цель всей политической борьбы. Таким образом был продемонстрирован первый принцип социалистической организации. Запрет на изучение того, как работает социалистическое общество, в оправдание которого приводилась куча банальных аргументов, на деле имел целью скрыть слабости марксистского учения и избавить его от опасности разоблачения, неминуемой при обсуждении вопроса, как создать жизнеспособное социалистическое общество. Освещение сущности социалистического общества могло погасить энтузиазм масс, которые искали в социализме спасения от всех земных бед. Успешное подавление опасных исследований, которые были причиной провала всех предыдущих социалистических теорий, было мастерским тактическим ходом Маркса. Только благодаря тому, что люди не могли говорить или мыслить о природе социалистического общества, социализм сумел превратиться в господствующее политическое течение в конце XIX и в начале XX столетий.
Нельзя проиллюстрировать эти утверждения лучше, чем процитировав писания Германа Когена одного их тех, кто в десятилетия перед мировой войной [36] оказывал сильнейшее влияние на немецкую мысль. [37] «Сегодня, — говорит Коген, — уж никак не отсутствие понимания может нам помешать в осознании сути социального вопроса, а значит, — хоть украдкой — и необходимости политики социальных реформ, но только злая или недостаточно благая воля. Неразумное требование представить для всеобщего обозрения картину будущего государства, имеющее целью привести в замешательство партию социализма, может быть объяснено только существованием таких порочных натур. На место нравственных требований права пытаются поставить картину государства, тогда как само понятие государства является производным от понятия права. Вот так в результате выворачивания понятий наизнанку смешивают этику социализма с поэзией Утопии. Но этика — не поэзия, а идея не требует образного воплощения. Ее образом является реальность, которая может возникнуть только по ее образцу. Сегодня можно видеть в правовом идеализме социализма универсальную истину общественного сознания, конечно, такую, что пока еще представляет собой общественную тайну. Только эгоизм, имплицитный идеалам обнаженный алчности, каковым является истинный материализм, отказывает ему в доверии» [20*]. Человек, который так говорил и писал, превозносился как величайший и отважнейший немецкий мыслитель своего времени, и даже противники уважали его ум. Как раз по этой причине необходимо подчеркнуть, что Коген не только совершенно некритичен по отношению к требованиям социализма и принимает запрет на исследование механизмов социалистического общества, но он еще и клеймит как моральную низость всякую попытку привести в замешательство «партийный социализм» требованиями осветить проблемы социалистической экономики. В истории нередки случаи, когда смелость мыслителя, критический ум которого обычно не щадит ничего, застывает перед могущественным идолом своего времени — даже великий Кант [38], перед которым так преклонялся Коген, виновен в этом грехе [21*]. Но чтобы философ обвинил в злонамеренности, извращенности и открытой алчности не просто всех тех, кто держится иного мнения, но даже тех, кто только пытается прикоснуться к проблеме, опасной для сохранения авторитета, — это, к счастью, в истории мысли встречается редко.
Всякий, кто не подчинялся безусловно этому насилию, подлежал осуждению и запрету. Таким образом социализму удавалось из года в год расширять свое влияние, и при этом никто не пытался основательно исследовать вопрос, как же он будет работать. В результате, когда однажды марксистский социализм пришел к власти и начал реализовать свою программу, ему пришлось признать, что у него нет отчетливого представления о том, к чему он десятилетиями стремился.
Обсуждение проблем социалистического общества есть в силу этого дело величайшей важности, и не только для понимания противоположности между либеральной и социалистической политикой. Без такого обсуждения невозможно понять ситуации, ставшие обычными после начала движения к национализации и муниципализации. До сих пор экономическая теория с объяснимой, но вызывающей сожаление односторонностью исследовала только механизм общества, основанного на частной собственности на средства производства. Пробел следует заполнить.
Должно ли общество быть построено на основах частной или общественной собственности на средства производства — это вопрос политический. Наука его не решает; она не выносит решений, ценна ли данная форма организации общества или не стоит ни гроша. Но только наука, исследуя действие общественных институтов, может создать основу для понимания общества. Хотя человек действия, политик, может порой не обращать внимания на результаты такого анализа, мыслитель никогда не упустит случая для изучения всего, что доступно уму человека. И в конечном итоге именно мысль должна определять действие.
3. Альтернативные методы подхода к анализу социализма
Есть два подхода к проблемам, которые социализм ставит перед наукой. Философ культуры может попытаться найти социализму место в ряду других явлений культуры. Он выясняет его идейное происхождение, исследует его отношение к другим формам общественной жизни, ищет его скрытые источники в душе индивидуума, пытается понять его как массовое явление. Он исследует его влияние на религию и философию, на искусство и литературу. Он пытается показать его отношение к естественным и гуманитарным наукам своего времени. Он изучает его как стиль жизни, как выражение психики, как проявление моральных и эстетических воззрений. Это историко-культурно-психологический подход. На этот путь вступают все снова и снова, здесь создаются книги и статьи, имя которым легион.
Нам никогда не следует заранее выносить суждение о научном методе. Есть только один пробный камень его плодотворности — успех. Вполне возможно, что историко-культурно-психологический метод также сделает немалый вклад в разрешение проблем, которые ставит социализм перед наукой. Неудовлетворительность его результатов до сих пор следует приписать не только некомпетентности и политическим предрассудкам прежних исследователей, но прежде всего тому факту, что социолого-экономическое исследование проблем должно предшествовать историко-культурно-психологическому исследованию. [22*] Ведь социализм есть программа преобразования экономической жизни и устройства общества в соответствии с определенным идеалом. Чтобы понять его воздействие на другие области умственной и культурной жизни, нужно сначала ясно понять его социальное и экономическое значение. До тех пор, пока эти вопросы не выяснены, неразумно подступаться к историко-культурно-психологическим толкованиям. Нельзя говорить об этике социализма, пока не выяснено его отношение к другим этическим системам. Адекватный анализ его реакций на религиозную и общественную жизнь невозможен, пока мы имеем только смутные представления о его существенных свойствах. Невозможно обсуждать социализм вообще, не изучив предварительно устройство и работу общества, основанного на общественной собственности на средства производства.
Это отчетливо дает себя знать каждый раз в исходных моментах историко-культурно-психологических исследований. Сторонники этих методов видят в социализме конечное осуществление демократической идеи равенства, не определив заранее, что же именно реально означают равенство и демократия и в каком отношении они находятся между собой, не уяснив также, насколько существенна для социализма идея равенства. Иногда они видят в социализме реакцию психики на духовное опустошение, производимое неотделимым от капитализма рационализмом; иногда, напротив, они утверждают, что социализм стремится к высочайшей рационализации хозяйственной жизни, которой никогда не достичь при капитализме. [23*] Здесь мы не станем обсуждать тех, кто загружает свой теоретический и культурный анализ социализма хаосом мистицизма и умонепостигаемых фраз.
Эта книга исследует прежде всего социологические и экономические проблемы социализма. Мы должны разобраться с этими вопросами, прежде чем сможем обсуждать культурные и психологические проблемы. Анализ культуры и психологии социализма может опираться только на результаты этих исследований. Только социологический и экономический анализ может дать твердое основание для такого изображения, столь привлекательного для широкой публики социализма, которое позволит оценить его в свете общих упований рода человеческого.
Часть I. Либерализм и социализм
Глава I. Собственность
1. Природа собственности
Собственность, рассматриваемая как социологическая категория, представляет собой возможность использования экономических благ. Хозяином является тот, кто распоряжается благом.
Таким образом, социологическое и юридическое понятия собственности различны. Это вполне естественно, и можно только удивляться тому, что порой этот факт не вполне осознается. С социологической и экономической точек зрения собственность есть владение благами, необходимыми для достижения экономических целей человека [24*]. Это владение может быть названо натуральной или исходной собственностью, поскольку оно представляет собой физическое отношение к благам и не учитывает социальных отношений между людьми или правового порядка. Смысл же правовой концепции собственности как раз в том, что она делает различие между физическим владею и правовым должен владеть. Закон признает и тех собственников, владельцев, у которых отсутствует это естественное владение, — тех, которые не обладают, хотя должны были бы обладать. В глазах Закона «он, у которого было украдено», остается владельцем, тогда как вор никогда не может обрести прав собственности. С экономической точки зрения, однако, только натуральное владение относится к делу, и экономический смысл правового термина должно принадлежать заключается лишь в оказании поддержки приобретению, сохранению и возврату натурального владения.
Для закона собственность есть однородное установление. Не важно, идет ли речь о собственности на блага первого или более высоких порядков. Безразлично, рассматривается ли собственность на потребительские блага длительного пользования или собственность на продукты питания и услуги. В этом безразличии проявляется формализм закона, не интересующегося экономическим смыслом происходящего. Конечно, закон не может вполне абстрагироваться от существенных экономических различий. Своеобразие земли как средства производства есть отчасти причина того, что землевладение рассматривается законом особенным образом. Экономические различия более определенно, чем в самом законе о собственности, выражены в отношениях, которые в социологическом плане эквивалентны отношениям собственности, но юридически только прилегают к ним — (имеются в виду сервитут и особенно узуфрукт). [40] Но в целом закон формально в равной мере охватывает все независимо от материальных различий.
С экономической стороны собственность никоим образом не может быть единообразной. Собственность на потребительские блага и собственность на средства производства различаются во многих отношениях, так же как различны собственность на блага длительного пользования и собственность на блага, потребляемые одномоментно.
Блага первого порядка, т. е. потребительские блага, служат непосредственному удовлетворению желаний. Если это блага, используемые одномоментно, т. е. такие, которые по своей природе могут быть использованы только единожды и теряют свои полезные свойства после использования, то весь смысл собственности практически сводится к возможности их потребить. Собственник может также сгноить их, не используя, либо сознательно уничтожить, либо обменять, либо отдать. В любом случае он распоряжается их принципиально неделимым употреблением.
Положение с благами длительного пользования, с теми благами, которые могут быть использованы неоднократно, несколько иное. Они могут служить последовательно нескольким людям. Опять-таки в экономическом смысле в качестве собственников здесь выступают те, кто может обратить в свою пользу потребительские свойства благ. В этом смысле комната принадлежит тому, кто занимает ее в рассматриваемый момент; Маттерхорн, поскольку эта гора в Альпах является частью природного парка, — тому, кто заберется на эту вершину, чтобы насладиться видами; владельцами живописного полотна являются те, кто наслаждается созерцанием его [25*]. Обладание полезными свойствами этих благ разделимо, а значит, и собственность на эти блага также может быть совместной.
Производственные блага служат удовлетворению потребностей лишь непрямым образом. Они используются при производстве потребительских товаров. Потребительские блага возникают только в результате успешного соединения производственных благ и труда. Именно эта способность — непрямым образом служить удовлетворению потребностей — является отличительной характеристикой производственных благ. Распоряжаться производственным благом — значит физически владеть им. Обладание производственными благами имеет экономический смысл только потому и постольку, поскольку ведет в конечном итоге к обладанию потребительскими благами.
Благами одноразовыми, готовыми к потреблению, может обладать — и единожды — тот, кто их потребляет. Благами длительного пользования, готовыми к потреблению, могут обладать — поочередно — многие люди, но одновременное использование, даже если природа блага это допускает, приводит к тому, что одни мешают получать удовлетворение другим. Несколько человек одновременно могут любоваться картиной (хотя при этом некоторые из них не получают доступ к самой выгодной позиции разглядывания, что снижает их удовлетворение), но пальто не могут одновременно носить два человека. Применительно к потребительским товарам обладание, которое ведет к удовлетворению желаний, не может быть разделено в большей степени, чем это допускается природой самого блага. Это означает, что для одноразовых благ принадлежность одному полностью исключает принадлежность всем другим, а для благ длительного пользования принадлежность является исключительной, не допускающей ни малейшего участия других, по крайней мере в данный момент времени. Применительно к потребительским благам нельзя ни в коей мере представить другое экономически значимое отношение, кроме индивидуального натурального обладания. Как блага, потребляемые однократно и окончательно, так и блага длительного пользования (по крайней мере, та минимальная доля их, которая сохраняет полезность) могут находиться в натуральном владении только одного человека. Собственность здесь является одновременно и частной собственностью в том смысле, что другие люди лишаются преимуществ, создаваемых правом распоряжаться этими благами.
По этой же причине было бы абсурдно думать об устранении либо о реформировании собственности на потребительские блага. Никоим образом невозможно изменить то, что яблоко съедается, а пальто изнашивается пользователем. Чисто физически потребительские блага не могут быть совместной собственностью нескольких или общей собственностью всех. В случае потребительских товаров то, что обычно называют совместной собственностью, подлежит разделу до потребления. Совместность владения прекращается в тот момент, когда благо потребляется или используется. Для потребителя обладание всегда индивидуально и исключительно. Совместная собственность не может быть ничем иным, как основанием для приобретения благ из общего запаса. Каждый индивидуальный партнер — владелец той части общего запаса, которую он может использовать для себя. При этом вопросы, является ли он законным собственником до дележа или же делается таковым лишь в результате дележа, да и становится ли он вообще собственником по закону и предшествует ли формальный акт дележа акту потребления, — все эти вопросы не относятся к экономической проблематике. Фактом является то, что и без всякого раздела он является собственником своей доли.
Совместное владение не может устранить собственности на потребительские блага. Оно только делает возможным такое распределение собственности, какое не возникло бы при иных условиях. Совместное владение самоограничено, как, впрочем, и все другие новации, замыкающиеся в сфере потребительских благ. Оно реализуется в необычном распределении существующих запасов. Когда этот запас распределен, дело кончено. Пустые кладовые таким путем не наполнить. Это под силу только тем, кто управляет наличными производительными благами и трудом. Если им не подходит то, что предлагается взамен, поток благ, заполняющий кладовые, иссякает. Таким образом, успех любой попытки изменить распределение потребительских благ неизбежно зависит от власти над средствами производства.
В противоположность ситуации с потребительскими благами владение производственными благами может быть разделено в физическом смысле. В условиях изолированного производства условия совместного владения производственными благами те же, что и в случае с потребительскими благами. Где нет разделения труда, владение благами может быть разделено, если можно разделить те услуги, которые создаются этими благами. Владение одноразовыми производственными благами не может быть совместным. Владение производственными благами длительного пользования может быть совместным, если таков характер создаваемых этими благами услуг. Только один человек может обладать данным количеством зерна, но несколько человек могут поочередно пользоваться молотком. Река может вращать много мельничных колес. Нет ничего специфического в том, как решается вопрос о собственности на производственные блага. Но если существует разделение труда, владение такими благами обретает двузначность: физическое владение (непосредственное) и социальное владение (косвенное). Физически владеет тот, кто физически распоряжается вещью и производительно ее использует; в социальном плане владеет тот, кто, не имея возможности физически или юридически распоряжаться вещью, может косвенно воздействовать на результаты использования этой вещи, т. е. может выменивать или покупать те продукты или услуги, которые этой вещью производятся. В этом смысле натуральное владение в обществе с разделением труда — это владение и того, кто производит, и того, для чьих нужд производится. Крестьянин, живущий самодостаточным хозяйством вне системы обмена, может говорить о своих полях, своем плуге, своих вьючных животных, имея в виду, что они служат только ему одному. Но фермер, производство которого связано с торговлей, который производит для рынка и покупает на рынке, является владельцем средств производства совсем в другом смысле. Он не контролирует свое производство так, как это делает самодостаточный крестьянин. Он не определяет цели своего производства; решают те, для кого он производит, — потребители. Они, а не производитель, определяют цель экономической деятельности. Производитель только направляет производство к тем целям, которые установлены потребителями.
Но более отдаленные владельцы средств производства не могут в этих условиях предоставить свое физическое владение средствами производства непосредственно на службу производству. Поскольку всякое производство представляет собой комбинацию различных средств производства, некоторые владельцы таких средств должны передавать свое право физического владения другим, чтобы последние могли привести в действие ту комбинацию, которая и способна производить. Владельцы капитала, земли и труда предоставляют эти факторы в распоряжение предпринимателя, который и берет на себя непосредственное управление производством. Предприниматель опять-таки направляет производство согласно указаниям потребителей, которые являются не кем иным, как владельцами средств производства: собственниками капитала, земли и труда. Каждый из факторов получает ту долю продукта, на которую он экономически имеет право согласно ценности его производительного взноса.
В сущности, как видно, натуральное владение производительными благами весьма отлично от натурального владения потребительскими благами. Чтобы владеть производительными благами в экономическом смысле, т. е. извлекать из них пользу для своих экономических целей, вовсе не нужно владеть ими физически, как, например, должен владеть потребительскими благами тот, кто намерен их потребить или пользоваться ими длительное время. Чтобы выпить кофе, мне не нужно владеть кофейной плантацией в Бразилии, океанским сухогрузом и заводом, на котором обжаривают зерна, хотя все эти средства производства должны быть задействованы, чтобы чашечка кофе попала ко мне на стол. Достаточно того, что другие владеют этими средствами производства и используют их для меня. В обществе с разделением труда никто не является исключительным собственником средств производства — будь то материальные вещи или личная способность к труду. Все средства производства предоставляют услуги каждому, кто покупает или продает на рынке. Потому-то, если мы не склонны здесь рассуждать о совместной собственности потребителей и владельцев средств производства, нам придется рассматривать потребителей как истинных владельцев в физическом смысле, а собственников в юридическом смысле понимать как управляющих собственностью других людей. [26*]
Это, однако, уведет нас слишком далеко от принятого смысла слов. Чтобы избежать неверного понимания, желательно сколь можно дольше обходиться без новых слов и никогда не использовать слова, имеющие какое-либо определенное значение, в совершенно другом смысле. Посему, оставляя в стороне любую специальную терминологию, давайте лишь подчеркнем еще раз, что в основе своей собственность на средства производства в обществе с разделением труда отличается от таковой же собственности в обществе, где разделения труда не существует, а также что она отличается от собственности на потребительские блага. Чтобы избежать непонимания, мы будем использовать слова «собственность на средства производства» в общепринятом смысле, т. е, для обозначения непосредственной власти распоряжаться ими.
2. Насилие и общественный договор
Физическое обладание экономическими благами, что в экономическом плане образует существо отношений собственности, могло стать владением только в результате захвата. Поскольку собственность не является чем-то независимым от воли и действий человека, невозможно представить себе иного способа возникновения собственности, как присвоение ничьих благ. Однажды установившись, собственность длится, пока не исчезнет ее объект, пока его либо уступят добровольно, либо он покинет своего владельца против его воли. Первое случается, когда владелец добровольно уступает свою собственность, второе -- когда он расстается с ней вынужденно, например, когда стадо разбежится, либо если кто-нибудь силой отнимет собственность.
Вся собственность имеет начало в захвате и насилии. Когда мы рассматриваем природные составляющие благ, не принимая во внимание входящий в них труд, и когда мы прослеживаем назад во времени юридические права, мы с необходимостью приходим к моменту, в который это право возникло из захвата чего-либо, к чему доступ имели все. И до этого момента мы можем обнаружить насильственную экспроприацию у предыдущего владельца, право которого можно проследить до еще более раннего присвоения или грабежа. Перед лицом тех, кто отрицает собственность из соображений естественного права, мы можем спокойно признать, что все права имеют своим первоисточником насилие, что вся собственность есть наследие присвоения или грабежа. Но отсюда вовсе не следует, что устранение собственности есть дело необходимое, разумное и морально оправданное.
Натуральная собственность не нуждается в признании других. Ее терпят фактически только до тех пор, пока нет силы, которая разрушит ее, и она не способна пережить момент, когда более сильный человек решит взять все себе. Созданная произвольной силой, она обречена всегда страшиться более могущественной силы. Именно такое положение дел доктрина естественного права назвала войной всех против всех. [42] Война прекращается, когда существующие отношения получают признание как нечто стоящее сохранения. Из насилия возникает право.
Доктрина естественного права ошибочно сочла это великое изменение, которое подняло человека из состояния дикости к цивилизации, результатом сознательного процесса, результатом такой деятельности, когда человек полностью осознает свои мотивы, свои цели и пути их достижения. Предполагалось, что именно так был заключен общественный договор, в результате которого появились государство, общество и правовой порядок. Рационализм не мог найти никакого другого объяснения после отказа от прежней веры, которая возводила общественные установления к божественным источникам или, по крайней мере, к озарению, посещавшему человека по божественному вдохновению. [27*] Поскольку результатом стало существующее положение вещей, люди рассматривали развитие общественной жизни как совершенно целесообразное и разумное. Как бы еще могло совершиться все это развитие, если не посредством сознательного выбора, признаваемого целесообразным и разумным? Сегодня у нас есть другие теории для объяснения всего этого. Мы говорим о естественном отборе в борьбе за существование и о сохранении приобретенных свойств, хотя все это на самом деле не приближает нас к пониманию конечных загадок ближе, чем объяснения теологические или рационалистские. Мы можем «объяснить» возникновение и развитие общественных установлении тем, что они были полезны в борьбе за существование, сказавши, что те, кто их принял и развил наилучшим образом, оказались лучше подготовленными к опасностям жизни, чем те, кто отстал в этом. Обращать внимание на неудовлетворительность такого объяснения сегодня — все равно, что носить сов в Афины. [44] Времена, когда оно нас удовлетворяло и когда мы выдвигали его как конечное решение всех проблем бытия и становления, давно прошли. Здесь та точка, в которой усилия отдельных наук соединяются, в которой начинаются великие философские проблемы -- и в которой кончается вся наша мудрость.
Не нужно большого разума, чтобы показать, что закон и государство не могут быть возведены к общественному договору. Нет нужды привлекать утонченный аппарат исторической школы, чтобы показать, что никакой общественный договор никогда в истории не мог быть заключен. Научный реализм, несомненно, превосходил рационализм XVII и XVIII веков [45] в знании того, что можно извлечь из текстов на пергаменте и надписей, но его социологическая проницательность была куда слабее. Как бы мы ни оценивали социальную философию рационализма, нельзя отрицать, что он достиг непреходящих результатов в раскрытии роли общественных установлении. Именно рационализму, прежде всего, мы обязаны нашими первыми знаниями о функциональной значимости правового порядка и государства.
Экономическая деятельность нуждается в стабильных условиях. Протяженный во времени процесс производства бывает тем успешнее, чем дольше длится тот период, к условиям которого он приноровлен. Он требует непрерывности, и ее нельзя нарушать, не рискуя самыми серьезными потерями. Это означает, что экономическая деятельность нуждается в мире, в исключении насилия. Мир, говорят рационалисты, является целью и задачей всех правовых установлении; мы предполагаем, что мир является их результатом, их функцией [28*]. Закон, говорят рационалисты, возник из договора; мы говорим, что закон есть урегулирование и конец раздора, избежание раздора. Насилие и закон, война и мир есть два полюса общественной жизни. Но содержанием этой жизни является экономическая деятельность.
Все насилие направлено на собственность других. Личность — ее жизнь и здоровье — становится объектом атаки постольку, поскольку она препятствует приобретению собственности. (Садистские эксцессы, кровавые выходки, совершаемые только ради жестокости, — это исключительные явления. Для их предотвращения не нужна вся система права. Сегодня врач, а не судья рассматривается как подходящий борец с этими явлениями.) И потому не случайно, что именно в деле защиты собственности закон с наибольшей ясностью раскрывает свой характер миротворца. В двунаправленной системе защиты владения при различении собственности и имущества особенно живо видно существо закона как миротворца — да, миротворца любой ценой. Имущество защищается, даже если оно, как говорят юристы, не имеет титула собственности. [46] Не только честные, но и бесчестные владельцы, даже воры и грабители, могут прибегнуть к закону для защиты своего имущества [29*].
Некоторые полагают, что собственность, как она проявляется в распределении имуществ во всякий данный момент, может быть атакована с тех позиций, что она образовалась незаконно, в результате произвольного присвоения и насильственного ограбления. Согласно этому пониманию все законные права есть не что иное, как облагороженное временем беззаконие. Поскольку такое положение не согласуется с вечной, неизменной идеей справедливости, существующий законный порядок следует отвергнуть и на его месте утвердить новый, который будет согласовываться с этим идеалом справедливости. Задачей государства не должен быть «только учет сложившегося распределения имущества, не исследующий законности его источников». Скорее, «назначение государства состоит, прежде всего, в том, чтобы дать каждому свое, ввести его во владение его собственностью, а потом уже начать ее охранять» [30*]. При таком понимании приходится либо постулировать вечно действенную идею справедливости, которую государство должно распознать и реализовать, либо признать источником истинного закона — вполне в духе теории договора — общественный договор, каковой может возникнуть только в результате единодушного согласия индивидуумов отказаться в его пользу от части своих естественных прав. В основе обеих гипотез лежит представление естественного права о «прирожденных правах». Либо мы должны вести себя в соответствии с ними, как гласит первая точка зрения, либо согласно второй точке зрения нам следует отказаться от части своих прав в соответствии с условиями договора, запечатленного существующей системой права. Что же касается источника абсолютной справедливости, то он истолковывается иным способом. Согласно одному подходу это дар Провидения человечеству. Согласно другому — человек создал это понятие собственным разумом. Оба подхода совпадают в том, что способность человека отличать справедливость от несправедливости и есть то, что отделяет человека от животного; его «моральная природа».
Сегодня мы больше не можем принять эти взгляды, ибо предпосылки подхода к проблемам изменились. Для нас представление о природе человека как фундаментально отличной от природы всех других созданий кажется странным; мы больше не представляем себе человека существом, которое изначально носит в себе идею справедливости. Но, быть может, если мы не отвечаем больше на вопрос о происхождении закона, нам следует прояснить, что он не мог возникнуть законным образом. Закон не может породить себя из себя же. Его истоки лежат вне сферы закона. Те, кто сокрушается о том, что закон есть не что иное, как узаконенная несправедливость, не сознают, что иначе могло бы быть лишь в том случае, если бы закон существовал изначально. Если же предположить, что закон некогда возник, тогда то, что стало законом, не могло быть им до этого. Требовать, чтобы закон возник законно, — требовать невозможного. Поступающие так пытаются применить к тому, что находится вне рамок законного порядка, концепции, действительные только в рамках этого порядка.
Мы, способные видеть лишь результат закона, призванного устанавливать мир, должны осознать, что он мог возникнуть только из признания сложившегося порядка, как бы этот порядок ни образовался. Попытки иного подхода служили бы только обновлению и продлению вражды. Мир может прийти, только когда мы защищаем сложившееся положение дел от насильственных беспорядков и ставим каждое будущее изменение в зависимость от согласия всех участников. В этом реальное значение защиты существующих прав, что и составляет сердцевину всего закона.
Закон не возникает как нечто совершенное и законченное. Он развивался тысячелетиями и все еще продолжает свое развитие. Эпоха его зрелости -- эпоха нерушимого мира — может никогда не наступить. Напрасно систематизаторы права догматически стремятся сохранить давнишнее различие между частным и публичным правом, доставшееся нам от прошлого и понимаемое на практике далеко не однозначно. Неудача таких попыток, склонившая многих отказаться от указанного различия, не должна удивлять нас. Это различие — догма, а не реальная действительность; система права однородна и не поддерживает его. Различие это исторично, оно — результат постепенной эволюции и совершенствования идеи права. Идея права была, прежде всего, реализована в той сфере, где поддержание мира было всего нужней для обеспечения целостности экономики, — в отношениях между индивидуумами. Только для дальнейшего развития цивилизации, которая вырастает на этом фундаменте, становится существенным установление мира в более высоких сферах. Этой цели и служит публичное право. Формально оно не отличается от частного права, но ощущается как нечто отличное. И это потому, что оно только позднее достигает того же развития, что частное право ранее. В публичном праве принцип защиты существующих прав еще не развит столь же сильно, как в частном праве. [31*] С чисто внешней стороны незрелость публичного права легче всего узреть из того факта, что оно менее систематизировано, чем частное право. Международное право все еще неразвито. Во взаимоотношениях между народами все еще признается произвольное насилие как решение, приемлемое при некоторых условиях. В то же время в других областях, которые регулируются публичным правом, произвольное насилие в форме революции находится вне закона, хотя и нету средств для эффективного предотвращения такого насилия. В сфере частного права насилие совершенно вне закона, за исключением случаев необходимой обороны, когда особые обстоятельства допускают его как действие законной защиты.
Тот факт, что нечто ныне являющееся правом, было изначально несправедливостью или, точнее говоря, было вне сферы права, не свидетельствует об ущербности правового порядка. Так может воспринимать ситуацию тот, кто пытается найти обоснование правопорядка в морали и справедливости. Но этот факт никоим образом не свидетельствует о необходимости или полезности отказа от системы собственности или ее изменения. Попытка доказать, что этот факт узаконивает требование уничтожения отношений собственности, — это абсурд.
3. Теория насилия и теория общественного договора
Торжество идеи права было медленным и трудным. Медленно и с трудом она вытесняла принцип насилия. Вновь и вновь одолевало старое; вновь и вновь история права начиналась сызнова. О древних германцах Тацит [47] сообщает: «Pigrum quin immo et iners videtur sudore adquirere quod possis sanguine parare» [32*]. Эти взгляды безмерно далеки от тех, которые господствуют в современной хозяйственной жизни.
Такая противоположность взглядов выходит за пределы проблемы собственности и охватывает все наше отношение к жизни. Это противоположность между феодальным и буржуазным способами мышления. Первый подход выражен в романтической поэзии, красота которой восхищает нас, хотя предлагаемое ею видение жизни может увлечь нас только на миг, пока поэтическое впечатление еще свежо. [33*] Второй подход развит социальной философией либерализма в великую систему, в сооружении которой сотрудничали лучшие умы всех времен. Ее величие отражено в классической литературе. В либерализме человечество приходит к осознанию сил, которые направляют его развитие. Тьма, покрывающая историческое прошлое, рассеивается. Человек начинает понимать общественную жизнь и вносит в ее развитие сознание.
Феодальный подход не достиг сходного уровня построения законченной системы. Было просто невозможно домыслить до конца, до логической завершенности теорию насилия. Попытайтесь полностью реализовать, хотя бы мысленно, принцип насилия, и его антиобщественный характер будет разоблачен. Он ведет к хаосу, к войне всех против всех. Никакими ухищрениями не избежать этого. Все антилиберальные теории общества с необходимостью остаются фрагментарными или ведут к самым абсурдным заключениям. Когда они упрекают либерализм в приземленности, в пренебрежении ради мелочных забот повседневности всем высшим, они просто ломятся в открытую дверь. Ибо либерализм никогда не претендовал ни на что большее, чем быть философией повседневности. Он учит только тому, как действовать и воздерживаться от действий в земных делах. Он никогда не претендовал на то, что способен раскрыть Последнюю из Величайших Тайн Человека. Антилиберальные учения обещают все. Они обещают счастье и духовный мир, как если бы человек мог получить благословение свыше. Лишь одно вполне определенно — в их идеальной общественной системе производство материальных благ уменьшится очень основательно. Что же касается ценности того, что предлагается взамен, мнения, по крайней мере, разделяются [34*].
Последним прибежищем критиков либерального идеала общества является попытка разрушить этот идеал его же собственным оружием. Они стремятся доказать, что он служит и намерен служить интересам одного-единственного класса; что мир, к которому стремится либерализм, благоприятен только для ограниченного круга и вредоносен для всех остальных. Даже общественный порядок, достигаемый в современном конституционном государстве, основан на насилии. Его претензия на то, что в основании этого порядка — свободные договорные отношения, которые в реальности, говорят они, представляют собой только условия мира, продиктованные победителями побежденным, и условия этого мира действительны лишь до тех пор, пока сохраняется их установившая власть, и не дольше. Вся собственность основана на насилии и поддерживается насилием. Свободные рабочие либерального общества суть то же, что несвободные феодальной эпохи. Предприниматель эксплуатирует их так же, как феодальный властитель — своих крепостных, как плантатор — своих рабов. Что такие и им подобные возражения возможны и что им верят, показывает, сколь низко упало понимание либеральных теорий. Но эти возражения никоим образом не возмещают отсутствие у антилиберальных движений систематизированных теорий.
Либеральная концепция общественной жизни создала экономическую систему, основанную на принципах разделения труда. Наиболее типичным выражением экономики обмена являются городские поселения, которые возможны только в такой экономике. В городах учение либерализма было развито в законченную систему, и здесь оно нашло большинство своих сторонников. Но чем сильнее и быстрее возрастало богатство, чем многочисленнее были переселенцы из деревни в город, тем ожесточеннее были нападки на либерализм под знаменем принципа насилия. Переселенцы быстро находили свое место в городской жизни, они быстро усваивали (чисто внешне) городские манеры и мнения, но еще долго оставались чужими городскому образу мыслей. Социальную философию нельзя усвоить столь же легко, как умение носить костюм. Она должна быть заработана — оплачена усилием мысли. Потому то мы и обнаруживаем в истории опять и опять, что эпохи роста и распространения мира либеральной мысли, когда богатство увеличивается вместе с развитием разделения труда, перемежаются эпохами, в которые господствует принцип насилия, а богатство сокращается из-за упадка системы разделения труда. Рост городов и городской жизни был чрезмерно быстрым. Этот рост был скорее экстенсивным, чем интенсивным. Новые жители городов изменились только поверхностно, они не сменили строй мысли, не стали настоящими гражданами. Об эту скалу разбивались все эпохи культуры, исполненные буржуазным духом либерализма; на этом же подводном камне, похоже, разлетится и наша собственная буржуазная культура, наиболее поразительная в человеческой истории. Более опасными, чем варвары, штурмующие стены извне, являются находящиеся внутри ограды мнимые горожане — горожане по внешнему виду, но не по своему мышлению.
Недавние поколения были свидетелями мощного возрождения принципа насилия. Современный империализм, доведший мир до мировой войны со всеми ее ужасными последствиями, развивает старые идеи защитников принципа насилия, лишь слегка их замаскировав. Но, конечно же, империализм не в состоянии выдвинуть в противоположность либеральной теории собственную завершенную систему. Несомненно, что теория, согласно которой борьба есть движущая сила роста общества, никоим образом не может вылиться в теорию сотрудничества, а такой должна быть любая теория общества. Теория современного империализма характеризуется использованием некоторых естественнонаучных выражений, таких, как «учение о борьбе за существование» и «концепция расы». С этим багажом оказалось возможным отчеканить множество лозунгов, доказавших свою пропагандистскую эффективность, но ничего более. Все эти идеи, выставляемые современным империализмом, давным-давно были разоблачены либералами как ложные доктрины.
Один из империалистических аргументов, возможно, сильнейший, вытекает из полного непонимания существа собственности на средства производства в обществе с разделением труда. Важнейшей задачей считается обеспечение нации собственными шахтами, собственными источниками сырья, собственным флотом и портами. Ясно, что этот аргумент порожден представлением, что натуральная собственность на эти средства производства неделима и что она приносит выгоду только тем, кто физически владеет ею. И не осознается, что такой взгляд ведет логически к социалистическому учению о характере собственности на средства производства. Ибо если плохо то, что Германия не имеет собственных, германских хлопковых плантаций, то почему терпимо положение, когда каждый отдельный немец не имеет собственной шахты, собственной прядильной фабрики? Может ли немец счесть Лотарингские железные копи более своими в том случае, когда их владелец — немец, чем когда их владелец — гражданин Франции?
Таким образом, империалисты поют в унисон с социалистами, критикуя буржуазную собственность. Но социалисты хоть пытались создать завершенную систему будущего общественного порядка, а империалисты и этого сделать не могли.
4. Коллективная собственность на средства производства
Самые ранние попытки реформировать систему отношений собственности и владения могут быть вполне корректно описаны как попытки достичь наибольшего возможного равенства в распределении богатства независимо от того, провозглашались ли при этом цели общественной пользы или социальной справедливости. Каждый должен владеть определенным минимумом, и никто не должен иметь больше определенного максимума. Каждый должен владеть примерно тем же количеством — такова была, грубо говоря, цель. И средства ее достижения были всегда одинаковы. Обычно предлагалась конфискация всей или части собственности с последующим перераспределением. Мир, населенный только самодостаточными крестьянами и небольшим числом ремесленников, — таков был идеал общества. Но сегодня нам нет нужды тратить время на все эти предложения. Они стали нереализуемыми в экономике с разделением труда. Железная дорога, прокатный стан, машиностроительный завод неделимы. Если бы эти идеи были реализованы века или тысячелетия назад, мы до сих пор прозябали бы на той же стадии развития, если бы, конечно, не вернулись к состоянию, трудноотличимому от полной дикости. Земля смогла бы прокормить только малую долю тех множеств людей, которых она питает ныне, и каждый был бы много хуже обеспечен, чем сейчас, хуже, чем даже самые бедные граждане современного промышленного государства. Вся наша цивилизация выжила благодаря тому, что человек всегда справлялся с натиском перераспределителей. Но идея перераспределения до сих пор очень популярна, даже в промышленных странах. В странах с господствующим сельским хозяйством эта доктрина приняла не вполне подходящее название аграрного социализма и является конечной целью и содержанием движений за социальные реформы. Эта идея была главной опорой великой русской революции и временно, против их воли, обратила вождей революции — прирожденных марксистов — в своих поборников. Она может победить и в остальных странах мира и в короткое время разрушить культуру, которая создавалась тысячелетиями. Однако повторим: здесь не стоит тратить слов критики и двух мнений быть не может. Вряд ли сегодня нужно доказывать, что невозможно на основе «коммунистического владения землей» создать социальную организацию, способную прокормить сотни миллионов белых людей.
Наивный фанатизм борцов за уравнительное распределение уже давно подпитывается новым социальным идеалом, и сегодня не распределение, но общая собственность — лозунг социализма. Устранить частную собственность на средства производства, сделать средства производства собственностью общества — такова общая цель социализма.
В своей наиболее сильной и чистой форме социалистическая идея более не имеет ничего общего с идеей перераспределения. В равной степени она далека от смутной концепции общей собственности на средства потребления. Теперешняя цель — сделать для каждого возможным достойное существование. Идея не столь простодушна, чтобы стремиться достичь цели разрушением общественной системы, основанной на разделении труда. Конечно, неприязнь к рынку, свойственная энтузиастам перераспределения, сохраняется; но социализм ныне стремится ликвидировать торговлю иным путем, а не отказом от системы разделения труда и возвратом к автаркии самодостаточных семейных хозяйств либо к примитивному обмену между самодостаточными сельскохозяйственными районами.
Такая социалистическая идея не могла возникнуть до того, как частная собственность на средства производства приобрела свойства, характерные для общества с разделением труда. Взаимосвязи отдельных производительных единиц сначала должны достичь той степени, когда производство для удовлетворения чужих потребностей является правилом, прежде чем идея общей собственности на средства производства сможет принять определенную форму. Социалистические идеи не могли обрести полной ясности до тех пор, пока социальная философия либерализма не раскрыла характер общественного производства. В этом смысле, и ни в каком другом, социализм можно рассматривать как следствие либеральной философии.
Как бы мы ни оценивали ее полезности или реализуемости, следует признать, что идея социализма в одно и то же время и грандиозна, и проста. Даже самые убежденные противники не могут отрицать детальной проработанности идеи. Можно сказать, что это одно из самых притязательных творений человеческого духа. Попытка воздвигнуть общество на новой основе, одновременно порывая со всеми традиционными формами общественной организации, изобрести новое устройство мира и предвидеть формы для всех видов человеческой деятельности будущего — это затея настолько величественная, настолько отважная, что она вполне заслуженно вызвала величайшее восхищение. Мы должны победить социализм, мы не можем беззаботно от него отмахнуться, если мы намерены спасти мир от нового варварства.
5. Теории эволюции собственности
Старый трюк модернизаторов в политике — описывать то, что они стремятся реализовать, как древнее и естественное, как нечто, существовавшее изначально и утраченное только в силу ошибок исторического развития. Человек, утверждают они, должен вернуться к прежнему состоянию вещей и воскресить Золотой век. Естественное право, например, трактовало права, требуемые им для индивидуумов, как прирожденные, неотъемлемые, даваемые Природой. Таким образом, разговор шел не о новизне, а о восстановлении «вечных прав, сияющих миру, как звезды небесные -- неугасимо и нерушимо». Точно так же возникла романтическая Утопия совместной собственности — как установления седой древности. Почти все народы знакомы с этой мечтой. Древнюю римскую легенду о Золотом веке Сатурна пылко воспели Вергилий, Овидий, Тибулл, восхвалял Сенека [35*]. [50] Это были беззаботные, счастливые дни, когда никто не знал частной собственности и все процветали в объятиях благородной Природы [36*]. Современный социализм, конечно, мыслит будущее не столь простодушно и по-детски, но в целом его мечты мало отличаются от фантазий граждан императорского Рима.
Либеральное учение подчеркивало важную роль частной собственности на средства производства в эволюции цивилизации. Социализм мог удовлетвориться отрицанием нужды в сохранении института собственности, не отрицая в то же время его полезности в прошлом. Марксизм и сделал это, представив эпохи простого и капиталистического товарного производства как необходимые стадии развития общества. Но одновременно он присоединился к другим социалистическим школам в осуждении всех известных в истории проявлений частной собственности — и все это с выраженным моральным неодобрением. Были некогда благие времена, когда частной собственности не существовало, и эти славные деньки вернутся вновь, когда частная собственность исчезнет.
Чтобы такое понимание показалось убедительным, потребовалось свидетельство молодой науки — экономической истории. Была выстроена теория, доказывающая древность общинного землевладения. Было заявлено, что некогда вся земля было общей собственностью всех членов племени. Изначально всем пользовались сообща. Только позднее, хотя общественная собственность еще сохранялась, поля были розданы для отдельного использования. Но при этом происходили перераспределения земли: сначала ежегодно, затем реже. Согласно этому взгляду частная собственность является сравнительно недавним установлением. Ее возникновение не вполне понятно. Но можно предположить, что она прокралась в обычай в результате упущений в перераспределении, если, конечно, не предполагать, что она возникла в результате незаконного присвоения. Отсюда было ясно, что придавать частной собственности чрезмерное значение в истории цивилизации — ошибка. Доказывали, что сельское хозяйство развилось в условиях общинной собственности на землю с периодическими перераспределениями. Чтобы человек пахал и засевал поля, нужно только гарантировать ему собственность на урожай, а это возможно и при ежегодном переделе земли. Нам говорят, что ошибка — возводить происхождение собственности на землю к занятию ничейной земли. Незанятая земля никогда не была бесхозной. Она всегда и везде — как в прежние времена, так и поныне — принадлежала государству или общине; а значит, в прежние времена, равно как и ныне, захват земельной собственности не мог иметь места [37*].
С вершин новоприобретенного исторического знания оказалось возможным свысока, с сострадательным изумлением взглянуть на учение социальной философии либерализма. Людей убедили, что частная собственность оправдана только как историко-правовая категория. Она не существовала всегда и представляет собой не слишком желательное приобретение культуры, а значит, вполне может быть отброшена. Социалисты всех видов, а особенно марксисты, рьяно пропагандировали эти идеи. Они сделали писания своих любимцев популярными настолько, насколько и не снилось никаким авторам исследований по экономической истории.
Но более поздние исследования отвергли предположение, что общинная собственность на землю была существенной стадией развития всех народов, что такова была исходная форма собственности («Ureigentum»). [52] Они продемонстрировали, что русская община — «мир» — возникла в новое время под давлением крепостничества и подушного налогообложения, что хаубергские товарищества в округе Зиген не прослеживаются ранее XVI века, что трирские Gehoferschaften возникли в XIII, а может, и в XVII или XVIII веке и что задруга южных славян была порождена введением византийской налоговой системы [38*]. [53] Самые ранние периоды аграрной истории Германии до сих пор не вполне ясны, и в понимании важнейших вопросов этой истории еще нет единодушия. Истолкование скудной информации, которую дают Цезарь и Тацит, представляет особые трудности. [54] Но пытаясь понять их, не следует упускать из виду, что условия древней Германии, как они описаны этими авторами, примечательны изобилием пригодной для обработки земли, так что вопрос о собственности на землю был экономически малосуществен. «Superest ager» (пригодная земля в избытке) — это основной факт для характеристики аграрных условий в Германии во времена Тацита [39*].
Фактически, однако, нет нужды искать в экономической истории аргументы для опровержения доктрины «Ureigentum», ибо эта доктрина не дает оснований для отказа от частной собственности на средства производства. Когда мы вырабатываем суждение об исторических достижениях и функциях частной собственности в нынешнем и будущем экономическом устройстве, вовсе не имеет значения, предшествовала общинная собственность частной либо нет. Если бы даже удалось продемонстрировать, что общинная собственность у всех народов была исходной формой земельного права и что вся частная собственность возникла в результате незаконного присвоения, это бы еще далеко не доказывало, что рациональная организация сельского хозяйства с интенсивной эксплуатацией земли могла бы развиться вне условий частной собственности. Еще менее допустим вывод, что частная собственность может или должна быть ликвидирована.
Глава II. Социализм
1. Государство и экономическая деятельность
Цель социализма — передать средства производства из частной собственности в собственность организованного общества, государства. [40*] Социалистическое государство владеет всеми материальными факторами производства и таким образом направляет его. Для такой передачи вовсе не нужно соблюдение формальностей закона, выработанного для передачи собственности в эпоху, фундаментом которой была частная собственность на средства производства. Еще менее существенно в таком процессе соблюдение традиционной правовой терминологии. Собственность есть право распоряжаться, и когда это право распоряжаться лишается своего традиционного имени и получает от господствующего правового института новое наименование, это не имеет никакого значения для существа дела. Следует учитывать не слова, но суть вещей. Ограничение прав собственников, как и формальная передача этих прав, представляет собой способ социализации. Если государство шаг за шагом отнимает у собственника право распоряжаться, распространяя свое влияние на производство, если его возможности определять направление развития производства и характер производимой продукции все возрастают, тогда собственнику не остается ничего, кроме пустого имени «собственник», а сама собственность переходит в руки государства.
Люди зачастую не могут понять фундаментального различия между идеями либерализма и анархизма. Анархизм отвергает все принуждающие общественные организации и отказывается от насилия как социальной технологии. Фактически он стремится к упразднению государства и правопорядка, поскольку верит, что общество без всего этого будет жить лучше. Он не боится анархического беспорядка, поскольку верит, что в отсутствие принуждения люди объединятся для общественного сотрудничества и будут вести себя в соответствии с требованиями социальной жизни. Анархизм как таковой не является ни либеральной, ни социалистической доктриной: он просто лежит в иной плоскости. Тот, кто отрицает основу анархизма, кто считает иллюзией, что ныне или в будущем станет возможным без принуждения со стороны правопорядка объединить людей для мирного сотрудничества, тот — будь он либерал или социалист — отвергает идеал анархизма. Во всех либеральных и социалистических теориях, основанных на строгой логической связи идей, системы строились с должным учетом насилия, полностью отвергая анархизм. И либерализм, и социализм признают необходимость правового порядка, хотя расходятся в понимании и определении границ этого понятия. Либерализм, ограничивая сферу государственной активности, не оспаривает потребности в правовом порядке и при этом вовсе не считает государство злом, хотя и необходимым. Либеральное понимание проблем государства определяется отношением к проблеме собственности, а вовсе не отвращением к «персоне» государства. Поскольку либерализм стремится к торжеству частной собственности на средства производства, он должен по чисто логическим причинам отвергать все, что противоречит этому идеалу. Что же касается социализма, то с тех пор, как он в основных вопросах отделился от анархизма, он должен с необходимостью стремиться к расширению сферы принудительного государственного контроля, ибо его явной целью является устранение «анархии производства». Какая уж там борьба с государством и насилием, если социализм стремится распространить правительственное влияние на те области, которые либерализм оставил бы вне контроля.
Социалистические авторы, особенно те из них, кто восхваляет социализм по этическим причинам, любят заявлять, что в социалистическом обществе первейшей целью государства будет всеобщее благосостояние, в то время как либерализм учитывает интересы только одного класса. Судить о достоинстве либеральной и социалистической моделей организации общества следует по достижениям обеих систем. Но можно сразу отвергнуть утверждение, что только социализм ставит целью обеспечение общего благосостояния. Либерализм борется за частную собственность на средства производства не из любви к собственникам. Либеральная экономическая система более производительна, чем социалистическая, и избыток достается не только собственникам. Согласно либерализму преодоление заблуждений социализма в интересах не только богатых. Даже беднейшие пострадают от социализма не меньше других. К такому утверждению можно относиться по-разному, но в любом случае было бы неверно приписывать либерализму преследование интересов узкого слоя людей. Социализм и либерализм различаются фактически не своими целями, а средствами их достижения.
2. «Основные права» в социалистической теории
Либеральная философия государства была обобщена в ряде утверждений, сформулированных как требования естественного права. Это Права Человека и Гражданина, которые выражали существо освободительных войн в XVIII и XIX столетиях. Они закреплены в конституционных законах, составленных под влиянием политических движений эпохи. Но даже сторонникам либерализма следовало бы спросить себя: подходящее ли это для них место, ибо по форме и стилю изложения эти утверждения являются не столько правовыми положениями, которые составляют содержание законов, предназначенных для практического применения, сколько политической программой законодательной и административной деятельности. Во всяком случае, совершенно недостаточно включить их со всеми почестями в основные законы государств и конституции; их дух должен пронизывать собой все государство. Гражданин Австрии мало выигрывал от того факта, что основной закон государства давал ему право «свободно выражать свое мнение словом, в письме, в печати или в графических изображениях в рамках законных границ». Эти «законные границы» препятствуют свободному выражению мнений так же основательно, как если бы основной закон никогда не существовал. Англия не знает основного права на свободное выражение мнения, однако в ней слово и пресса действительно свободны, поскольку дух, выражающий себя в принципе свободы мысли, пронизывает все английские законы.
Подражая этим политическим основным правам, некоторые антилиберальные авторы попытались разработать кодекс основных экономических прав. Их цель при этом двойственна: с одной стороны, они хотят показать неудовлетворительность общественного устройства, которое даже не гарантирует эти предполагаемые естественными права человека; с другой стороны, они хотят создать несколько легко запоминаемых, эффектных лозунгов для пропаганды своих идей. При этом они были далеки от мысли, что достаточно юридически зафиксировать эти основные права, чтобы возник общественный порядок, соответствующий идеалам. Большинство авторов, особенно позднейших, были убеждены, что то, к чему они стремятся, может быть достигнуто только на пути обобществления средств производства. Концепция основных экономических прав была разработана, лишь чтобы показать, каким требованиям должна удовлетворять социальная система. То есть это скорее критика, чем программа. Рассматриваемая с такой точки зрения, эта концепция позволяет нам понять, что (по мнению его сторонников) социализм должен обеспечить.
Согласно Антону Менгеру, социализм обычно предполагает три основных экономических права: право на полный продукт труда; право на существование; право на труд [41*]. [55]
Всякое производство требует сотрудничества материальных и человеческого факторов производства: это целенаправленный союз земли, капитала и труда. Нельзя определить физический вклад каждого из этих факторов в результат производства. Какую часть стоимости произведенного продукта следует приписать отдельным факторам? Это вопрос, на который ежедневно и ежечасно отвечают покупатели и продавцы на рынке, хотя научное объяснение этого процесса было получено только в недавние годы и пока еще далеко не достигнута полная ясность. Рыночные цены на все факторы производства фактически приписывают каждому из них вес, соответствующий его участию в производстве. Через цену каждый фактор получает оценку своего участия в конечном продукте. В заработной плате работник получает полный продукт своего труда. Таким образом, в свете субъективной теории ценности соответствующее требование социализма представляется вполне нелепым. Но для среднего человека это не так. Привычные обороты речи подразумевают, что ценность создается только трудом. Доверяющие «здравому смыслу» люди обречены видеть в требовании о ликвидации частной собственности на средства производства призыв к тому, чтобы работник получал полный продукт своего труда. Сначала это требование кажется чисто негативным — исключить все доходы, не основанные на труде. Но как только пытаются сконструировать на этом принципе систему, возникают непреодолимые препятствия, трудности, вытекающие из несостоятельной теории ценности, на которой базируется право на полный продукт труда. Все такие системы потерпели крушение именно на этом. Их авторы, в конце концов, бывали вынуждены признать, что то, чего они желали, было не чем иным, как упразднением всех доходов, не основанных на труде, и что только обобществление средств производства позволяет достичь этого. От права на полный продукт труда, которое десятилетиями занимало умы людей, не осталось ничего, кроме лозунга (пропагандистски весьма эффектного, конечно) требующего упразднения всех «незаработанных», нетрудовых доходов.
Право на существование может быть определено по разному. Если в этом видеть требование людей, лишенных средств и неспособных к труду, не имеющих родственников, которые могли бы о них позаботиться, т. е. требование об обеспечении их средствами к существованию, тогда право на существование представляет собой безвредное установление, реализованное в большинстве общин столетия назад. Конечно, практическое воплощение этого принципа может нуждаться в совершенствовании, ибо, возникнув из практики благотворительного попечительства о бедняках, соответствующие установления не дают нуждающимся признаваемых законом прав. Однако социалисты под правом на существование понимают нечто иное. Они определяют существо дела так, что «всякий член общества может требовать, чтобы ему были предоставлены вещественные блага и услуги, необходимые для поддержания его существования, по мере имеющихся в наличии средств, прежде чем будут удовлетворены менее насущные нужды других» [42*]. Туманность концепции «поддержания собственного существования», равно как и невозможность объективного определения и сравнения настоятельности нужд разных людей, превращает ее в конечном итоге в требование о возможно равном распределении потребительских благ. Одна из нередких формулировок этой концепции — «никто не должен испытывать лишений, в то время когда другие живут в излишествах», — выражает намерение еще яснее. Ясно, что это требование равенства может быть удовлетворено (в негативном плане) только после обобществления всех средств производства и перехода к распределению государством всех результатов производства. Может ли при этом быть достигнута позитивная цель — реальная обеспеченность каждого, это другая проблема, которой защитники права на существование вряд ли вообще занимались. Они провозглашали, что сама Природа предоставляет для всех достаточные средства к жизни и что только из-за несправедливых общественных установлений большая часть человечества бедствует; если лишить богатых всего, что им позволено потреблять сверх всякой «необходимости», каждый получит достаточно для достойного уровня жизни. Только под влиянием критики, исходившей из Мальтусова закона народонаселения [43*], социалистическая доктрина была поправлена. [56] Социалисты признали, что в условиях несоциалистического способа производства объем производства недостаточен для изобильного снабжения каждого. Но при этом они утверждают, что социализм в такой громадной степени увеличит производительность труда, что окажется возможным создание земного рая для неограниченного по численности населения. Даже Маркс, в других случаях весьма осторожный, заявил, что социалистическое общество сделает мерой распределения потребности каждого [44*].
Ясно, по крайней мере, следующее: признание права на существование в том смысле, какой придают ему теоретики социализма, может быть достигнуто только в результате обобществления средств производства. Антон Менгер, правда, высказался в том смысле, что частная собственность и право на существование вполне могут сосуществовать. В этом случае требования граждан государства на средства, необходимые им для существования, пришлось бы рассматривать как нечто подобное закладной, подлежащей удовлетворению за счет национального дохода прежде, чем привилегированные граждане получили бы свой нетрудовой доход. Но даже ему пришлось признать, что в случае полной реализации права на существование соответствующие расходы поглотят столь большую часть нетрудового дохода и столь сильно обкорнают частную собственность, что вскоре вся собственность окажется в коллективном владении [45*]. Если бы Менгер сумел понять, что право на существование с необходимостью порождает право на равное распределение потребительских благ, он не стал бы говорить о его совместимости с частной собственностью на средства производства.
Право на существование очень тесно связано с правом на труд [46*]. В основе идеи — не столько право на труд, сколько обязанность трудиться. Законы, которые предоставляют нетрудоспособным возможность претендовать на поддержку, тем самым лишают такого права работоспособных. Они могут претендовать только на предоставление рабочего места. Естественно, что социалистические авторы и следовавшие за ними социалистические политики прежних времен имели довольно свободное представление об этом понятии. Они превратили его — более или менее явно — в требование на получение работы, соответствующей склонностям и способностям рабочего и обеспечивающей при этом достаточную заработную плату. В основе права на труд лежит та же идея, что выразилась в праве на существование: в «естественных» условиях, — которые нам следует считать существовавшими до и вне рамок общественного порядка, базирующегося на частной собственности, и которые будут восстановлены социалистическими конституциями после ликвидации частной собственности, — каждый человек должен быть способен добыть собственным трудом достаточные средства к существованию. Буржуазное общество, разрушившее этот разумно устроенный мир, обязано возместить пострадавшим то, что они утратили. Эквивалентом утраченного и должно выступать право на труд. Мы опять сталкиваемся со старой иллюзией средств к существованию, которые предположительно должна давать Природа независимо от уровня исторического развития общества. Но дело-то в том, что Природа вовсе не знает и не предоставляет никаких прав. Поскольку желания человека практически беспредельны, а Природа сама по себе скудна, человек вынужден заниматься хозяйством. Эта хозяйственная деятельность предполагает социальное сотрудничество; истоки сотрудничества — в понимании того, что оно увеличивает производительность труда и повышает уровень жизни. Заимствованная в наиболее наивных теориях естественного права идея, что в обществе человеку приходится хуже, чем в «более свободном и примитивном естественном состоянии», и что общество должно, так сказать, купить его терпение в обмен на специальные права, -- краеугольный камень построений, возводимых поборниками права на труд и права на существование.
Когда производство отлично сбалансировано, безработицы не бывает. Безработица есть следствие экономических изменений, и там, где развитие хозяйства не сдерживается вмешательством властей и профсоюзов, она возникает только как переходное явление, а изменения заработной платы обычно носят компенсаторный характер. Соответствующие институты, например биржи труда, представляющие собой просто развитие экономического механизма свободного рынка, где индивидуум свободен выбирать и изменять профессию и место работы, способны сократить продолжительность отдельных случаев безработицы настолько, что она перестанет восприниматься как серьезное бедствие [47*]. Но требование, чтобы каждый гражданин имел право на привычную ему профессию и заработок не ниже, чем у других профессий, которые пользуются большим спросом на рынке труда, абсолютно несостоятельно. Организация производства нуждается в средствах побуждения к смене профессий. В социалистической формулировке право на труд совершенно нереализуемо, и не только в обществе, основанном на частной собственности на средства производства. Даже социалистическое общество не может гарантировать рабочему право на занятость только в выбранной профессии; оно также будет нуждаться в способах перемещения рабочих туда, где они нужнее.
Три основных экономических права — а число их легко увеличить — принадлежат к прошедшей эпохе движения за социальные реформы. Они сохранили сегодня хотя и немалое, но чисто пропагандистское значение. Их место заняло требование обобществления средств производства.
3. Коллективизм и социализм
Противоположность между реализмом и номинализмом, пронизывающая всю историю человеческой мысли со времен Платона и Аристотеля, проявилась также в области социальной философии [48*]. [57] Различие между отношением коллективизма и индивидуализма к проблеме общественных объединений такое же, как между отношением универсализма и номинализма к проблеме понятия вида. [58] В сфере социальных наук эта противоположность приобретает высочайшую важность, так же как в философии отношение к идее Бога получило значение, далеко выходящее за пределы научного исследования. Это -- политическая важность. Существующие поныне и не желающие сдаваться структуры власти находят в философии коллективизма оружие для защиты своих прав. И даже здесь номинализм проявляет себя как беспокойная наступательная сила. Как в области философии он разрушает старые системы метафизического умозрения, так и здесь он взрывает метафизические схемы социологического коллективизма.
Политическое злоупотребление тем, что первоначально выступало в телеологическом обличье лишь как противоположность представлений в теории познания, становится совершенно отчетливым, когда дело касается этики и политики. Проблема здесь формулируется иначе, чем в области чистой философии. Вопрос звучит так: что должно быть целью — личное или общее? [49*] Такое противопоставление целей индивида целям социального целого можно снять, только пожертвовав чем-то одним в пользу другого. Спор о реальности или номинальности понятий превращается в спор об иерархии целей. И здесь заново возникает трудность для коллективизма. Поскольку наличествуют разные социальные collectiva [60] цели которых представляются противоположными в той же степени, что и цели индивидуумов, противостоящих этим collectiva этот конфликт интересов должен быть разрешен. На самом деле практический коллективизм не слишком беспокоится об этом. Он ощущает себя только апологетом правящих классов и в качестве научной полиции защищает тех, кому в данный момент принадлежит власть, с не меньшим рвением, чем политическая охранка.
Индивидуалистическая социальная философия эпохи Просвещения по-своему обошлась с противоположностью между индивидуализмом и коллективизмом. Она называется индивидуалистической, поскольку ее первой задачей было сокрушить идеи правящего коллективизма, чтобы расчистить путь для последующей социальной философии. Но при этом разбитый идол коллективизма не был заменен культом индивида. Положив в основу социологической мысли доктрину гармонии интересов, индивидуалистическая социальная философия создала современную науку об обществе, доказывая при этом, что конфликта интересов, вокруг которого было столько стычек, в действительности нет. Ибо общество вообще может существовать только при том условии, что в нем индивид найдет поддержку для своего Я и своей собственной воли.
Коллективистское движение современности черпает свою силу не в скрытых потребностях современной научной мысли, но в политической воле эпохи, тяготеющей к романтизму и мистицизму. Духовные движения представляют собой восстание мысли против инерции, бунт немногих против множества. Это бунт тех, кто благодаря духовной силе всего сильнее в одиночестве, против тех, кто может выразить себя лишь заодно с массой, с толпой и кто имеет значение только в силу своей многочисленности. Коллективизм — это противостояние, это оружие всех тех, кто стремится убить разум и мысль. Потому-то коллективизм воздвигает «нового кумира», самого холодного из всех «холодных чудовищ» -- государство [50*]. Превознося это мистическое существо и превращая его в своего рода божество, разукрашивая его всеми экстравагантными совершенствами и очищая от всякой грязи [51*], выражая готовность все пожертвовать на его алтарь, коллективизм сознательно стремится порвать все нити, связывающие социологическую и естественнонаучную мысль. Это особенно явно у тех мыслителей, которые настойчивой и острой критикой немало поработали над освобождением естествознания от всех следов телеологии [61], но в то же время в сфере познания общества не только сохраняли традиционные идеи и приемы телеологического мышления, но даже, стремясь оправдать их, перекрывали для социологии все пути к свободе мысли, которая уже стала к тому времени достоянием естественных наук. Кантовская философия природы не сохраняет места для какого-либо бога или руководителя мироздания, но историю она рассматривает, как «выполнение тайного плана природы», направленного на создание совершенного внутренне и внешне государственного устройства как единственного условия развития всего заложенного природой в человечество [52*]. У Канта с особенной ясностью видно, что современный коллективизм не имеет никакой нужды в старом реализме понятий, ибо, возникший из политических, а не философских потребностей, он занимает особую позицию — вне науки и она не может быть поколеблена никакими атаками теории познания. Во второй части своей книги «Идеи к философии истории человечества» Гердер [62] с ожесточением нападает на критическую философию Канта, которая представляется ему «аверроэсовским» гипостазированием общего. [63] Всякий утверждающий, что человеческий род, а не индивид, есть субъект образования и воспитания, не осознает, что «род» вид — это только всеобщие понятия, и нужно, чтобы они воплощены были в конкретных индивидах». Если бы кто-либо приписал этим общим понятиям совершенную степень гуманности, культуры и просвещенности, составляющих понятие идеала, он при этом «ничего не сказал бы о подлинной истории человеческого рода, как ничего я не скажу, говоря вообще о животности, каменности, железности и наделяя целое самыми великолепными, но противоречащими друг другу в конкретных индивидах свойствами» [53*]. В своем ответе на это Кант завершает разрыв между этико-политическим коллективизмом и философским реализмом понятий. «Тот, кто говорит: «Отдельная лошадь безрога, а лошади как вид имеют рога», — тот говорит совершеннейшую чепуху. Ибо род есть не что иное, как признак, которым должны обладать все его индивиды. Но если выражение «род человеческий» означает — а, в общем, так оно и есть — ряд поколений, идущих в бесконечность (неопределенность), и предполагается, что этот ряд непрерывно все ближе к предопределенной цели, движущейся со своей стороны вместе с ним, тогда вовсе не будет противоречия в утверждении, что в каждой части своей он асимптотически приближается к цели [64] и только как целое достигает ее, другими словами, что не одно звено во всех поколениях человеческого рода, но только род в целом полностью исполняет свое предназначение. Математики могут разъяснить это, философ же должен заявить: предназначение человеческого рода в целом есть непрерывный прогресс, и завершение его есть просто идея — голая, но по намерениям полезная идея цели, — к которой мы согласно плану Провидения, должны направлять наши усилия» [54*]. Здесь открыто признается телеологический характер коллективизма и раскрывается непреодолимая пропасть между ним и методами чистого познания. Познание скрытых намерений природы лежит вне человеческого опыта, и наша мысль не дает нам ничего, что бы позволило сделать заключение, каковы ее цели и существуют ли они вообще. Наблюдаемое нами поведение отдельных людей и целых социальных систем не дает никаких оснований для предположений. Мы не в силах установить никаких логических связей между опытом и тем, что мы можем или хотим предположить. Нам приходится верить (поскольку это невозможно доказать), что вопреки собственной воле человек делает то, что предустановлено природой, которая лучше знает, что во благо человечеству, но не индивиду [55*]. Это не тот подход, который свойствен науке.
Факт, что коллективизм нельзя обосновать научной необходимостью. Он объясняется только нуждами политики. В силу этого он не останавливается, как это делает понятийный реализм, на утверждении реального существования общественных объединений, которых он почитает живыми организмами в полном смысле этого слова, но идеализирует и обожествляет. Гирке объявляет вполне открыто и неприкрашенно, что следует крепко держаться за «идею реального единства общества», потому что только это одно оправдывает требование, чтобы индивид отдавал силы и жизнь народу и государству [56*]. [65] Что коллективизм есть не что иное, как «прикрытие тирании», сказал уже Лессинг [57*]. [66]
Если бы противоречие между общим интересом целого и отдельным интересом индивидуума действительно существовало, сотрудничество людей в обществе было бы невозможным. Естественное взаимодействие людей представляло бы собой войну всех против всех. Мир и взаимная терпимость были бы невозможны, а вместо этого были бы только временные перемирия, длящиеся не дольше, чем это нужно одной из сторон. Индивид был бы готов к постоянному бунту против всего и всех, подобно непрекращающейся войне с хищниками и бациллами. Коллективистское понимание истории — образцово асоциальное — не может вообразить иного способа возникновения социальных институтов, кроме как через вмешательство «миростроителя», платоновского Демиурга δημιοργοζ (того, кто творит для людей). Он действует в истории своими орудиями — героями, которые ведут сопротивляющегося человека куда надо. В результате воля индивида сломлена. Желающего жить только для себя представители Бога на земле подчиняют нравственному закону, который требует, чтобы отдельный человек жертвовал своим благополучием во имя Целого и будущего развития.
Наука об обществе начинается с преодоления этого дуализма. Поняв, что интересы отдельных людей внутри общества совместимы, и что индивиды и община не враждебны друг другу, можно понять и социальные установления, не призывая на помощь богов и героев. Мы можем распрощаться с Демиургом, который принуждает человека жить в коллективе, как только осознаем, что общественный союз дает человеку больше, чем требует взамен. Даже не предполагая «скрытого плана природы», мы можем понять развитие в направлении к более интегрированным формам общества, когда видим, что каждый шаг на этом пути приносит благо самим шагающим, а не только их отдаленным потомкам.
Коллективизму нечего противопоставить новой социальной теории. Непрерывно повторяющиеся обвинения, что эта теория недооценивает важность соllectiva, особенно таких, как Государство и Нация, показывают только, что коллективизм не заметил, как влияние либеральной социологии изменило постановку проблем. Коллективизм более не пытается создать законченную теорию общественной жизни; все, что он может противопоставить своим противникам, — это остроумные афоризмы, и не больше. В экономике, так же как в общей социологии, он проявил свою совершенную бесплодность. Не случайно германский гений, одолеваемый социальными теориями классической философии от Канта до Гегеля [67], в течение долгого времени не мог произвести ничего путного в экономике, а те, кто прорвал заклятие (сначала Тюнен и Госсен, затем австрийцы Карл Менгер, Бем-Баверк и Визер), были свободны от какого-либо влияния коллективистской философии государства. [68]
Сколь мало коллективизм был способен обойти трудности по развитию собственной доктрины, лучше всего видно из того, как он обошелся с проблемой общественной воли. Опять и опять говорить о Воле государства, о Воле народа, об Убеждениях народа — это далеко не способ объяснить, как именно возникает коллективная воля социальной группы. Поскольку она в существеннейших моментах отличается от воли отдельного индивида и даже вполне противоположна ей, коллективная воля не может возникнуть, как слагаемая индивидуальных волеизъявлений. Каждый коллективист находит своеобычный источник коллективной воли сообразно собственным политическим, религиозным и национальным убеждениям. В сущности, совершенно одно и то же, полагается ли источником сверхъестественная власть короля или священника либо она истолковывается как качество определенного класса или народа. Фридрих Вильгельм IV и Вильгельм II были вполне убеждены, что Господь наделил их особой властью, и эта вера, несомненно, подстегивала их сознательные усилия и укрепляла их. [69] Но наука столь же мало способна доказать истинность этой веры, как и доказать истинность религии. Коллективизм — явление политическое, а не научное. И все его содержание суть ценностные суждения. [70]
Коллективизм в целом всегда благосклонен к идее обобществления средств производства, поскольку это близко его мировосприятию. Но есть коллективисты, которые защищают частную собственность на средства производства, поскольку верят, что такой порядок более благоприятен для общества в целом [58*]. В то же время, даже вне зависимости от влияния идей коллективизма, можно прийти к убеждению, что частная собственность на средства производства менее благоприятна для целей всего человечества, чем общественная собственность.
Глава III. Социальный порядок и политическое устройство
1. Политика насилия и политика договора
Господство принципа насилия не ограничено, естественно, сферой собственности. Дух доверия исключительно к мощи, ищущий основ благосостояния не в соглашении, но в непрекращающемся конфликте, пронизывает всю жизнь. Все человеческие отношения были установлены в соответствии с «правом сильного», которое на деле есть просто отрицание Права. Это не был мир. В лучшем случае — перемирие.
Общество возникло из мельчайших объединений. Круг объединяющихся ради взаимного мира был сначала очень ограничен. Круг расширялся шаг за шагом тысячелетиями, пока мирный союз и сообщество международного права не охватили большую часть человечества, отделив его дикую половину, живущую на нижних этажах культуры. Не везде внутри цивилизованного сообщества принцип договора был равно могущественным. С наибольшей полнотой он был признан во всем, что касалось собственности. Слабее всего он соблюдался там, где речь шла о политическом господстве. В сфере иностранной политики он утвердился лишь настолько, чтобы установить законы войны, несколько ограничивающие принцип насилия. Кроме случаев арбитража, представляющих собой недавнее достижение, споры между государствами до сих пор по большей части разрешаются силой оружия. Это традиционнейшая древняя правовая процедура; битвы, в которых выносят решение, подобно судебным дуэлям древнего права должны подчиняться неким правилам. Тем не менее, было бы ложью утверждать, что в межгосударственных делах страх перед иностранным насилием является единственным фактором, который удерживает меч в ножнах. [59*] Силы, тысячелетиями действовавшие в международной политике, поставили ценность мира над прибылью победоносной войны. В наше время даже могущественнейший воитель не может игнорировать правовую максиму, согласно которой война должна иметь основательные причины. Воюющая сторона вынуждена теперь доказывать, что ведет правую войну и что война эта оборонительная либо, по крайней мере, превентивно оборонительная, такова важная дань принципу Закона и Мира. Каждая политика, открыто принимавшая принцип насилия, вызывала против себя мировую коалицию, которой, в конце концов, и подчинялась.
В социальной философии либерализма человеческий разум впервые приходит к осознанию того, что принцип мира превосходит принцип насилия. В этой философии впервые человечество дает себе отчет в собственных действиях. Она срывает романтический нимб, который всегда окружал власть. Война, учит либерализм, губительна не только для побежденных, но и для победителей. Общество возникло в результате мирного труда; сущность общества — миротворчество. Не война, а мир — отец всех вещей. Только хозяйственная деятельность создает богатство; не военное ремесло, а труд приносит счастье. Мир созидает, война разрушает. Народы большей частью тяготеют к миру, потому что они осознают преобладающую пользу мира. Они принимают войны только во имя самозащиты; агрессивных войн они не хотят. Только князья хотят войны, ибо надеются приобрести деньги, вещи и власть. Дело народов — помешать исполнению их желаний, лишив их средств для ведения войны.
Любовь либералов к миру проистекает не из филантропических чувств, как пацифизм Берты Зутнер и ей подобных. [72] В этой любви нет мрачности, обычной у многих, кто пытается одолеть романтизм кровавой страсти трезвостью международных конгрессов. Это пристрастие к миру — не благотворительная игра, которая, впрочем, уживается с прочими убеждениями. Просто такова социальная теория либерализма. Кто настаивает на единстве экономических интересов всех народов и сохраняет безразличие к размерам национальной территории и форме национальных границ, кто настолько отошел от коллективистских идей, что выражения типа «честь государства» звучат для него полной бессмыслицей, для того просто не существует оправданий для агрессивной войны. Либеральный пацифизм есть порождение социальной философии либерализма. То, что либерализм выступает в защиту собственности и отрицает войну, есть два выражения одного и того же принципа. [60*]
2. Социальная функция демократии
Во внутренней политике либерализм требует полнейшей свободы выражения политического мнения, устройства государства в соответствии с волей большинства; он требует, чтобы законы составляли представители народа и чтобы правительство, которое представляет собой комитет народных представителей, было подчинено закону. Мирясь с монархией, либерализм просто идет на компромисс. Его идеалом остается республика или, по крайней мере, призрачная монархия по английскому образцу, ибо его высший политический принцип — самоопределение людей как индивидов. Тщетно обсуждать, является ли этот идеал демократическим или нет. Современные авторы склонны вводить различие между либерализмом и демократией. Похоже, что у них нет ясного представления ни о том, ни о другом. А главное, лелеемые ими взгляды на правовые основы демократических установлений заимствованы исключительно из круга идей доктрины естественного права.
Вполне может быть, что большинство либеральных теоретиков пытались поддерживать демократические установления, также ссылаясь на то, что они соответствуют воззрениям естественного права о неотчуждаемости права человека на самоопределение. Но мотивы, которыми политические движения оправдывают свои требования, не всегда совпадают с причинами, вынуждающими их к действию. Зачастую легче действовать в политике, чем ясно видеть конечные мотивы собственных действий. Старый либерализм знал, что демократические требования неизбежно порождаются всей его социально-философской системой. Но было не вполне ясно, каково их действительное место в этой системе. Этим объясняется та неопределенность, которая всегда проявляется по основным вопросам; этим также объясняется безмерная преувеличенность псевдодемократических требований тех, кто присвоил имя «демократ» исключительно себе и таким образом противопоставил себя либералам, не заходившим столь далеко.
Значение демократических форм государственного устройства не в том, что они больше любых других соответствуют естественным и врожденным правам человека; не в том, что лучше любого другого вида правления демократия воплощает идеи свободы и равенства. Отвлеченно говоря, человеку столь же мало пристало позволять управлять собой, как и позволять кому-либо работать за него. Что гражданин развитого общества чувствует себя свободным и счастливым при демократическом режиме, что он считает его лучшим, чем любая другая форма власти, и что он готов к жертвам ради достижения и поддержания такого порядка, - все это опять-таки не следует объяснять тем, что демократия достойна любви сама по себе. Дело в том, что она выполняет функции, без которых невозможно обойтись.
Обычно отмечают, что важная функция демократии -- отбор политических лидеров. В демократической системе назначение на важнейшие посты определяется конкуренцией в обстановке полной гласности, свойственной политической жизни, и в этой конкуренции, как принято думать, обычно побеждают самые достойные. Не очень понятно, почему демократия должна оказаться непременно более удачливой, чем автократия или аристократия, в отборе людей для управления государством. В недемократических государствах, как показывает история, политически одаренные люди нередко пробивались наверх, и одновременно нельзя утверждать, что в демократиях всегда лучшие попадают на должное место. По этому вопросу враги и друзья демократии никогда не договорятся.
Истинное значение демократических форм устройства государства совсем в ином. Их функция -- поддерживать мир, избегать насильственных переворотов. В недемократических государствах точно так же только правительство, имеющее поддержку общественного мнения, может рассчитывать на устойчивость. Сила всех правительств не в оружии, но в том духе, который подчиняет правительству все оружие. Правящая группа, всегда являющаяся малым меньшинством среди подавляющего большинства, может приобрести и удержать власть, только расположив настроение большинства в свою пользу. Если что-либо изменяется, если те, от чьей поддержки правительство зависит, теряют уверенность, что они должны поддерживать именно это правительство, тогда почва, на которой держатся власти, подорвана и рано или поздно им придется уйти. Правители и режимы в недемократических государствах могут быть изменены только насилием. Режим правления и люди, потерявшие поддержку народа, бывают сметены восстанием, и новый режим и новые люди занимают их место.
Но каждый насильственный переворот стоит крови и денег. Приносятся человеческие жертвы, и разрушения тормозят хозяйственную деятельность. Демократии пытаются предотвратить такие материальные потери и сопровождающие их психические потрясения, гарантируя согласие между волей государства (как она выражается через органы управления) и волей большинства. Это достигается тем, что государственные органы ставятся в зависимость от воли существующего большинства. Во внутренней политике так реализуется то, что пацифизм мечтает осуществить во внешней политике. [61*]
Что только это является решающей функцией демократии, становится ясно из аргументов, которые противники демократии чаще всего выдвигают против нее. Русские консерваторы, несомненно, правы, когда указывают, что русский царизм и политика царя одобрялись громадной массой русских людей, так что даже демократическое устройство не могло бы дать России другого правительства. Русские демократы также не имели иллюзий по этому поводу. Пока большинство русского народа (вернее, политически зрелая его часть, имевшая возможность влиять на политику) стояло за царизм, русское государство не нуждалось в демократических формах правления. Однако отсутствие демократических форм правления стало роковым для России с того момента, когда возникло расхождение между общественным мнением и политической системой царизма. Раздор между волей государства и волей народа нельзя было уладить мирными методами; политическая катастрофа оказалась неизбежной. Что верно для царской России, столь же верно и для России большевистской; это так же верно для Пруссии-Германии и для всякого другого государства. Как ужасны были последствия Французской революции, которые Франция психически так никогда и не изжила! Как бесконечно много выиграла Англия от того, что сумела избежать революций с XVII века!
Очевидно, что большая ошибка отождествлять демократию с революцией или даже просто уподоблять их. Демократия не только не революционна, но она всегда стремится исключить революцию. Культ революции, насильственного переворота любой ценой, особенно характерный для марксизма, не имеет ничего общего с демократией. Либерализм, осознавая, что для достижения экономических целей человеку необходим мир, и стремясь в силу этого к устранению всех причин вражды внутри страны и за рубежом, требует демократии. Жестокость войн и революций в глазах либерала всегда зло, которое так или иначе неизбежно, пока нет демократии. Однако даже когда революция представляется почти неизбежной, либерализм пытается спасти людей от насилия. Он не оставляет надежды, что философия может настолько просветить тиранов, что они добровольно откажутся от прав, препятствующих социальному развитию. Шиллер [75] говорит как либерал, когда у него маркиз де Поза умоляет короля дать свободу мысли [76]; а историческая ночь 4 августа 1789 г., когда французские дворяне добровольно отказались от своих привилегий, и английский закон о реформах 1832 г. показывают, что эти надежды не были вполне напрасными. [77] Либерала не приводит в восторг самоотверженная грандиозность марксистских профессиональных революционеров, которые жертвуют тысячами жизней и разрушают плоды вековых трудов. Здесь вполне хорош хозяйственный подход: либерализм желает успеха наименьшей ценой.
Демократия — самоуправление народа, его автономия. Но это не значит, что все должны равно соучаствовать в законодательстве и администрации. Прямая демократия возможна только в малых группах. Даже небольшой парламент не может вести всю работу на пленарных заседаниях; следует избирать комитеты, и вся основная работа выполняется отдельными людьми: спикерами, докладчиками и, прежде всего авторами законопроектов. В этом окончательное доказательство того, что массы следуют за немногими лидерами. Что люди вовсе не равны, что некоторые рождаются быть лидерами, а некоторые — ведомыми, этого не могут изменить даже демократические установления. Все не могут быть первопроходцами: большинство этого и не хочет, да и нет у него нужных сил. Идея, что при настоящей демократии люди будут проводить время в совете подобно членам парламента, возникла из представления о древнегреческом городе-государстве периода упадка; но при этом упускается из виду тот факт, что такие общины вовсе не были демократиями, поскольку исключали из общественной жизни рабов и всех тех, кто не обладал всей полнотой прав гражданина. Там, где все должны трудиться, «чистый» идеал демократии становится нереализуемым. Стремление увидеть демократию реализованной именно в этой невозможной форме есть не что иное, как педантское доктринерство в стиле естественного права. Чтобы достичь целей демократических установлений, необходимо только, чтобы законодательная и административная работа следовала воле большинства народа, и для этих целей непрямая демократия вполне хороша. Существо демократии не в том, что каждый пишет законы и управляет, но в том, чтобы законодатели и управляющие на деле зависели от воли народа, чтобы их можно было мирно заменить в случае конфликта.
Такое понимание снимает многие аргументы как друзей, так и недругов народовластия, направленные против реализуемости демократии [62*]. Демократия не делается менее демократичной оттого, что лидеры выделяются из массы, чтобы посвятить себя целиком политике. Подобно любой другой профессии в обществе с разделением труда политика требует всего человека; от политиков-дилетантов нет никакой пользы [63*]. До тех пор, пока профессиональный политик зависит от воли большинства и может выполнять только то, за что и получил большинство голосов, демократический принцип не нарушен. Не требует демократия и того, чтобы парламент был миниатюрной копией картины социальной стратификации в стране, так что если большинство населения составляют крестьяне и промышленные рабочие, то и в парламенте они же составляли бы большинство. [64*] Свободный джентльмен, который играет большую роль в английском парламенте, юрист и журналист в парламентах романских стран, возможно, представляют народ лучше, чем лидеры профсоюзов и крестьяне, которые внесли дух запустения в парламенты Германии и славянских стран. Если представители высших социальных слоев действительно исключены из парламентской деятельности, эти парламенты и формируемые ими правительства не могут представлять волю народа. Высшие слои, состав которых сам по себе есть результат отбора, производимого общественным мнением, оказывают на умы людей влияние, далеко превосходящее их скромную численность. Если их не допускать в парламенты и правительства как людей, неподходящих для власти, возникнет конфликт между общественным мнением и мнением парламента, и этот конфликт сделает трудным, если не вовсе невозможным, функционирование демократических институтов. Внепарламентские влияния скажутся и на законодательном процессе, и на администрировании, ибо интеллектуальное влияние исключенных из политической жизни не может быть удушено менее достойными элементами, заправляющими в парламенте. Ни от чего парламентаризм не страдает так, как от этого; здесь мы должны искать причины плачевного упадка парламентов. Ведь демократия — не власть толпы, и чтобы соответствовать своим задачам, парламент должен включать лучшие политические умы нации.
Тяжко исказили идею демократии те, кто, преувеличивая концепцию естественного права о суверенности, трактуют ее как безграничное господство volonte general [78], В действительности нет существенной разницы между неограниченной властью демократического государства и неограниченной властью самодержца. Увлекающая наших демагогов и их сторонников идея, что государство может делать что угодно, и никто не должен препятствовать исполнению воли суверенного народа, принесла больше зла, чем маниакальный цезаризм вырождающихся князьков. Все это порождено представлением о государстве как носителе политического могущества. Законодатель чувствует себя свободным от всех ограничений, поскольку он почерпнул из теории права, что весь закон восходит к его воле. Эта небольшая путаница представлений имеет очень большие последствия, когда законодатель принимает свою формальную свободу за действительную и верит, что он стоит над естественными условиями общественной жизни. Возникающий из-за этого неверного понимания конфликт показывает, что только в рамках либерализма демократия оказывается функциональной. Демократия без либерализма — пустая форма.
3. Идеал равенства
Политическая демократия с необходимостью вытекает из либерализма. Но часто говорят, что демократический подход должен, в конце концов, выйти за пределы либерализма. Утверждается, что, последовательно осуществленный, он потребует не только политического, но и экономического равенства. Посему чисто логически из либерализма должен развиться социализм, а сам либерализм несет в себе начало собственного разрушения.
Идеал равенства также возник как требование естественного права. Его пытались обосновать религиозными, психологическими и философскими аргументами, но все они оказались несостоятельными. Дело в том, что люди от природы разные; требование о равенстве состояний не может быть обосновано тем, что все равны. Нищета аргументов естественного права наиболее очевидна, когда речь идет о принципе равенства.
Следует начать с исторического исследования, чтобы понять этот принцип. В новое время, как и прежде, к нему прибегали, чтобы сокрушить феодальную иерархию индивидуальных прав и свобод. До тех пор, пока свободное развитие индивидуумов и целых социальных групп сдерживается, общественная жизнь обречена на беспокойство и жестокие восстания. Бесправные люди всегда представляют угрозу общественному порядку. Их объединяет общая заинтересованность в устранении препятствий к развитию; они готовы обратиться к насилию, поскольку мирными средствами не могут получить желаемое. Общественный мир становится возможен, когда каждый обретает доступ к участию в демократических институтах. Это и означает равенство всех перед законом.
Есть и другое соображение, понуждающее либерализм признать желательность такого равенства. Общественные потребности удовлетворяются наилучшим образом, когда средствами производства распоряжаются те, кто способен с ними лучше управиться. Иерархизация прав согласно случайностям рождения не дает лучшим управляющим доступа к производительным благам. Всем известна роль этого аргумента в либеральном движении, и прежде всего в борьбе за свободу крепостных. Наитрезвейшие соображения целесообразности делают либерализм сторонником равенства. При этом либерализм полностью отдает себе отчет, что равенство перед законом может при некоторых обстоятельствах оказаться крайне тягостным для индивида, поскольку то, что на пользу одному, может быть пагубным для другого. Но либеральная идея равенства основывается на соображениях общественной выгоды, и перед ними претензии отдельных людей должны отступать. Подобно другим общественным установлениям закон существует на потребу общества. Индивид должен подчиниться, ибо его собственные цели могут быть реализованы только в рамках общества и вместе с обществом.
Значение правовых институтов понимается неверно, когда от них требуют чего-то большего и делают их основой новых претензий, подлежащих реализации без оглядки на мир и сотрудничество в обществе. Создаваемое либерализмом равенство есть равенство перед законом; и никогда не имелось в виду ничего иного. С либеральной точки зрения критика этого равенства как неадекватного (в предположении, что истинное равенство состоит в равенстве доходов) неоправданна.
Но именно в этой форме провозглашают принцип равенства те, кто надеется выиграть от равного распределения благ. Здесь плодородная почва для демагогии. Кто бы ни взялся возбуждать возмущение бедных против богачей, может рассчитывать на большую аудиторию. Демократия создает наилучшие исходные условия для развития этих настроений, в скрытом виде наличных всегда и везде. [65*] Все демократические государства терпели крушение именно на этом. И демократии нашего времени идут к тому же.
Очень странно, что несоциальной называют как раз ту форму идеи равенства, которая рассматривает равенство достижения только с точки зрения достижения целей общественной жизни и стремится к равенству лишь постольку, поскольку оно служит этой цели. В то же время требование, чтобы равенство независимо от последствий включало требование равного подушного распределения национального дохода, выдвигается как истинно социальный подход. В греческом городе-государстве в IV веке гражданин считал себя владельцем всего, что принадлежит подданным государства, и требовал своей части настоятельнейшим образом, как акционер требует своих дивидендов. Относительно практики распределения общественной собственности и конфискованной частной собственности Эсхин [81] делает следующее замечание: «Афиняне расходились с народного собрания не как с политической сходки, но как с заседания сообщества, на котором делились прибыли» [66*]. Нельзя отрицать, что даже ныне средний человек склонен смотреть на государство как на источник, из которого хорошо бы выкачать побольше.
Но такое понимание равенства никак не является необходимым следствием идеи демократии. Не следует a priori отдавать предпочтение такому равенству перед всеми другими принципами общественной жизни. Прежде чем выносить о нем суждение, нужно как следует разобраться с его последствиями. Тот факт, что это требование весьма популярно в массах и в силу этого легко приобретает поддержку демократического государства, не делает его основным принципом демократии и не может защитить его от испытующего взгляда теоретика.
4. Демократия и социал-демократия
Представление, что демократия и социализм внутренне взаимосвязаны, широко распространилось в десятилетия, предшествовавшие большевистской революции. Многие поверили, что демократия и социализм попросту одно и то же и что демократия без социализма, как и социализм без демократии, невозможна.
Представление развилось в результате сопряжения двух направлений мысли, причем обе они восходят к гегелевской философии истории. Для Гегеля мировая история есть «прогресс в осознании свободы». Пути прогресса таковы: «Восток знал и знает только, что один свободен, греческий и римский мир знает, что некоторые свободны, германский мир знает, что все свободны» [67*]. Нет сомнения, что свобода, о которой говорил Гегель, весьма отличается от той, за которую сражались радикальные политики в его время. Гегель просто интеллектуализировал идеи, общие для всей эпохи Просвещения. Но радикальные младогегельянцы вычитывали из его книг то, что им требовалось. [82] Для них было несомненным, что эволюция в сторону демократии необходима (в гегелевском смысле термина необходимость). Их примеру последовали историки. Гервинус [83] видел «в эволюции человечества в целом», как и «во внутренней эволюции государств», «правильный прогресс свободы духовной и гражданской, которая сначала принадлежит только нескольким личностям, потом распространяется на большее их число и, наконец, достается многим» [68*].
Материалистическая концепция истории вкладывает в представление о «свободе многих» другое содержание. Многие — это пролетарии; они должны с необходимостью стать социалистами, поскольку социальные условия определяют сознание. Таким образом, эволюция к демократии и эволюция к социализму стали одним и тем же.
Демократия есть инструмент реализации социализма, но в то же время и социализм есть инструмент построения демократии. Название партии «социал-демократическая» наиболее ясно выражает эту соотнесенность демократии и социализма. С именем демократия социалистические рабочие партии приняли духовное наследие «Молодой Европы». [84] Все лозунги до мартовского радикализма [85] перекочевали в программы социал-демократических партий. Эти лозунги привлекли в партии тех, кто был либо безразличен, либо даже враждебен социализму.
Отношение марксистского социализма к демократическим требованиям определялось тем, что это был социализм народов, населявших Австро-Венгерскую и Российскую империи, — немцев, русских и ряда малых наций. Каждая оппозиционная партия в этих более или менее автократических государствах должна была в первую очередь требовать демократии, чтобы создать условия для политической деятельности. Для социал-демократов тем самым вопрос о демократии был исключен из дискуссий; было просто немыслимо нанести ущерб демократической идеологии pro foro externo [86]
Но вопрос о взаимоотношении двух идей, соединенных в двойном названии, не мог быть полностью подавлен внутри партии. Проблему начали делить на две части. Когда говорили о грядущем социалистическом рае, продолжали подчеркивать взаимозависимость терминов и даже шли немного дальше, утверждая, что это в сущности одно и то же. Впрочем, хороший социалист, ожидающий абсолютного спасения в предполагаемом раю, и не мог прийти к другому заключению, поскольку он при этом сохранял понимание демократии как чего-то вполне хорошего.
Было бы что-то неправильно с землей обетованной, если бы она не была одновременно наилучшем образом устроенной и политически. Потому-то социалистические авторы без устали провозглашали, что только в социалистическом обществе может существовать истинная демократия. То, что принимают за демократию в капиталистических государствах, — просто карикатура, придуманная для маскировки махинаций эксплуататоров.
Хотя дело представлялось так, что цели социализма и демократии едины, никто не был вполне уверен, одной ли дорогой они идут. Обсуждалась проблема, следует ли достигать социализма — а значит, как они верили, и демократии — только с помощью демократических методов либо в борьбе допустимы отступления от принципов демократии. Это и была знаменитая дискуссия о диктатуре пролетариата; в марксистской литературе этот вопрос был темой академических дискуссий вплоть до большевистской революции, а после нее он превратился в большую политическую проблему.
Подобно другим расхождениям во взглядах, которые разбивали марксистов на группы, свара возникла из-за двойственности их догм, называемых марксизмом. В марксизме всегда есть, по меньшей мере, два подхода ко всему и ко всем, и примирение этих подходов возможно только с помощью диалектических уловок. Обычнейший прием состоит в том, чтобы использовать в соответствии с нуждами момента слова, допускающие, по меньшей мере, два толкования. С этими словами, которые одновременно в виде политических лозунгов служат гипнотизации психики масс, распространялось учение, заставляющее вспомнить об идолопоклонстве. Марксистская диалектика, в сущности, есть не что иное, как обожествление слов. Каждый из предметов веры воплощается словом-идолом, неоднозначность которого позволяет выражать им несовместимые идеи и требования. Интерпретация этих слов, намеренно столь же неопределенных, как речения дельфийской Пифии [87], в конце концов приводит к столкновению мнений, и каждый цитирует в свою пользу излюбленные пассажи из писаний Маркса и Энгельса, которые являются высшим авторитетом.
«Революция» — одно из таких слов-фетишей. Промышленной революцией марксизм считает постепенную трансформацию докапиталистического способа производства в капиталистический. [88] Революция здесь означает то же самое, что и развитие, и противоположность терминов «эволюция» и «революция» здесь почти ликвидирована. В результате марксист имеет возможность, когда нужно, говорить о революционном настроении как о презренном «путчизме» («бунтарстве»). И ревизионисты были вполне правы, когда в свою поддержку цитировали многие строчки из Маркса и Энгельса. [89] Но когда Маркс называл рабочее движение революционным и говорил, что рабочие — единственный истинно революционный класс, он использовал термин «революция» в том смысле, который напоминает о баррикадах и уличных сражениях. Так что синдикализм также прав, когда апеллирует к Марксу. [90]
Так же туманно использует марксизм и слово государство.
Согласно марксизму государство есть просто инструмент классового господства. Приходя к власти, пролетариат прекращает классовые конфликты, и государство отмирает. «С того времени, когда не будет ни одного общественного класса, который надо было бы держать в подавлении, с того времени, когда исчезнут вместе с классовым господством, вместе с борьбой за отдельное существование, порождаемой теперешней анархией в производстве, те столкновения и эксцессы, которые проистекают из этой борьбы, — с этого времени нечего будет подавлять, не будет и надобности в особой силе для подавления, в государстве. Первый акт, в котором государство выступает действительно как представитель всего общества — взятие во владение средств производства от имени общества, — является в то же время последним самостоятельным актом его как государства. Вмешательство государственной власти в общественные отношения становится тогда в одной области за другой излишним, и государство само собой засыпает» [69*]. Сколь бы темным или плохо продуманным ни было это понимание политической организации, данное утверждение настолько определенно характеризует власть пролетариата, что места для сомнений просто быть не может. Но все становится менее определенным, когда мы вспоминаем утверждение Маркса, что между капиталистическим и коммунистическим обществами должен быть период революционных преобразований и ему соответствует «политический переходный период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата» [70*]. Если мы предположим вместе с Лениным, что этот период продлится вплоть до достижения «высшей фазы коммунистического общества», в которой «исчезнет порабощающее человека подчинение его разделению труда, когда исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда», когда «труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни», тогда, конечно, нам нелегко будет понять, что же Маркс понимал под демократией [71*]. Очевидно, социалистическое сообщество столетиями не сможет найти места для демократии.
Несмотря на случайные упоминания исторических заслуг либерализма, марксизм полностью игнорирует важность либеральных идей. Он оказывается в затруднении, когда сталкивается с либеральными требованиями свободы совести и свободы выражения мнений, с требованием признать в принципе все оппозиционные партии и обеспечить равные права для всех партий. Когда он не у власти, марксизм провозглашает все основные либеральные права, ибо только они могут обеспечить ему свободу, необходимую для собственной пропаганды. Но марксизм не в силах постичь существо этих прав и свобод и никогда не предоставляет их своим противникам, когда приходит к власти. В этом отношении он похож на церкви и другие организации, строящиеся на принципе насилия. Эти также эксплуатируют демократические свободы, когда отстаивают себя, но, придя к власти, отказывают в таких правах своим соперникам. Так, — вполне явно — демократичность социализма демонстрирует свою лживость. «Партия коммунистов, — говорит Бухарин [91], -- не только не требует никаких свобод ... для буржуазных врагов народа. Наоборот». И с потрясающим цинизмом он бахвалится, что коммунисты, пока не имели власти, защищали свободу слова просто потому, что было бы «смешным» требовать от капиталистов свободы для рабочего движения в какой-либо другой форме, чем требуя свободу вообще [72*].
Всегда и везде либерализм требует демократии прежде всего. Он не хочет ждать, когда народ «созреет» для демократии, ибо полагает, что демократия выполняет столь важные общественные функции, что ее введение не терпит отлагательств. Вне демократии мирное развитие государства невозможно. Требование демократии — не результат политического компромисса или потворства релятивизму в вопросах мироустройства [73*], ибо либерализм доказывает абсолютную обоснованность своего учения. Скорее в склонности к демократии сказывается уверенность либерализма в том, что власть требует только господства над умами и что для приобретения такого господства годится только духовное оружие. Либерализм защищает демократию даже в тех случаях, когда в неопределенной перспективе он может ожидать от нее только ущерба. Либерализм убежден, что он не может править против воли большинства, что в любом случае бесконечно малые выгоды от искусственного поддержания либерального режима не оправдают возмущения спокойного хода государственного развития, которое сделается неизбежным в случае подавления воли народа.
Социал-демократы, безусловно, продолжали бы жульничать с лозунгом демократии, если бы, по исторической случайности, большевистская революция не заставила их до времени сбросить маску и продемонстрировать насилие, неотъемлемое от их учения.
5. Политическое устройство социалистических сообществ
За диктатурой пролетариата лежит рай земной, «высшая фаза коммунистического общества», в котором «с всесторонним развитием индивидов вырастут и производительные силы, и все источники общественного богатства польются полным потоком» [74*]. В этой земле обетованной «нечего будет подавлять, не будет и надобности в особой силе для подавления, в государстве... На место управления лицами становится управление вещами и руководство производственными процессами» [75*]. Настанет эпоха, когда «поколение, выросшее в новых, свободных общественных условиях, окажется в состоянии выкинуть вон весь этот хлам государственности» [76*]. Рабочий класс исчезнет, но для этого «ему придется выдержать продолжительную борьбу, пережить целый ряд исторических процессов, которые совершенно изменят и обстоятельства, и людей» [77*]. В результате общество может обходиться без насилия, как некогда в Золотом веке. Об этом Энгельсу есть что сказать, красивого и хорошего [78*]. Только мы читали уже об этом прежде; все это было изложено лучше и изящнее Виргилием, Овидием и Тацитом!
Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo, sponte sua, sine lege fidem rectumque colebat. Poena metusque aberant, nec veiba minantia fixo aere legebantur. <Первым век Золотой народился, не знавший возмездий, Сам соблюдавший всегда, без законов, и правду, и верность. Не было страха тогда, ни кар, и словес не читали Грозных на бронзе...> [79*]Из всего этого следует, что у марксистов не было случая задуматься о проблемах политической организации социалистического общества. Они вообще-то предполагали не иметь дела с такими проблемами, с которыми нельзя было бы справиться простым замалчиванием.
И все же даже в социалистическом обществе необходимость действовать совместно должна породить вопрос: как действовать сообща?
Придется подумать над тем, как формировать то, что метафорически называют обычно «волей общества» или «волей народа». Если даже нас не остановит неосуществимость такого управления вещами, которое не было бы одновременно управлением людьми, т. е. подчинением воли одного человека воле другого (ведь всякое управление производством есть управление людьми, т. е. господство воли одного над волей многих), все-таки останется вопрос: кто же будет управлять вещами и производственными процессами и в соответствии с чем? А в результате мы опять погружаемся во все политические проблемы регулируемого законом общества.
Все исторические попытки реализации социалистического общественного идеала отличались крайней авторитарностью. В империи фараонов и в империи инков, так же как в государстве иезуитов Парагвая, ничто не напоминало о демократии, о самоуправлении большинства народа. [93] Все другие социалистические Утопии были в равной степени недемократичными. Ни Платон, ни Сен-Симон не были демократами. [94] Ни в истории человечества, ни в истории социалистических теорий не найти ничего, что говорило бы о внутренней связи между социализмом и политической демократией.
При более внимательном изучении выясняется, что идеальная высшая фаза коммунистического общества, как ее представляют марксисты, ожидаемая только в отдаленном будущем, отчетливо недемократична [80*]. Социалисты предполагают, что там будет царить вечный мир — цель всех демократических установлении. Но средства, которыми предполагается достичь этого, очень отличаются от используемых демократами. Мир и покой будут обеспечиваться не возможностью мирно сменять правителей и их политику, но, напротив, постоянством режима, при котором ни правители, ни политика не могут быть изменены. Это тоже покой, только не покой прогресса, к которому стремится либерализм, а покой могилы. Это мир не миротворцев, но «замирителей», насильников, стремящихся принудить к миру. Каждый абсолютный властитель устанавливает такой мир методами абсолютного господства, и длится этот мир столь же долго, сколько удается поддерживать господство. Либерализм видит тщетность всего этого. Он ставит себе целью установить такой мир, который был бы устойчив, несмотря на неистребимую тягу человека к изменениям.
Глава IV. Общественный строй и семья
1. Социализм и проблема секса
Предложения изменить отношения между полами издавна сопутствовали планам обобществления средств производства. Брак должен исчезнуть вместе с частной собственностью, уступая место установлениям, более гармонирующим с фундаментальными данными о природе секса. Когда мужчина освобождается от необходимости зарабатывать на кусок хлеба, любовь должна освободиться от всех оскверняющих ее материальных ловушек. Социализм обещает не только социальные гарантии — благосостояние для всех, но и всеобщее счастье в любви. Эта часть программы в немалой степени была причиной популярности социализма. Знаменательно, что в Германии ни одно из социалистических сочинений не было столь же популярно и пропагандистски действенно, как книга Бебеля «Женщина и социализм» посвященная в первую очередь проповеди свободной любви. [95]
Нет ничего странного в том, что многие должны ощущать неудовлетворенность существующей у нас системой регулирования сексуальных отношений. Отклоняя сексуальную энергию, являющуюся основой столь многих видов человеческой деятельности, от ее природной сферы — половой любви к новым задачам, созданным культурным развитием, эта система оказывает далеко идущее влияние на человечество. Она была создана с великими жертвами, и жертвы все еще приносятся. Каждый человек претерпевает в своей жизни процесс, в результате которого сексуальная энергия теряет диффузную, как в детские годы, форму и принимает конечные, зрелые очертания. Человек должен развить внутреннюю психическую силу, которая сдерживает поток недифференцированной сексуальной энергии и, подобно плотине, меняет ее направление.
Часть энергии, которой природа снарядила сексуальный инстинкт, таким образом перенаправляется к другим целям. Стресс и борьбу, сопутствующие этому изменению, не каждый минует без ущерба. Многие не выдерживают, многие становятся невротиками или безумными. Даже человек, оставшийся здоровым и ставший полезным членом общества, сохраняет шрамы, которые могут открыться от несчастного случая [81*]. И если даже секс станет для него источником величайшего счастья, он останется также источником глубочайшей боли; остывающие чувства подскажут, что годы прошли и что он идет путем всей бренной плоти. Таким образом, секс, который как бы вечно кружит человека, давая ему и отнимая, дарит ему счастье и ввергает назад в страдания, никогда не позволяет ему погрузиться в неподвижность. Желания человека во сне и наяву обращаются к любви. Те, кто стремился изменить общество, не могли пройти мимо секса.
Этого тем более можно было ожидать, что многие из них были сами невротиками, страдавшими от неудачного развития сексуального инстинкта. Фурье, например, страдал от тяжкого психоза. В каждой букве его писаний очевидна болезненность человека, чья сексуальная жизнь совершенно расстроена; весьма досадно, что никто не проанализировал историю его жизни методами психоанализа. То, что безумные нелепости его книг привлекли столь многих читателей и заслужили высшее признание, обязано той болезненной фантазии, с которой описаны эротические наслаждения, ожидающие человечество в рае «фаланстеров». [96]
Утопизм представляет все свои идеалы будущего как восстановление Золотого века, который человечество утратило по собственной вине. Так же и в сфере сексуальной жизни он требует только возврата к исходному блаженству. Поэты античности не менее красноречиво славили ушедшие волшебные времена свободной любви, чем времена Сатурна, когда не было собственности [82*]. Марксизм вторит старым утопистам.
Марксизм и в самом деле стремится сокрушить брак теми же приемами, которые использует для того, чтобы оправдать уничтожение частной собственности, — пытаясь продемонстрировать его исторические корни; точно так же он обосновывает лозунг уничтожения государства тем, что оно не существовало «извечно», что были времена, когда «понятия не имели о государстве и государственной власти» [83*]. Для марксиста исторические исследования просто средство политической агитации. Они нужны, чтобы вооружить людей против ненавистного буржуазного порядка. Основной упрек такому подходу даже не в том, что без тщательного исследования исторического материала выдвигаются пустые, необоснованные теории. Гораздо хуже, что за исторический анализ выдаются псевдонаучные истолкования. Некогда, говорит марксист, был Золотой век. Потом стало скверно, но терпимо. Наконец пришел капитализм, а с ним и все мыслимое зло. Так капитализм оказывается проклят навеки. Единственное, что можно поставить ему в заслугу, так это то, что из-за его отвратительности мир созревает для социалистического спасения.
2. Мужчина и женщина в эпоху насилия
Недавние этнографические и исторические исследования дали массу материалов для истории сексуальных отношений, а психоанализ — новая научная дисциплина — заложил основы научного понимания сексуальной жизни. Тем не менее, в социологии пока не началось освоение богатых идей и материалов из этих источников. Она не смогла поставить проблемы по-новому, чтобы они соответствовали вопросам, выдвинувшимся на первый план. То, что она говорит об экзогамии и эндогамии, о промискуитете, а тем более о матриархате и патриархате, совершенно не соотносится с теориями, которые сегодня невозможно игнорировать. [97] Социологические знания о ранней истории семьи и брака настолько ущербны, что их просто невозможно использовать для интерпретации занимающих нас проблем. Эти знания более или менее надежны только там, где речь идет об условиях, существовавших в историческое время, но и только.
Там, где царствует принцип насилия, семейные отношения характеризуются неограниченным господством мужчины. Мужская агрессивность, неотъемлемая от самой природы сексуальных отношений, здесь доведена до предела. Женщина принадлежит мужчине и находится в его власти примерно в том же смысле, в каком ему принадлежат другие объекты физического мира. Здесь женщина становится исключительно вещью. Ее крадут и покупают; ее меняют, продают, отдают; коротко говоря, в доме она подобна рабу. Пока мужчина жив, он ее судья; когда он умирает, ее хоронят в могиле вместе с другим имуществом покойного [84*]. Старые судебники почти всех народов в один голос говорят, что некогда такое положение было нормальным. Историки обычно пытаются, особенно когда имеют дело с историей собственного народа, смягчить болезненное воздействие этих описаний на ум современного человека. Они указывают, что практика была умеренней, чем буква закона, что жесткость закона не замутняла отношений мужа и жены. Затем они как можно скорей уходят от темы, не слишком согласующейся с их подходом, бросив попутно несколько замечаний о древней суровости нравов и чистоте семейной жизни [85*]. Но эти попытки оправдания, к которым их толкает национализм или умиление прошлым, неосновательны. Открывающаяся из старых законов и кодексов картина отношений между мужчиной и женщиной — это не плод теоретических спекуляций оторванных от жизни фантазеров. Она взята из жизни и точно воспроизводит, как понимали мужчины и женщины брак и отношения между полами. То, что и римлянка, вступавшая под «руку» (manus) мужа или под опеку рода, и женщина древней Германии, которая всю жизнь оставалась объектом «защиты», «прикрытия» (munt), находили эти отношения вполне естественными и справедливыми, что они внутренне не восставали против них, не делали никаких попыток стряхнуть это ярмо, вовсе не доказывает, что между законом и практикой существовал разрыв. Это только показывает, что такие установления соответствовали чувствам женщин, и это не должно нас удивлять. Господствующие в каждую эпоху правовые и моральные нормы поддерживаются не только теми, кто оказывается в преимущественном положении, но и теми, кто страдает от них. Господство этих норм выражается тем фактом, что их поддерживали как раз те, от кого требовали жертв. Во времена принципа насилия женщина — служанка мужчины. В этом она и видит свое назначение. Она разделяет установку, о которой в Новом завете говорится с наибольшей выразительностью: «И не муж создан для жены, но жена для мужа» [86*].
Принцип насилия признает только мужчину. Он один обладает властью, ибо только он наделен правами. Женщина есть просто сексуальный объект. Нет женщины без господина, будь это отец или сторож, муж или хозяин. Даже проститутка не свободна: она принадлежит владельцу борделя. Клиенты договариваются не с ней, а с ним. Бродячая женщина беззащитна, и каждый может делать с ней, что пожелает. И право выбирать мужчину не принадлежит женщине. Ее отдают мужу и он берет ее. Любить его — ее долг, может быть, добродетель; чувство обостряет удовольствие, получаемое мужчиной в браке. Но мнения женщины не спрашивают. Мужчина имеет право отвергнуть ее или развестись с ней; она такого права не имеет.
В эпоху насилия вера в мужское господство одерживает верх над более древними тенденциями к равенству в отношениях между полами. Легенды сохранили следы времен, когда женщины наслаждались большей сексуальной свободой, как Брунгильда например, но они уже не внятны современникам. [98] Господство мужчины оказалось настолько чрезмерным, что пришло в противоречие с природой секса, и ради собственных интересов по чисто сексуальным причинам мужчинам пришлось, в конце концов, ослабить свое доминирование.
Противно природе, что мужчина берет женщину, как лишенную собственной воли вещь. Отдать и получить — природа сексуальных отношений. Чисто пассивная, страдательная установка женщины уменьшает наслаждение мужчины. Чтобы получить удовлетворение, он должен вызвать в ней ответное чувство. Победитель, бросивший рабыню в супружескую постель, покупатель, выторговавший дочь у отца, должен добиваться того, чего нельзя получить насилием над сопротивляющейся женщиной. Мужчина, который внешне представляется неограниченным господином своей женщины, не настолько властен в доме, как ему кажется; он вынужден уделять часть власти женщине, хотя постыдно скрывает это от мира.
К этому добавляется и другой фактор. Половой акт постепенно начинает требовать от мужчины все большего психического напряжения, и для успеха стали нужны особые стимулы. Интенсивность усилия растет пропорционально тому, как человек подчиняется принципу насилия, который делает всех женщин чьей-то собственностью, а тем самым затрудняет поиск сексуального объекта, требует обуздания сексуальных порывов и контроля над естественным влечением. Половой акт требует теперь особого психологического отношения к объекту влечения. Это и есть любовь, неизвестная примитивному человеку и человеку эпохи насилия, которые использовали каждую возможность, без всякого разбора, для обладания. Любовь, эта сверхоценка объекта, невозможна, когда женщина есть нечто низшее и презренное, как это ей суждено при господстве принципа насилия. Ибо при этом она всего лишь раба, а природа любви делает ее царицей.
Из этого противоречия возникает первый великий конфликт в отношениях между полами, который нам открывает история. Брак и любовь делаются противоположностями. Формы проявления этого конфликта меняются, но существо его всегда неизменно. Любовь заняла чувства и мысли мужчин и женщин, и все больше становится центральным пунктом душевной жизни, придавая ей смысл и очарование. Но в начале она не имеет ничего общего с браком и отношениями между мужем и женой. Это неизбежно ведет к тяжким конфликтам, которые донесены до наших дней эпосом и лирикой рыцарских времен. Мы знакомы с этими конфликтами, поскольку они получили бессмертное выражение в искусстве, да и сейчас еще эти темы разрабатывают эпигоны и те художники, которых занимают уцелевшие островки примитивной жизни. Но мы, современные люди, не в силах постичь существо конфликта. Нам не понять, что значит избегать решений, могущих удовлетворить все стороны, почему любящие обречены быть всегда разделенными друг с другом, обречены сохранять связь с нелюбимыми. Там, где на любовь откликаются любовью, где мужчина и женщина желают посвятить свою жизнь друг другу, там согласно нашему пониманию существа дела все должно быть очень просто. Тот род поэзии, который разрабатывает только эту тему, при современных условиях мог бы предложить один выход: Ганс и Грета обретают друг друга. Лишь это привело бы в восхищение читателей семейных романов, но ни в коем случае не трагический конфликт.
Если, не зная рыцарской литературы, судить об отношениях между полами исключительно по другим источникам и пытаться составить представление о существе психологического конфликта влюбленного рыцаря, мы, скорее всего, вообразим мужчину, разрывающегося между двумя женщинами: собственной женой, с которой его связывают дети, и другой дамой, которой принадлежит его сердце. Либо мы можем вообразить женщину, которой пренебрегает муж и которая любит другого. Ничто не может быть дальше от реальности эпохи насилия, чем такая картинка. Грек, деливший свое время между гетерами [99] и мальчиками для радости, никоим образом не переживал своих отношений с женой как психологическую проблему, да и сама она не видела в любви к куртизанкам покушения на собственные права. Равно и трубадур, посвятивший себя целиком даме сердца, как и его жена, терпеливо ждавшая его дома, не страдали от конфликта между семьей и любовью. И Ульрих фон Лихтенштейн, и его добрая жена воспринимали рыцарскую «Minnedienst» как должное. [87*] На самом деле конфликт в рыцарской любовной жизни состоял совсем в ином. Когда жена оказывала благосклонность другому, она тем самым нарушала права своего мужа. Как бы рьяно он сам ни добивался любви других женщин, он не мог терпеть нарушения своих прав собственности, он не мог допустить, чтобы кто-либо обладал его женщиной. Таков конфликт, вырастающий из принципа насилия. Муж оскорблен не потому, что жена любит не его, а потому, что ее тело — его собственность — может принадлежать другому. В античности и на Востоке, где зачастую мужчина искал любви не у чужой жены, а у проституток, рабынь и мальчиков, т. е. у тех, кто стоял вне общества, конфликт и не мог возникнуть. Любовный конфликт может возбудить только мужская ревность. Только мужчина как хозяин собственной жены может претендовать на полное обладание. У жены нет такого же рода прав на своего мужа. Даже сегодня существенны различия в отношении к неверности жены и неверности мужа, и то, как по разному воспринимают измену другого муж и жена, демонстрируют нам остатки этого кодекса, а без знания о нем мы бы не могли ничего понять.
Пока господствует принцип насилия, стремление любить не может получить развития. Изгнанное из семьи, оно ищет любого потаенного местечка, принимает самые причудливые формы. Возникают условия для быстрого распространения венерических болезней. Был ли сифилис занесен в Европу из Америки или это была вполне «своя» болезнь — еще вопрос. Но мы знаем, что с начала XVI века он распространяется по Европе как эпидемия. Принесенные им мучения покончили с любовной игрой романтичного рыцарства.
3. Брак под действием принципа договора
Сейчас господствует только одна оценка влияния «экономики» на сексуальные отношения: оно было очень плохим. Согласно этому подходу воздействие экономических факторов опорочило первоначальную природную чистоту сексуальных отношений. Ни в какой другой области человеческой жизни прогресс культуры и рост благосостояния не имели более пагубного влияния. Отношения мужчины и женщины в древности были образцом чистейшей любви; в докапиталистическую эпоху брак и семейная жизнь были простыми и естественными, но капитализм принес брак из-за денег и manages des convenance [100], с одной стороны, проституцию и сексуальные излишества — с другой. Последние исторические и этнографические исследования показали ошибочность такого понимания и дали нам другое представление о сексуальной жизни в первобытную эпоху и у неразвитых народов. Современная литература показала, насколько далекими от реалий были совсем еще недавно наши вошедшие в поговорки представления о простоте нравов селян. Но старые предрассудки столь глубоко укоренены, что их почти не поколебали новые знания. К тому же социалистическая литература с новым пафосом продолжала распространять эту легенду. И сегодня мало кто сомневается в том, что современное понимание брака как договора является оскорбительным для самого существа сексуальных отношений и что именно капитализм разрушил чистоту семейной жизни.
Ученому трудно определиться по отношению к методам, которые основываются на возвышенных чувствах, а не на анализе фактов. Ученый не судит, что является благим, благородным, нравственным и добродетельным, — это не его поле. Но он не может не вносить поправок в принятые взгляды в существенных вопросах. В наше время идеал сексуальных отношений совершенно отличен от того, каким он был в древности, и никогда человечество не подходило к идеалу ближе, чем сейчас. Сексуальные отношения в старые добрые времена представляются полностью неудовлетворительными с позиций этого нашего идеала. А значит, приходится признать, что этот идеал должен был возникнуть как раз в результате развития, проклинаемого современной теорией как причина того, что идеал реализован не полностью. Совершенно ясно, что господствующая доктрина не основывается на фактах. Скорее даже можно сказать, что она ставит эти факты с ног на голову и абсолютно непригодна для познания проблемы.
Там, где господствует принцип насилия, полигамия торжествует. У каждого мужчины столько жен, сколько он способен отстоять. Жены являются формой собственности, и всегда лучше иметь побольше. Мужчина стремится иметь больше жен так же, как он старается заиметь больше рабов или коров. Фактически его моральные установки по отношению к женам, рабам и коровам одинаковы. Он требует верности от своей жены; он один может распоряжаться ее трудом и ее телом, сохраняя себя свободным от каких-либо уз. Мужская верность предполагает моногамию [88*]. Более могущественный властитель имеет право также и на жен своих подданных [89*]. Широко известное Jus Primae Noctis было отголоском этих условий, последним плодом которых было соитие свекра с невесткой в «большой семье» у южных славян. [101]
Реформаторы морали не устранили полигамии, да и церковь поначалу не трогала ее. Веками христианство и не думало протестовать против многоженства варварских королей. Карл Великий [102] содержал множество наложниц [90*]. По своей природе многоженство никогда не было обыкновением бедняков — только богачи и аристократия могли наслаждаться им [91*]. Но именно у этих групп начались растущие сложности, поскольку женщины приходили в брачный союз как наследницы и владелицы, получали богатое приданое и наделялись большими правами по распоряжению этим приданым. К единобрачию потихоньку подталкивали жена, приносившая богатство своему мужу, и ее родственники — прямое проявление того, как капиталистические мысль и расчет проникали в семейную жизнь. Чтобы закон защищал собственность жены и детей, была проведена четкая грань между законными и незаконными связями и наследниками. Отношения между мужем и женой закрепляются в контракте [92*].
Узаконивание идеи брачного контракта разрушило господство мужчин и сделало жену партнером с равными правами. Из односторонних, основанных на силе отношений брак превращается во взаимное соглашение; служанка становится женой, имеющей право требовать от мужчины того же, что может требовать от нее он. Шаг за шагом она завоевывает в доме те позиции, которые занимает ныне. Сегодня положение женщины отличается от положения мужчины только в том отношении, что различается выполняемая ими в супружеской жизни деятельность. Остатки мужских привилегий имеют малое значение и сводятся к почетным символам, например к тому, что жена принимает имя мужа.
Брак эволюционировал вместе с законом о собственности супругов. Положение женщины в семье улучшалось по мере ослабления принципа насилия. Одновременно с совершенствованием идеи договора в других сферах закона о собственности закономерно трансформировались отношения собственности между супругами. Жена впервые была освобождена от власти супруга? когда она получила законную власть над богатством, которое она принесла в семью и которое она приобрела за время семейной жизни, и когда то, что муж предоставлял ей согласно обычаю, превратилось в пособие, к выплате которого можно принудить законом.
Известная нам форма брака возникла в результате проникновения идеи договора в эту область жизни. Все чтимые нами идеалы брачного союза развились на этой основе. Что брак связывает одного мужчину и одну женщину, что он возникает по свободной воле обеих сторон, что супружеский долг предполагает взаимную верность, что мужскую измену следует оценивать так же, как и женскую, что права мужа и жены, в сущности, одинаковы, — эти принципы развились из идеи брачного договора. Ни один народ не может похвастать, что его предки представляли себе брак так же, как и мы. Наука не судит о том, были ли некогда нравы более суровыми, чем ныне. Мы можем только утверждать, что наши представления о браке отличаются от взглядов прошлых поколений и что прежние идеалы брака в наших глазах выглядят безнравственными.
Когда воспевающие старые добрые нравы проклинают институт развода, расторжения брака, они правы в том, что ничего такого прежде не существовало. Былое право мужа выгнать жену из дома никоим образом не напоминает современного закона о разводе. Ничто лучше не свидетельствует о громадном изменении воззрений, чем различия этих двух установлении. И когда церковь берет на себя лидерство в борьбе против развода, не худо припомнить, что современный идеал единобрачия с равными правами у мужа и жены, на защиту которого поднялась церковь, есть результат капиталистического, а не церковного развития.
4. Проблемы семейной жизни
В современном договорном браке, который заключается по желанию мужа и жены, брак и любовь объединены. Брак представляется морально оправданным, когда он заключается по любви; заключенный без любви брак представляется неприличным. Нам кажутся странными эти заключаемые на расстоянии королевские бракосочетания. Как и большинство мыслей и поступков правящих домов, они отдают эпохой насилия. И то, что считается необходимым представлять публике эти союзы как заключенные по любви, показывает, что даже королевские семьи не смогли противостоять буржуазному идеалу брака.
В современной супружеской жизни конфликты порождаются, прежде всего, тем, что страсть остывает, а контракт заключается пожизненный. «Страсть улетает, но любовь должна остаться», — говорит Шиллер, поэт буржуазной семьи. В большинстве браков, благословенных детьми, супружеская любовь увядает медленно и незаметно; ее место занимает дружеская привязанность, через которую опять и опять прорываются короткие вспышки былой любви; совместная жизнь становится привычной, и в своих детях, воспитанию которых была посвящена молодость, родители находят утешение за воздержание, к которому их принуждает старость, уносящая силы.
Но так бывает не у всех. Есть много способов примириться с конечностью земных странствий. Верующему утешение и мужество дает религия; она позволяет ему видеть в личном бытии как проявлении бесконечного потока вечной жизни свое определенное место в безупречном плане Создателя и Вседержителя, позволяет подняться над временем и пространством, над старостью и смертью в небесные поля. Другие находят удовлетворение в философии. Они отказываются верить в благодетельное провидение, представление о котором противоречит опыту; они свысока взирают на легкое утешение, которое можно извлечь из произвольных фантазий, из воображаемой картины мира, созданной, чтобы не видеть реальности. Но большинство людей следуют иным путем. С безразличием и равнодушием они покоряются повседневности; их мысль никогда не выходит за пределы сиюминутных требований, они рабы привычек и страстей.
Есть еще и четвертая группа — люди, которые нигде и ни в чем не могут найти умиротворения. Такие люди не способны верить, ибо уже вкусили от древа познания; тупо смириться они не могут, потому что это противоречит их натуре. Они слишком беспокойны и неуравновешенны, чтобы философски приспособиться к реальности. Во что бы то ни стало они стремятся достичь счастья и удержать его. Изо всех сил они налегают на решетки, ограничивающие их стремления. Они не смиряются. Они жаждут невозможного: ищут счастья не в стремлении, но в достижении, не в битве, но в победе.
Такие натуры не переносят брачных уз, когда дикий огонь первой любви начинает угасать. Они предъявляют высочайшие требования к самой любви и преувеличивают обычную сверхоценку сексуального объекта. Это обрекает их, хотя бы по чисто физиологическим причинам, на более раннее, чем у большинства умеренных людей, разочарование в тесном общении в совместной жизни. И это разочарование способно превратить первоначальные чувства в их противоположность. Любовь оборачивается ненавистью. Совместная жизнь становится пыткой. Кто не способен смирить себя, кто не желает умерить иллюзии первых дней брака, кто не умеет перенести на детей в сублимированной форме желания, которые больше не насыщаются любовью, тот не создан для брака. Из брака он устремляется к новому предмету любви, чтобы в новых отношениях снова повторить старый опыт.
Но все это не имеет никакого отношения к общественным условиям брака. Такие браки обречены не потому, что супруги живут в капиталистическом обществе, где средства производства находятся в частной собственности. Болезнь приходит изнутри, а не извне; она развивается из природных склонностей партнеров. Нелепо доказывать, что раз таких конфликтов не было в докапиталистическом обществе, значит, тогда брачные узы включали что-то, чего нет в этих болезненных семьях. Правда в том, что любовь и семья были в те времена отделены друг от друга, и никто не ждал, что брак принесет длительное и безоблачное счастье. Только когда идея договора и согласия наложилась на институт брака, супружеские пары потребовали, чтобы удовлетворение желаний в их союзе было непрерывным. Такого требования любовь, видимо, удовлетворить не может. Счастье в любви приносят соперничество за благосклонность любимой и удовлетворение от долгожданного обладания. Нет нужды обсуждать возможность того, что такое счастье может длиться и после физиологического насыщения. Мы определенно знаем, что удовлетворенное желание раньше или позже остывает и что попытки остановить мимолетные часы восторга тщетны. Не следует проклинать брак за нашу неспособность превратить земное существование в бесконечную цепь экстазов, лучащихся наслаждениями любви. Такой же ошибкой было бы винить в этом социальное окружение.
Семейные конфликты, порождаемые социальными условиями, имеют подчиненное значение. Было бы ошибкой предполагать, что браки по расчету (ради приданого жены или богатства мужа) или союзы, ставшие несчастными из-за экономических трудностей, составляют важную часть проблемы, как можно представить по частоте этих сюжетов в беллетристике. Из таких конфликтов всегда нетрудно найти выход, если, конечно, его хотят найти.
Брак как социальный институт представляет собой включение индивидуума в общественный порядок, в результате чего он принимает на себя все права и обязанности в определенной сфере деятельности. Исключительные натуры, одаренность которых ставит их много выше среднего уровня, не могут принять то насилие, которое неотделимо от этого приспособления к обычному порядку жизни. Кто чувствует в себе стремление к великим свершениям, кто готов скорее пожертвовать собственной жизнью, чем изменить своему назначению, не откажется от своих стремлений ради жены и детей. Сколь бы ни был любвеобилен гений, в его жизни женщина и все, что ей сопутствует, занимает ограниченное место. Мы не говорим здесь о тех великих людях, которые полностью сублимировали половое влечение и направили его в другие каналы, как, например, Кант, или о тех, чей огненный дух, не способный насытиться любовью, спешит с неусыпной жаждой от одной страсти к другой, избегая неизбежных разочарований семейной жизни. Даже те гениальные люди, брачная жизнь которых выглядит обычной, чье отношение к половой жизни не отличается от общепринятого, не могут долго обуздывать себя в браке, не совершая над собой насилия. Гений не позволяет связать себя никакими соображениями о благополучии ближних, в том числе и тех, кто ему особенно дорог. Узы брака становятся непереносимыми, и гений пытается стряхнуть или, по крайней мере, ослабить их, чтобы быть свободней. Супружество — это движение колонной по двое. Желающий идти собственным путем должен быть свободен. Очень редко ему удается встретить женщину, готовую и способную сопровождать его на его одинокой тропе.
Все это было осознано давно и настолько уже стало достоянием массы, что неверный муж чувствует себя вынужденным оправдывать свое поведение именно в этих терминах. Но гениальность редка, и социальные установки не меняются из-за того, что один или два исключительных человека не способны к ним приноровиться. С этой стороны браку ничто не угрожает.
Атаки феминисток в XIX веке казались более серьезной угрозой. Лидеры феминисток заявляли, что брак принуждает женщину жертвовать своей личностью. Он дает мужчине достаточно возможностей для развития, но женщину лишает всякой свободы. Это было вменено неизменной природе брака, который связывает воедино мужа и жену и тем самым обрекает более слабую женщину на роль служанки у своего мужа. Никакими реформами этого не изменить; только разрушение всего института брака может избавить от зла. Женщина должна биться за свою свободу — не только за свободу любви, но и за свободу развития личности. Вольные связи, которые дают свободу обоим, должны заменить брак.
Радикальное крыло феминизма, твердо стоящее на этой позиции, не учло того, что развитие способностей и сил женщины сдерживается не браком, не тем, что она повязана мужчиной, детьми и домашним хозяйством, но особенностями ее физиологии. Беременность и вскармливание детей поглощают лучшие годы жизни женщины, те годы, которые мужчина может посвятить достижению великих целей. Можно считать, что в этом неравном распределении бремени воспроизводства проявилась природная несправедливость или что недостойно женщине рожать и кормить детей, но ведь это ничего не изменит. Женщина, вероятно, может выбирать между наибольшим женским счастьем — материнством и активной деятельностью по развитию и утверждению своей личности наравне с мужчиной. Можно усомниться, безвреден ли вообще такой выбор: ведь, подавив стремление к материнству, женщина наносит себе ущерб, который потом будет сказываться во всем, что она делает. В то же время остается фактом, что материнство — в браке или вне его — лишает ее возможности жить столь же свободно и независимо, как мужчина. Сверходаренные женщины могут иметь поразительные достижения, несмотря на материнство, но все-таки особенности их пола закрывают им дорогу к гениальности, к высочайшим свершениям.
В той степени, в какой феминистское движение стремится к уравниванию правового положения мужчины и женщины, к обеспечению для женщин достаточных правовых и экономических свобод для саморазвития в соответствии с желаниями, склонностями и хозяйственными возможностями, оно является не более чем ветвью великого либерального движения, защищающего мирное и свободное развитие. Когда феминизм выходит за эти рамки и нападает на установления общественной жизни в надежде устранить природные ограничения, он является духовным порождением социализма. Ибо именно социализму свойственно, обнаружив природные корни социальных институтов, пытаться изменить эти институты, чтобы реформировать самое Природу.
5. Свободная любовь
Социалисты видят радикальное решение сексуальных проблем в свободной любви. Социалистическое общество устраняет сексуально-экономическую зависимость женщины, которая состоит в том, что женщина зависит от доходов своего мужа. Мужчина и женщина обладают равными экономическими правами и, если не считать материнства, которое ставит женщину в особое положение, равными обязанностями. Общественные фонды обеспечивают содержание и образование детей, которые из-под опеки родителей поступают под опеку всего общества. Таким образом, социальные и экономические условия перестают влиять на отношения между полами. Спаривание приходит на место простейших форм общественных союзов — брака и семьи. Семья исчезает, и обществу предстоят только отдельные индивидуумы. Любовный выбор становится абсолютно свободным. Мужчины и женщины сходятся и расходятся, повинуясь только своим желаниям. При этом «социализм здесь не создает ничего нового, он лишь снова поднимает на высшую культурную ступень и при новых общественных формах то, что было общепризнано, пока в обществе не наступило господство частной собственности» [93*].
Аргументы теологов и других проповедников нравственности, — порой елейные, порой ядовитые, -- совершенно непригодны для борьбы с этой программой. Большинство авторов, посвятивших себя проблемам половой жизни, исповедовали монашеские и аскетические идеалы. Для них сексуальный инстинкт есть абсолютное зло, чувственность есть грех, сладострастие есть дар дьявола и даже думать о таких вещах безнравственно. От наших склонностей и ценностных предпочтений зависит, принять ли это осуждение сексуального инстинкта. С научной точки зрения попытки моралистов заклеймить или оправдать эту сферу жизни — потерянный труд. Нельзя навязать науке роль судьи и ценителя, не выходя за границы научного метода: он пригоден для выбора средств, адекватных поставленным целям, но не может быть использован для относительной оценки самих целей. При столкновении с этическими проблемами ученому следовало бы указать, что, начав с отрицания сексуального инстинкта как чего-то скверного, мы лишаемся возможности в дальнейшем выражать в зависимости от условий свою моральную терпимость или одобрение половому акту. Убогая софистика породила распространенное суждение, согласно которому чувственное удовольствие, извлекаемое из полового акта, пагубно, но надлежащее выполнение debitum conjugate [104] ради рождения наследников вполне морально. Брачная связь всегда чувственна; ни один младенец не был еще зачат из законопослушного понимания того, что государству нужны новые рекруты и налогоплательщики. Чтобы быть вполне логичной, этическая система, покрывшая стыдом акт размножения, должна была бы призывать к полному и безусловному воздержанию. Если мы не хотим прекращения жизни, нам не следовало бы называть источник ее обновления сосудом зла. Ничто не отравило нравы современного общества больше, чем этическая система, которая, избегая последовательного порицания и последовательного оправдания, затуманивает различия между добром и злом и делает зло невероятно притягательным. Она больше, чем что-либо другое, повинна в бессильных колебаниях современного человека в вопросах половой морали и не способна должным образом оценить громадные проблемы в отношениях между полами.
Ясно, что в жизни мужчины секс играет меньшую роль, чем в жизни женщины. Удовлетворение приносит ему расслабление и душевный покой. Но для женщины здесь начало бремени материнства. Ее судьба полностью предопределена тем, что связано с полом; в мужской жизни это только эпизод. Сколь бы напряженно и полно он ни отдавался любви, сколько бы ни взвалил на себя ради женщины, он всегда остается над сексом. Даже женщины начинают, в конце концов, презирать мужчину, всецело поглощенного сексом. Но женщина обречена на то, чтобы исчерпать себя в любви и материнстве, в служении сексуальному инстинкту. Для мужчины порой нелегко под давлением профессиональных тревог сохранить внутреннюю свободу и развить свою личность, но сексуальная жизнь здесь не является главным препятствием. Для личности женщины, однако, главная опасность лежит именно в области секса.
Борьба за индивидуальность женщины составляет существо женского вопроса. Но вопрос этот затрагивает мужчин не меньше, чем женщин, ибо только совместным усилием могут они достичь высшего уровня личной культуры. Если женщина все время тянет мужчину в низшие сферы физической зависимости, он не сможет развиваться свободно. Обеспечить женщинам свободу внутренней жизни — в этом истинный смысл женского вопроса. Но это часть культурной задачи всего человечества.
Восток деградировал, потому что он не смог решить эту проблему. Здесь женщина только объект похоти, мать и нянька. Каждый начинающийся подъем личностной культуры с первых же шагов тормозился в странах Востока тем, что женское начало стаскивало мужчину назад, в миазмы гарема. Сегодня ничто не разделяет Восток и Запад более определенно, чем положение женщины и отношение к женщине. Нередко утверждают, что жизненная мудрость Востока постигла последние вопросы бытия глубже, в отличие от философии Европы. Во всяком случае тот факт, что она никогда не могла справиться с сексуальностью, предрешило судьбу восточных культур.
Между Востоком и Западом выросла уникальная культура греков. Но и античности не посчастливилось поднять женщину столь же высоко, как мужчину. Греческая культура исключала замужних женщин. Женщина оставалась на своей половине, отделенная от мира; для мужчины она была всего лишь матерью его наследников и служанкой в доме. Любовь мужчины принадлежала только гетерам. Не найдя и здесь полного удовлетворения, он обратился к гомосексуальной любви. Для Платона любовь к мальчикам просветлена духовным единством любящих и радостным преклонением перед красотой тела и души. Для него любовь к женщине была просто грубым чувственным удовлетворением.
Для западного мужчины женщина — спутник, для восточного — наложница. Европейская женщина не всегда занимала те позиции, что сейчас. Она завоевала их в ходе развития общества от принципа насилия к принципу договора. И теперь мужчина и женщина равны перед законом. Небольшие различия еще существуют в частном праве, но они малосущественны. Предписывает ли закон жене подчиняться мужу — не так уж важно; пока брак существует, кто-то всегда будет подчиняться, а окажется ли более сильным муж или жена — вопрос, который не может быть разрешен параграфами кодекса. Не имеет прежнего значения и ограничение политических прав женщин — лишение права голоса и права занимать правительственные должности. Предоставление женщинам права голоса не изменяет существенно соотношения политических влияний партий в той или иной стране; женщины тех партий, которые должны пострадать от ожидаемых изменений (в любом случае не весьма важных), в собственных интересах скорее воспротивятся предоставлению женщинам права голоса. В правительственную администрацию женщин не допускают не столько по требованию закона, сколько в силу их половых особенностей. Не принижая ценность феминистской борьбы за расширение гражданских прав женщин, можно уверенно утверждать, что ни женщинам, ни обществу в целом не наносят существенного ущерба те остатки правового принижения женщин, которые еще сохраняются в законодательстве цивилизованных стран.
Искаженное понимание принципа равенства перед законом, вообще присущее сфере общественных отношений, проявляется и в специальной области отношений между полами. Так же как псевдодемократические движения норовят декретами упразднить природно и социально обусловленные формы неравенства и уравнять сильного и слабого, одаренного и бездарного, здорового и больного, так и радикальное крыло женского движения стремится уравнять мужчину и женщину. [94*] Хотя не в их силах возложить на мужчину половину бремени материнства, они желали бы разрушения брачной и семейной жизни для того, чтобы женщина получила хотя бы те свободы, которые совместимы с материнством. Не принимая во внимание обремененность мужем и детьми, женщина должна свободно передвигаться и действовать, иметь возможность жить для себя и развития своей личности.
Различия сексуальной природы и предназначения можно устранить декретом с тем же успехом, что и другие виды неравенства. Чтобы сравняться с мужчиной в деятельности и ее результатах, женщина нуждается в том, чего не могут дать законы. Внутренне несвободной женщину делает не брак, но сексуальная природа, которая требует подчинения мужчине, и любовь к мужу и детям, которая поглощает ее лучшие силы. Нет закона, который помешал бы женщине, ищущей счастье в карьере, отринуть любовь и замужество. Но у тех, кто поступает иначе, просто не остается сил, чтобы строить свою жизнь так же, как это может делать мужчина. Женщину сковывает не замужество и семья, а сила, с которой сексуальное начало подчиняет себе всю ее личность целиком. «Уничтожение» брака не сделает женщину более счастливой и свободной; это просто лишит ее существенного компонента жизни и не даст ничего взамен.
Борьба женщин за сохранение своей личности в замужестве есть часть борьбы за целостность личности, столь характерной для рационалистического общественного порядка, основанного на частной собственности на средства производства. Победа женщин в этой борьбе в интересах не только женщин; противопоставление интересов мужчины и женщины, как это в обычае у крайних феминисток, крайне глупо. Все человечество пострадает, если женщина потерпит поражение в развитии своего Я и не сможет партнерствовать с мужчиной как равная, свободная от рождения подруга и товарищ.
Отнять у женщины детей, чтобы выращивать их в неких заведениях, значит забрать часть ее жизни; да и дети лишены наиболее глубокого воздействия, которое они получают в лоне семьи. Лишь недавно Фрейд с проницательностью гения показал, сколь глубокое воздействие оказывает на ребенка родительский дом. [105] У родителей ребенок учится любви и так обретает силы, которые позволяют ему вырасти здоровым человеком. Раздельное обучение порождает гомосексуальность и неврозы. Совсем не случайно, что именно к Платону восходят требования равенства мужчин и женщин, идеи государственного регулирования сексуальных отношений и воспитания детей от рождения в специальных яслях, чтобы родители и дети вовсе не знали друг друга. [106] В женщине он видел только источник физического наслаждения.
Развитие, которое привело от принципа насилия к принципу договора, утвердило отношения мужчины и женщины на свободном выборе в любви. Женщина может отвергнуть любого, она может требовать верности и постоянства от мужчины, которому отдает себя. Только на этом пути возможно развитие личности женщины. Возвращаясь к принципу насилия и сознательно отвергая идею договора, социализм — при всем его стремлении к равному распределению награбленного — должен, в конце концов, потребовать промискуитета в половой жизни.
6. Проституция
Коммунистический манифест провозглашает, что «дополнением» «буржуазной семьи» является проституция. «С исчезновением капитала» проституция также исчезнет [95*]. В книге Бебеля о женщинах есть глава под названием «Проституция, необходимое социальное учреждение буржуазного общества». Здесь развивается воззрение, согласно которому проституция необходима в буржуазном обществе подобно «полиции, постоянному войску, церкви, предпринимательству» [96*]. С момента своего появления воззрение на проституцию как на продукт капитализма невероятно распространилось. А поскольку к тому же проповедники все еще сокрушаются о добрых старых нравах и обличают современную культуру как причину разнузданности, каждый убежден, что все сексуальные извращения — явление упадка, свойственное нашему времени.
Для возражения достаточно указать на то, что проституция есть чрезвычайно древнее установление, известное, наверное, всем когда-либо существовавшим народам [97*]. Это остаток древних нравов, а не результат упадка высокой культуры. Сегодня одно из самых действенных средств против нее — требование мужского воздержания вне брака — целиком относится к принципам морального уравнивания прав мужчин и женщин и уже в силу этого принадлежит к идеалам капиталистической эпохи. В эпоху принципа насилия сексуальной чистоты требовали только от невесты, но не от жениха. Все факторы, которые ныне благоприятствуют проституции, не имеют ничего общего с частной собственностью и капитализмом. Армия, препятствующая женитьбе молодых людей дольше, чем они способны терпеть, есть все что угодно, но не результат мирного либерализма. Тот факт, что правительственные и иные чиновники могут жениться, только будучи достаточно богатыми, ибо в противном случае они не смогут выходить в свет, есть, как и другие кастовые условности, наследие докапиталистического сознания. Капитализм не признает каст и кастовых обычаев; при капитализме каждый живет в соответствии с доходами.
Некоторых женщин приводит к проституции потребность в мужчинах, других — голод. Для многих действенны оба мотива. Можно без дальнейшего обсуждения признать, что в обществе с равенством доходов экономические стимулы проституции исчезнут полностью или сведутся к минимуму. Но тщетно размышлять о том, не возникнут ли в обществе без неравенства доходов новые социальные источники проституции. В любом случае невозможно просто заявить, что в социалистическом обществе этика половых отношений будет более удовлетворительной, чем в капиталистическом обществе.
Именно при исследовании отношений между половой жизнью и собственностью, больше, чем в других областях социального знания, следует прояснить и уточнить наши идеи. Современное понимание этих проблем затемнено всякого рода предрассудками. При столкновении с этими проблемами мы не должны уподобляться мечтателю, который грезит видениями утраченного рая, видит будущее в розовом цвете и проклинает все, что его окружает в реальности.
Часть II. Экономическая теория социалистического общества
Раздел I. Экономическая теория изолированной социалистической общины
Глава V. Природа экономической деятельности
1. Вклад в критику понятия «экономическая деятельность»
Экономика как наука развилась из дискуссии о денежной цене товаров и услуг. Своими древнейшими корнями она уходит в исследования монетарной теории, которые переросли в изучение движения цен. Деньги, денежные цены и все, связанное с вычислениями в денежном выражении, — вот те проблемы, с которых началась экономическая наука. Попытки экономических исследований, проявившиеся уже в работах о домашнем хозяйстве и производстве продукции, особенно сельскохозяйственной, не развились далее в направлении познания общества. Они просто стали исходной точкой для технологии и многих естественных наук. И это не случайно. Только благодаря экономическим расчетам, основанным на использовании денег, и внутренне им присущей рационализации человек смог прийти к пониманию законов собственного поведения.
Ранние экономисты не задавались вопросом, что такое на самом деле «экономика» и «экономическая деятельность». С них хватало нелегких задач, которые возникали при анализе отдельных проблем. Они не задумывались о методологии. Довольно поздно они пришли к вопросам о методах и конечных целях экономики и их месте в общей системе знания. Тут и возникло препятствие, показавшееся непреодолимым, — как определить предмет экономической деятельности.
Все теоретические изыскания — как классических экономистов, так и современных — начинались с принципа экономичности. Как довольно скоро обнаружилось, это не дает оснований для ясного определения предмета экономики. Принцип экономичности есть общий закон рациональной деятельности, а вовсе не специфический закон деятельности, которая представляет собой предмет экономического исследования. [98*] Принцип экономичности направляет все рациональные действия, все действия, могущие стать объектом научного анализа. До тех пор, пока речь шла о традиционных экономических проблемах, отделение «экономичности» от «неэкономичности» казалось решительно бесполезным [99*].
В то же время было невозможно разделить и рациональные действия в соответствии с их целями и рассматривать в качестве предмета экономической науки только те действия, которые направлены на обеспечение человечества продуктами внешнего мира. Против такого подхода есть убедительное возражение, а именно: в конечном итоге создание материальных благ служит не только тем целям, которые мы называем экономическими, но и множеству других целей.
Разделение мотивов рациональных действий предполагает двойственное понятие действия: действие, совершаемое по экономическим мотивам, и действие совершаемое по неэкономическим мотивам, что абсолютно не согласуется с необходимым единством воли и действия. Теория рационального действия должна охватывать такое действие как целостное.
2. Рациональное действие
Действия, основанные на разуме, которые в силу этого могут быть поняты только исходя из разума, знают только одну цель — наибольшее удовольствие действующего индивидуума. Достичь удовольствия, избежать страдания — таковы его намерения. Здесь, конечно, мы не употребляем слова «удовольствие» и «страдание» в их обычном значении. На языке современных экономистов удовольствие следует понимать как достижение всего того, что представляется человеку желательным, всего, что он хочет и к чему стремится. Здесь, следовательно, исчезает обычная противоположность между «благородной» этикой долга и вульгарным гедонизмом. [107] Современное представление о счастье, удовольствии, полезности, удовлетворении и тому подобном включает все человеческие цели независимо от мотивов, которые могут быть моральными или аморальными, благородными или подлыми, альтруистическими или эгоистическими [100*].
В общем, люди действуют только потому, что они не полностью удовлетворены. Если бы они могли всегда наслаждаться совершенным счастьем, они были бы безвольны, не имели бы желаний и ничего не предпринимали бы. В стране вечного довольства никто не действует. Действие вырастает только из нужды, из неудовлетворенности. Это целенаправленное стремление к чему-либо. Конечная цель его всегда в том, чтобы избежать того, что представляется несовершенством, — насытить нужду, достичь удовлетворения, стать более счастливым. Если бы люди имели в избытке все природные ресурсы, так что могли бы достичь полного удовлетворения нужд, тогда они могли бы пользоваться ими необдуманно. Им пришлось бы учитывать только собственные силы и наличное время, ибо у них были бы по-прежнему ограниченные силы и конечная продолжительность жизни для удовлетворения всех своих нужд. Все-таки им пришлось бы экономить время и труд. Экономия материалов их не интересовала бы. На деле, однако, материалы также ограничены, и их приходится использовать так, чтобы удовлетворить сначала наиболее насущные нужды, расходуя на каждую потребность по возможности наименьшее количество материалов.
Сферы рациональной и экономической деятельности, таким образом, совпадают. Всякое разумное действие есть одновременно и действие экономическое. Всякая экономическая деятельность рациональна. Все рациональные действия в первую очередь есть действия индивидуальные. Только отдельный человек мыслит. Только индивидуум рассуждает. Только индивидуум действует. Как из действий индивидуума возникает общество, будет показано далее.
3. Экономические расчеты
Все человеческие действия, поскольку они разумны, можно рассматривать как обмен одного состояния на другое. Человек использует хозяйственные блага, личное время и труд, чтобы получить наивысшую степень удовлетворения, возможную при данных обстоятельствах. Люди пренебрегают удовлетворением менее настоятельных нужд ради более настоятельных потребностей. В этом суть экономической деятельности — в осуществлении актов обмена [101*].
Каждый человек, который в ходе экономической деятельности выбирает из двух потребностей, только одна из которых может быть удовлетворена, тем самым выносит ценностное суждение. [102*] Такие суждения прямо и непосредственно соотносятся с самоудовлетворением; и только потом, отраженно, они переносятся на блага внешнего мира. Как правило, любой здравомыслящий человек способен оценить блага, готовые для потребления. При очень простых условиях ему не сложно составить суждение и об относительной важности для него факторов производства. Однако когда условия усложняются, и связи между вещами устанавливаются с трудом, для оценки могут потребоваться более точные вычисления. Одиноко живущему человеку несложно определить, следует ли ему больше охотиться или больше обрабатывать землю. Процессы производства, которые ему нужно принять во внимание, длятся сравнительно недолго. Издержки и возможные результаты легко оценить в целом. Но сделать выбор между использованием гидроэлектростанции для производства электроэнергии и расширением добычи угля и улучшением его использования совсем не так просто. Здесь процессы производства столь многочисленны и столь продолжительны, а условия достижения успеха столь многообразны, что интуитивные соображения просто не помогут. Чтобы решить, стоит ли приниматься за дело, нужны тщательные расчеты.
Для расчетов нужны какие-то мерные единицы. Но не может быть единицы для измерения субъективных потребительных ценностей благ. Предельная полезность не дает нам единицы ценности. [108] Ценность двух единиц данного блага не может быть вдвое больше, чем одной, — она обязательно либо больше, либо меньше. Ценностные суждения ничего не измеряют: они ранжируют, располагают по порядку. [102a*] Если полагаться только на субъективные оценки, даже изолированный человек не сможет прийти к более или менее точным результатам в случаях, когда решение не вполне очевидно. Чтобы помочь своим расчетам, он должен предположить, что блага взаимозаменяемы. Как правило, ему все равно не удастся свести все к общей единице измерения. Но он, если ему вообще повезет, может все элементы, участвующие в расчетах, приравнять к таким благам, которые он способен оценивать непосредственно, т. е. к благам, готовым для потребления, с одной стороны, и к тяготам труда — с другой, и эти очевидности он сможет положить в основу своих суждений. Но даже это возможно только в самых простых случаях. Для сложных и длительных процессов производства такой возможности не существует.
В экономике, базирующейся на обмене, объективная меновая ценность благ становится мерной единицей. В результате мы получаем тройное преимущество. Во-первых, в основу вычислений мы можем взять ценностные суждения всех участников торговли. Субъективную оценку одного индивидуума нельзя непосредственно сравнить с субъективной оценкой другого. Сравнимость возникает с меновой ценностью, которая выявляется во взаимодействии субъективных оценок всех, принимающих участие в продажах и покупках. Во-вторых, вычисления такого рода дают возможность контролировать, надлежащим ли образом используются средства производства. Они позволяют желающим вычислить стоимость сложных процессов производства: на самом ли деле они работают столь же экономно, как и другие. Неспособность при существующих рыночных ценах производить с прибылью ясно доказывает, что другие способны лучше извлекать прибыль из данных средств производства. В-третьих, расчеты, опирающиеся на меновые ценности, позволяют создать единую единицу ценности. И с тех пор как рынок создает ситуацию взаимозаменяемости товаров, для этой цели можно выбрать любой товар. В денежной экономике выбраны для этого деньги.
Полезность денежных расчетов ограничена. Деньги не есть мера цен или ценностей. Деньги не измеряют ценность. И цены не измеряются деньгами: они есть только количество денег. И хотя те, кто по наивности определяет деньги как «измеритель отсроченных платежей», полагают, что так оно и есть, это не так: как и любой товар, деньги не имеют неизменной ценности. Отношения между деньгами и товарами постоянно изменяются, и не только «со стороны товаров», но и «со стороны денег». Как правило, эти изменения не слишком резки. Они не слишком воздействуют на экономические расчеты, потому что при постоянном изменении всех условий экономической деятельности эти расчеты охватывают лишь сравнительно короткие периоды времени, чтобы за это время «надежные деньги» не меняли своей покупательной силы слишком уж существенно.
Недостатки денежных расчетов большей частью имеют причиной не то, что они производятся в терминах общего средства обмена — денег, а то, что они основываются на меновых ценностях, а не на субъективных потребительных ценностях. По этой причине все элементы ценности, которые не входят в обмен, оказываются не учтенными при расчетах. Если, например, мы определяем прибыльность гидроэлектростанции, мы не можем включить в расчет неизбежный урон красоте пейзажа, разве что будут учтены убытки от сокращения туризма. И все-таки мы непременно должны принимать во внимание такие соображения, когда решаем вопрос, начинать ли предприятие.
Соображения такого рода часто называют неэкономическими. Мы можем принять это выражение, поскольку споры о терминах бесплодны. Но не следует все подобные соображения называть иррациональными. Красота местности или здания, здоровье народа, честь индивидуума или нации, если люди признают это имеющим значение, даже не участвуя в отношениях обмена (поскольку не имеют хождения на рынке), являются полноправными мотивами рационального действия — не хуже тех, которые принято называть экономическими. Их нельзя учесть в денежных расчетах, ибо такова природа этих расчетов. Но это ни в коей мере не снижает ценность денежных расчетов в обычных экономических вопросах. Все такого рода моральные блага являются благами первого порядка. Мы можем оценивать их непосредственно; потому-то нам нетрудно учитывать их, несмотря на то, что они пребывают вне сферы денежных вычислений. Хоть они уходят от исчисления, их несложно иметь в виду. Если мы в точности знаем, сколько следует заплатить за красоту, здоровье, честь, гордость и тому подобное, ничто не помешает их учесть. Чувствительных людей может ранить необходимость выбирать между идеальным и материальным. Но это не вина денежной экономики. Такова природа вещей. Даже когда мы в силах судить о ценностях без посредства денежных расчетов, мы не можем избежать этого выбора. Изолированный человек, как и социалистическое сообщество, обречен делать выбор, и по настоящему чувствительного человека эта необходимость не шокирует. Поставленный перед выбором между хлебом и честью, он никогда не сделает ложного выбора. Если честь не годится для пропитания, хлебом всегда можно пренебречь ради чести. Выбор ужасен только для тех, кто втайне знает, что им не дано переступить через материальное. Они-то и клеймят необходимость выбора как профанацию.
Денежные вычисления имеют смысл только для целей экономических расчетов. Они используются ради контроля экономичности использования ресурсов. В таких расчетах ресурсы учитываются по их текущей денежной цене. Каждое расширение сферы денежных вычислений ведет к заблуждению. Ошибкой является их использование в исторических исследованиях для измерения ценности ресурсов в прошлом. Порождает заблуждения использование их для оценки капитала или национального дохода страны. Вводит в заблуждение использование их для измерения ценности того, что не может участвовать в рыночном обороте, как, например, попытки оценить потери от эмиграции или войны [103*]. Все это — примеры дилетантизма, даже когда их предпринимают самые компетентные экономисты.
Но в этих границах, — а в практической жизни их не преступают, — денежные расчеты делают все, что мы можем от них ожидать. Они помогают нам прокладывать курс в ошеломляющем обилии экономических возможностей. Они позволяют нам использовать суждения о ценности, которые непосредственно приложимы только к потребительским благам, а в лучшем случае к производительным благам низших порядков, ко всем благам высших порядков. [104*] Без них все виды производства, предполагающие использование продолжительных и сложных процессов, осуществлялись бы вслепую.
Чтобы вычисления ценности в денежных терминах стали возможными, необходимы два условия. Во-первых, не только конечные потребительские блага, но также и блага высших порядков должны быть обмениваемы. В противном случае система отношений обмена не смогла бы возникнуть. Бесспорно, что, когда изолированный человек в собственном доме «обменивает» свой труд и муку на хлеб, он в принципе должен руководствоваться теми же соображениями, как и в случае, когда он на рынке обменивает хлеб на одежду. А значит, есть все основания рассматривать всякую экономическую деятельность, даже деятельность изолированного человека, как обмен. Но никакой отдельный человек, будь он даже величайшим из рожденных гениев, не обладает интеллектом достаточным, чтобы установить относительную значимость каждого из бесчисленного множества благ высших порядков. Никакой человек не в силах осуществлять непосредственный выбор между бесконечным множеством альтернативных методов производства, не в состоянии судить об их относительной ценности без вспомогательных расчетов. В обществах, основанных на разделении труда, распределение прав собственности создает своего рода разделение умственного труда, и без такого разделения ни экономичное хозяйство, ни упорядоченное производство не были бы возможны.
Во-вторых, необходимо наличие общего средства обмена — денег. Они должны посредничать и в обмене производственных благ, иначе было бы невозможно свести все обменные отношения к общему знаменателю.
Только в очень простых ситуациях удается обойтись без денежных расчетов. В тесном круге замкнутого домашнего хозяйства, где отец способен надзирать за всем сразу, он может оказаться в силах оценить изменения в методах производства без обращения к денежным расчетам. Ведь здесь в производство вовлечен сравнительно небольшой капитал и производство почти не носит опосредованного характера: производятся, как правило, потребительские блага и блага высших порядков, не слишком удаленные от потребительских благ. Разделение труда делает только начальные шаги. Работник осуществляет производство от начала до конца. В развитом обществе все выглядит не так. Безумие, опираясь на опыт примитивных обществ, доказывать, что мы можем обходиться без денег.
В простых условиях замкнутого домашнего хозяйства реален присмотр за всем процессом производства — с начала и до конца. Можно оценить, какие методы дают больше потребительских благ. Но в несравнимо более сложных условиях нашего времени это стало немыслимым. Конечно, и в социалистическом обществе поймут, что 1000 литров вина лучше, чем 800. Оно сможет принять решение, что для него лучше: 1000 литров вина или 500 литров масла. Для этого не потребуются специальные расчеты. Все решит воля нескольких человек. Но как только такое решение принято, тут-то и встают настоящие задачи рационального хозяйственного управления: какие средства (в экономическом смысле) использовать для достижения поставленной цели. Здесь не обойтись без помощи экономического расчета, иначе в головокружительном хаосе альтернативных материалов и процессов ум человека совершенно потеряется. Без него мы бессильны в выборе средств и мест производства [105*].
Предположение, что социалистическое общество может вместо денежных расчетов использовать расчеты в натуральных показателях, совершенно иллюзорно. В обществе, которое отказалось от обмена, расчет в натуральных показателях способен охватить разве что потребительские блага. Такой расчет непригоден там, где замешаны блага более высокого порядка. Как только общество отказывается от установления свободных цен на производственные блага, рациональная организация производства делается невозможной. Каждый шаг, уводящий от частной собственности на средства производства и использования денег, — это шаг, уводящий от рациональной экономической деятельности.
Этот факт можно было упустить из виду только потому, что известный нам социализм существует как некий социалистический оазис, окруженный со всех сторон системой, основанной на свободном обмене и использовании денег. Только в этом смысле можно согласиться с известным пропагандистским утверждением — которое ни в каком другом случае нельзя рассматривать всерьез, — что национализированные и муниципализированные предприятия в недрах капиталистической системы не являются социализмом. Окружающая среда в виде системы свободных цен поддерживает эти предприятия столь основательно, что существенные особенности социалистического хозяйствования даже не проявляются. Технические усовершенствования на государственных и муниципальных предприятиях производятся только потому, что есть возможность копировать у аналогичных частных предприятий как своей страны, так и за рубежом уже появившиеся новшества. И на таких предприятиях все еще есть возможность убедиться в эффективности реорганизации по той же причине: они погружены в общество, которое основывается на частной собственности на средства производства и на использовании денег. Они все еще могут вести учет и осуществлять экономические расчеты, которые в чисто социалистической среде оказались бы совершенно невозможными и бессмысленными.
Безрасчетная экономическая деятельность невозможна. Поскольку при социализме экономический расчет невозможен, там невозможна и экономическая деятельность в нашем смысле слова. В малом и второстепенном рациональные действия еще возможны. Но в целом все разговоры о рациональной организации производства придется прекратить. При отсутствии критериев рациональности производство не может быть экономичным.
Вполне возможно, что накопленные за тысячелетия экономической свободы традиции еще на некоторое время предохранят искусство экономического управления от полного разложения. Человек будет сохранять старые процессы не из-за их рациональности, а потому, что они освящены традицией. Но при этом изменяющиеся условия сделают их вполне иррациональными. Они станут неэкономичными в результате изменений, порождаемых общим упадком экономической мысли. Конечно, производство перестанет быть «анархичным». Распоряжения высших властей будут управлять снабжением. На место экономики «анархичного» производства придет главенство бессмысленного порядка иррациональной машины. Колеса будут крутиться, но безо всякого толку.
Попробуем представить себе положение социалистического общества. Там функционируют тысячи и тысячи предприятий. Меньшая часть из них производит конечные блага, большая часть выпускает производительные блага и полуфабрикаты. Все эти предприятия тесно связаны. Каждое из производимых благ до своего превращения в потребительское благо проходит через ряд таких предприятий. И при непрерывном напоре всех этих процессов экономическое руководство будет дезориентировано. У него не будет возможностей удостовериться, что данная работа действительно необходима, что труд и материалы не расходуются впустую. Как оно смогло бы выбрать из двух процессов производства наилучший? Самое большее — оно могло бы сравнить количество производимой продукции. Но только в исключительных случаях ему удалось бы сопоставить расходы на сравниваемые производственные процессы. Оно бы точно знало (или воображало бы, что знает), что именно хочет производить. А значит, ему следовало бы поставить задачу достичь желаемого с наименьшими расходами. Но для этого нужно иметь возможность считать. Эти расчеты могут быть только стоимостными. Они не могут быть просто техническими, они не могут быть вычислениями объективных потребительных ценностей (полезностей) продуктов и услуг; это настолько очевидно, что не нуждается в дальнейших доказательствах.
В условиях частной собственности на средства производства шкала ценностей является результатом действий каждого независимого члена общества. Каждый играет двойную роль в ее создании — как потребитель и как производитель. Как потребитель он вырабатывает оценку конечных потребительских благ. Как производитель он использует производительные блага так, чтобы они давали наибольшую отдачу. Таким образом, все блага высших порядков ранжируются в соответствии с существующими условиями производства и требованиями общества. Взаимодействие этих двух процессов обеспечивает соблюдение принципа целесообразности как в производстве, так и в потреблении. В результате и возникает система точных цен, которая позволяет каждому формировать свой спрос с учетом экономических реалий.
При социализме все это неизбежно отсутствует. Управляющие экономикой могут точно знать, какие именно товары нужны в наибольшей степени. Но это только половина проблемы. С другой половиной — с оценкой наличных возможностей производства — они справиться не в состоянии. Они могут установить ценность всей совокупности средств производства. И очевидно, что она будет равна ценности того, что с их помощью можно произвести. Можно установить ценность одной единицы производственных мощностей, если вычислить убыток от устранения ее из производства. [109] Но все это невозможно свести к единому ценовому выражению, как это делается в системе с экономической свободой и денежными ценами.
Нет нужды, чтобы социализм совсем обходился без денег. Можно сохранить использование денег для обмена потребительских благ. Но поскольку цены различных факторов производства (включая труд) не могут быть выражены в деньгах, деньги не могут играть никакой роли в экономических расчетах. [106*]
Предположим, например, что социалистическое общество задумало построить новую железную дорогу. Нужна ли новая железная дорога? А если да, то по какому из множества возможных путей ее следует проложить? В условиях частной собственности на средства производства ,мы можем использовать денежные расчеты для ответа на эти вопросы. Новая дорога удешевит транспортировку некоторых товаров, и, отталкиваясь от этого, мы можем посчитать, окупит ли сокращение транспортных расходов затраты на сооружение и эксплуатацию дороги. Эти расчеты могут быть проведены только в денежных единицах. Мы не можем сравнивать различные виды расходов и сбережений в натуральных единицах. Если уж нет никакой возможности свести к общему измерителю количества разнородного квалифицированного и неквалифицированного труда, железо, уголь, строительные материалы разного рода, машины и все остальное, что необходимо для строительства и поддержания железной дороги, то нельзя и сделать их предметом экономических расчетов. Систематическое экономическое планирование становится возможным, когда все подлежащие учету товары могут быть выражены в деньгах. Конечно, денежные расчеты не полны. Конечно, у них есть глубокие недостатки. Но у нас нет ничего лучшего для замены. При наличии надежных денег они вполне подходят для практических целей. Если мы отказываемся от денег, экономические расчеты делаются совершенно невозможными.
Из всего этого не следует, что социалистическое общество будет пребывать в состоянии постоянного недоумения. Оно примет решение за или против предложенного проекта и издаст декрет. Но такое решение в лучшем случае будет основано на туманных оценках. Оно не сможет опереться на точное исчисление ценностей.
Стационарное общество может, конечно, обойтись без вычислений. Здесь экономические решения просто повторяют сами себя. Так что если мы предположим, что социалистическая система производства сохранит хозяйство в том виде, в каком оно его наследует у свободного общества, и не будет изменять, тогда можно вообразить вполне рациональный и экономичный социализм. Но все это только в теории. Стационарную экономическую систему можно создать только мысленно. Мир непрерывно меняется, и стационарное состояние есть просто теоретическое построение, не имеющее соответствий в реальности, хотя и необходимое для выработки наших представлений об экономичности. Кроме того, поддержание экономики в том виде, в каком она досталась социализму, окажется невозможным, поскольку переход к социализму с его уравниванием всех доходов неизбежно перестроит всю структуру потребления и производства. И уж после этого социалистическому обществу придется пересекать целый океан всех возможных и мыслимых хозяйственных комбинаций, не имея такого компаса, как экономический расчет.
Все экономические изменения, таким образом, будут включать процессы, последствия которых нельзя оценить ни заранее, ни задним числом. Все решения будут осуществляться как прыжок в неизвестность. Социализм есть отказ от рациональной экономики.
4. Капиталистическая экономика
Термины «капитализм» и «капиталистическое производство» являются политическими ярлыками. Они были изобретены социалистами не для умножения знания, а чтобы обвинять, критиковать, проклинать. Сегодня стоит лишь их произнести, чтобы возникла картинка безжалостной эксплуатации рабочих неумолимыми богачами. Эти термины используются почти исключительно для обозначения политических недугов. С научной точки зрения термины эти столь темны и многозначны, что практически ничего не значат. Использующие их согласны между собой только в том, что они обозначают свойства современной экономической системы. Но в чем именно заключаются эти характеристики — всегда предмет спора. В силу этого использование их всегда вредоносно, а предложение вовсе исключить их из экономического языка, предоставив полностью в распоряжение матадоров популярной агитации, заслуживает серьезного рассмотрения. [107*]
Если, несмотря ни на что, мы пожелаем найти для них возможность корректного использования, следовало бы начать с идеи калькуляций капитала. И поскольку нас занимает анализ исключительно реальных экономических явлений, а не экономических теорий, где «капитал» часто используется для частных целей в расширенном понимании, следует задаться вопросом о значении этого термина в деловой практике. Мы обнаружим, что он используется только в области экономических калькуляций. Он используется для сведения к единому показателю всех разновидностей собственности — будь то денежные средства или только выраженное в деньгах имущество [108*]. Цель исчислений в том, чтобы определить, насколько ценность собственности изменилась в ходе деловых операций. Понятие «капитал» заимствовано из области экономических калькуляций. Истинное место его — счетоводство, главный инструмент коммерческой рациональности. Исчисление в денежных терминах есть основной элемент понятия «капитал» [109*].
Если термин «капитализм» используется для обозначения экономической системы, в которой производство направляется исчислением капитала, он приобретает особую значимость для определения того, что есть экономическая деятельность. При таком толковании становится вполне возможным говорить о капитализме и капиталистических методах производства, а такие выражения, как дух капитализма или антикапиталистические настроения, приобретают вполне конкретные значения. Лучше определять капитализм как антитезис социализма, чем, как часто это делают, сопоставлять его с индивидуализмом. Как правило, в противопоставлении социализма и индивидуализма неявно предполагается, что существует противоречие между интересами индивидуума и интересами общества, так что если социализм служит общественному благосостоянию, то индивидуализм служит интересам отдельных людей. И поскольку это одна из наиболее тяжких ошибок социологии, нам следует тщательно избегать выражений, которые бы скрыто закрепляли это представление.
Согласно Пассову, при правильном употреблении термина «капитализм» он ассоциативно связан с представлениями о развитии и умножении крупных предприятий [110*]. Можно согласиться с таким толкованием, хотя его и нелегко примирить с тем фактом, что люди обычно говорят о «Grosskapital», о «Grosskapitalisten» и «Kleinkapitalisten». [111] Но если мы сообразим, что только исчисление капитала делает возможным создание гигантских предприятий и начинаний, окажется, что такое понимание никак не обесценивает нашего определения.
5. Суженное понятие «экономика»
Обычное у экономистов различение «экономических» или «чисто экономических» и «неэкономических» действий столь же неудовлетворительно, как старое различение духовных и материальных благ. Желание и действие, в сущности, едины. Все цели конфликтуют между собой и в результате этого взаимоупорядочиваются на одной шкале. Необходим единый критерий не только для оценки удовлетворения потребностей, желаний и порывов, насыщаемых через взаимодействие с внешним миром, но также для оценки удовлетворения духовных потребностей. В жизни нам приходится выбирать между духовным и материальным. И очень важно иметь возможность оценивать духовные блага по той же шкале, что и блага материальные. Выбирая между хлебом и честью, верой и богатством, любовью и деньгами, мы меряем альтернативы одной меркой.
Поэтому неправомерно рассматривать «экономическое» как отдельную сферу человеческих действий, резко ограниченную от других сфер. Экономическая деятельность есть деятельность рациональная. И поскольку полное удовлетворение невозможно, сфера экономической деятельности совпадает со сферой рационального действия. Она состоит в первую очередь в оценке целей, а затем — в оценке средств, ведущих к этим целям. А значит, вся экономическая деятельность зависит от существования целей. Цели господствуют в экономике, и только они сообщают ей смысл.
Поскольку принцип экономичности приложим ко всем действиям человека, необходима особая осторожность, когда пытаются отделить внутри этой единой сферы «чисто экономические» действия от всех остальных. Такое различение, необходимое для многих научных задач, позволяет выделить особенную цель и противопоставить ее всем другим. Эта цель — здесь мы не станем обсуждать, является ли она окончательной или служит только средством для какой-нибудь другой, -- состоит в максимальном увеличении дохода, исчисляемого в деньгах. Потому и невозможно ограничить ее специально выделенной сферой действий. Конечно, для каждого индивидуума она ограничена, но это определяется его общим мировоззрением. Одно — для человека чести, другое -- для того, кто продает своего друга за золото. Разграничение не оправдывается ни характером целей, ни особенностью средств. Оно оправдано единственно особой природой применяемых методов. Только использование точных расчетов отличает «чисто экономические» действия от всяких других.
Сфера «чисто экономического» совершенно совпадает со сферой денежных расчетов. Мы склонны придавать этому виду деятельности особую важность только потому, что там мы имеем возможность с помощью вычислений сопоставлять альтернативные решения с детальной точностью — обстоятельство, очень важное для нашей мысли и нашего поведения. Легко упустить из виду, что это различие есть различие в технике мысли и действия и никоим образом не затрагивает конечных целей действий, в сущности единых; Неудачу всех попыток представить «экономическое» как особый раздел рационального, а в нем выделить еще более узкий раздел «чисто экономического» не следует приписывать использованному аппарату анализа. Не может быть сомнений, что эта проблема разрабатывалась с большой изощренностью и настойчивостью, и отсутствие ясных результатов отчетливо свидетельствует, что на этот вопрос просто не может быть удовлетворительного ответа. Ясно, что область «экономического» есть то же, что область рационального, а «чисто экономическое» — это всего лишь область, в которой возможны денежные вычисления.
В конечном счете, для человека есть всего лишь одна цель: достижение наибольшего удовлетворения. Сюда включено удовлетворение всех видов человеческих желаний и потребностей независимо от их природы: материальной или нематериальной (духовной). Вместо слова «удовлетворение» мы могли бы использовать слово «счастье», если бы не страх перед ложным толкованием, очень вероятным из-за традиционного спора между гедонизмом и эвдемонизмом. [112]
Удовлетворение субъективно. Современная социальная философия столь часто подчеркивала это свое отличие от прежних теорий, что возникла склонность забывать, что физиологическая природа человека и традиционная общность взглядов и эмоций порождают далеко идущее сходство в оценке потребностей и способов их удовлетворения. Именно это сходство оценок делает возможным существование общества. В силу общности целей люди способны жить вместе. По сравнению с тем, что большинство целей (в том числе важнейших) — общее для подавляющей части человечества, то обстоятельство, что некоторые цели разделяются лишь немногими, является малосущественным.
Обычное разделение между экономическими и неэкономическими побуждениями обесценивается тем, что, с одной стороны, цели экономической деятельности лежат за пределами экономики, а с другой — вся рациональная деятельность есть деятельность экономическая. Вместе с тем есть хорошие основания для выделения «чисто экономической» деятельности (т. е. деятельности, поддающейся денежной оценке) из всех других. Как мы уже видели, за пределами сферы денежных расчетов остаются только промежуточные цели, поддающиеся непосредственной оценке. Значит, есть нужда в обращении к таким суждениям. Признание этой нужды и составляет основу для рассматриваемого нами различения.
Если, например, народ желает воевать, было бы незаконно рассматривать это желание как непременно иррациональное только потому, что причина этой воинственности обычно лежит за пределами «экономического», как, например, в случае с религиозными войнами. Если народ решает воевать с полным знанием всех фактов, рассудив, что цели войны важнее, чем неизбежные жертвы, и что война есть наилучший способ достижения этих целей, то война не может быть оценена как иррациональное поведение. В данном случае нет нужды рассуждать, разумно ли наше предположение или может ли оно вообще когда бы то ни было быть разумным. Такое рассмотрение необходимо, когда приходится выбирать между войной и миром. Именно для того, чтобы сделать такой выбор отчетливым, и было введено рассмотренное нами различение.
Нужно только припомнить, сколь часто войны или таможенные барьеры рекомендовались как «выгодные» с «экономической» точки зрения, чтобы понять, сколь часто об этом забывали. Насколько более ясными были бы политические дискуссии последнего столетия, если бы не упускали из виду различие между «чисто экономическими» и «неэкономическими» основаниями действия.
Глава VI. Организация производства при социализме
1. Обобществление средств производства
При социализме все средства производства являются собственностью коммуны. Только коммуна распоряжается, как их использовать в производстве. Коммуна производит, произведенное достается коммуне, и коммуна решает, как распорядиться произведенным.
Современные социалисты, особенно марксистского толка, многозначительно настаивают на обозначении социалистической коммуны как общества, из чего следует, что передача средств производства в исключительное распоряжение коммуны есть обобществление средств производства. Против самого выражения возразить нечего, но надо иметь в виду, что его используют для сокрытия одной из важнейших проблем социализма.
Слово «общество» и соответствующее прилагательное «общественный» имеют три различных значения. Это, во-первых, абстрактная сущность общественных взаимоотношений, во-вторых, конкретное объединение индивидуумов, а между этими резко различными значениями обыденная речь поместила третье: абстрактное общество предстает персонифицированным в таких выражениях, как «человеческое общество», «гражданское общество» и т. п.
Маркс использовал термин во всех трех значениях. Это было бы не важно, если бы он четко разграничивал их применение. Но он-то поступал как раз наоборот, для своих целей манипулируя ими с мастерством фокусника. Когда он говорит об общественном характере капиталистического производства, он использует слово «общественное» в его абстрактном смысле. Когда он говорит об обществе, страдающем от кризиса, он подразумевает персонифицированное человечество. Когда он говорит об обществе, которое должно экспроприировать экспроприаторов и обобществить средства производства, он имеет в виду конкретное объединение людей. В цепи его рассуждений все значения взаимозаменяемы — чтобы доказать недоказуемое. Причиной этих манипуляций было желание избежать употребления термина «государство» или его эквивалентов, поскольку это слово вызывало неприятные ассоциации у тех поклонников свободы и демократии, поддержки которых марксисты не хотели лишаться с самого начала. Программа, которая бы отдавала государству всю ответственность и все управление производством, не имела шансов на поддержку в этих кругах. Потому-то марксистам и приходилось постоянно изобретать фразеологию, которая бы маскировала сущность программы, успешно бы скрывала пропасть между демократией и социализмом. Можно без преувеличений утверждать, что люди, жившие в десятилетия перед первой мировой войной, не разобрались в этих хитросплетениях.
Современное учение о государстве понимает под государством авторитарное образование, аппарат принуждения, характеризуемый не своими целями, но формой. Марксизм произвольно ограничил значение слова «государство», так что оно не включает социалистическое государство. Только те государства и формы государственных образований называются государством, которые возбуждают неприязнь у социалистических авторов. По отношению к своей цели, будущему государству, они отбрасывают с негодованием этот термин как унижающий и оскорбительный. Будущее государство называют «общество». За счет этих трюков марксистская социал-демократия получает возможность, с одной стороны, призывать к разрушению существующей государственной машины и фантазировать об отмирании государства, а с другой — яростно бороться со всеми анархическими движениями и проводить политику, ведущую к созданию всемогущего государства [111*].
Совершенно все равно, как именно назвать аппарат принуждения в социалистическом обществе. Если мы используем слово «государство», у нас будет общепринятый термин, который понимается одинаково всеми, кроме крайне некритичных марксистских авторов, и который выражает именно то, что и должен выражать. Но можно в народнохозяйственных исследованиях обойтись без этого термина, поскольку он вызывает у многих смешанные чувства, и вместо этого говорить о коммуне, сообществе. Выбор терминологии есть дело вкуса и не имеет практического значения.
Но что имеет значение, — так это проблема организации социалистического государства или сообщества. Английский язык дает возможность более точно выразить идею государственной воли, используя вместо термина «государство» термин «правительство». Нет лучшего способа избежать мистицизма, взлелеянного до крайних пределов марксистским способом употребления слов. Марксисты крайне многоречивы в вопросе о воле общества, но при этом ни малейшим намеком не поясняют, каким это образом общество может желать и действовать. Естественно же, что общество может действовать только через специально созданные органы.
Из самой концепции социалистического сообщества следует, что в нем необходимо единство власти. В социалистическом сообществе может быть только один орган, объединяющий все правительственные функции, в том числе и экономические. Конечно, этот орган может иметь подразделения, могут существовать подчиненные ему учреждения, которым передаются определенные задания. Но единое выражение общей воли, что и является существенной целью обобществления средств производства, с необходимостью предполагает, что все учреждения, которым доверен надзор над какими-либо делами, должны быть подчинены одному органу. Этому органу должна принадлежать высшая власть, чтобы устранять все противоречия волевых построений и обеспечивать единство принятия решений и их реализации. Как формируется этот орган, как общая воля выражает себя в нем и через него — это все сравнительно малосущественно для нашего исследования. Неважно, выступает ли этот орган как абсолютный монарх или как собрание граждан — орган прямой или выборной демократии. Не имеет значения, как этот орган выявляет собственную волю и как проводит ее в жизнь. Для наших целей следует предположить все это уже данным и не стоит терять времени на выяснение того, как это все может быть достигнуто и достижимо ли вообще, следует ли социализм считать обреченным, если такой орган невозможен.
Начнем исследование с предположения, что у социалистического общества нет внешних сношений. Оно охватывает весь мир и всех его жителей. Если же мы допускаем, что оно охватывает лишь часть мира, то будем считать, что оно не поддерживает экономических отношений с другими частями мира и их обитателями. Итак, мы сначала обсудим проблемы изолированного социалистического общества. К опыту нескольких одновременно существующих социалистических обществ мы обратимся только после рассмотрения проблемы в целом.
2. Экономический расчет в социалистическом обществе
Теория экономического расчета устанавливает, что в социалистическом обществе экономический расчет невозможен.
На каждом большом предприятии разные подразделения ведут до определенной степени независимое счетоводство. Подразделения учитывают стоимость труда и материалов и по каждой группе в любое время могут составить отдельный баланс и подсчитать результаты деятельности. Благодаря этому можно определить, насколько успешно работало каждое отдельное подразделение, и в результате принять решения о реорганизации, ограничении, расширении существующих подразделений или же о создании новых. Конечно, при таких расчетах неизбежны некоторые ошибки. Одни возникают из-за трудностей в распределении накладных расходов, другие — из-за необходимости использовать не вполне надежные данные (например, при расчете прибыльности некоего процесса износ оборудования определяется по сроку его эксплуатации). Но все такие ошибки могут быть введены в достаточно узкие границы, так чтобы они существенно не влияли на истинность общей калькуляции. Остающаяся и после этого неопределенность связана с неопределенностью будущих условий, что неизбежно сохранится при любой мыслимой организации дела.
Кажется естественным вопрос: почему бы аналогичным образом в социалистическом обществе отдельным производственным группировкам не ввести свои расчеты? Но это невозможно. Самостоятельные расчеты для подразделений одного предприятия базируются на том, что в рыночном обороте формируются цены на все виды применяемых материалов и труда. Где нет рынка, нет и ценообразования, а где нет ценообразования, не может быть никаких экономических расчетов.
Некоторые могут подумать, что стоит разрешить обмен между подразделениями единого хозяйства, как возникнет система отношений обмена (цены), а в результате и основа для экономического расчета в социалистическом обществе. Тогда бы в рамках единого хозяйства, не признающего частной собственности на средства производства, можно было бы обособить отдельные производственные группы с собственной администрацией, выполняющие, конечно, указания высшей экономической власти, но имеющие право обмениваться друг с другом товарами и трудовыми услугами и учитывающие результаты обмена в общих меновых единицах. Примерно так представляют себе организацию производства в социалистическом обществе сегодня, когда говорят о полном обобществлении и т. п. Но здесь опять не учтено главное. Обмен производительными благами возможен только на основе частной собственности на средства производства. Если «угольное общество» поставляет уголь «стальному обществу», цена возникает лишь в том случае, если оба общества выступают как собственники средств производства своих предприятий. Но это уже будет совсем не социализм, а синдикализм. [113]
Для тех социалистических авторов, которые признают трудовую теорию стоимости, проблема, естественно, очень проста.
«Когда общество, — пишет Энгельс, — вступает во владение средствами производства и применяет их для производства в непосредственно обобществленной форме, труд каждого отдельного лица, как бы различен ни был его специфически полезный характер, становится с самого начала и непосредственно общественным трудом. Чтобы определить при этих условиях количество общественного труда, заключающегося в продукте, нет надобности прибегать к окольному пути; повседневный опыт непосредственно указывает, какое количество этого труда необходимо в среднем... План будет определяться, в конечном счете, взвешиванием и сопоставлением полезных эффектов различных предметов потребления друг с другом и с необходимыми для их производства количествами труда. Люди сделают тогда все это очень просто, не прибегая к услугам прославленной стоимости» [112*].
Мы не станем здесь воспроизводить критику трудовой теории стоимости. Для нас она интересна здесь лишь постольку, поскольку позволяет судить о возможности сделать труд основой экономических расчетов в социалистическом обществе.
При первом взгляде может показаться, что калькуляции, в основу которых заложен учет труда, отражают и природные условия производства, не зависящие от людей. Марксова концепция общественно необходимого рабочего времени учитывает закон убывающей отдачи в той степени, в какой он определяется различиями в естественных условиях производства. [114] Если спрос на товар растет и приходится вовлекать в производство менее производительные ресурсы, среднее общественно необходимое время производства единицы продукции также вырастает. Если будут обнаружены более благоприятные условия производства, тогда необходимое количество общественного труда уменьшится [113*]. Но этого недостаточно. Учет изменений предельной стоимости труда принимает во внимание естественные условия лишь постольку, поскольку они влияют на трудовые издержки. За пределами этого «трудовые» калькуляции бесполезны. Ими совершенно не учитывается, например, потребление материальных факторов производства. Предположим, что продолжительность общественно необходимого труда для производства товаров Р и Q составит по 10 ч и что на изготовление товаров Р и Q идет материал А, для производства одной единицы которого в свою очередь требуется 1 ч общественно необходимого труда. Допустим, что производство Р требует двух единиц А и 8 ч труда, а производство Q -- одной единицы A и 9 ч труда. В калькуляции, основанной на учете затрат труда, Р и Q равноценны, но в калькуляции, основанной на ценности, Р окажется дороже, чем Q. Первая калькуляция неверна. Только последняя соответствует существу и целям экономических расчетов. Бесспорно, конечно же, что превышение ценности Р над Q — это материальный субстрат, «который существует от природы, без всякого содействия человека» [114*], но если он используется в такой степени, что становится экономически значимым, то его следует в той или иной форме учесть в экономических расчетах.
Второй недостаток трудовой теории стоимости в том, что она игнорирует различия в качестве труда. Для Маркса весь труд экономически однороден, поскольку он всегда представляет собой «производительное расходование человеческого мозга, мускулов, нервов, рук, etc.» «Сравнительно сложный труд означает только возведенный в степень или скорее помноженный простой труд, так что меньшее количество сложного труда равняется большему количеству простого. Опыт показывает, что это сведение сложного труда к простому совершается постоянно. Товар может быть продуктом самого сложного труда, но его стоимость делается равной продукту простого труда и, следовательно, представляет лишь определенное количество простого труда» [115*]. Бем-Баверк справедливо оценил этот аргумент как образец потрясающей наивности [116*]. Критикуя этот аргумент, вполне допустимо не обращать даже внимания на вопрос: возможна ли единая физиологическая оценка напряженности всех видов труда, как физического, так и умственного. Достаточно того, что люди различны и по способностям, и по квалификации, что сказывается в различии качества производимых товаров и услуг. Чтобы судить о возможности использовать труд как основу экономических расчетов, решающую важность приобретает вопрос: можем ли мы найти общий знаменатель для всех форм и видов труда, не привлекая оценку продукта труда потребителями? Ясно, что аргументы Маркса по этому вопросу не выдерживают критики. Опыт показывает, что при обмене товаров не имеет значения, произведены ли они с участием простого или квалифицированного труда. Но это доказывало бы, что определенное количество простого труда равноценно определенному количеству квалифицированного труда, только если бы удалось доказать, что именно труд является источником меновой стоимости. Но мало того, что это не доказано; это именно то, что Маркс первоначально намеревался доказать. Из того факта, что при обмене между простым и квалифицированным трудом устанавливаются отношения взаимозаменяемости в форме денежной заработной платы, — на что Маркс даже не ссылается, — вовсе не следует вывод об однородности труда. Однородность в данном случае есть результат работы рынков, а не их предпосылка. Вычисления, основанные не на денежной ценности, а на стоимости труда, потребуют установления совершенно произвольных отношений между простым и квалифицированным трудом, а это сделает сами вычисления непригодными для экономического управления ресурсами.
Давно существует представление, что трудовая теория стоимости необходима, чтобы дать этическое обоснование требованию обобществить средства производства. Теперь мы знаем, что это представление было ошибочным. Хотя оно было принято большинством социалистов и хотя сам Маркс с его открыто внеморальным подходом не смог от него избавиться, совершенно ясно, что, с одной стороны, политические требования перехода к социалистической организации производства не требуют и не получают поддержки в трудовой теории ценности, а с другой стороны, те, кто иначе понимает природу и происхождение стоимости, могут также быть социалистами.
Правда, в ином смысле, чем обычно считают, трудовая теория стоимости является необходимой для защитников социалистического способа производства. Социалистическое производство в обществе, основанном на разделении труда, может быть рационально организованным только при существовании объективно устанавливаемой величины стоимости, что делает возможным экономический расчет в хозяйстве, не знающем ни обмена, ни денег. Труд представляется единственным, что может служить этой цели.
3. Последние социалистические доктрины и проблема экономического расчета
Проблема экономического расчета является основной проблемой учения о социализме. То, что люди десятилетиями могли писать и говорить о социализме, даже не затрагивая эту проблему, показывает только, сколь разрушительно было влияние запрета, наложенного Марксом на научное исследование природы и функционирования социалистической экономики. [117*]
Доказать, что хозяйственный расчет невозможен в социалистическом обществе, значит доказать невозможность социализма. Все аргументы в пользу социализма за последнее столетие, выдвинутые в тысячах статей и выступлений, вся кровь, пролитая сторонниками социализма, не в силах сделать социализм реализуемым. Массы могут стремиться к нему со всей страстью, могут разразиться бесчисленные войны и революции во имя его, и все-таки социализм не будет построен. Каждая попытка осуществления социализма ведет к синдикализму или к хаосу, который быстро раскалывает общество, основанное на разделении труда, на крошечные автаркические группы.
Очевидно, что обнаружение этого факта крайне нежелательно для социалистических партий и социалисты всех видов отчаянно пытались опровергнуть мои аргументы и изобрести систему экономического расчета для социализма. Эти попытки успеха не имели. Не удалось выдвинуть ни одного нового аргумента, который бы не был уже мной проанализирован. [118*] Ничто не смогло поколебать доказательства того, что при социализме экономический расчет невозможен. [119*]
Попытка русских большевиков перенести социализм из партийной программы в реальную жизнь не столкнулась с проблемой экономического расчета при социализме потому, что Советская республика окружена миром, который формирует денежные цены на все средства производства. Правители Советской республики закладывают в калькуляции, которыми они пользуются при принятии решений, именно эти цены. Без помощи этих цен их действия были бы бесцельными и непланируемыми. Только постоянный учет существующей системы цен позволяет им калькулировать, вести счетоводство и разрабатывать планы. Они находятся в том же положении, что и государственный и муниципальный социализм в других странах: они еще не столкнулись с проблемой экономического расчета при социализме. Государственные и муниципальные предприятия пользуются теми ценами на средства производства и потребительские товары, которые формирует рынок. Поэтому из того факта, что муниципальные и государственные предприятия существуют, было бы опрометчиво делать вывод, что экономический расчет при социализме возможен.
Мы, наверное, знаем, что социалистические предприятия в отдельных отраслях промышленности выживают только за счет помощи, которую они черпают в несоциалистическом окружении. Государство и муниципалитеты могут содержать собственные предприятия только потому, что налоги, уплачиваемые капиталистической промышленностью, покрывают их убытки. Подобным образом Россия, которая, будучи предоставленной самой себе, давно бы коллапсировала, поддерживалась финансами капиталистических стран. Но несравненно важнее этой материальной помощи, которую получали от капиталистических экономик социалистические предприятия, интеллектуальная поддержка. Без той основы расчетов, которую капитализм предоставляет социализму в виде рыночных цен, социалистическими предприятиями не удалось бы управлять даже в рамках отдельных отраслей производства или отдельных районов.
Социалистические авторы могут продолжать публикацию книг об упадке капитализма и приходе социалистического миллениума [116]; они могут расписывать зловредность капитализма мрачными красками, противопоставляя ему соблазнительные картинки блаженства в социалистическом обществе; их тексты могут по прежнему производить впечатление на глупцов, — но все это не в силах изменить судьбу социалистической идеи. [120*] Попытка социалистического переустройства мира может разрушить цивилизацию. Но никогда такая попытка не приведет к существованию процветающего социалистического общества.
4. Искусственный рынок как решение проблемы экономического расчета
Некоторые молодые социалисты верят, что социалистическое общество может решить проблемы экономического расчета, создав искусственный рынок средств производства. Они признают ошибкой стремление старых социалистов прекратить функционирование рынка и устранить торговлю благами высшего порядка; они согласны, что неверно видеть социалистический идеал в подавлении рынка и ценового механизма. Они считают, что социализм должен создать рынок, на котором получат цену все блага и услуги, если он хочет избежать вырождения в бессмысленный хаос, который поглотит весь мир — как социалистический, так и капиталистический. Имея соответствующие механизмы, полагают они, социалистическое общество сможет вести учет с той же простотой, как и капиталистические предприятия.
К сожалению, сторонники такого подхода не видят (а может быть, не желают видеть), что нельзя отделить рынок и его функционирование в качестве механизма установления цен от жизнедеятельности общества, основанного на частной собственности на средства производства, в котором, подчиняясь законам этого общества, землевладельцы, капиталисты и предприниматели могут располагать своей собственностью как угодно. Ибо движущей силой всего процесса, который порождает рыночные цены на факторы производства, является неустанное стремление части капиталистов и предпринимателей к максимизации прибыли за счет удовлетворения желаний потребителей. Без стремления предпринимателей (в том числе держателей акций) к прибыли, землевладельцев к ренте, капиталистов к проценту и работников к заработной плате об успешном функционировании всего механизма не приходится и думать. Только перспективы получить прибыль направляют производство в те каналы, по которым потребительский спрос удовлетворяется наилучшим образом и с наименьшими затратами. Если исчезает надежда на прибыль, механизм рынка теряет главную пружину, ибо только эта надежда приводит его в движение и поддерживает его работу. Рынок, таким образом, является фокусом капиталистического общества; в нем сущность капитализма. Он возможен, таким образом, только при капитализме; его нельзя искусственно сымитировать при социализме.
Защитники искусственного рынка, однако, придерживаются того мнения, что искусственный рынок может быть создан, если руководители различных производственных единиц научатся действовать как если бы они были предпринимателями в капиталистическом обществе. Ведь и при капитализме управляющие акционерных компаний работают не на себя, а на компании, т. е. на акционеров. Значит, при социализме они смогут работать так же, как и прежде, с той же осмотрительностью и преданностью долгу. Единственным различием будет то, что при социализме результаты труда управляющих достанутся обществу, а не держателям акций. Вот так, вопреки всем ранее писавшим на эту тему социалистам, особенно марксистам, они рассчитывают осуществить программу децентрализованного (в противоположность централизованному) социализма.
Чтобы верно оценить такие проекты, необходимо осознать, что эти управляющие отдельных предприятий должны назначаться. При капитализме управляющий акционерной компании прямо или косвенно назначается держателями акций. В той степени, в какой акционеры предоставляют менеджеру возможность производить на средства компании (т. е. акционеров), они рискуют всей или частью своей собственности. Спекуляция (а это всегда спекуляция) может оказаться успешной и принести прибыль; она может, однако, оказаться и неудачной и повлечь за собой потерю всего капитала или части его. Вот это вкладывание капитала в дело, результат которого неопределенен, и в человека, о будущих способностях которого можно лишь догадываться по его поведению в прошлом, и есть сущность акционерной компании.
Совершенное заблуждение полагать, что проблема экономического расчета в социалистическом обществе сводится исключительно к вопросам, составляющим повседневную деловую рутину управляющих акционерных компаний. Несомненно, такое понимание может быть результатом исключительной концентрации на идее стационарной экономической системы — концепции, весьма полезной, конечно, для решения многих теоретических проблем, но не имеющей оснований в реальности и способной при одностороннем подходе прямо привести к заблуждениям. Когда мы думаем о стационарном обществе, мы представляем себе экономику, в которой все факторы производства уже используются так, что при данных условиях обеспечивают максимум требуемого потребителями. Иными словами, в стационарных условиях больше не существует проблем, которые требовали бы экономических расчетов. В соответствии с гипотезой основная функция экономических расчетов предполагается уже выполненной, и больше нет нужды в аппарате расчета. Используя популярную, хотя и не вполне удовлетворительную, терминологию, можно сказать, что проблема экономического расчета есть проблема экономической динамики, а не статики.
Проблема экономического расчета возникает в экономике, подверженной постоянным изменениям, которой каждый день приходится решать какие-либо новые вопросы. Для их решения бывает необходимо прежде всего изъять капитал из определенных производственных цепочек, из определенных начинаний и предприятий и направить его в другие производственные цепочки, в другие начинания и предприятия. Эти вопросы решают не менеджеры акционерных компаний, а капиталисты, которые продают и покупают акции и ценные бумаги, берут и выплачивают кредиты, делают вклады в банки и изымают их, спекулируют всевозможными товарами. Именно эти операции спекулирующих капиталистов определяют положение на денежном рынке, на фондовой бирже и на оптовых рынках, а уж созданную ими ситуацию вынужден учитывать управляющий акционерной компании, в коем, по мнению социалистических авторов, следует видеть надежного и сознательного слугу компании. Ситуацию, к которой ему приходится приноравливать свой бизнес и которая, таким образом, направляет его деятельность, создают именно спекулирующие капиталисты.
Отсюда следует, что фундаментальный порок всех этих социалистических построений, которые рассчитывают на искусственный рынок и искусственную конкуренцию как на способ разрешения проблемы экономических вычислений, заключается в убеждении, что на рынок факторов производства воздействуют только производители, покупающие и продающие товары. Но такой рынок нельзя оградить от влияния, оказываемого предложением капитала со стороны капиталистов и спросом на капитал со стороны предпринимателей, -- иначе он разрушится.
Столкнувшись с этой трудностью, социалист склонен предложить, чтобы социалистическое государство как владелец всего капитала и всех средств производства просто направляло капитал туда, где ожидается наибольшая прибыль. Наличный капитал, настаивает он, должен направляться в те предприятия, которые обещают наибольший уровень прибыли. Но такое положение дел просто означает, что наименее осторожные и наиболее оптимистичные управляющие получат капитал для расширения своих начинаний, а более осторожные, склонные к сомнениям управляющие останутся с пустыми руками. При капитализме капиталист принимает решение, кому доверить свой собственный капитал. Убежденность управляющих акционерных компаний в будущем своих начинаний, как и надежды прожектеров на прибыльность своих планов, никоим образом не играет решающей роли. Решает механизм денежного рынка и рынка капиталов. В этом, собственно, и состоит их основная задача: служить экономической системе в целом, судить о прибыльности открывающихся альтернатив, а не слепо следовать тому, что пытаются навязать управляющие определенных предприятий, ограниченные узкими горизонтами своего бизнеса или не увлеченные заманчивыми предположениями.
Чтобы вполне в этом разобраться, важно понять, что капиталист не инвестирует свой капитал в те предприятия, которые обещают самую высокую прибыль или процент; скорее он пытается найти баланс между своим стремлением к прибыли и своей же оценкой риска убытков. Он должен быть предусмотрительным. Если ему это не удается, он терпит убытки, и распоряжение факторами производства переходит в руки тех, кто лучше умеет взвешивать риск и перспективы деловых спекуляций.
Чтобы социалистическому государству не утратить своей социалистичности, ему следует сохранять в своих руках господство над капиталом, необходимое для расширения одних существующих предприятий, сокращения других и учреждения совершенно новых. Трудно себе представить, что социалисты любого толка всерьез предлагают, чтобы эта функция была передана некоторой группе людей, которые будут просто заниматься тем же, что делают капиталисты и спекулянты в условиях капитализма, с той единственной разницей, что результат их предвидения будет принадлежать не им, но обществу. Предложения такого рода вполне могут делаться управляющим акционерных компаний, причем легко сделать так, чтобы у них никогда не возникло возможности превратиться в капиталистов и спекулянтов. Но ведь ни один социалист не станет оспаривать, что свою функцию -- употребление капитала так, чтобы он наилучшим образом служил требованиям потребителей, — капиталисты и спекулянты при капитализме выполняют только ради сохранения своей собственности и получения прибыли, которая бы увеличивала собственность или по крайней мере позволяла жить, не сокращая капитала.
Отсюда следует, что социалистическое общество не может не передать распоряжение капиталом в руки государства или, точнее говоря, в руки человека, который в качестве верховного властителя ведет дела государства. А это означает устранение рынка, что, собственно, и является основной целью социализма, поскольку господство рынка предполагает, что и производство, и распределение подчинены давлению платежеспособного спроса граждан, действующего через рынок; иными словами, предполагается то самое, что социализм намеревается изничтожить.
Когда социалисты пытаются умалить значимость проблемы экономического расчета в социалистическом обществе на том основании, что рыночные силы не ведут к этически оправданным условиям жизни, они просто демонстрируют непонимание реальной природы этой проблемы. Вопрос не в том, что производить: пушки или одежду, жилые дома или церкви, предметы роскоши или предметы первой необходимости. При любом общественном устройстве, даже при социализме, легко решить, какого рода и в каком количестве следует производить потребительские блага. Никто и не отрицал этого. Но после того как решение принято, еще остается проблема: как добиться, чтобы существующие средства производства использовались с наибольшей эффективностью при производстве намеченного. Для решения этой проблемы необходима возможность экономических расчетов. А экономические расчеты можно вести только в денежных ценах, устанавливающихся на рынках производительных благ в обществе, основанном на частной собственности на средства производства. Иными словами, должны существовать денежные цены земли, сырья, полуфабрикатов, а значит, должны существовать и денежная заработная плата, и процентные ставки.
Поэтому-то альтернатива и остается: либо социализм, либо рыночная экономика.
5. Прибыльность и производительность
Экономическая деятельность социалистического общества подчиняется тем же внешним условиям, которые направляют и систему, основанную на частной собственности на средства производства, да, пожалуй, и любую мыслимую экономическую систему. Принцип экономичности приложим к ней, как и к любой другой экономической системе. Она также знает иерархию целей и должна в первую очередь стремиться к достижению наиболее важных из них. В этом сущность экономической деятельности.
Очевидно, что в производственную деятельность социалистического общества будут вовлечены не только труд, но и материальные орудия производства. В соответствии с общепринятым обычаем эти материальные орудия производства называют капиталом или реальным капиталом. Капиталистическое производство как раз идет к цели разумными опосредованными путями — в противоположность производству без капитала, жмущему напрямик, голой силой [121*]. Если придерживаться этой терминологии, следует признать, что социалистическое общество также должно применять капитал и, значит, производить капиталистически. Капитал, понимаемый как промежуточный продукт, возникающий на различных стадиях опосредованного производства, не исчезнет при социализме, во всяком случае не в первую очередь. [122*] Он будет просто передан из распоряжения частных лиц в распоряжение общества.
Но если мы, как делали ранее, будем называть капиталистическим производством такую экономическую систему, которая использует денежные расчеты, так что сможем термином «капитал» охватить все используемые для нужд производства блага, имеющие денежную оценку, и сможем тесно связать результаты экономической деятельности с изменениями капитала, тогда, конечно, социалистические методы производства не могут быть названы капиталистическими. Мы можем различать социалистические и капиталистические методы производства, капитализм и социализм иначе, чем это делают марксисты.
Социалистам представляется, что характерной чертой капиталистических методов производства является погоня производителей за прибылью. Капиталистическое производство есть производство для прибыли, а социалистическое — для удовлетворения потребностей. Что капиталистическое производство стремится к прибыли, это несомненно. Но получение прибыли, т. е. избытка стоимости результата над издержками, должно быть целью и социалистического общества. Если экономическая деятельность ведется разумно, т. е. если сначала удовлетворяются наиболее настоятельные нужды, то прибыль уже достигнута, ибо издержки, т. е. ценность самых важных из неудовлетворенных нужд, меньше, чем полученные результаты. В капиталистической системе прибыль может быть получена только в случае, когда производство удовлетворяет сравнительно самые насущные нужды. Кто производит без учета условий спроса и предложения, не достигает желанного результата. Ориентация производства на прибыль означает не что иное, как установку на удовлетворение потребностей других людей: в этом смысле капиталистического производителя можно противопоставить Робинзону, который производит для удовлетворения собственных потребностей. Но в нашем смысле он также работает для прибыли. Нет противоположности между работой для прибыли и производством для удовлетворения потребностей [123*].
Противопоставление производства для прибыли производству для потребления тесно связано с обычным противопоставлением производительности и прибыльности, или подходом к экономике с «народнохозяйственной» и «частнохозяйственной» точек зрения. В капиталистической системе экономическую деятельность называют прибыльной, если она приносит избыток доходов над расходами. В гипотетическом социалистическом обществе экономическую деятельность называют производительной, когда результат превышает издержки. Во многих случаях производительность и прибыльность не совпадают. Порой прибыльные экономические действия непроизводительны, а порой наоборот. Для тех, кто наивно предрасположен к социализму, что свойственно большинству экономистов, этого факта достаточно для осуждения капиталистического общественного порядка. Чтобы ни делало социалистическое общество, это кажется им бесспорно благим и разумным; все, что может случиться в капиталистическом обществе, кажется им неполадками, на которые нельзя закрыть глаза. Но анализ случаев, когда производительность и прибыльность расходятся, показывает, что это суждение насквозь субъективно и что покров научности на всем этом — простая видимость [124*].
Для большинства случаев, когда принято предполагать противоположность между прибыльностью и производительностью, такой противоположности на деле не существует. Это относится, например, к спекулятивной прибыли. Спекуляция при капитализме выполняет функцию, которая должна выполняться в любой экономической системе, как бы она ни была организована: она обеспечивает уравновешивание спроса и предложения во времени и пространстве. Источником спекулятивной прибыли служит возрастание ценности, не зависящей от какой-либо определенной формы экономической организации. Если спекулянт продукт, поступивший на рынок в относительно больших количествах, приобретает задешево и продает его дороже, когда спрос снова увеличивается, это означает не только обогащение нашего дельца, но и — с народнохозяйственной точки зрения — возрастание ценности. Мы не отрицаем, что при социализме общество, а не индивидуум, будет получать эту сильно презираемую и осуждаемую прибыль. Но мы сейчас интересуемся не этим. Нас занимает в данном случае то, что предполагаемый контраст между прибыльностью и производительностью в данном случае не существует. Спекуляция оказывает экономические услуги, которых нельзя устранить ни из какой экономической системы. Если это сделать, как настаивают некоторые социалисты, тогда какой-либо организации придется взять на себя эти функции: само общество должно начать спекулировать. Без спекуляции экономическая деятельность не может выйти за пределы сиюминутности.
Противоположность между прибыльностью и производительностью иногда предполагают обнаружить на отдельных стадиях производства, рассматривая их изолированно. Непроизводительным порой называют нечто, связанное с капиталистической организацией промышленности, например торговые расходы, расходы на рекламу и т. п. Это некорректный подход. Мы должны сравнивать результаты всего процесса, а не его отдельных этапов. Не следует рассматривать накладные расходы, не сопоставляя их с воздействием этих же расходов на конечный результат [125*].
6. Валовой и чистый продукт
Наиболее амбициозная попытка противопоставления производительности и прибыльности отталкивалась от анализа отношений между валовым и чистым продуктом. Ясно, что каждый предприниматель в капиталистической системе стремится к получению наибольшего чистого продукта. Но доказывают нередко, что при правильном подходе целью экономической деятельности должно быть получение не наибольшего чистого, а наибольшего валового продукта.
Это, однако, заблуждение, порожденное примитивным пониманием процесса оценки. Правда, судя по популярности, это очень широко распространенное заблуждение. Очевидна ошибочность утверждений, что какой-то производственный процесс следует предпочесть, так как он использует большее количество рабочих, либо что какое-то усовершенствование следует отвергнуть, потому что при этом люди остаются без средств к существованию.
Если бы защитники этих взглядов были последовательны, им пришлось бы признать, что с точки зрения увеличения валового продукта следует рассматривать не только потребление труда, но и потребление материальных ресурсов. Предприниматель прекращает производство в тот момент, когда перестает получать чистый продукт. Давайте предположим, что для расширения такого производства он нуждается не в дополнительном труде, а только в дополнительных материальных ресурсах. Заинтересовано ли общество в том, чтобы этот предприниматель расширял свое производство для получения большего валового продукта? Поступило бы общество так же и в том случае, если бы оно само управляло производством? На оба вопроса следует ответить решительным нет. Тот факт, что дальнейшее производство не окупает себя, свидетельствует, что производственные ресурсы могут быть использованы для удовлетворения более насущных нужд. Если же они, тем не менее, заняты в бесприбыльном производстве, значит, их недостает там, где они крайне необходимы. Это верно и при социализме, и при капитализме. Социалистическое общество, если оно ведется рационально, не будет до бесконечности развивать отдельные направления производства в ущерб всем остальным. И оно прекратит производство, если результаты не перекроют издержек, иначе говоря, если продолжение данного производства будет означать отказ от удовлетворения более насущных нужд.
Но что верно в отношении растущего потребления материальных ресурсов, верно точно так же и для растущего потребления труда. Если труд продолжают вкладывать в какое-либо определенное производство при том, что чистый продукт сокращается и только валовое производство растет, значит, его отвлекают от других производств, где он может оказывать более ценные услуги. И здесь единственным результатом отказа от учета чистого продукта становится то, что более насущные нужды оказываются неудовлетворенными, а менее насущные насыщаются. Только это, и ничто другое, находит свое выражение в механизме капиталистического хозяйства, когда чистый продукт сокращается. В социалистическом обществе задача управления хозяйством состоит в том, чтобы не допустить такого расточения труда, — здесь, следовательно, о противоречии между производительностью и прибыльностью не может быть и речи. Даже с социалистической точки зрения целью экономической деятельности должен быть наибольший возможный чистый продукт, а не наибольший возможный валовой продукт.
Тем не менее, люди продолжают утверждать обратное, иногда по отношению к производству в целом, иногда по отношению к использованию труда, иногда по отношению к сельскохозяйственному производству. Направленность капиталистических предприятий исключительно на получение наибольшего чистого продукта яростно критикуют и требуют государственного вмешательства для устранения предполагаемых злоупотреблений.
У этого спора долгая история. Адам Смит утверждал, что производительность различных предприятий следует оценивать в зависимости от того, больше или меньше труда они приводят в движение [126*]. Его резко критиковал Рикардо, который указывал, что благосостояние людей увеличивается только в результате роста чистого, а не валового продукта [127*]. За это Рикардо подвергся жестокой атаке. Даже Ж. Б. Сэй неверно понял его и обвинил в невнимании к благосостоянию столь большого числа людей [128*]. А Сисмонди, который обожал отвечать на экономические аргументы чувствительными декларациями, был убежден, что способен разделаться с проблемой остротой: он заявил, что согласно Рикардо, король, который сможет производить чистый продукт простым нажатием кнопки, сделает тем самым свой народ излишним [129*]. Бернгарди в этом вопросе последовал за Сисмонди [130*]. [118] Прудон зашел столь далеко, что просто устранил различие между социалистическими и частными предприятиями в следующей формуле: хотя общество должно стремиться к наибольшему валовому продукту, целью предпринимателя является наибольший чистый продукт. [131*] [119] Маркс избегал высказываться по этому вопросу, однако он заполнил две главы первого тома «Капитала» сентиментальным рассказом, в котором переход от интенсивного сельского хозяйства к экстенсивному, когда, по выражению Томаса Мора, «овцы съели людей», изображен в мрачнейших тонах. [120] При этом Марксом воедино сведены осуществленные знатью, располагавшей политической властью, «раскрестьянивание», «огораживание», словом, насильственные экспроприации, характерные для аграрной истории Европы в первые столетия Нового времени, и изменения в методах обработки земли, которые были проведены позднее землевладельцами. [132*] [122] С тех пор декламации на эту тему вошли в железный фонд агитационных речей и статей социалистов.
Немецкий сельскохозяйственный экономист Т. фон дер Гольц [123] пытался доказать, что получение наибольшего возможного валового продукта не только выгодно с социальной точки зрения, но и прибыльно с индивидуальной точки зрения. Он был убежден, что получение большого валового продукта естественно предполагает и получение большого чистого продукта, а в силу этого интересы индивидуума, стремящегося к получению большого чистого продукта, совпадают с заинтересованностью государства в большом валовом продукте [133*]. Но он не приводил тому никаких доказательств.
Гольц противоречит сам себе, когда прибавляет к цитированному выше следующее: «Тем не менее, объем чистой прибыли, остающейся после учета всех расходов, очень изменчив. В среднем он выше при экстенсивной, чем при интенсивной, обработке земли».
Много более логичной, чем эти попытки обойти очевидную противоположность общественных и частных интересов за счет игнорирования несомненных данных сельскохозяйственного учета, была позиция последователей романтической школы в экономике, особенно германских этатистов: аграрий является слугой общества, а значит, и работать должен в интересах общества. Поскольку это сказано в поддержку идеи наибольшего валового продукта, отсюда следует, что аграрий, не затронутый коммерческим духом, идеями или интересами, должен, не обращая внимания на возможные убытки, посвятить себя достижению этой цели. [134*] Все эти авторы исходят из доказанности того, что получение наибольшего валового продукта в интересах общества. Потому-то они и не пытаются даже аргументировать свой подход. Если же все-таки они решают как-то аргументировать, то всегда подходят с точки зрения Machtpolitik или Nationalpolitik [125]: государство нуждается в сильном сельскохозяйственном населении, поскольку деревенские жители консервативны; деревня поставляет много солдат; необходимо предусмотреть решение проблемы питания на случай войны и т. п.
Попытка найти экономическое обоснование в пользу максимизации валового продукта была сделана Ландри [126]. Он склонен признать общественную полезность стремления к наибольшему чистому продукту постольку, поскольку не приносящие прибыли расходы образуются потреблением материальных ресурсов. Если же речь идет о расходах на труд, то здесь для него все иначе. Он считает, что привлечение дополнительного труда не является расходом: общественное благосостояние при этом не уменьшается. Экономия заработной платы, ведущая к сокращению валового продукта, опасна [135*]. К этому выводу его приводит предположение, что высвобожденные рабочие руки не найдут другого применения. Но это совершенно неверно. Потребность общества в работниках не может быть насыщена до тех пор, пока труд не станет «даровым благом». Высвобожденные работники найдут другое занятие, где они будут выполнять работу, более настоятельно нужную с экономической точки зрения. Если бы Ландри был прав, то следовало бы предпочесть, чтобы экономящие труд машины не создавались вовсе, и тогда были бы оправданы установки и поведение тех рабочих, которые сопротивляются всем техническим новшествам и разрушают машины. Нет причин делать различие между применением материальных ресурсов и труда. Если при существующих ценах на материальные ресурсы рост данного производства не обещает прибыли, значит, эти ресурсы необходимо направить в другое производство, которое удовлетворяет более насущные нужды. То же самое верно и для трудовых ресурсов. Работники, увеличивающие не приносящий прибыли валовой продукт, отвлечены от других производств, где они нужнее.
Если прирост валового продукта не дает прибыли из-за того, что заработная плата здесь слишком высока, значит, предельная производительность труда в экономике в целом выше, чем на рассматриваемом нами производстве, где труд не способствует увеличению чистого продукта. И нет здесь никакого противоречия между частными и общественными интересами: социалистическая организация в этом случае будет действовать точно так же, как капиталистический предприниматель.
Существует, разумеется, еще множество аргументов в защиту того, что ориентация на чистый продукт опасна. Эти аргументы объединяют все националистическо-милитаристские течения и широко используются для оправдания протекционистской политики. [127] Народ должен быть многочисленным, потому что его политический и военный статус в мире зависит от численности; он должен стремиться к экономической самодостаточности или по крайней мере должен обеспечивать себя продуктами питания и пр. В конце концов, Ландри вынужден был для поддержки своей теории опереться именно на все такие аргументы [136*]. Но анализ этих аргументов излишен при обсуждении теории изолированного социалистического общества.
Но если разобранные нами аргументы не истинны, тогда социалистическое общество должно в качестве руководящего принципа своей экономической деятельности выбрать чистый продукт, а вовсе не валовой. Так же как и капиталистическое общество, социалистическое обратит пахотные земли в луга, если в наличии есть более производительные земли, пригодные для пахоты. Невзирая на сэра Томаса Мора, «овцы будут съедать людей» даже в Утопии, и правители социалистического общества будут действовать точно так же, как герцогиня Сатерленд [128], эта «особа, весьма просвещенная в вопросах политической экономии», как однажды язвительно обозвал ее Маркс [137*].
Использование чистого продукта в качестве критерия разумно во всех сферах производства, и сельское хозяйство не является исключением. По-прежнему верна фраза Таера, немецкого пионера в области модернизации сельского хозяйства [129], что целью агрария должен быть высокий чистый продукт «именно с точки зрения общего блага» [138*].
Глава VII. Распределение дохода
1. Природа распределения при либерализме и социализме
Было бы логичным рассматривать проблемы дохода в конце исследования, посвященного жизни социалистического общества. Прежде чем распределение станет возможным, нужно произвести доход, а значит, логичней сначала рассматривать производство, а лишь потом распределение. Но проблема распределения столь характерна для социализма, что трудно отказаться от как можно более скорого ее рассмотрения. Ведь, в сущности, социализм и есть не что иное, как теория «справедливого» распределения; социалистическое движение есть всего лишь попытка достичь в этом деле идеала. Все социалистические проекты начинаются с проблемы распределения, ими же и заканчиваются. Для социализма распределение и есть вся экономика.
Более того, проблема распределения специфична именно для социализма. Она возникает только в социалистической экономике. Конечно, по традиции говорят о распределении в экономическом обществе, основанном на частной собственности, и экономическая теория разбирает проблемы дохода и установления цен на факторы производства в разделе «Распределение». Это терминология настолько традиционная и устоявшаяся, что замена ее просто немыслима. Тем не менее, она вводит в заблуждение и не соответствует природе описываемой теории. При капитализме доход возникает в результате рыночных взаимодействий, неотторжимых от производства. Мы не производим блага, чтобы потом их распределять. Когда потребительские и производственные блага отгружены потребителям, доходы большей частью уже сформированы, поскольку они возникают в процессе производства и извлекаются из него. Рабочие, землевладельцы, капиталисты и большая часть предпринимателей, участвующих в производстве, получили свое еще до изготовления конечного продукта. Цена конечного продукта на рынке определяет доход только части предпринимателей (эти цены уже оказали влияние на доходы других классов в меру предвидения предпринимателей). При капиталистическом устройстве общества агрегация индивидуальных доходов в общественный доход представляет собой только теоретическое построение. Концепция распределения — всего лишь метафора. Это выражение прижилось вместо простого и более подходящего термина формирование доходов по одной причине: создатели научной экономики, физиократы и ученые английской классической школы лишь постепенно освобождались от влияния этатистски ориентированного меркантилизма. [130] Хотя анализ формирования доходов в результате рыночных взаимодействий был их важнейшим достижением, они — к счастью, без вреда для содержания — сгруппировали разделы, имеющие дело с различного вида доходами, под общим заголовком «Распределение» [139*].
2. Социальный дивиденд
Согласно основной идее социализма только потребительские блага подлежат распределению. Блага высших порядков остаются собственностью общества для целей дальнейшего производства; они не подлежат распределению. Блага первого порядка, напротив, все без исключения должны быть распределены: они образуют чистый социальный дивиденд. Поскольку при рассмотрении социалистического общества мы не можем вполне избавиться от идей и понятий, уместных лишь при капитализме, принято говорить, что общество сохраняет часть потребительских благ для общественного потребления. При этом мы представляем себе ту часть потребления, которую в капиталистическом обществе обычно называют общественными расходами (public expenditures). Там, где жестко соблюдается принцип частной собственности, эти общественные расходы состоят исключительно из затрат на содержание аппарата, поддерживающего мир и порядок. Единственная задача чисто либерального государства — защита жизни и собственности от внутренних и внешних врагов. Оно является «производителем» безопасности или, как насмешливо выразился Лассаль, это «государство — ночной сторож». [131] В социалистическом обществе также должна решаться соответствующая задача обеспечения социалистического порядка и мирного хода социалистического производства. Будет ли служащий этому аппарат принуждения и насилия по-прежнему называться государством или его назовут иначе, и получит ли он отдельный правовой статут, выделяющий его из других частей аппарата, выполняющего множество функций, которые взяло на себя социалистическое общество, -- совершенно не имеет для нас значения.
Мы здесь намерены только зафиксировать, что все расходы на эти цели в социалистическом обществе выступают как общие расходы на производство. И поскольку в эти расходы будет включен и труд по распределению социального дивиденда, они должны исчисляться так, чтобы занятые таким трудом получили свою долю.
Но в общественные расходы входят и другие издержки. Большинство государств и общин предоставляет своим гражданам некоторые натуральные услуги, порой безвозмездно, иногда за плату, покрывающую только часть издержек. Как правило, это относится к отдельным услугам, которые обеспечиваются благами длительного пользования. Парки, картинные галереи, общественные библиотеки, места богослужения бывают доступны для всех желающих. Так же общедоступны улицы и дороги. Более того, встречается и прямое распределение потребительских благ, как, например, обеспечение больных питанием и медицинской помощью, оказание им личных услуг или предоставление ученикам аппарата обучения. И все это — не социализм, не производство на основе общей собственности на средства производства. Распределение-то налицо, но то, что подлежит распределению, должно быть сначала внесено гражданами в виде налога. Только когда распределяется продукт государственных или муниципальных предприятий, это можно назвать элементом социализма в рамках либерального общества. Нет нужды пускаться в исследование того, в какой степени это направление деятельности государства и муниципалитетов порождено влиянием социалистической критики капитализма, а в какой отражает особую природу некоторых потребительских благ длительного пользования, способных практически неограниченное время приносить полезный эффект. Для нас здесь важно только то, что общественные расходы даже в капиталистическом обществе, включают элементы распределения в собственном смысле слова.
Более того, и социалистическое общество не осуществляет распределения всех потребительских благ в физическом смысле. Например, никто не дает каждому гражданину по экземпляру каждой новой книги, но книги делаются общедоступными через публичные библиотеки. То же самое со школами и обучением, с общественными парками, спортивными площадками и пр. Расходы на все эти учреждения — не вычет из дивиденда общества, напротив, они являются его частью.
Эта часть общественного дивиденда демонстрирует ту особенность, что — без ущерба для принципов распределения потребительских благ одноразового использования и части благ длительного пользования — здесь приложимы особые принципы распределения, соответствующие особой природе распределяемых услуг. Тот способ, каким делаются доступными для общего пользования картинные галереи и научные библиотеки, совершенно независим от правил, в соответствии с которыми распределяются другие блага первого порядка.
3. Принципы распределения
Социалистическое общество характеризуется тем, что в нем отсутствует связь между экономикой производства и распределением. Доля потребительских благ, выделяемая для удовлетворения отдельных «товарищей», совершенно не зависит от их вклада в благосостояние. В принципе невозможно построить здесь распределение на основе исчисления ценности, ибо существенной чертой социалистического метода распределения является то, что участие различных факторов производства в конечном продукте не может быть исчислено. В силу этого любые попытки установить связь между усилиями и результатами бесполезны.
Поэтому нельзя даже в малой степени сделать экономический расчет вклада различных факторов основой распределения, например: сначала выплатить рабочим полный продукт их труда, который бы при капитализме они получали в виде .заработной платы, а затем использовать особые формы распределения той части, которая может быть отнесена на счет факторов производства и предпринимательской деятельности. В целом социалисты плохо понимают эти взаимосвязи. Малейшие попытки задуматься об этом блокирует Марксова доктрина, что при социализме отсутствуют категории заработной платы, прибыли и ренты.
Социалистическое распределение предметов потребления может основываться на четырех различных принципах: равное подушное распределение; распределение в соответствии с услугами, оказываемыми обществу; распределение по потребностям; распределение по заслугам. Возможны различные сочетания этих принципов.
Принцип равного распределения вытекает из древнего постулата естественного права, утверждающего равенство всех людей. При последовательном применении он должен привести к нелепостям. Нельзя будет сделать различие между взрослыми и детьми, между здоровыми и больными, между тружениками и лентяями или между хорошими и дурными. Его можно применять только в комбинации с тремя другими принципами распределения. По крайней мере необходимо учесть принцип распределения по потребностям, чтобы выдачи учитывали пол, возраст, здоровье и особые профессиональные нужды; необходимо учесть принцип распределения по труду, чтобы учитывать различие между более и менее трудолюбивыми, между хорошими и дурными работниками; наконец, необходимо учесть и принцип распределения по заслугам, чтобы сделать эффективными вознаграждение и наказание. Но при любом улучшении принципа равного распределения трудности социалистического распределения не исчезают. Фактически эти трудности обойти невозможно.
Мы уже показали трудности, связанные с распределением по труду. В капиталистической системе экономический субъект получает доход, соответствующий ценности его вклада в общий процесс производства. Услуги оплачиваются в соответствии с их ценностью. Именно это установление социализм хочет изменить и утвердить на его месте иной порядок: все, что должно быть отнесено на счет материальных факторов производства и предпринимательской деятельности, подлежит распределению между всеми так, чтобы на долю собственника или предпринимателя пришлось столько же, сколько на любого другого представителя народа. Но это означает полный отрыв распределения от экономического расчета. При этом доход индивидуума оказывается совершенно несопоставимым с ценностью услуг, оказываемых им обществу. Только внешне можно было бы привести распределение в некое соответствие с трудовым вкладом, используя как меру распределения какой-либо внешний показатель. Такой лежащий на поверхности показатель — количество отработанных часов. Но значимость трудовых услуг для обеспечения общества благами не может быть измерена продолжительностью рабочего времени. Ведь ценность трудового вклада определяется не только тем, к чему этот труд приложен в соответствии с хозяйственным планом. Доход, приносимый затратами труда, зависит от того, используются ли они в правильном месте, т. е. там, где они удовлетворяют самые настоятельные нужды. Но в социалистическом обществе ответственность за это может быть возложена не на работника, а только на того, кто направляет его на определенную работу. Далее, ценность услуг определяется качеством работы и наличием у работника определенных способностей; она зависит от его силы и его усердия. Нетрудно найти этические обоснования для равной платы работникам с неравными способностями. Талант и гений есть дар божий, и индивидуум тут не при чем, как часто говорят. Но это не решает проблемы: целесообразна ли или вообще осуществима ли одинаковая оплата всех часов труда.
Третий принцип распределения — по потребностям. Формула «каждому по потребностям» есть старый лозунг наивных коммунистов. Иногда его подкрепляют ссылкой на то, что ранние христиане пользовались всем сообща [140*]. Другие считают это разумным, поскольку так происходит распределение в семье. Конечно, этот принцип можно было бы сделать всеобщим, если бы и материнское отношение к дитяте — лучше самой голодать, лишь бы оно ни в чем не нуждалось — стало всеобщим. Защитники распределения по потребностям не видят этого. Не видят они, впрочем, и многого другого. Они не понимают, что, пока сохраняется нужда в хозяйственной деятельности, лишь часть наших потребностей может быть удовлетворена, а часть будет оставаться неудовлетворенной. Принцип «каждому по потребностям» ни о чем не говорит, пока не определено, в какой степени каждому позволено удовлетворять свои потребности. Эта формула иллюзорна, поскольку каждому приходится воздерживаться от полного удовлетворения всех потребностей. [141*] Она приложима только в очень узких границах. Больным и страждущим можно предоставить средства лечения, уход и заботу, большее внимание и особое отношение к их особым нуждам, не превращая этого из исключения в правило для всех.
Точно так же невозможно положить в основу системы распределения принцип заслуг. Кто оценит заслугу? Власть имущие нередко имеют очень странное представление о заслугах и недостатках своих современников. А глас народа вовсе не глас Божий. Кого люди выберут как лучшего из современников? Вероятно, выбор падет на звезду экрана или выдающегося спортсмена. Возможно, что сегодняшние англичане нарекут величайшим англичанином Шекспира. А как решили бы его современники? А как бы англичане оценили второго Шекспира, если бы он оказался сегодня среди них? Более того, почему следует наказывать тех, кому природа в колыбель не подбросила великий дар таланта и гениальности? Распределение по заслугам открыло бы все двери произволу и сделало бы индивидуума беззащитным перед насилием оценивающего большинства. Создались бы условия, делающие жизнь невыносимой.
Если рассматривать социалистическое общество с политэкономической точки зрения, то совершенно все равно, какой из принципов или их сочетание станут основой распределения. В любом случае общество будет нечто предоставлять индивидууму. Гражданин получит пачку требований, которые он сможет в течение какого-то времени обменять на различные блага. Таким способом он обеспечит себе питание, крышу над головой, порой — развлечение и новую одежду. Насколько это удовлетворит его потребности, будет зависеть от производительности общественного труда.
4. Процесс распределения
Нет нужды, чтобы каждый потреблял все положенное ему. Что-то у него пропадет, что-то он может раздать либо, если есть физическая возможность, сохранить на будущее. Что-то, однако, он сможет обменивать. Любитель пива с радостью отдаст свою долю безалкогольных напитков за дополнительное пиво. Непьющий откажется от своей доли спиртного ради чего-то другого. Эстет обменяет билет в кино на возможность еще раз услышать хорошую музыку; неразвитый человек легко уступит свой билет в картинную галерею в обмен на что-то ему более доступное. Каждый будет готов меняться, но обмен будет ограничен только потребительскими благами. Производительные блага будут res extra commercium [133].
Не обязательно, чтобы такой обмен сводился к прямому бартеру: в каких-то пределах он может принять косвенный характер. Те же причины, которые вели к непрямому обмену в обществах другого типа, могут сделать его привлекательным и в социалистическом обществе. Значит, даже здесь окажется возможным использовать универсальный инструмент обмена — деньги.
В социалистической экономике роль денег будет в основном такой же, как и в свободной экономике, -- служить общеупотребительным посредником обмена. Но при этом значение денег будет совершенно другим. В обществе с коллективной собственностью на средства производства значение денег будет гораздо меньше, чем в обществе с частной собственностью на средства производства. Ведь в социалистическом хозяйстве сам обмен гораздо менее важен, поскольку он ограничен только потребительскими благами. На производительные блага, не участвующие в обмене, не могут существовать денежные цены. Роль, которую деньги играли в сфере производственного учета в обществе свободного обмена, в социалистическом обществе не может сохраниться. Денежное исчисление ценностей здесь невозможно.
Тем не менее централизованное управление производством и распределением не сможет оставить без внимания обменные связи, которые неизбежно возникнут. Ясно, что их придется учитывать, чтобы обеспечить взаимозаменяемость разных благ при распределении общественного дохода.
Так что если в ходе обмена будет установлено равенство одной сигары пяти сигаретам, то администрация не сможет произвольно объявлять одну сигару приравненной к трем сигаретам, чтобы потом выдавать одному только сигары, а другому — только сигареты. Если табачные фонды были распределены неравномерно, частью в сигарах и частью в сигаретах, иначе говоря, если кто-то — по собственному выбору или по указу правительства — получил только сигары, а кто-то — только сигареты, уже установившиеся пропорции обмена игнорировать не следует. В противном случае по отношению ко всем, кто получил сигареты, будет проявлена несправедливость, поскольку получивший сигары из расчета «одна сигара за три сигареты» сможет их обменивать по курсу «одна за пять».
Изменения обменных пропорций в этой торговле между гражданами будут понуждать администрацию к внесению изменений в коэффициенты эквивалентности разных благ. Каждое такое изменение засвидетельствует, что соотношение между потребностями граждан и их удовлетворением изменилось, что люди теперь стали одни товары предпочитать другим. Руководство экономикой скорее всего будет стремиться к тому, чтобы приспособить производство к этим изменениям. Оно постарается выпускать побольше того, на что увеличился спрос, и поменьше того, что не столь желанно гражданам. Но одного оно, однако, сделать не сможет: оно не сможет допустить, чтобы отдельные граждане по своему усмотрению выкупали по своим табачным карточкам либо сигары, либо сигареты. Если позволить такой выбор, то граждане могут предъявить спрос на большее количество сигар или сигарет, чем было произведено, или вовсе не выбрать произведенное и затоварить распределительные склады.
Может показаться, что трудовая теория стоимости предлагает простое решение этой проблемы. За час труда гражданин получает талон на получение полного продукта одного часа труда за вычетом расходов на общественные обязательства: поддержку больных, культурные расходы и пр. Каждый работник имеет право за час труда получить продукты, производимые другими за тот же час. Каждый отдавший обществу свое рабочее время может получить в распределительных центрах потребительские блага и услуги соответствующей ценности и употребить их на себя.
Но такой способ регулирования распределения реализовать невозможно, ибо труд далеко не однороден. Качественные различия между разными видами труда в сочетании с вариациями спроса и предложения на конечные продукты порождают различия в ценности конечных продуктов. Ceteris paribus [134] нельзя увеличить производство картин, не пожертвовав качеством. Тот, кто отдал обществу час простого труда, не может получить право на потребление результатов часа квалифицированного труда; социалистическое общество просто не сможет определить отношение между важностью работ, выполненных для общества, и вознаграждением, полагающимся за этот труд. Оплата труда будет вынужденно произвольной. Ведь методы исчисления ценности, принятые в обществе с частной собственностью на средства производства, применить не удастся, поскольку, как мы видели, такое вменение дохода неосуществимо в социалистическом обществе. [135] Экономическая реальность ставит пределы власти общества произвольно вознаграждать труд: общая сумма заработной платы не может сколь нибудь длительно превосходить общественный доход. Но в этих границах общество будет вполне свободно. Можно решить, что за все работы следует платить одинаково, невзирая на качество труда, чтобы каждый рабочий час вознаграждался так же, как любой другой, а можно ввести различия в оплате, зависящие от качества труда. Но в любом случае общество должно будет оставить за собой право принимать решения о конкретном распределении плодов труда.
Даже если мы отвлечемся от различий в качестве труда и его продуктов и предположим, что мы в силах установить стоимость каждого блага в трудовых единицах, общество никогда не даст отработавшему один час потребить продукт часового труда. Ведь материальные блага включают не только труд, но и материальные затраты. Продукт, на изготовление которого израсходовано больше сырья и материалов, не может быть уравнен с тем, на который всего этого израсходовано меньше.
5. Издержки распределения
Социалистические критики капитализма много сокрушаются о высоких расходах на то, что они называют (или считают по смыслу) аппаратом распределения. В эту категорию они включают все расходы на содержание политических и государственных организаций, военные и оборонные расходы. Сюда включаются также расходы, порождаемые свободной конкуренцией. Все расходы на рекламу и на конкурентную борьбу (оплата коммивояжеров и пр.), а также все расходы на сохранение независимости фирмы (вместо того чтобы слиться в более крупную фирму или присоединиться к картелю, что создает возможности для специализации и удешевления производства) относятся на издержки капиталистического распределения. Критики утверждают, что социалистическое общество обеспечит громадную экономию, просто положив конец этому расточительству.
Представление, что социалистическое общество сэкономит то, что правильно было бы называть государственными расходами, заимствовано из доктрин анархистов и социалистов марксистского толка, согласно которым государственное принуждение окажется излишним в обществе, не знающем частной собственности на средства производства. Они доказывают, что в социалистическом обществе «люди постепенно привыкнут к соблюдению элементарных, веками известных, тысячелетиями повторявшихся во всех прописях правил общежития», но это предположение подкрепляется тем, что, когда вооруженный народ будет осуществлять «учет и контроль тунеядцев, мошенников... уклонение от этого всенародного учета и контроля неизбежно сделается... невероятно трудным... будет сопровождаться... быстрым и серьезным наказанием (ибо вооруженные рабочие — люди практической жизни, а не сентиментальные интеллигенты, и шутить с собой едва ли позволят)» [142*]. Все это просто игра словами. Контроль, вооруженные рабочие, наказания — разве все это не есть «особые органы подавления», «государство», как это называл сам Энгельс [143*]? Осуществляется ли принуждение самими вооруженными рабочими, которые не могут работать, пока они держат оружие, либо их сыновьями, носящими полицейскую форму, — расходы на процесс принуждения останутся теми же.
Государство — это аппарат принуждения не только по отношению к собственным гражданам; оно применяет принуждение и вовне. Только государство, охватывающее весь обитаемый мир, не будет знать направленного вовне насилия, и лишь потому, что у этого государства нет заграницы, нет враждебных иноземных государств и иностранцев. Либерализм с его принципиальным неприятием войны хотел бы создать что-то вроде мирового государства. Но и такое государство немыслимо без аппарата принуждения. Распустив все армии отдельных государств, мы не сможем обойтись без общемирового аппарата принуждения, без мировой полиции для обеспечения мира во всем мире. Объединит ли социализм все государства в одно или сохранит их независимость, — в любом случае ему не обойтись без аппарата принуждения.
Социалистический аппарат принуждения не может быть бесплатным. Нельзя сказать, будут ли эти расходы больше или меньше, чем в капиталистическом обществе. Для нас достаточно знать, что соответствующие расходы сохранятся.
О расточительности капитализма нет нужды говорить подробно. Поскольку капиталистическое общество не знает самого распределения в собственном смысле этого слова, здесь нет издержек распределения. Торговые издержки и т. п. нельзя назвать издержками распределения не только потому, что эти расходы не связаны со специфическим процессом распределения, но также и потому, что результат соответствующих услуг далеко не сводится к простому распределению благ. Действенность конкуренции не исчерпывается распределением: это только часть ее функций. В равной степени она служит организации производства, и именно такой, которая обеспечивает достижение высокой производительности. А значит, сравнение этих расходов, порождаемых конкуренцией, с расходами на аппарат распределения и управления в социалистическом обществе нам мало что скажет. Если социалистические методы производства ведут к падению производительности, — а об этом мы будем говорить ниже, — не столь уж важно, что при этом экономится труд коммивояжеров, брокеров и специалистов по рекламе.
Глава VIII. Социалистическое общество при стационарных условиях
1. Стационарные условия
Предположение о неизменности экономических условий есть теоретический прием, а не попытка описания некоей реальности. Если мы хотим понять законы экономических изменений, мы не можем отказаться от таких приемов. Для изучения движения нам следует сначала вообразить условия,, когда его еще нет. Стационарные условия есть та точка равновесия, к которой предположительно тяготеют все формы экономической активности и которая будет действительно достигнута, если новые факторы со временем не породят новую точку равновесия. В воображаемом состоянии равновесия каждая единица факторов производства используется наиболее экономичным образом, и нет никаких причин для изменения их количества или размещения.
Хотя и невозможно вообразить живущую, изменяющуюся социалистическую экономику, поскольку немыслима экономическая деятельность, когда нет условий для экономических расчетов, довольно просто постулировать существование социалистической экономики при стационарных условиях. Следует только избегать вопросов о том, как было достигнуто это стационарное положение. Тогда у нас не будет трудностей при анализе статики социалистического общества. Все социалистические теории и утопии всегда имели в виду только стационарные условия.
2. Тяготы труда и удовлетворенность
Для социалистических авторов социализм — земля с молочными реками в кисельных берегах. Болезненные фантазии Фурье дальше всего заходят в этом направлении. [136] В фурьеристском государстве будущего все опасные твари исчезли, а на их месте поселились животные, помогающие человеку в труде или даже работающие вместо него. Антибобр станет ловить рыбу; антикит станет плавно вести по морю корабли; антибегемот -- влечь на буксире речные лодки. Вместо льва на земле заведется антилев для поразительно плавной верховой езды, и на его спине ездоку будет столь же удобно, как в хорошо подрессоренной карете. «Счастьем будет жить на свете с такими слугами» [144*]. Годвин даже полагал, что человек мог бы обрести бессмертие после уничтожения собственности [145*]. Каутский рассказывает нам, что при социализме «создастся новый тип человека ... супермен ... человек высокой души» [146*]. [137] Троцкий дает еще более детальную информацию: «Человек станет несравнимо сильнее, умнее, тоньше; его тело — гармоничнее, движения — ритмичнее, голос — музыкальнее. ..Средний человеческий тон поднимется до уровня Аристотеля, Гете, Маркса. Над этим новым кряжем будут подниматься новые вершины» [147*]. И авторов подобного вздора постоянно перепечатывают и переводят на другие языки, о них пишут исторические диссертации! [138]
Другие социалистические авторы более осмотрительны в своих высказываниях, но в сущности исходят из тех же представлений. В основе теории Маркса лежит смутная идея, что не стоит заботиться об экономичном использовании природных факторов производства. К такому представлению неизбежно приводит система, в которой труд рассматривается как единственный элемент затрат, которая не признает закон убывающей отдачи, отрицает Мальтусов закон народонаселения и запутывается в смутных фантазиях о неограниченных возможностях роста производительности труда. [148*] Нам не стоит углубляться дальше в эти вопросы. Достаточно осознать, что даже в социалистическом обществе природные факторы производства будут количественно ограничены, а значит, будут заслуживать экономного к себе отношения.
Вторым элементом, заслуживающим экономии, является труд. Даже если мы проигнорируем различия в качестве, очевидно, что предложение труда всегда ограничено: индивидуум может выполнить не больше некоего объема работы. Даже если бы труд был чистым наслаждением, его все равно следовало бы экономить, поскольку человеческая жизнь конечна, а человеческая энергия — исчерпаема. Даже совершенно досужий человек, не затрагиваемый денежными соображениями, должен распределять свое время, т. е. выбирать между различными способами его использования.
Достаточно ясно, что мы живем в мире, в котором поведение человека должно управляться экономическими соображениями. Хотя наши желания безграничны, даруемые природой блага первого порядка ограничены, а при данной производительности труда блага более высокого порядка могут служить растущему удовлетворению потребностей только при увеличении труда. Но мало того, что доступное количество труда всегда ограничено, рост труда сопровождается ростом его тягостности.
Фурье и его школа считали, что тягостность труда есть результат извращенного общественного устройства. [139] Согласно их взглядам только такое устройство следует винить в том, что в обыденной речи слова «трудиться» и «надрываться» стали почти синонимами. Сам по себе труд не имеет ничего неприятного. Напротив, все люди нуждаются в активности. Бездеятельность порождает труднопереносимую скуку. Чтобы труд стал привлекательным, им нужно заниматься в здоровых, чистых помещениях; радость труда должна вздыматься радостным чувством союза с другими рабочими и доброжелательным соревнованием между ними. Главная причина отвращения к труду — его непрерывность. Даже удовольствия надоедают, если длятся слишком долго. Значит, рабочим нужно позволить меняться по желанию видами труда; труд станет тогда удовольствием и больше не будет порождать отвращения [149*].
Несложно выявить ошибку в этих рассуждениях, хотя они принимаются социалистами всех школ. Человеку свойственно стремиться к активности. Даже если нужда не заставляет его трудиться, он не всегда будет доволен возможностью валяться на траве и греться на солнышке. Даже молодые животные и дети, которых кормят их родители, брыкаются, танцуют, прыгают и бегают, чтобы поупражнять силы, еще не востребованные трудом. Подвижность — это физическая и умственная потребность. Так что, в общем, целенаправленный труд приносит удовлетворение. Но только до определенного момента, после чего он становится только тяготой. На диаграмме ось 0Х, на которой отмечается производительность труда, разграничивает зону, в которой труд тягостен, и зону, где господствует удовлетворение от проявления силы, что можно было бы назвать непосредственным удовлетворением от труда. Кривая abcp представляет тягостность труда и непосредственное удовлетворение от труда в зависимости от разной производительности. Первые трудовые усилия неприятны. После преодоления начальных трудностей, когда тело и ум лучше приспособились, неприятные ощущения уменьшаются. Для точки b можно отметить примерное равенство удовлетворения и неудовольствия. Между b и c преобладает чистое удовлетворение. После с опять доминирует неудовольствие. При других формах груда кривая может выглядеть иначе, как, например, кривая 0с1 р1 или 0р2.Это зависит от природы труда и личности рабочего. Кривые различны для землекопа и жокея; они различны для вялого и энергичного человека [150*]
Почему человек продолжает трудиться и после того, как тяготы начинают превосходить прямое удовлетворение от труда? Потому что действует еще что-то, помимо прямого удовлетворения от труда, а именно удовлетворение от продукта труда; мы можем называть это непрямым удовлетворением от труда. Труд продолжается до тех пор, пока его тяготы не перевесят удовольствие от результатов труда. Труд будет прекращен лишь тогда, когда его продолжение будет порождать больше бесполезности, чем полезности.
Методы, которыми Фурье рассчитывал устранить непривлекательность труда, были основаны на верных наблюдениях, но он очень сильно переоценил весомость своих аргументов. Ясно же, что количество труда, приносящее прямое удовлетворение, столь мало может способствовать удовлетворению потребностей, которые люди считают настоятельными, что они охотно принимают тяготы утомительной работы. Но предполагать, что если рабочим разрешить в течение короткого срока менять виды деятельности, то это приведет к значительным переменам, — заблуждение. Во-первых, сократится производительность труда из-за уменьшения сноровки и навыков работников, слишком часто меняющих вид деятельности, не говоря уже о том, что каждый переход с одного рабочего места на другое порождает потери времени и труд будет вытесняться суетой. А во-вторых, тот факт, что тягостность труда превосходит прямое удовлетворение от него, только в небольшой степени объясняется утомлением от данной конкретной работы. Потому-то прямое удовлетворение от смены вида работы не таково, как было бы, если бы первая работа вовсе не выполнялась. Очевидно, что большей частью тягостность труда объясняется общей усталостью организма и желанием избежать любого другого принуждения к труду. Просидевший несколько часов за столом скорее предпочтет часок порубить дрова, чем еще час провести за столом. Но его труд делается неприятным не столько из-за потребности в переменах, сколько из-за продолжительности уже отработанного времени. Продолжительность рабочего времени может быть сокращена — без уменьшения производства — только за счет роста производительности труда. Распространенное мнение, согласно которому на некоторых работах утомляется только тело, а на других — только голова, это неверно. Всякий труд воздействует на организм в целом. Мы морочим сами себя в этом вопросе, потому что, наблюдая за чужим трудом, стремимся видеть только прямое удовлетворение от труда. Чиновник завидует кучеру, так как хотел бы слегка развлечься ездой; но его зависть будет длиться только до тех пор, пока удовольствие превышает усталость. Точно так же охотой и рыболовством, альпинизмом, верховой ездой и скачками занимаются ради спорта. Однако спорт — не работа в экономическом смысле. Человек вынужден принимать тяготы упорного труда только в силу того, что малым трудом он не способен прокормить себя, а вовсе не из-за дурной организации труда.
Очевидно, что улучшение условий труда может вести к росту производства при неизменной тягостности труда или при неизменном объеме производства к снижению тягот труда. Но улучшения условий труда нельзя добиться без роста издержек в размерах, допускаемых при капитализме. В хорошо сработавшихся коллективах труд доставляет большее удовлетворение, и совместная работа организуется везде, где она может быть введена без снижения чистого дохода.
Конечно, встречаются исключительные натуры, возвышающиеся над средним уровнем. Великий творческий гений, увековечивающий себя нетленными свершениями, не различает радости и тяготы труда. Для такого человека творчество одновременно и великая радость, и горчайшая мука, но прежде всего это внутренняя необходимость. Созданное не имеет для таких людей ценности: они творят ради творчества, а не ради результатов. Результат не имеет для них ценности, ибо нет для них ничего дороже самого процесса создания. И созданное достается обществу не дороже, чем плоды другого труда. В сравнении с ценностью результатов эта плата ничтожна. Поистине гений — дар Божий.
История жизни великих доступна ныне каждому. И социальный реформатор склонен рассматривать то, что он слышал о великом человеке, как общее свойство людей. Множество людей склонны рассматривать способ жизни гения как типичный образ жизни простых граждан социалистического общества. Но не каждый является Софоклом [140] или Шекспиром, а стоять за токарным станком совсем не то же, что писать гетевские поэмы или создавать наполеоновскую империю.
Легко увидеть природу иллюзий об удовольствиях и тяготах жизни в социалистическом обществе — иллюзий, нашедших отклик у марксистов. Здесь, как и во всех других вопросах организации социалистического общежития, марксизм двигался вслед за утопистами. Открыто ссылаясь на идеи Фурье и Оуэна [141] о необходимости вернуть труду «привлекательность, утраченную из-за разделения труда», за счет такой организации труда, когда на каждую работу отводится самое непродолжительное время, — Энгельс усматривает в социализме такую организацию производства, при которой «производительный труд вместо того, чтобы быть средством порабощения людей, стал бы средством их освобождения, предоставляя каждому возможность развивать во всех направлениях и действенно проявлять все свои способности, как физические, так и духовные, — где, следовательно, производительный труд из тяжелого бремени превратился в наслаждение» [151*]. И Маркс говорит о труде как об удовольствии: «На высшей фазе коммунистического общества, после того, как исчезает порабощающее человека подчинение его разделению труда; когда исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда; когда труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни...» [152*]. Макс Адлер [142] обещает, что социалистическое общество «уж по крайней мере» не станет никого назначать на работу, «могущую оказаться тягостной» [153*]. Эти высказывания отличаются от утверждений Фурье и его последователей только тем, что здесь даже не предпринимается попытка сделать их доказательными.
Фурье и его последователи, однако, имели, кроме системы смены видов деятельности, еще одно средство, чтобы сделать труд более привлекательным: конкуренцию. Человек способен к высочайшим достижениям, когда его подстрекают ип sentiment de rivalite joyeuse ou de noble emulation [143]. В этом единственном пункте они признали преимущества конкуренции, которую во всех остальных случаях клеймили как пагубную. Если рабочие показывают плохие результаты, достаточно разделить их на группы: между группами немедленно вспыхнет яростная конкуренция, которая удвоит энергию индивидуума и неожиданно вызовет у всех ип achamement passione au travail [154*] [144].
Наблюдение, что конкуренция способствует улучшению достижений, конечно же, верное, но поверхностное. Конкуренция сама по себе не входит в число человеческих страстей. Усилия, вкладываемые в соревнование, имеют целью не само соревнование, но некую внешнюю цель. Борьба ведется не ради самой борьбы, а ради награды, которая достается победителю. Но какие награды могли бы вдохновить на соревнование работников социалистического общества? Опыт показывает, что титулы и моральные почести ценятся не слишком высоко. Материальные блага, удовлетворяющие некие нужды, не могут быть призами, поскольку распределение в принципе должно быть независимым от индивидуальной производительности, а результатом усилий отдельного работника может быть столь незначительная прибавка подушевого продукта, что ее можно и не считать. Простое удовлетворение от выполнения обязанностей будет недостаточным: мы ищем другие стимулы как раз потому, что на этот нельзя положиться. Но даже если бы можно было на него положиться, труд все-таки останется тягостным. Сам по себе он не станет притягательным.
Фурьеристы, как мы видели, считают основным в своем решении социальных проблем то, что работа станет радостью, а не тягостью. [155*] К сожалению, средства, предлагаемые для такого превращения, крайне непрактичны. Если бы Фурье действительно смог показать, как сделать труд привлекательным, он бы и в самом деле заслужил те божественные почести, которые ему воздают последователи. [156*] Но его прославленное учение есть не что иное, как фантазии человека, который был неспособен увидеть мир таким, каков он есть.
Даже в социалистическом обществе труд будет источником страданий, а не удовольствия. [157*]
3. «Радость труда»
Признание того, что труд не является источником удовольствия, разрушает одну из главных опор социалистической доктрины. И вполне естественно настойчивое желание социалистических писателей утвердить, что человеку свойственно природное стремление к труду, что труд сам по себе является источником удовлетворения и что только неблагоприятные условия труда в капиталистическом обществе могут вытеснить эту естественную радость от трудовых усилий и превратить ее в тяготу [158*].
В доказательство этого утверждения они усердно собирают высказывания рабочих современных предприятий о том, какое удовольствие приносит им труд. Они задают рабочим наводящие вопросы и чрезвычайно рады, когда слышат в ответ как раз то, что хотели услышать. Но из-за своей предвзятости они не задумываются, нет ли между ответами и поведением опрашиваемых противоречия, которое нуждается в объяснении. Если работа per se [149] приносит удовлетворение, почему же рабочим еще и платят? Почему они не платят нанимателю за удовольствие, которое им дает работа? Нет другого такого места, где человек получал бы деньги за то, что доставляет ему удовольствие, и сам тот факт, что людям платят за их удовольствие, должен был бы навести на размышление. Ex definitione [150], труд не может приносить удовлетворения непосредственно, потому что вообще трудом именуют деятельность, которая не дает непосредственно приятных ощущений и которую осуществляют только потому, что она косвенно, через продукт труда, становится источником приятных переживаний, достаточных, чтобы компенсировать первичные неприятные ощущения. [159*]
Так называемая «радость труда», которую часто используют в поддержку того взгляда, что труд приносит удовлетворение, а не муку, может иметь три вполне различных источника.
Во-первых, удовольствие можно получать от извращения сути труда. Когда государственный служащий злоупотребляет своим положением, зачастую внешне правильно и корректно выполняя свои обязанности, но при этом удовлетворяя свой инстинкт власти, или давая волю своим садистским наклонностям, или потворствуя своему сладострастию (при этом не обязательно всегда воображать вещи, запрещенные законом или моралью), то получаемое им удовольствие имеет источником не сам труд, но определенные сопутствующие обстоятельства. Подобные соображения приложимы и к другим видам труда. Психоаналитическая литература неустанно указывает на то, сколь сильно такого рода вещи влияют на выбор профессии. Насколько такого рода удовольствия уравновешивают тяготу труда, отражается в уровне заработной платы: больший спрос на профессии, предоставляющие возможности для такого рода извращений, ведет к понижению заработной платы. Работники платят за «удовольствие» тем, что зарабатывают меньше, чем могли бы.
Под «радостью труда» нередко имеют в виду удовольствие от выполнения задачи. Но здесь радость дает скорее освобождение от работы, чем сама работа. Тут перед нами особый и крайне распространенный вид удовлетворения, которое приносит избавление от чего-то трудного, неприятного, мучительного, с чувством «ну вот все и кончено, наконец». Социалистические романтики и романтические социалисты славословят средние века как время, когда радость труда ничем не ограничивалась. На самом деле у нас нет надежных свидетельств средневековых ремесленников, крестьян и подмастерий относительно радости труда, но можно предположить, что радость относилась скорее к завершению труда и к возможности предаться досугу и удовольствиям. Средневековые монахи, которые в сосредоточенной тиши монастырей копировали рукописи, оставили нам знаки более надежные и истинные, чем утверждения наших романтиков. В конце многих превосходных манускриптов мы читаем: «Laus tibi sit Christe, quoniam liber explicit iste» [151]. [160*] To есть: «Слава Богу, что труд закончен», а вовсе не «потому, что труд принес наслаждение».
Но мы не должны забывать о третьем — и самом важном! — источнике радости труда: удовлетворение от того, что работа выполнена столь хорошо, что обеспечит нужды самого работника и его семьи. Такого рода радость явно коренится в том, что мы назвали косвенным удовольствием труда. Работник наслаждается тем, что в своей трудоспособности и в своем мастерстве видит основу своего существования и своего социального положения. Он наслаждается тем, что в общественном состязании достиг лучшего положения, чем другие. Он наслаждается тем, что в своей трудоспособности видит орудие будущего экономического успеха. Он гордится тем, что может делать что-то «настоящее», т. е. то, что общество ценит и за что оно платит. Никакое другое чувство не способствует самоуважению больше, чем это, столь часто приводящее к преувеличенной и смешной вере в собственную незаменимость. В этом чувстве здоровый человек черпает силу для признания того, что он может удовлетворить свои желания только ценой тягот и усилий. Как говорится, во всем можно найти положительную сторону.
Из трех источников того, что мы можем назвать «радостью труда», первый, возникающий из злоупотребления условиями труда, будет с несомненностью существовать и в социалистическом обществе. Как и в капиталистическом обществе, он будет достоянием узкого круга. Два других источника радости, даруемой трудом, должны полностью иссякнуть. Если разрушить связь между результатами труда и доходом работника, как и должно быть сделано в социалистическом обществе, работнику всегда будет казаться, что на него нагрузили слишком много. Разовьется чрезмерное, неврастеническое отвращение к труду, которое мы сегодня можем наблюдать практически во всех государственных учреждениях и в национализированных компаниях. Когда оплата труда определяется неизменным штатным расписанием, каждый уверен, что он перегружен, что как раз на него возлагают слишком много всего неприятного и что его достижения недооцениваются и плохо вознаграждаются. Из таких переживаний возникает угрюмая ненависть к труду, которая отравляет даже удовольствие от завершения работы.
Социалистическое общество не может рассчитывать на «радость труда».
4. Стимулы к труду
Долг гражданина социалистического общества — трудиться на общество в меру своих сил и способностей. В ответ он получает право на долю в общественном продукте. Тот, кто неоправданно уклоняется от выполнения своего долга, будет приведен к послушанию обычными методами государственного насилия. Руководители экономики будут обладать столь большой властью над отдельными гражданами, что невозможно представить себе, чтобы кто-либо мог постоянно противостоять им.
Однако недостаточно, чтобы граждане пунктуально являлись на свои рабочие места и проводили там предписанные часы. Они должны действительно трудиться.
В капиталистическом обществе рабочий получает плату, соответствующую ценности произведенного им. Статичная, или естественная, ставка заработной платы устанавливается на таком уровне, что работник получает продукт своего труда, т. е. все, что может быть вменено его труду [161*]. А значит, сам работник озабочен тем, как повысить производительность своего труда. Это относится не только к сдельной работе. Уровень повременной оплаты также зависит от предельной производительности данного конкретного труда. В конце концов, используемые системы оплаты труда не влияют на уровень оплаты. Величина заработной платы всегда тяготеет к статичной ставке, и повременная схема оплаты не порождает исключений.
Но при всем том повременная оплата труда дает нам возможность наблюдать, как протекает трудовая деятельность, когда у работника есть ощущение, что он работает не на себя, поскольку отсутствует связь между его работой и вознаграждением. При повременной оплате более искусный работник не имеет побуждений делать больше некоего минимума, обязательного для каждого. Сдельная оплата побуждает к максимальной активности, повременная — к минимальной. В условиях капитализма социальное отрицательное воздействие этой тенденции повременной оплаты труда сильно смягчается тем, что ставки повременной оплаты различных видов труда многоступенчаты. Рабочий заинтересован найти такое рабочее место, на котором требуемый минимум труда достаточно высок, но под силу ему, поскольку вместе с ростом минимальных требований к труду растет и заработная плата.
Только когда мы отходим от принципа, связывающего ставки повременной оплаты с интенсивностью труда, схема повременной оплаты начинает отрицательно влиять на производство. Это особенно заметно на рабочих местах, принадлежащих государству и муниципалитетам. Здесь в последние десятилетия не только постоянно снижались минимальные требования к труду отдельного работника, но и были отброшены все стимулы к лучшей работе, например разное отношение к работникам различных профессий и квалификаций, быстрое продвижение предприимчивых и способных работников на лучше оплачиваемые должности. Результаты такой политики ясно показывают, что работник проявляет серьезное усердие, только когда он знает, что он за это получит.
При социализме не может быть такой связи между трудом и оплатой. Все попытки установить, что же именно произвел данный работник, и соответственно определить его заработную плату, обречены на провал из-за невозможности вычислить производственный вклад отдельных факторов производства. Социалистическое общество может быть и сумеет поставить распределение в зависимость от некоторых внешних аспектов выполняемой работы. Но такая дифференциация обязательно будет искусственной. Предположим, что минимальный размер труда определен для каждой отрасли производства. Предположим, что это сделано на основе предложенного Родбертусом «нормального рабочего дня». [153] Для каждой отрасли установлены время, которое способен отработать средний по силе работник со средним прилежанием, а также производительность труда, посильная для среднего работника средней квалификации и трудолюбия. [162*] Мы полностью отвлечемся от технических трудностей определения того, достигнут ли в данном конкретном случае нужный минимум или нет. Тем не менее очевидно, что любая такого рода система должна быть чрезвычайно произвольной. Работники отдельных отраслей никогда не смогут достичь согласия по этому вопросу. Каждый будет утверждать, что от него требуют чрезмерно много, и будет стремиться к сокращению требуемой нормы. Средний работник, средняя квалификация, средняя сила, среднее напряжение, среднее прилежание — все это темные понятия, не поддающиеся точному определению.
Вполне ясно, что минимальная производительность, установленная для работника средних способностей, мастерства и силы, будет достигаться только частью, скажем половиной работников. Остальные будут делать меньше. Как смогут власти определить, лень или неспособность -- причина низкой производительности? Нужно либо позволить руководству принимать вполне произвольные решения, либо выработать определенные критерии. Нет сомнений, что в результате производительность труда будет непрерывно уменьшаться.
При капитализме каждый активный участник деловой жизни озабочен тем, чтобы труд оплачивался полностью. Наниматель, увольняющий работника, стоящего своего заработка, вредит самому себе. Начальник участка, увольняющий хорошего работника и сохраняющий плохого, ухудшает деловые результаты своего участка, а значит, косвенным образом и свои собственные. Здесь нам не нужны формальные критерии для ограничения решений тех, кто оценивает выполненную работу. При социализме такие критерии необходимы, ибо в противном случае возможно злоупотребление соответствующей властью. А в результате работник не будет заинтересован в дальнейшем совершенствовании труда. Он будет заботиться лишь о том, чтобы выполнить требуемое формальными критериями и избежать наказания.
Какого рода результатов достигают работники, не имеющие прямой заинтересованности в результатах своего труда, можно узнать из тысячелетнего опыта рабского труда. Чиновники и рабочие государственных и муниципальных предприятий дают новые примеры. Можно попытаться ослабить доказательную силу первого примера ссылкой на то, что эти работники не были заинтересованы в результатах своего труда, поскольку не имели доли в распределении, а в социалистическом обществе каждый осознает, что он работает для себя и это подстегивает его усердие. Но как раз в этом и вся проблема. Если рабочий старается на работе больше, чем следует, ему приходится преодолевать большую тягостность труда. Но ведь при этом ему достанется лишь малейшая часть приложенных усилий. Перспектива получить миллионную долю результата своего усердия едва ли подвигнет его напрягаться больше необходимого [163*].
Социалистические писатели обычно обходят эти щекотливые вопросы молчанием или отделываются ничтожными замечаниями. Им нечего сказать, кроме нескольких морализующих сентенций [164*]. Новый социалистический человек будет свободен от эгоизма; в моральном плане он будет неизмеримо выше, чем человек ужасной эпохи частной собственности; глубокое понимание связи вещей и благородное отношение к долгу заставят его посвятить все свои способности общему благосостоянию.
Но если присмотреться поближе, выясняется, что эти заявления вертятся вокруг одной из двух возможных альтернатив: либо свободное подчинение моральному закону под давлением только собственной совести, либо принудительный труд, стимулируемый наказанием и наградами. Ни одна из альтернатив не ведет к цели. Первая не образует достаточных стимулов для преодоления тягот труда, хотя она всячески превозносится публично при каждой удобной возможности и восхваляется во всех школах и церквах; вторая ведет только к формальному выполнению обязанностей, никогда не вовлекая в труд все возможности человека.
С наибольшей тщательностью эту проблему исследовал Джон Стюарт Милль. [154] Все позднейшие рассуждения восходят к нему. С его идеями сталкиваешься постоянно в литературе по данному вопросу и в ежедневных политических дискуссиях; они стали даже популярными поговорками. Каждый знаком с ними, даже если он никогда не слышал об авторе. [165*] Десятилетиями у него заимствовали один из сильнейших аргументов в пользу социалистической идеи, и Милль сделал больше для ее популярности, чем вдохновляемые ненавистью и часто противоречивые аргументы социалистических авторов.
Одно из основных возражений, говорит Милль, которое можно выставить против разумности социализма, то, что каждый будет неустанно озабочен уклонением от своей доли труда. Но выдвигающие это возражение забывают, сколь сильна эта проблема в системе, в рамках которой ныне ведется девять десятых всего бизнеса. Возражение предполагает, что к честному и эффективному труду способны только те, кто самолично пожинает плоды собственных усилий. Но в существующей системе такие возможности открыты только для малой части работников.
Повременная оплата или фиксированное жалованье являются преобладающей формой вознаграждения. Работу выполняют люди, заинтересованные в результатах меньше, чем члены социалистического общества, поскольку в отличие от последних они не имеют доли в своем предприятии. В большинстве случаев ими управляют и их контролируют те, кто также не заинтересован в результатах деятельности предприятия. Ибо надзор, управление и организацию осуществляют служащие, получающие повременную оплату. Можно утверждать, что труд будет более производительным в такой системе, где все или большая часть того, что производится за счет дополнительного усердия, достается работнику. Но в существующей системе как раз этот стимул и отсутствует. Даже если коммунистический труд окажется менее напряженным, чем труд крестьянина-собственника или самостоятельного ремесленника, он будет, вероятно, более энергичным, чем труд наемного работника, который лично вовсе не заинтересован в деле.
Легко увидеть причину ошибки Милля. Последний представитель классической школы экономической теории, он не дожил до преобразования экономического учения, произведенного субъективной теорией ценности, и не знал о связи между уровнем заработной платы и предельной производительностью труда. Он не осознавал, что рабочий заинтересован сделать как можно больше, потому что его доход зависит от ценности выполняемой им работы. Не просвещенный современной экономической мыслью, он не проникал в глубь вещей, оставаясь на поверхности. Нет сомнений, что индивидуум при повременной оплате труда не заинтересован производить больше, чем необходимо для сохранения рабочего места. Но если он способен на большее, если это позволяют его знания, способности и сила, он стремится занять место, где сможет сделать больше, чтобы тем самым увеличить свой доход. Возможно, ему помешает леность, но это не порок системы. Система делает все, чтобы побудить каждого к наибольшему прилежанию, поскольку она обеспечивает каждому плоды его труда. И то, что социализм на это не способен, можно только поставить ему в упрек. В этом состоит огромная разница между капитализмом и социализмом.
В крайнем случае неизлечимого упорства в уклонении от работы социалистическое общество, полагает Милль, будет располагать дополнительной властью: оно может прибегнуть к воздействию институтов принуждения. Увольнение -- единственное существующее сегодня средство противодействия лодырям — вовсе бесполезно, если новый работник трудится не лучше предшественника. Право уволить работника дает нанимателю возможность получать от него обычное количество труда, но этот обычный труд может быть сколь угодно неэффективен.
Ошибочность этого аргумента очевидна. Милль не осознает, что уровень заработной платы соответствует этому обычному количеству труда и что работник, который хочет получать больше, должен делать больше. Можно прямо признать, что при господстве повременной оплаты работник вынужден искать рабочее место, требующее больше труда, поскольку он не может рассчитывать на увеличение своего дохода за счет больших усилий, оставаясь на прежнем месте. В зависимости от обстоятельств ему, может быть, придется перейти на сдельную работу, сменить профессию или даже эмигрировать. Таким образом миллионы эмигрировали из тех европейских стран, где обычная напряженность труда невысока, в Западную Европу или в Соединенные Штаты, где им приходится работать больше, но где они могут и зарабатывать больше. Худшие работники остаются на месте, и они удовлетворены возможностью работать меньше и получать меньше.
Если держать все это в уме, легко понять природу выполняемой наемными служащими работы по надзору и управлению. Их деятельность также оплачивается в соответствии с ценностью их услуг; им также приходится работать изо всех сил, если они хотят получать наибольший возможный доход. Они могут и должны иметь власть — от имени предпринимателя — нанимать и увольнять работников без страха злоупотребить властью. Они исполняют возложенный на них общественный долг следить, чтобы работники получали не больше, чем они вырабатывают, не заботясь ни о каких других соображениях. [166*] Система экономических вычислений дает достаточные возможности оценить эффективность их работы. Это и отличает их труд от того контроля, который возможен при социализме. Они вредят сами себе, если из мстительности обходятся с работником хуже, чем он того заслуживает (естественно, «заслуга» в данном случае не имеет никакого этического содержания). Это принадлежащее предпринимателю и делегируемое подчиненным право увольнять работников и определять их заработную плату социалисты считают опасным в руках частного человека. Но социалисты не замечают того, что возможность предпринимателя пользоваться этим правом ограничена, что он не может произвольно увольнять и быть несправедливым, поскольку результаты будут опасными для него лично. Пытаясь приобрести труд как можно дешевле, предприниматель выполняет одну из самых важных своих общественных задач.
Милль признает, что при современном состоянии общества пренебрежение к выполнению тех обязанностей, ради которых их наняли, со стороны необразованных классов общества чудовищно. Он полагает, что это может быть приписано только низкому уровню образования. При социализме в условиях всеобщего образования все граждане будут, конечно же, выполнять свой долг перед обществом столь же ревностно, как нынче их выполняют большинство представителей высших и средних классов, которым приходится работать за жалованье. Здесь Милль еще раз совершает ту же самую ошибку. Он не видит того, что и в этом случае существует соответствие между трудом и вознаграждением. В конце концов он вынужден признать, что, вне всяких сомнений, система фиксированного жалованья не порождает максимального усердия ни у одной группы работников. Это позволяет выставить резонное возражение против социалистической организации труда. Но при этом, согласно Миллю, нет оснований считать, что этот недостаток сохранится в социалистическом обществе, как предполагают те, чье воображение не привыкло выходить за круг хорошо им известных фактов.
Нельзя исключить того, что при социализме общественное воодушевление окажется столь действенным, что бескорыстная преданность общему благу займет место стремления к личной выгоде. Здесь Милль, впавши в утопические мечтания, допускает, что общественное мнение окажется достаточно сильным, чтобы подтолкнуть индивидуумов к более ревностному труду, что честолюбие и потребность в самоуважении окажутся эффективными мотивами и т. п.
Следует подчеркнуть, что, к сожалению, у нас нет оснований предполагать, что при социализме человеческая природа будет не такой, как теперь. И нет оснований считать, что вознаграждения в форме знаков отличия, ценных подарков или даже в виде общественных почестей побудят работников к чему-то большему, чем формальное выполнение предписанных обязанностей. Ничто не в силах столь же хорошо подталкивать индивидуума к преодолению тягостей труда, как возможность получать полное вознаграждение за свой труд.
Естественно, что многие социалисты полагают возможным отклонить этот аргумент ссылкой на те виды труда, которые в прошлом выполнялись без денежного вознаграждения. Они приводят в пример труд ученых и художников, врачей, истощавших себя у постели больного, солдат, погибавших как герои, государственных деятелей, все отдавших своей идее. Но ученый и художник черпают наслаждение непосредственно в самой работе, а также в признании, которое они рассчитывают получить со временем, может быть, даже у потомства и без надежды на материальный успех. С врачом и профессиональным солдатом дело обстоит точно так же, как со многими другими работниками, чей труд сопряжен с опасностью. Стремящихся к этим профессиям сравнительно немного, и это отражается на уровне их оплаты. Но если, пренебрегая опасностью, человек выбирает такую профессию ради более высоких доходов и других преимуществ и почестей, он не может избегать опасностей без величайшего ущерба для себя.
Показавший спину солдат и врач, отказавшийся лечить заразного больного, подвергают свою будущую карьеру такому риску, что, можно считать, у них просто нет выбора. Нельзя отрицать, что существуют врачи, которые склонны делать все возможное в случаях, когда никто бы и не заметил их слабости, и что порой профессиональные солдаты идут навстречу опасности, когда никто не осудил бы их отступления. Но в этих исключительных случаях, как и в случае со стойким государственным деятелем, который готов умереть за свои принципы, человек поднимает себя, как это дается немногим, на высший человеческий Уровень, к полному единству воли и дела. Исключительная поглощенность единственной целью, которая вытесняет все другие желания, мысли и чувства, делает человека безразличным к боли и страданию, заставляет забыть о мире, и для него остается лишь то, чему он посвятил всего себя и свою жизнь. О таких людях обычно говорят в соответствии с оценкой их целей, что ими движет дух Божий или что они в руках у дьявола, — столь непостижимы их мотивы для обычных людей.
Нет сомнений, что человечество никогда бы не поднялось над уровнем животных, если бы у него не было таких лидеров. Но столь же несомненно, что основная часть человечества не состоит из подобных людей. Главная социальная проблема как раз и заключается в том, чтобы сделать большинство полезными членами общества.
Социалистические писатели давно оставили попытки разобраться с этой неразрешимой проблемой. Каутский не способен ни на что, кроме заявления, что привычка и дисциплина в будущем заменят стимулы к труду. «Приученный капиталом работать изо дня в день, современный рабочий прямо не выносит долгого пребывания без работы. Встречаются даже люди, до того привыкшие к своей работе, что они просто не знают, что им делать со своим свободным временем, — они чувствуют себя несчастными, когда не имеют возможности работать». Каутский, похоже, не опасается того, что эта привычка менее устойчива, чем, например, привычка есть и спать, и, признавая этот стимул все же слабейшим, Каутский не склонен полагаться только на него. Потому он и рекомендует дисциплину. Конечно же, это не «военная дисциплина», не «слепое повиновение власти», но «дисциплина демократическая — добровольное подчинение выбранным руководителям». Потом его охватывают сомнения, и он прогоняет их соображением, что при социализме труд будет настолько привлекательным, что трудиться будет удовольствием, но затем признает, что только этого будет недостаточно, и, наконец, приходит к заключению, что при всей привлекательности труда нужны и другие стимулы, как денежная заработная плата [167*].
Так, со многими оговорками и соображениями даже Каутский приходит наконец к тому выводу, что тягостность труда вполне преодолима, если продукт труда, и только его собственного труда, достается рабочему (если он не является также собственником или предпринимателем). Но это же отрицание реализуемости социалистической организации труда, поскольку нельзя уничтожить частную собственность на средства производства, не устранив одновременно возможность вознаграждать работника в соответствии с вкладом его труда.
5. Производительность труда
Старые «распределительные» теории основывались на предположении, что нужно только все поделить поровну, чтобы обеспечить каждому если не богатство, то вполне комфортабельную жизнь. Идея казалась столь очевидной, что едва ли предпринимались попытки ее доказать. В начале социализм взял это предположение в целом и утверждал, что благосостояние для всех будет обеспечено равным распределением общественного дохода. Только когда критики привлекли внимание к тому факту, что равное распределение общественного дохода едва ли улучшит положение масс, они выдвинули предположение, что капиталистические методы производства ограничивают производительность труда и что социализм устранит эти ограничения и умножит производство настолько, что каждому будет обеспечен достойный уровень жизни. Не сумев опровергнуть утверждение либеральной школы, что при социализме падение производительности труда сделает нужду и нищету всеобщими, социалистические писатели начали распространять фантастические утверждения об ожидаемом росте производительности труда.
Каутский упоминает о двух способах увеличения производительности труда при переходе к социализму. Один — концентрация всего производства на лучших предприятиях и закрытие менее эффективных [168*]. Бесспорно, что это путь к увеличению производства. Но такое средство как раз наиболее эффективно в рамках меновой экономики. Конкуренция здесь безжалостно устраняет все менее доходные предприятия, и именно это ставится ей в упрек вовлеченными в конкуренцию. А в результате слабейшие предприятия требуют государственных субсидий, особых условий поставки и вообще всестороннего ограничения конкуренции. То, что стоящие на частнохозяйственной основе тресты широко пользуются предлагаемым Каутским средством в целях достижения наивысшей производительности труда, побуждает Каутского видеть в них предвестников социалистической революции. Но еще вопрос, будет ли социалистическое государство столь же настойчиво стремиться к повышению эффективности производства. Не предпочтет ли оно сохранить малорентабельные предприятия, чтобы избежать локальных проблем и затруднений? Частный предприниматель без лишних разговоров закрывает невыгодное предприятие; этим он принуждает работников сменить место жительства, а иногда и профессию. Конечно, это доставляет немало хлопот тем, кого касаются изменения, но в целом результаты благоприятны, поскольку оказывается возможным более дешевое снабжение рынка. Таким ли будет поведение социалистического государства? Не предпочтет ли оно, напротив, из политических соображений избежать локального недовольства? На большинстве государственных железных дорог все реформы такого рода тормозятся из-за попыток уберечь отдельные подразделения от ущерба, неизбежного при устранении излишних управленческих звеньев, излишних работников и электростанций. Даже армейское начальство столкнулось с парламентской оппозицией, когда из стратегических соображений было решено перевести гарнизон в другое место.
Свой второй способ обеспечения роста производства, а именно «экономию всякого рода», Каутский, по его же признанию, находит уже реализованным в современных трестах. Он особенно отмечает экономию материалов, транспортных расходов, сокращение затрат на рекламу и на связи с общественностью [169*]. Опыт показывает, что нигде нельзя встретить большей бесхозяйственности и расточительности в отношении труда и материалов всякого рода, чем на государственных предприятиях. В то же время именно частное предприятие побуждает своего владельца ради собственных интересов работать с величайшей экономией.
Конечно, социалистическое государство сэкономит все расходы на рекламу, все расходы коммивояжеров и агентов по продаже. Но более чем вероятно, что вся эта экономия будет существенно перекрыта за счет аппарата распределения. Военный опыт научил нас, сколь громоздок и дорог общественный аппарат распределения. Разве на деле издержки на карточное распределение хлеба, муки, сахара и других товаров были ниже, чем расходы на рекламу? Действительно ли гигантский аппарат, необходимый для осуществления карточного распределения, был дешевле, чем расходы на коммивояжеров и агентов по сбыту?
Социализм устранит розничных торговцев. Но на их месте он создаст центры распределения, которые не будут дешевле. Кооперативные склады используют не меньшее количество рабочих рук, чем современные магазины, и многие из них неконкурентоспособны до тех пор, пока правительство не дарует им освобождения от налогов.
Вообще говоря, недопустимо считать, что устранением каких-либо свойственных капиталистической экономике расходов можно обеспечить более высокую производительность труда в социалистическом обществе. Нужно сравнивать общие расходы и общие доходы обеих систем. Из того, что электромобиль не требует бензина, вовсе не следует, что он дешевле в эксплуатации, чем автомобиль с бензиновым двигателем.
Слабость аргументации Каутского очевидна, когда он утверждает, что «применением этих двух методов пролетарское государство сможет поднять производство на такой высокий уровень, что окажется возможным существенное увеличение заработков при одновременном сокращении рабочего времени». Это утверждение он и не пытается нигде доказывать. [170*]
Не лучше обстоит дело и с другими аргументами в пользу социалистической организации производства. Когда, например, доказывают, что при социализме каждый способный к труду будет обязан трудиться, они прискорбнейше заблуждаются относительно числа праздных людей в капиталистическом обществе. Напротив, можно утверждать, что при системе, которая не создает достаточных стимулов для преодоления тягостей труда, производительность труда неизбежно уменьшится. Но проблему производительности нельзя рассматривать только в рамках стационарных условий. Несравнимо важнее вопроса, увеличится ли производительность труда при переходе к социализму, вопрос, окажется ли при социализме возможным рост производительности труда и, следовательно, экономический прогресс. Это ведет нас к проблеме динамики.
Глава IX. Положение индивидуума при социализме
1. Отбор персонала и выбор профессии
Социалистическое общество представляет собой поразительное авторитарное сообщество, в котором приказывают и подчиняются. Именно это и обозначают слова «плановая экономика» и «устранение анархии производства». Устройство социалистического общества легче понять, если сравнить его с армией. Многие социалисты и в самом деле предпочитали говорить об «армии труда». Как в армии, так и при социализме каждый зависит от приказов высшего руководства. Каждый приписан к какому-либо месту. Каждый должен оставаться там до тех пор, пока это считают нужным. Можно сказать, что человек становится пешкой начальства. Он растет только когда его продвигают. Он падает после разжалования. Описывать эти условия было бы пустой тратой времени. Они знакомы каждому подданному бюрократического государства.
Очевидно, что в государстве такого типа все назначения на должность совершаются в соответствии с личной пригодностью. Каждый пост должен занимать наиболее подходящий для этого индивидуум, если, конечно, он не нужен для более ответственной работы в другом месте. Таков фундаментальный закон всех систематически упорядоченных авторитарных организаций — как государства китайских мандаринов, так и новейшей бюрократии.
Первая проблема, которая возникает при воплощении этого закона, — назначение на верховные посты. Есть два подхода к решению этой проблемы — монархическо-олигархический и демократический, но при этом возможно только одно решение — на основе харизмы. Верховные правители (или правитель) выбираются благодаря достоинствам, которые им дарованы Божьей милостью. Они обладают сверхчеловеческими силами и способностями, которые поднимают их высоко над прочими смертными. Выступить против них — это не только нарушить земной порядок, но и пренебречь волей Божьей. Такова основная идея теократии — клерикальной аристократии с «Божьим помазанником». Но такова же идеология большевистской диктатуры в России. Призванные историей к выполнению своей возвышенной задачи большевики выступают как представители всего человечества, как орудие исторической необходимости, как исполнители, которым выпало окончательное устроение мирового порядка. Сопротивление им — величайшее из преступлений, но к своим противниками они могут применять любые средства. Это просто старая аристократически-теократическая идея в новой оболочке.
Другой подход к решению проблемы — демократический. Демократия отдает все в руки большинства. Во главе общества — вождь или вожди, выбранные решением большинства. Но теория эта столь же харизматична. Только в этом случае благодать поровну дается всем без исключения. Каждый наделен ею. А глас народа является гласом Божьим. Это особенно отчетливо проявилось в «Городе Солнца» Томмазо Кампанеллы: народное собрание выбирает Правителя, который является также первосвященником, и имя его Метафизик [171*]. [156] В авторитарной идеологии демократия ценится не за свои общественные функции, а только как средство постижения Абсолюта [172*].
Согласно харизматическим воззрениям при назначении должностных лиц высшая власть наделяет их собственными достоинствами. Официальное назначение поднимает обычного смертного над уровнем масс. Он приобретает особый вес по сравнению с другими. Его ценность особенно велика во время выполнения им своих обязанностей. Недопустимы никакие сомнения в его достоинствах или способностях выполнять службу. Пост делает человека.
Если не учитывать апологетической ценности этих теорий, все они чисто формальны и ничего не говорят нам о том, как действительно осуществляется восхождение к высшей власти. Из них не узнаешь, пришла ли к власти данная династия или аристократия как счастливый победитель в войне. Они не дают представления о механизме партийной деятельности, который приводит к власти вождей демократии. Они ничего не сообщают о том, как действительно носители высшей власти осуществляют подбор должностных лиц из числа претендентов.
Но специальные правила для отбора должностных лиц должны существовать, поскольку без них способен обходиться только всеведущий правитель. Так как верховная власть не в силах делать все сама, то назначение на более низкие должности она делегирует подчиненным властям. Чтобы предотвратить их произвол, приходится вводить определенные ограничения. В результате отбор идет не по истинным способностям, а по соответствию неким нормам, по результатам экзаменационных испытаний, с учетом того, что кандидат обучался в определенной школе, что он несколько лет занимал подчиненную позицию и т. п. О такого рода методах может быть только одно мнение. Успешное ведение дела требует совсем иных качеств, чем успешная сдача экзаменов, даже если экзаменуют по предмету, прямо связанному с будущей работой. Тот, кто провел определенное время на подчиненной должности, еще долго будет чувствовать себя не на месте, став начальником. Неверно, что для того, чтобы выучиться командовать, надо научиться подчинятся. Возраст не заменяет способностей. Короче, система ущербна. Ее единственное оправдание в том, что ничего лучшего нет взамен.
Недавно были сделаны попытки привлечь на помощь методы экспериментальной психологии и физиологии, и многие ожидают от этого в высшей степени важных для социализма результатов. Нет сомнения, что при социализме нечто подобное медицинскому обследованию армейских призывников должно бы использоваться, но только в большем масштабе и с использованием более утонченных методов. Придется исследовать симулянтов, которые надеются под предлогом физических недостатков избежать тяжелой и неприятной работы, так же как и тех, кто претендует на неподходящую для их данных работу. Но самые горячие защитники таких методов едва ли могут претендовать на что-то большее, чем на минимальную корректировку одного из тяжелейших последствий бюрократизма. Для всех тех видов работ, которые требуют чего-то иного, кроме мышечной силы и хорошего развития органов чувств, эти методы вообще бесполезны.
2. Искусство и литература, наука и журналистика
Социалистическое общество — общество должностных лиц. Этим определяются как господствующий стиль жизни, так и мышление членов общества. В последние десятилетия по всей Европе расширялся слой людей, которые всегда ждут продвижения и зависят от «начальника», которые живут на фиксированное жалованье и потому не понимают зависимости между производством благ и удовлетворением собственных потребностей. Люди такого типа особенно распространены в Германии. Ими и определяется социально-психологический облик нашего времени.
Социализм не знает свободы выбора профессии. Каждый должен делать, что ему сказано, и отправляться, куда ведено. Все иное просто немыслимо. Позднее и в связи с иными вопросами мы обсудим, как это должно сказываться на производительности труда. Здесь нам следует обсудить положение при таких условиях искусства и науки, литературы и прессы.
При большевиках в России и в Венгрии художники, писатели и ученые, признанные специально для этого созданными инстанциями, освобождались от общей трудовой повинности и получали определенное жалованье. [157] Всех остальных принуждали к труду на общих основаниях, и они не получали никакой поддержки своей художественной или научной деятельности. Пресса была национализирована.
Таково простейшее решение проблемы, которое к тому же гармонирует с общей структурой социалистического общества. Бюрократизм распространился на сферу духа. Кто не нравится людям власти, не получает разрешения рисовать, лепить скульптуры или дирижировать оркестром. Его работы не публикуются и не исполняются. И даже в случае, когда решение не зависит напрямую от произвольного суждения хозяйственного руководства, а основывается на мнениях экспертных советов, суть дела не меняется. Напротив, экспертные советы, неизбежно заполненные пожилыми, хорошо устроенными специалистами, еще менее способны помогать росту молодых талантов, отличающихся своеобразием и, возможно, большим мастерством, чем члены советов. Даже если в выборе участвует весь народ, это не облегчит рост тех, кто имеет смелость отказаться от традиционной техники и принятых мнений. Такие методы отбора только плодят эпигонов.
В «Икарии» Кабе [158] публикуются только такие книги, которые нравятся республике (les ouvrages preferes) [159]. Писания досоциалистических времен подлежат рассмотрению: частично полезные будут переработаны, а те, что сочтены опасными или бесполезными, сожжены. Возражение, что это будет то же, что сделал Омар, сжегши Александрийскую библиотеку, Кабе считает несостоятельным. [160] Ибо, говорит он, «nous faisons en faveur de l'humanite ce que ces oppresseurs faisaient contre elle. Nous avons fait du feu pour bruler les mechants livres, tandis que des brigands ou des fanatiques allumaient les buchers pour bruler d'innocents heretiques» <«Мы делаем в пользу человечества то, что угнетатели делали ему во вред. Мы развели костры, чтобы сжечь дурные книги, тогда как разбойники или фанатики зажигали костры, чтобы сжечь невинных еретиков»> [173*]. При таком подходе невозможно решить проблему терпимости. За исключением чистых оппортунистов, каждый убежден в истинности своего мнения. Но если бы такое убеждение само по себе оправдывало нетерпимость, каждый имел бы право притеснять и преследовать любого, думающего иначе. [174*] В этих обстоятельствах призыв к терпимости исходил бы исключительно от слабых. Сила» влекла бы к проявлению нетерпимости. Между людьми должна быть постоянная война и вражда. Мирное сотрудничество делается невозможным. Либерализм требует терпимости к любому мнению именно потому, что он желает мира.
При капитализме перед художником и ученым открыты многие пути. Богатые люди могут следовать своим склонностям, небогатые — искать богатых покровителей, или работать в государственных учреждениях, или же попробовать жить продажей своих работ. Каждый из путей имеет свои опасности, в особенности два последних. Вполне может случиться так, что тот, кто несет или мог бы нести человечеству новые ценности, будет страдать от нужды и бедности. Но нет способов эффективно предотвратить такую возможность. Творческий дух — это дух новаторства. Он должен стремиться вперед, разрушать старое и заменять его новым. Невозможно облегчить ему тяжесть этой задачи; если бы удалось, он перестал бы быть первопроходцем. Прогресс нельзя организовать. [175*] Нетрудно увенчать лаврами гения, завершившего свои труды, с почестями захоронить его останки и в память его воздвигнуть монументы. Но невозможно сгладить гению путь к исполнению своего предназначения. Общество ничем не может помочь прогрессу. Если оно не обременило индивидуума цепями, если не поставило перед ним непреодолимых препятствий, оно сделало все, что можно ожидать от общества. Гений найдет путь для реализации своей свободы.
Национализация интеллектуальной жизни, неизбежная при социализме, должна сделать невозможным всякий интеллектуальный прогресс. Можно обмануться тем, что в России вошло в моду современное искусство. [162] Но эти новаторы начали работать еще до того, как Советы встали у руля. Будучи непризнанными ранее, они стали сотрудничать с Советами в надежде на признание со стороны нового режима. Большой вопрос, однако, смогут ли будущие новаторы сдвинуть их с завоеванных ныне позиций. [163]
В утопии Бебеля общество признает только физический труд. Искусству и наукам отведены только часы досуга. Благодаря этому, мыслит Бебель, общество будущего «будет располагать учеными и художниками всякого рода в неисчислимом множестве». В соответствии с личными склонностями они станут посвящать свой досуг исследованиям и художественному творчеству [176*]. Бебель позволил себе поддаться филистерскому недоброжелательству работников физического труда ко всем тем, кто не рубит лес и не носит воду. Для него все виды интеллектуального труда суть простые шалости. Это выясняется из того, что он ставит их в один ряд с «товарищеским общением». [177*] И все-таки нужно исследовать, мыслимо ли в этих условиях предоставить духовному труду ту свободу, без которой он не может существовать.
Очевидно, что все работы в области науки и искусства, которые требуют времени, путешествий, приобретения технического образования и значительных материальных расходов, будут исключены. Но мы предположим, что можно посвятить себя литературе или музыке после окончания дневных трудов. Далее мы предположим, что такая деятельность будет защищена от зловредного вмешательства со стороны хозяйственных руководителей, которые могли бы, например, переводить непопулярных авторов в отдаленные места, и что с помощью преданных друзей литератор или композитор может наскрести денег, чтобы заплатить государственной типографии за публикацию небольшого тиража. Таким способом он может даже преуспеть в издании небольшого периодического органа, а может быть даже в организации небольшого театра. [178*] Но все эти начинания должны будут выдерживать тяжелую конкуренцию с официальным субсидируемым искусством, а к тому же хозяйственные власти могут в любой момент прикрыть все дело. Не следует забывать, что во власти хозяйственных руководителей будет установление условий издания. Никакой цензор, император иди папа Римский никогда не обладали такой властью для подавления интеллектуальной свободы, как социалистическое общество.
3. Личная свобода
Принято считать, что при социализме индивидуум будет лишен свободы, а социалистическое общество станет тюремным государством. В этих выражениях содержится ценностный приговор, лежащий за пределами научного анализа. Наука не может решать, является ли свобода благом, злом или адиафорой. [165] Предметом исследования может быть только вопрос: в чем состоит свобода и где она пребывает?
Свобода есть понятие социологическое. Не имеет смысла применять его к ситуациям вне общественных связей, что легко видеть на примере путаницы, порождаемой знаменитым противоречием между свободой и волей. Жизнь человека зависит от природных условий, которые он не властен изменить. В этих рамках он живет и умирает, и поскольку они не подвластны его воле, он вынужден им подчиняться. С ними сообразуется все, что бы он ни делал. Траектория брошенного камня предписана законом природы. Когда человек ест и пьет, процессы в его организме также обусловлены природой. Наши представления о непоколебимых и не поддающихся воздействию законах природы — это попытка выразить зависимость хода событий в мире от определенных объективных отношений между явлениями. Эти законы господствуют над жизнью человека, они полностью охватывают его. Его желания и его действия мыслимы только в этих пределах. Нет свободы ни внутри природы, ни вопреки природе.
Общественная жизнь также является частью природы, и в рамках ее господствуют неизменные законы природы. Действие и результаты действия обусловлены этими законами. Если мы говорим, что свобода определяется волей человека и общественными условиями, то при этом вовсе не представляем человека независимым от законов природы: значение понятия свободы совершенно иное.
Здесь не идет речь о проблеме внутренней свободы. Мы исследуем проблему внешней свободы. Первая есть проблема происхождения волевых актов, вторая — проблема осуществления действий. Каждый человек зависит от поведения окружающих. Их действия влияют на него множеством способов. Если он вынужден допустить, чтобы с ним обращались как с существом, лишенным собственной воли, если он не может помешать тому, чтобы его желания попирались, он должен чувствовать одностороннюю зависимость от окружающих, и тогда он говорит, что он не свободен. Если он слабее, он вынужден приспосабливаться к насилию с их стороны.
В условиях сотрудничества эта односторонняя зависимость становится обоюдной. И до тех пор, пока каждый действует как член общества, он обязан приноравливаться к воле окружающих. При этом каждый зависит от других не больше, чем они зависят от него. Вот что мы понимаем под внешней свободой. Это положение индивидуума в рамках общественной необходимости, предполагающей, с одной стороны, ограничение свободы индивидуума в отношении к другим, а с другой — ограничение свободы других в отношении к нему.
Можно это пояснить примером. Наниматель при капитализме выглядит как обладатель большой власти над наемными работниками. Прием человека на работу, способ использования, размер оплаты, увольнение — все зависит от его решения. Но эта его свобода, так же как соответствующая несвобода других, — только видимость. Поведение нанимателя по отношению к наемным работникам есть только часть социального процесса. Если стиль его отношений с наемным работником не соответствует общественной оценке достоинств последнего, возникают последствия уже для нанимателя. Он, разумеется, может вести себя с наемным работником скверно, но при этом ему же и придется расплачиваться за свой произвол. Именно в этой мере наемный работник и является зависимым. Но эта зависимость не выше, чем зависимость каждого из нас от наших соседей. Ведь даже там, где законы строго исполняются, каждый, кто готов расплатиться за свое поведение, волен разбить нам окна или поколотить нас.
Строго говоря, при таком подходе совершенно произвольные социальные действия просто невозможны. Даже восточный деспот, который, как представляется, волен делать что угодно с жизнью захваченных врагов, должен учитывать результат собственных действий. Конечно, в различных ситуациях за удовольствие произвольного действия приходится платить по-разному. Никакие законы не защитят нас от людей, враждебность которых столь велика, что они готовы принять любые последствия своих действий. Но в целом, если законы достаточно строго карают за нарушение нашего спокойствия, мы чувствуем себя до известной степени независимыми от дурных намерений окружающих. Историческое смягчение уголовных законов следует приписать не улучшению нравов и не декадансу законодателей, но лишь тому, что люди приучились сдерживать себя, памятуя о последствиях, и это дало возможность смягчить наказания, не ослабляя их сдерживающей силы. Сегодня угроза краткосрочного тюремного заключения более эффективно сдерживает преступления против личности, чем некогда это делала виселица.
Там, где точные денежные расчеты дают возможность полностью учесть последствия действий, не остается места для произвола. Если мы позволим себе увлечься модными воздыханиями над бессердечием нашего времени, которое все переводит на язык шиллингов и пенсов, мы упустим из виду, что как раз эта увязка наших поступков с денежным доходом служит обществу наиболее сильным заслоном от произвола. Именно такого рода установления ставят потребителя, с одной стороны, и предпринимателя, капиталиста, землевладельца, рабочего, т. е. всех, работающих для удовлетворения рыночного спроса, — с другой, в зависимость от общественного сотрудничества. Только полная неспособность понять взаимность этих отношений может привести к вопросу о том, зависит ли должник от своего кредитора или кредитор от должника. На самом деле каждый здесь зависит от другого, и того же рода отношения существуют между продавцом и покупателем, нанимателем и работником. Принято сожалеть о том, что сегодня из деловой жизни изгнаны личные мотивы и всем правят деньги. На деле это сожаление о том, что в чисто экономической сфере деятельности нет места причудам и пристрастиям и действенны только те соображения, которых требует общественное сотрудничество.
В этом и состоит внешняя свобода человека — он независим от произвольной власти других. Такая свобода не входит в перечень естественных прав. Она возникает в ходе общественного развития и становится совершенной благодаря зрелому капитализму. Человек докапиталистических времен зависел от «доброго господина» и нуждался в его благорасположении. Капитализм не признает таких отношений. Он прекращает деление общества на деспотических властителей и бесправных рабов. Все отношения становятся материальными и безличными, они поддаются вычислению и предоставляют выбор. Капиталистический денежный расчет низводит свободу из области мечты в реальность.
Когда люди обретают свободу в чисто экономических сферах жизни, они начинают стремиться к ней повсюду. Одновременно с развитием капитализма вдут попытки изгнать из государственной жизни всякий произвол и все формы личной зависимости. Добиться юридического закрепления личных прав гражданина, максимально сузить возможности произвола со стороны должностных лиц — таковы цели движения за гражданскую свободу. Оно требует не благорасположения, но прав. И оно изначально признает, что для реализации этих требований необходимо как можно более жесткое ограничение возможности государства господствовать над индивидуумом. Свобода, с его точки зрения, есть свобода от государства.
Государство — аппарат насилия, обслуживающий правительство — не опасно для свободы только тогда, когда его действия подчинены ясным, однозначным, универсальным правилам или когда они следуют принципам, которые управляют всякой работой ради прибыли. Первая ситуация складывается, когда государство действует на базе законности, — ведь законы связывают судью и узко ограничивают его «игровое поле». Вторая ситуация возникает при капитализме, когда государство действует как предприниматель, подчиняясь тем же законам и сообразуясь с теми же условиями, что и другие предприниматели, работающие ради прибыли. За пределами этих двух вариантов невозможно защититься от произвольных действий государства ни законами, ни каким-либо иным способом; индивидуум беззащитен перед решениями должностных лиц. Он не может предусмотреть последствия своих действий, поскольку не знает, как к ним отнесутся те, от кого он зависит. Это и есть отрицание свободы.
Принято рассматривать проблему внешней свободы как проблему большей или меньшей зависимости индивидуума от общества [179*]. Но политическая свобода не есть вся свобода. Чтобы человек мог быть свободным, недостаточно иметь возможность делать что-либо безвредное для других и при этом не бояться помех со стороны правительства или общества. Нужно также иметь возможность действовать, не опасаясь непредвиденных социальных последствий. Только капитализм гарантирует эту свободу, открыто подчиняя все взаимные отношения холодному безличному принципу обмена — du ut des [166].
Обычно социалисты пытаются отвергнуть аргументы в пользу свободы утверждением, что при капитализме только собственник свободен. Пролетарий не свободен, поскольку он должен трудом поддерживать свое существование. Нельзя представить себе более непродуманного представления о свободе. Человек должен трудиться, поскольку его потребности выше, чем у диких животных, и это в природе вещей. Собственники могут жить, не подчиняясь этому правилу, благодаря доходу, извлекаемому ими из общественной организации труда без ущерба для кого-либо, в том числе и не имеющих собственности. Эти последние и сами получают выгоду от существующей общественной организации труда, поскольку сотрудничество делает труд более производительным. Только обеспечив дальнейшее увеличение производительности труда, социализм мог бы ослабить зависимость индивидуума от условий жизни. Если же он не может этого сделать, если он, напротив, уменьшает производительность труда, то тем самым он уменьшает и свободу человека от природы.
Глава X. Социализм в изменяющихся условиях
1. Природа динамических сил
Идея неизменности очень полезна для теоретического умозрения. Но в реальном мире не бывает неизменных состояний. Условия экономической деятельности изменяются непрерывно, и человек не может воспрепятствовать этим изменениям.
Воздействия, приводящие экономику в постоянное движение, могут быть подразделены на шесть больших групп. В первую очередь и как важнейшие должны быть выделены изменения в природном окружении. Здесь имеются в виду не только все изменения климата и других природных условий, которые происходят сами собой, помимо человеческой деятельности, но также и те изменения, которые порождаются человеком, такие, как истощение почвы, оскудение лесных или минеральных ресурсов. На втором месте находятся изменения в численности и составе населения, затем изменения в величине и распределении капитала, затем изменения в технике производства, затем изменения в общественной организации труда и наконец изменения спроса [180*].
Среди всех перечисленных причин изменений наиболее важна и фундаментальна первая. Предположим, что социалистическое общество окажется способным регулировать рост населения и спрос на товары, и таким образом устранит нарушения экономического равновесия, вызываемые этими факторами. В таком случае можно было бы не допустить изменений и других условий хозяйствования.
Но социалистическое общество никогда не сможет влиять на природные условия экономической деятельности. Природа не приспосабливается к человеку. Человек должен приспосабливаться к природе. Даже социалистическому обществу придется считаться с природными изменениями; ему придется учитывать последствия стихийных катастроф. Ему придется считаться с тем, что доступные природные ресурсы не бесконечны. Природные возмущения будут вторгаться в мирное течение его дел. Не в большей степени, чем капитализм, он может рассчитывать на неизменность.
2. Динамика населения
Наивному социалисту кажется, что в мире довольно всего, чтобы сделать каждого счастливым и удовлетворенным. Нехватка и дороговизна благ проистекают только из нелепого общественного устройства, которое, с одной стороны, ограничивает преумножение производительных сил, а с другой — в результате неравенства в распределении дает слишком много богатым и слишком мало беднякам. [181*]
Мальтусовский закон народонаселения и закон убывающей отдачи кладут конец этой иллюзии. Ceteris paribus [168], рост населения выше некоей определенной величины не сопровождаются пропорциональным ростом богатства: если эта точка пройдена, производство на душу населения начинает сокращаться. Достигло ли уже производство этой точки — частный вопрос, и не следует им подменять принципиальной постановки проблемы.
По отношению к этому рассуждению социалисты заняли разные позиции.
Некоторые просто отвергли его. На протяжении всего XIX века едва ли какой-либо другой автор подвергался таким нападкам, как Мальтус. Писания Маркса, Энгельса, Дюринга и многих других полны поношений «попа» Мальтуса [182*]. [169] Но они не опровергли его. Ныне дискуссию по поводу закона народонаселения можно считать закрытой. Закон убывающей отдачи сегодня никем не оспаривается; значит, нет нужды обращать внимание на тех авторов, которые либо отрицают, либо просто игнорируют это учение.
Другие социалисты верят, что можно развеять все сомнения ссылкой на беспримерный рост производительности, который будет иметь место после обобществления средств производства. Не станем обсуждать здесь реалистичность этой идеи; даже если так оно и будет, все-таки нужно считаться с тем, что в каждый данный момент существует некая оптимальная численность населения, превышение которой должно породить сокращение душевого производства. Если уж так хочется опровергнуть действенность законов народонаселения и убывающей отдачи, следует доказать, что каждый, рожденный сверх оптимальной численности населения, принесет с собой столь большой рост производительности труда, что душевое производство с его появлением не сократится.
Третья группа удовлетворяется тем соображением, что с распространением цивилизации и разумного образа жизни, с увеличением благосостояния и повышением жизненных притязаний рост населения замедляется. При этом они игнорируют тот факт, что рождаемость сокращается не в силу подъема уровня жизни, а из-за «моральных ограничений», и что стимулы к ограничению рождаемости исчезают в тот момент, когда семья перестает требовать самопожертвования, .так как заботу о детях берет на себя общество. Это в сущности та же самая ошибка, в которую впал Годвин [170], когда решил, что существует «закон человеческого общества», который ограничивает численность населения наличием средств существования. Мальтус выявил природу этого загадочного «закона». [183*]
Социалистическое общество невообразимо без принудительного регулирования роста населения. Социалистическое общество должно располагать властью предотвращать рост или сокращение населения сверх определенных границ. Оно должно стремиться к поддержанию населения на оптимальном, с точки зрения душевого производства уровне. Как и всякое иное общество, оно должно считать злом как перенаселенность, так и недонаселенность. А поскольку в нем не будут действовать те мотивы, которые в частнособственнических системах приводят в соответствие уровень рождаемости и доступность средств существования, государство будет вынуждено взять на себя регулирование этого дела. Не будем здесь обсуждать, как именно оно будет это делать. Не входит в нашу задачу и вопрос, будет ли социалистическое общество при проведении соответствующих мероприятий преследовать также цели евгеники и чистоты расы. Но вполне достоверно, что если социалистическое общество и сможет обеспечить «свободу любви», то уж никоим образом не «свободу деторождения». Право на существование каждого рожденного может быть обеспечено только при предотвращении нежелательных родов. В социалистическом обществе, как и в любом другом, будут те, для кого «на великом пиршестве природы не приготовлено места» и кому прикажут удалиться как можно скорее. Никакое негодование, которое способны возбудить эти слова Мальтуса, не изменит этого положения.
3. Изменения спроса
Принцип распределения потребительских благ в социалистическом обществе исключает свободные изменения спроса. Если бы были возможны экономические расчеты, а значит, хотя бы приблизительное определение расходов на производство, тогда в рамках выделенных ему единиц потребления индивидуум мог бы требовать то, что ему нравится. Каждый мог бы выбрать для себя наиболее желанное. При этом возможно, что в силу злонамеренности части директоров предприятий некоторые товары были бы оценены выше, чем следует. Либо на них отнесли бы непропорционально большую часть накладных расходов, либо цена оказалась бы завышенной из-за применения неэкономичных методов производства, но потребители не знали бы иного способа защиты, кроме политической антиправительственной агитации. При этом до тех пор, пока они пребывали бы в меньшинстве, им все равно не удалось бы ни улучшить методы производства, ни внести поправки в калькуляции. Но в любом случае то, что немалая доля факторов производства измерима и что благодаря этому вопрос может быть относительно отчетливо сформулирован, уже было бы для них поддержкой.
Но поскольку при социализме никакие такие калькуляции невозможны, все проблемы спроса должны быть оставлены на долю правительства. Граждане в целом смогут влиять на них так же, как на другие стороны правительственной политики. Индивидуум будет обладать соответствующим влиянием в той степени, в какой он участвует в формировании общей воли. Меньшинству придется склониться перед волей большинства. И система пропорционального представительства, которая по своей природе пригодна только для выборов и совершенно не годится для принятия конкретных решений, их не защитит.
Общая воля, т. е. воля тех, кто сумел оказаться у власти, возьмет на себя те функции, которые в свободной экономике выполняются спросом. Не индивидуум, а правительство будет решать, какие именно нужды являются наиболее настоятельными и в силу этого подлежат удовлетворению в первую очередь.
По этой причине спрос будет намного однообразней и гораздо менее изменчив, чем при капитализме. Силы, которые при капитализме постоянно изменяют спрос, при социализме будут отсутствовать. Как же смогут получить признание инновации, отклоняющиеся от традиционно принятых идей? Как смогут новаторы увлечь массы прочь от наезженной колеи? Захочет ли большинство отказаться от излюбленных обычаев своих предков ради чего-то лучшего, но пока еще неизвестного? При капитализме, где каждый индивидуум в рамках своих средств может формировать потребительскую корзину, достаточно убедить в преимуществе новых методов одного или нескольких. Остальные постепенно начнут следовать их примеру. Это постепенное принятие новых способов удовлетворения особенно облегчается фактом неравенства доходов. Богатые принимают новшество и привыкают к нему. Так устанавливается мода, которой следуют остальные. Как только богатые слои усвоили определенный образ жизни, у производителей появляется стимул улучшать методы производства, так что рано или поздно бедные получат возможность двигаться тем же путем. Таким образом роскошь способствует прогрессу. «О промышленном нововведении: сначала это каприз избранного, затем уже потребность публики и наконец часть необходимого. Ведь то, что считается роскошью сегодня, делается необходимостью завтра» [184*]. Роскошь прокладывает дорогу прогрессу: она развивает скрытые потребности и порождает в людях неудовлетворенность. Если моралисты, осуждающие роскошь, желают быть последовательными, им следовало бы проповедовать сравнительно бедную желаниями лесную жизнь дикарей как конечный идеал цивилизации.
4. Изменения величины капитала
Участвующие в производстве производительные блага рано или поздно изнашиваются. Это верно не только для тех благ, которые образуют оборотный капитал, но также и для тех, которые образуют постоянный капитал. Они также — рано или поздно -- окончательно потребляются в процессе производства. Чтобы сохранить капитал в том же размере или увеличить его, необходимы постоянные усилия тех, кто управляет производством. Необходимо заботиться, чтобы потребленные капитальные блага вовремя замещались, и создавался новый капитал. Капитал ведь не воспроизводит себя сам.
В совершенно неизменяемой экономической системе эта операция не требует особенного дара предвидения. Там, где все неизменно, не столь уж трудно установить, что именно утратило работоспособность и что нужно сделать для его замены. В условиях изменчивости все иначе. Здесь постоянно меняются как направление производства, так и используемые в нем процессы. Здесь не достаточно заменить отработавший свое завод или исчерпанный запас полуфабрикатов аналогичными благами: другие блага — лучшие по свойствам или по крайней мере лучше соответствующие новым условиям — должны занять их место либо обновление оборудования в одной отрасли производства должно быть ограничено, чтобы расширить за этот счет или создать заново другую отрасль. Такие сложные операции невозможно осуществлять, не прибегая к вычислениям. Калькуляция капитала невозможна без экономических расчетов. В итоге перед лицом одной из самых фундаментальных проблем экономической деятельности социалистическое общество, не располагающее средствами экономического расчета, должно оказаться совершенно беспомощным. При самом большом желании оно не сможет установить такое соотношение между производством и потреблением, чтобы ценность капитала по меньшей мере не убавлялась и чтобы потреблялось только то, что сверх этого.
Но помимо этой, самой по себе непреодолимой, проблемы, проведение рациональной экономической политики в социалистическом обществе встретит и другие трудности.
Как поддержание, так и накопление капитала требуют неких издержек. Нужно жертвовать удовлетворением сегодняшних потребностей ради большего удовлетворения, возможного в будущем. При капитализме жертвы приносят владельцы средств производства и те, кто ограничивает свое потребление, чтобы стать в будущем владельцем средств производства. Грядущее преимущество, о котором они пекутся, достается не только им. Они обязаны разделить его с теми, чей доход формируется трудом, поскольку, при прочих равных накопление капитала увеличивает предельную производительность труда, а следовательно, и заработную плату. Преимущества, порождаемые тем, что они живут по средствам (т. е. не проедают капитал) и сберегают (т. е. увеличивают капитал), являются для них достаточным стимулом продолжать в том же духе. И эти стимулы тем сильнее, чем полнее удовлетворены их насущные потребности. Ведь чем менее настоятельны сегодняшние потребности, которыми нужно пожертвовать ради будущего, тем легче приносить жертвы. При капитализме поддержание и накопление капитала есть одна из функций неравного распределения собственности и дохода.
При социализме поддержание и накопление капитала — задача организованного общества, государства. Цели рациональной политики те же, что и при капитализме. Преимущества будут одинаковы для всех членов общества; издержки также будут одинаковыми. Распоряжение капиталом будет принадлежать обществу: непосредственно — хозяйственным руководителям, в конечном итоге — всем гражданам. Им придется решать: производить ли больше инвестиционных или потребительских товаров; использовать ли более короткий производственный цикл, приносящий меньше продукта, или более длительный, но позволяющий произвести больше. Невозможно предсказать, как будут вырабатываться эти решения большинством. Гадать в данном случае бессмысленно. Обстоятельства принятия решений будут весьма отличны от тех, каковы при капитализме. При капитализме решение о необходимости сбережений принимают бережливые и процветающие люди. При социализме это будет заботой каждого, без различий, в том числе бездельников и мотов. Надо помнить также, что стимулов, в виде обещания большего благополучия завтра в обмен на сегодняшние сбережения, не будет. Значит, откроются двери для демагогии. Оппозиция всегда будет готова доказать, что необходимо больше выделить для немедленного потребления, а правительству будет трудно воздержаться от продления своей власти с помощью щедрых расходов. Apres nous le deluge [171] — старое правило правительств.
Знакомство с правительственным стилем капиталовложений не укрепляет надежду на бережливость будущего социалистического правительства. Как правило, новый капитал создается только за счет займов, т. е. за счет сбережений рядовых граждан. Крайне редко этот капитал накапливается из налоговых поступлений или из других источников государственных доходов. В то же время есть множество примеров того, как принадлежащие государству средства производства обесцениваются из-за того, что ради экономии текущих расходов проявлялась недостаточная забота об их сохранении.
Бесспорно, что правительства социалистических и полусоциалистических обществ нынешнего дня озабочены задачей ограничения потребления ради расходов, которые принято рассматривать как инвестиционные, нацеленные на образование нового капитала. Как советское правительство России, так и нацистское правительство Германии расходовали громадные средства на оборонную промышленность и на развитие импортзамещающих производств. Часть необходимых для этой цели капиталов была получена от иностранных займов, но большая часть — в результате ограничения внутреннего потребления и инвестиций в производство потребительских товаров. Считать ли, что такая политика ориентирована на сбережение и образование нового капитала, зависит от нашей оценки усилий по наращиванию военной мощи страны и обеспечению ее независимости от импорта товаров. Сам по себе тот факт, что потребление ограничено ради сооружения различного рода крупных заводов, не свидетельствует об образовании нового капитала. Этим заводам еще предстоит доказать в будущем, действительно ли они вносят вклад в улучшение снабжения теми товарами, которые необходимы для экономического развития страны.
5. Элемент изменений в социалистическом обществе
Из сказанного должно быть достаточно ясно, что социализм, как и любая другая система, не может знать совершенной стабильности. Это невозможно не только в силу непрерывных изменений природных условий производства; помимо этого, работают неустанно силы динамики, изменяя численность населения, спрос на товары и величину производительного капитала. Нельзя представить, что эти факторы перестали действовать. Нет нужды исследовать, действительно ли эти изменения приведут к изменениям в организации труда и в технике производства, ибо раз уж экономическая система не может достичь состояния совершенного равновесия, не имеет значения, будут ли необходимые инновации на деле внедрены в жизнь. Когда все бурно изменяется, все вообще является инновацией. Даже повторение прежнего — тоже инновация, потому что в новых условиях оно даст новые результаты. Последствия старого будут вполне новыми.
Но это ни в малой степени не означает признания социализма прогрессивной системой. Экономические изменения и экономический прогресс вовсе не одно и то же. Из того, что экономическая система не является стационарной, не следует, что она совершенствуется. Изменения в экономике становятся необходимыми в силу изменений условий экономической деятельности. Экономический прогресс, однако, является результатом только определенным образом направленных изменений, а именно тех, которые устремлены к цели всякой экономической деятельности — к наибольшему возможному богатству. Такая концепция прогресса вполне свободна от влияния субъективных суждений. Когда большее или то же самое число людей становятся лучше обеспеченными, тогда экономическая система прогрессирует. То, что из-за трудностей измерения ценности нельзя точно измерить степень прогресса и что никоим образом нельзя увериться, что прогресс делает человека более счастливым, — вопросы, которые нас здесь не заботят.
Есть много способов достижения прогресса. Может быть усовершенствована организация труда. Может быть сделана более эффективной техника производства. Может возрасти величина капитала. Короче, многие пути ведут к этой цели. [185*] Сможет ли социалистическое общество воспользоваться ими?
Допустим, что оно доверит управление производством наиболее подходящим людям. Но как они, при всем их таланте, смогут действовать рационально, если не будут иметь возможности считать, делать расчеты? Из-за одного этого социализм обречен на гибель.
6. Спекуляция
В любой экономической системе, пребывающей в процессе изменений, вся экономическая деятельность ориентируется на будущее, которое точно не предопределено. А значит, она связана с риском. Она по необходимости спекулятивна.
Подавляющее большинство людей, не умеющих организовать успешную спекуляцию, а также социалистические авторы всех мыслимых оттенков говорят о спекуляции очень дурно. Литератор и бюрократ, одинаково чуждые атмосфере деловой активности, переполняются завистью и гневом, когда думают о богатых спекулянтах и удачливых предпринимателях. Их негодованию мы обязаны тем, что многие экономисты положили массу трудов, чтобы ввести неуловимые различия между спекуляцией, с одной стороны, и «законной торговлей», «создающим ценности производством» и т. п. — с другой. [186*] На самом деле всякая экономическая деятельность за пределами стационарных условий есть спекуляция. Между работой скромного ремесленника, который обещает в течение недели изготовить пару обуви по заранее оговоренной цене, и разработкой угольной шахты, которая лишь годы спустя начнет поставку, различие лишь в мере. Даже те, кто вкладывает деньги в золотообрезные ценные бумаги [173], приносящие фиксированный процент, предаются спекуляции независимо от надежности будущего дохода. Они покупают деньги с поставкой в будущем, так же как спекулянты хлопком покупают его с отсроченной поставкой. [174] Экономическая деятельность спекулятивна по необходимости, ибо основана всегда на неопределенном будущем. Спекуляция представляет собой связь между изолированными экономическими действиями и экономической деятельностью общества в целом.
Принято приписывать пресловутую неэффективность правительственных предприятий тому, что занятые там не заинтересованы в достаточной степени в результатах собственного труда. Если бы было возможно просветить каждого гражданина настолько, чтобы он осознал связь между собственным трудом и общественным доходом, часть которого принадлежит ему, если бы его характер можно было изменить настолько, чтобы он никогда не поддавался лени, тогда правительственные начинания оказались бы не менее производительными, чем частные. В результате проблема обобществления превращается в этическую проблему. Чтобы социализм стал возможен, нужно всего лишь вырвать людей из состояния невежества и аморальности, куда их погрузила ужасная эпоха капитализма. Пока этого достичь не удалось, необходимо использовать все формы поощрений, чтобы сделать людей более усердными.
Уже было показано, что при социализме производительность труда должна упасть из-за отсутствия адекватных стимулов, которые могли бы подтолкнуть индивидуума к преодолению тягостности труда. Эта проблема неизбежна даже при неизменных условиях. В условиях динамики возникает другая проблема — спекуляции.
В системе с частной собственностью на средства производства спекулянт в высшей степени заинтересован в результатах спекуляции. В случае успеха это в первую очередь его успех. В случае неудачи это его убытки. Спекулянт трудится для общества, но на нем лично успех или неудача отзывается неизмеримо сильнее, чем на обществе в целом. Вес прибыли или убытка относительно его средств много выше, чем относительно средств общества. Чем успешнее спекуляция, тем больше средств производства в его распоряжении, тем больше его влияние на дела общества. Чем менее успешны спекуляции, тем меньше его собственность, тем меньше влияние на дела. Если в результате спекуляции он теряет все состояние, он совершенно исчезает из списка тех, кто призван к руководству делами общества.
При социализме все иначе. Здесь руководитель отрасли заинтересован в прибылях и убытках ровно столько же, как и любой из миллионов граждан, — пропорционально своей доле в общественном богатстве. От его действий зависит судьба всего. Он -может привести страну к расцвету. Он же может ввергнуть ее в нужду и нищету. Его гений может обеспечить процветание своему народу. Его неспособность или безразличие могут привести народ к разрушению и упадку. В его руках, как в руках Бога, и богатство, и нищета. Он должен знать все, имеющее значение для общества. Его суждения должны быть безошибочными; он должен обладать способностью правильно оценивать условия отдаленного прошлого и будущих веков.
Неоспоримо, что для торжества социализма управление земными делами должно взять в руки всеведущее и всесильное божество. Пока этого не случилось, не стоит ждать, что люди с готовностью даруют эту роль кому-либо из своих рядов. Всем реформистам следует учитывать тот фундаментальный для общественной жизни факт, что у каждого человека свой разум и своя воля. Не приходится ожидать, что люди неожиданно, по собственной доброй воле, навсегда превратятся в пассивные орудия кого-либо одного из них, даже если он будет самым мудрым и самым лучшим.
До тех пор, пока передача управления всеми делами в руки одного человека исключена, нужно прибегать к решениям большинства в комитетах, на генеральных ассамблеях и как последнее средство -- большинства всего голосующего населения. Но здесь возникает опасность, которая всегда навлекает беду на коллективистские начинания, — упадок инициативы и чувства ответственности. Инновации не проходят, потому что нельзя добиться соответствующего одобрения у правящего большинства.
Положение вещей не улучшится, если из-за невозможности возложить все решения на отдельного человека или единственный комитет делегировать их бесчисленным подкомитетам. Все такие подкомитеты будут уполномоченными высшей власти, что неизбежно в силу самой природы социализма как экономической системы, работающей по единому плану. Они непременно будут связаны инструкциями верховной власти, а это само по себе плодит безответственность.
Всем известно, как выглядит аппарат социалистического управления: бессчетное множество чиновников, каждый из которых ревностно защищает свое положение, свою сферу деятельности от вмешательства других и в то же время ожесточенно старается спихнуть ответственность на кого-либо другого.
При всей своей официозности такая бюрократия дает классический пример бездеятельности. При отсутствии внешних стимулов ничто не шелохнется. К национализированным предприятиям, существующим в среде преимущественно частной промышленности, все стимулы к улучшению производства приходят от тех предпринимателей, которые рассчитывают извлечь прибыль как поставщики полуфабрикатов и машин. Руководители общественных предприятий обновляют производство, если вообще обновляют, крайне редко. Они ограничиваются имитацией того, что происходит на аналогичных частных предприятиях. И если национализировать все предприятия, вы вряд ли услышите хоть слово об улучшениях и реформах.
7. Акционерные компании и социалистическая экономика
Одно из важных заблуждений социализма состоит в убеждении, что акционерные компании представляют собой предварительную стадию социализма. При этом ссылаются на то, что руководители акционерных компаний не являются владельцами средств производства и тем не менее предприятия под их руководством процветают. Если функцию владельца будет исполнять вместо акционеров общество, положение вещей не изменится. Директора компаний не будут работать на общество хуже, чем на акционеров.
Представление, что в акционерной компании функцию предпринимательства несут лишь акционеры, а все органы управления компанией действуют только как наемные служащие акционеров, пропитывает также юридическую науку. Была даже попытка положить его в основу правового регулирования акционерных компаний. Это представление ответственно за фальсификацию деловых идей, на которых базировалось создание акционерных компаний, за то, что поныне не найдена юридическая форма, которая бы позволила акционерным обществам работать без трений, и за то, что система компаний повсюду страдает от тяжких злоупотреблений.
На самом деле нет и никогда не было акционерных компаний, которые бы соответствовали идеалу, созданному этатистски ориентированными юристами. Успех всегда сопутствовал только тем компаниям, директора которых были лично заинтересованы в их процветании. Жизненная сила и эффективность акционерных обществ лежат в партнерстве между менеджерами, имеющими власть распоряжаться хотя бы частью акционерного капитала, и остальными акционерами. Только когда директора заинтересованы в процветании компании так же, как всякий собственник, только когда их интерес совпадает с интересом держателей акций, тогда дело ведется в интересах акционерного общества. Когда же интересы директоров отличны от интересов части, или большинства, или даже всех акционеров, дело ведется в направлении, противоположном интересам компании. Во всех акционерных компаниях, еще не задушенных бюрократизмом, те, кто обладает реальной властью, всегда ведут дело в собственных интересах независимо от того, совпадают ли они с интересами акционеров или нет. Необходимой предпосылкой процветания компаний является выделение большой доли прибылей предприятия тем, кто им реально управляет, чтобы для них была чувствительна всякая неудача предприятия. Во всех процветающих акционерных компаниях такие люди независимо от их легального статуса оказывают решающее влияние на ход дел. Акционерные компании обязаны успехом не тому главному управляющему, который напоминает по стилю мышления государственного чиновника, да зачастую и является бывшим государственным чиновником, важнейшее качество которого — умение строить хорошие отношения с власть имущими. Основа успеха — менеджер, который заинтересован в деле как акционер, сочетает качества основателя дела и его движущей силы. Такие люди приносят успех акционерным компаниям.
Социалистическо-этатистская теория, конечно, не признает этого. Она норовит загнать акционерные компании в такую юридическую форму, которая их иссушит. Она отказывается видеть в руководителях компаний что-либо иное, кроме должностных лиц, ибо этатисты склонны видеть мир населенным исключительно чиновниками. Этатизм вместе с организованными в профсоюзы служащими и рабочими с негодованием борется против больших окладов менеджеров, как будто бы прибыли предприятий возникают сами собой и уменьшаются на величину жалованья должностным лицам. Наконец, эта теория оборачивается против акционеров. Новейшая доктрина «в свете развития представлений о честной игре» не считает определяющими интересы акционеров. Предпочтение отдается «интересам и благополучию предприятия, а именно его экономической, юридической и социологической устойчивой самоценности и его независимости от изменчивого большинства изменчивых акционеров». Для администрации компаний хотят создать такие формы власти, при которых они стали бы независимыми от воли тех, кто предоставил большую часть акционерного капитала [187*].
То, что главная роль в управлении успешными акционерными обществами принадлежит мотивам альтруизма или чему-то в этом роде, — басня. Попытки построить правовое регулирование акционерных компаний на основе иллюзорного идеала этатистской хозяйственной политики не сумели все же превратить акционерные общества в кусочек столь желанной «управляемой экономики»; тем не менее они сумели причинить вред акционерной форме предприятия.
Глава XI. Нереализуемость социализма
1. Фундаментальные проблемы социалистической экономики в изменяющихся условиях
Выше мы уже показали трудности, возникающие при создании социалистического порядка в экономике. В социалистическом обществе невозможен экономический расчет, а значит, нельзя быть уверенным в величине издержек и прибыли или использовать калькуляции для контроля операций. Одного этого достаточно, чтобы считать социализм нереализуемым. Но существует и другая неразрешимая трудность на пути социализма. Невозможно найти такую организационную форму, при которой экономические действия индивидуума, не зависящие от сотрудничества с другими гражданами, не сделали бы пустышкой его ответственность за риск. Таковы две проблемы, и пока они не решены, создание социализма представляется невозможным, разве что в виде совершенно неизменного общества.
Этим фундаментальным вопросам до сих пор уделялось слишком мало внимания. Первый почти полностью игнорировался, поскольку трудно было отрешиться от идеи использовать рабочее время как надежный измеритель ценности. И даже многие из тех, кто осознает несостоятельность трудовой теории ценности, продолжают верить в возможность измерения ценности. Это доказывается многочисленными попытками открыть масштаб ценности. Необходимо было осознать истинную природу отношений обмена, выражающуюся в рыночных ценах, чтобы прийти к пониманию проблемы экономического расчета.
Существование этой важной проблемы могло быть открыто только методами современной субъективной теории ценности. В повседневной жизни, где экономика хотя и сползает к социализму, но все еще не стоит полностью на социалистической почве, проблема не представляется столь настоятельной, чтобы привлечь общее внимание.
Со второй проблемой все было иначе. По мере расширения социализированного сектора все больше внимания уделялось скверным деловым результатам национализированной и муниципализированной промышленности. Источник трудностей способен заметить и ребенок. Так что нельзя сказать, что эта проблема осталась в тени. Но подходы к ее решению были плачевно неадекватными. Ее органическая связь с природой социалистического предприятия была истолкована просто как проблема подбора служащих. Не было понято то, что даже самые одаренные, с наилучшими волевыми данными люди не в силах преодолеть проблемы, создаваемые социалистическим управлением в промышленности.
2. Попытки решения
Для большинства социалистов понимание этих проблем затруднено не только их приверженностью трудовой теории ценности, но и всем представлением о природе экономической деятельности. Они не в силах осознать неизбежность постоянных изменений производства: их концепции социалистического общества всегда статичны. В своей критике капитализма они не упускают экономического прогресса и ярко изображают те трения, которые возникают в результате изменений в экономике. Но похоже, что для них не только трения, но и сами изменения есть исключительное свойство капитализма. В блаженном царстве будущего все будет развиваться вне движения или без трения.
Лучше всего это видно на примере изображений предпринимателя в социалистической литературе. Очевидно же, что в центре любого анализа капиталистического порядка должен быть не капитал и не капиталист, а предприниматель. Но социализм, в том числе марксистский социализм, видит в предпринимателе нечто чужеродное процессу производства: его единственная забота — присвоение прибавочной стоимости. Достаточно экспроприировать этих паразитов, чтобы возникло социалистическое общество. Перед Марксом и в еще большей степени перед многими другими социалистами витают воспоминания об освобождении крестьян и уничтожении рабства. Но все они не могли понять, что положение феодального лорда совсем не то же, что положение предпринимателя. Феодальный властитель не влиял на производство. Он стоял вне процесса производства, и только когда все заканчивалось, появлялся с требованием своей доли дохода. Но там, где помещик и рабовладелец руководили производством, они сохранили положение и после уничтожения рабства и крепостного права. Их действительные экономические функции не изменились оттого, что работники получили право на полный продукт труда. Ведь предприниматель выполняет функции, которые сохранятся даже в социалистическом обществе. Этого социалисты не видят или отказываются видеть.
Характерное для социалистов непонимание предпринимательства вырождается в идиосинкразию к спекуляции. Даже Маркс, невзирая на все свои хорошие намерения, в этом вопросе движется «мелкобуржуазным» фарватером, а последователи еще и превзошли его. Все социалисты просмотрели тот факт, что даже в социалистическом обществе каждому экономическому действию противостоит неопределенность будущего и что его экономические последствия не ясны, даже если оно технически вполне успешно. В неопределенности, которая ведет к спекуляции, они видят лишь последствия анархии производства, тогда как на деле это результат изменчивости экономических обстоятельств.
Множество людей не способно осознать, что в экономической жизни постоянны только изменения. Существующий порядок вещей рассматривается как вечный: как было, так и должно остаться. Но если даже они могли бы усвоить, что πάντα ρει [175], они все равно были бы беспомощны перед встающими проблемами. Предвидеть и действовать с расчетом на будущее, следовать новыми путями — всегда дело немногих, лидеров. Социализм — это экономическая политика толпы, масс, лишенных понимания природы экономической деятельности. Социалистическая теория есть результат их подхода к экономическим вопросам. Она создана и поддерживается теми, для кого экономическая жизнь враждебна, кто не понимает ее.
Среди .социалистов только Сен-Симон понимал до некоторой степени место предпринимателей в капиталистической экономике. В результате ему часто отказывают в праве числиться социалистом. Остальные совершенно не могли понять, что и в социалистическом обществе сохранится необходимость в функции, которую выполняют предприниматели в капиталистическом обществе. Особенно отчетливо это отражено в работах Ленина. По Ленину, труд, который при капитализме выполняют все те, кому он отказывает в праве называться «трудящимися», может быть сведен к «контролю над производством и распределением» и «учету труда и продукции». Эти операции легко могут быть выполнены «вооруженными рабочими, поголовно вооруженным народом» [188*]. Ленин вполне оправданно отделяет эти функции, выполняемые «капиталистами и чиновниками», от труда технически подготовленного высшего персонала, не упустив при этом возможности выказать презрение к научно подготовленным работникам, столь характерное для марксистско-пролетарского снобизма. [176] «Учет... контроль... — говорит он, — упрощен капитализмом до чрезвычайности, до необыкновенно простых, всякому грамотному человеку доступных операций наблюдения и записи, знания четырех действий арифметики и выдачи соответственных расписок» [189*]. Значит, можно устроить так, чтобы каждый член общества выполнял эти операции самостоятельно [190*]. Этим полностью исчерпывается все, что Ленин имел сообщить об этой проблеме, и никакой другой социалист не может этого дополнить. Их представление об основах экономической жизни такое же, как у мальчика-рассыльного, для которого вся работа предпринимателя — в умении покрывать поверхность бумаги буквами и цифрами.
Именно по этой причине Ленину не удалось осознать причины полного провала своей политики. Его интеллектуальный и житейский опыт всегда был столь далек от экономической жизни, что труд буржуазии остался для него столь же чуждым и непонятным, как для готтентота работа путешественника, определяющего географические координаты местности. Когда он увидел, что его политика забуксовала, он принял решение не полагаться более на «вооруженных рабочих» как на инструмент принуждения «буржуазных» специалистов к сотрудничеству;
вместо этого было решено предложить им «высокое вознаграждение» на «короткий переходный период», чтобы они смогли наладить социалистическое хозяйство и тем самым сделать самих себя более не нужными. Он даже полагал возможным сделать все это за год [191*].
Те социалисты, которые не представляли себе социалистическое общество как сильно централизованную организацию, в отличие от своих более проницательных и, конечно, много более последовательных собратьев полагали, что все проблемы управления промышленностью могут быть разрешены за счет демократизации управления предприятиями. Они полагали, что отдельные предприятия могут получить известную свободу и независимость в ведении собственных дел без угрозы для унификации и разумной координации производства. Если поставить каждое предприятие под контроль рабочих комитетов, никаких трудностей быть не может. Здесь мы находим целый букет ошибок и заблуждений. Проблемы управления экономикой намного менее существенны в отношении отдельного предприятия, чем в отношении согласования работы предприятия с экономикой в целом. Речь идет о закрытии, расширении, сокращении и перестройке предприятий, об организации новых производств, но это все вопросы, которые никогда не могут быть решены рабочими отдельного предприятия. Проблемы управления промышленностью далеко выходят за рамки вопроса об управлении отдельным предприятием.
Государственный и муниципальный социализм дал множество пренеприятных доказательств того, сколь необходимо пристальное внимание к управлению экономикой. Но этатисты в целом трактовали эту проблему столь же неадекватно, как и русские большевики. Общее мнение усматривает главный недостаток обобществленных предприятий в отсутствии «делового» стиля руководства. Разумное толкование этого модного диагноза могло бы помочь правильно понять проблему. На предприятиях коммунального сектора отсутствует дух предпринимательства и главная проблема социализма — создать что-либо взамен. Но толкуется этот диагноз совсем не так. Распространенное понимание есть характерный продукт бюрократического сознания, т. е. сознания людей, для которых все виды человеческой деятельности представляют собой выполнение формальных служебных и профессиональных обязанностей. Чиновничество классифицирует все виды деятельности по тому, какую проверку должен пройти человек и сколько лет прослужить, чтобы занять соответствующую должность. «Подготовка» и «служебный стаж» суть единственные критерии, которыми определяется пригодность чиновника к «месту». Если деятельность какого-либо служебного органа представляется неудовлетворительной, возможно только одно объяснение: у должностных лиц не было соответствующей подготовки, и в будущем назначения нужно делать иначе. В сущности предлагается, чтобы будущие кандидаты имели другую подготовку. Если бы только руководители предприятий общественного сектора имели опыт «дела» в смысле бизнеса, управление было бы более деловым. Но для чиновника, которому чужд сам дух капиталистического предпринимательства, это означает лишь формальное освоение деловых приемов: скорость ответа на запросы, внедрение новых видов вспомогательных технических средств — пишущих и копировальных машин и т.п., устранение ненужного дублирования и пр. Таким путем «дух предпринимательства» и проникает на предприятия общественного сектора. А после все бывают изумлены полным провалом подобного «делового» человека, терпящего неудачу еще более сокрушительную, чем его предшественник — всесторонне осмеянный чиновник государственной администрации, у которого было по крайней мере преимущество в формальной подготовке.
Нетрудно показать ошибочность этих идей. Свойства делового человека нельзя отделить от позиции предпринимателя в капиталистическом мире. Врожденными могут быть только качества ума и характера, существенные для предпринимательства, но не сама «деловитость». Точно так же обстоит дело с навыками, Которые могут быть получены благодаря учебе. Необходимые бизнесмену знания и навыки можно и преподавать, и изучать. Но деловым человеком становятся не потому, что проводят ряд лет в коммерческом учебном заведении, выучивают бухгалтерский учет и усваивают жаргон коммерсантов; бесполезно здесь также освоение машинописи, стенографии или иностранных языков. Все это необходимо для приказчика, клерка. Но клерк не является бизнесменом, хотя в обыденной речи его и могут назвать «подготовленный бизнесмен».
Когда все эти очевидные истины были осознаны, был проведен эксперимент: управление общественными предприятиями было доверено предпринимателям, которым всегда ранее сопутствовал успех. Результаты оказались плачевными. Выяснилось даже, что новые управляющие не только не лучше старых, но и что им недостает столь свойственного опытным чиновникам понимания формального порядка. Причины неудачи очевидны. Предприниматель, отчужденный от столь характерной для него роли в хозяйственной жизни, перестает быть бизнесменом. Сколь бы ни были велики его знания и опыт, он теперь не более чем должностное лицо.
Столь же бесполезны попытки решить проблему с помощью новых методов вознаграждения. Принято думать, что, если бы управляющие общественных предприятий лучше оплачивались, возникла бы конкуренция за эти посты и стало бы возможным отбирать лучших. Многие идут еще дальше, полагая, что трудности можно разрешить, предоставив управляющим долю в прибылях. Показательно, что эти предложения едва ли когда-нибудь пытались внедрить, хотя они выглядят вполне практичными, пока общественные предприятия существуют наряду с частными и пока возможность экономического расчета позволяет точно определять успешность общественных предприятий (что невыполнимо при социализме). Но дело не столько в доле менеджера в прибылях предприятия, сколько в его доле в убытках, возникающих в ходе его деловых операций. Если оставить в стороне моральную ответственность, менеджер общественного предприятия, не владеющий собственностью, может отвечать лишь за сравнительно небольшую часть убытков. Обеспечить участие в прибылях тому, кто безразличен к убыткам, — это стимулировать несерьезное отношение к делу. Таков опыт не только общественных предприятий, но также и тех частных начинаний, в которых сравнительно небогатым менеджерам предоставляли право участия в прибылях.
Верить в то, что социалистические преобразования приведут в итоге к моральному очищению человечества и, по расчету социалистов, все само устроится как надо, — значит просто уклоняться от решения проблемы. Не будем обсуждать вопрос, действительно ли социализм принесет с собой все обещаемые нравственные результаты. Проблемы, которые нас здесь занимают, имеют своей причиной вовсе не моральные недостатки человечества. Эти проблемы порождаются самой логикой воли и действия, которые будут возникать всегда и везде.
3. Единственное решение — капитализм
Невзирая на то, что до сих пор все попытки социалистов найти выход из тупика этих проблем проваливались, попробуем наметить пути, на которых эти проблемы могут быть разрешены. Только в результате такой попытки мы можем прояснить свет на вопрос, возможно ли такое решение в рамках социалистической организации общества.
Первым необходимым шагом должно быть выделение в социалистическом обществе тех, кому следует доверить управление определенными отраслями. До тех пор, пока социалистическая промышленность управляется из единого центра, который всем распоряжается и за все несет ответственность, решение проблемы недостижимо, поскольку вне центра все остаются простыми инструментами, не имеющими собственной сферы независимой деятельности и, значит, не знающими никакой ответственности. Мы же должны стремиться к возможности не только надзирать и управлять производством в целом, но и оценивать по отдельности результаты частей всего производственного процесса, осуществляемых в более узком пространстве.
По крайней мере в этом отношении наш мысленный эксперимент движется параллельно всем прошлым попыткам решения проблемы. Каждому ясно, что цели можно достичь, только если ответственность выстраивается с самого низа. Значит, нам следует начать с отдельного производства или части его. Не столь уж важно, как велика выбранная нами производственная единица, поскольку мы можем использовать еще раз найденный нами способ деления слишком крупных единиц. Гораздо важнее вопроса, где и как часто следует проводить такое членение, другой: как, несмотря на разложение производства на части, мы можем сохранить единство совместной деятельности, без которого общественное хозяйство невозможно.
Итак, мы предполагаем, что социалистический производственный аппарат разделен на любое число частей, каждая из которых отдана под начало отдельного менеджера, управляющего. Каждый менеджер наделен полной ответственностью за свои действия. Это означает, что ему идет прибыль или очень значительная часть прибыли; в то же время на него ложится значительная часть убытков, если только общество не возьмет на себя восстановление средств производства, которые он расточит в результате дурного управления. Если же он промотает все доверенные ему средства производства, он потеряет пост менеджера и вернется в ряды простых людей.
Если эта персональная ответственность управляющего не просто слова, тогда его операции должны быть четко отделены от операций других управляющих. Все, что он получает от других подразделений в виде материалов или полуфабрикатов для дальнейшей обработки, а также все работы, которые выполнят в его подразделении, будут отнесены на его дебет; все, что он выпускает на сторону — в другие подразделения или для конечного потребления, будет занесено в его кредит. Необходимо, однако, чтобы у него была свобода решать, какие именно машины, материалы, полуфабрикаты и работники нужны ему в его подразделении и что именно он будет здесь производить. Если ему не предоставят этой свободы, на него нельзя возлагать никакой ответственности. Ведь не его вина, если по распоряжению начальства он произвел нечто, на что при существующих условиях нет спроса, или если ему поставили некондиционные материалы, или, что то же самое, поставленное было чрезмерно дорогим. В первом случае неудачи подразделения следует списать на распоряжения начальства, в последнем — на поведение поставщиков. Но общество должно иметь те же права, что и управляющий подразделения. Это означает, что оно берет произведенное им только в случае надобности и только по самой низкой цене, а за поставленную рабочую силу получает наивысшую возможную плату: т. е. оно предоставляет рабочую силу тому, кто больше заплатит.
Теперь в отношении к производству общество распадается на три группы. Одна — высшее экономическое начальство. Ее функция — надзирать исключительно за упорядоченностью процесса производства в целом, тогда как за ведение частных процессов полностью отвечают управляющие подразделений. Третья группа — граждане, которые не относятся ни к высшему начальству, ни к управляющим подразделений. Между этими двумя группами расположена особая группа управляющих подразделений. При введении режима они получили от общества часть средств производства, за которые им не пришлось платить, и продолжают получать рабочую силу, формируемую из членов третьей группы, которая достается тем, кто платит больше. Высшее начальство, которое должно начислить на счет каждого члена третьей группы все, что тот заработал на производстве, или, если он работал в аппарате высшего управления, все, что положено ему за этот труд, распределит затем потребительские блага среди граждан всех трех групп. Прибыль перечисляют управляющим подразделений, которые поставили товары. При таком устройстве общества управляющий сможет полностью отвечать за свои операции. Сфера его ответственности резко отделена от того, за что должны отвечать другие. Здесь мы уже не имеем дела с общими результатами экономической деятельности всего общества, в которых вклады индивидуумов неразличимы. «Производственный вклад» каждого отдельного управляющего открыт для отдельной оценки, так же как и вклад любого отдельного гражданина в каждой из трех групп.
Ясно, что управляющим подразделений следует позволить расширять или сокращать свое подразделение, а также изменять профиль его деятельности в зависимости от спроса на потребительском рынке. Следовательно, они должны иметь возможность продавать находящиеся в их распоряжении средства производства, которые с большей настоятельностью необходимы где-то еще, этим другим подразделениям; и они должны быть в состоянии просить за них столь много, сколько можно получить при существующих условиях...
Нет нужды продолжать анализ дальше. Ибо перед нами капиталистическое устройство общества — единственная форма организации экономики, при которой возможно непосредственное применение принципа личной ответственности каждого гражданина. Капитализм и есть та форма общественного хозяйства, в которой устраняются все вышеописанные недостатки социалистической системы.
Раздел II. Внешние отношения социалистического общества
Глава XII. Национальный и мировой социализм
1. Пространственная протяженность социалистического общества
Ранний социализм отмечен тяготением к более простым формам производства примитивных эпох. Его идеал — самодостаточная деревня или, подымаясь выше, самодовлеющая область — городок, окруженный несколькими деревнями. Враждебные ко всем видам торговли и коммерции, ранние социалисты рассматривали внешнюю торговлю как совершенное зло, подлежащее устранению. С помощью внешней торговли в страну попадают товары, не являющиеся предметом необходимости. Поскольку некогда люди обходились без них, значит, они были излишними, и только чрезмерная легкость их приобретения является причиной необязательных расходов. Иностранная торговля подрывает нравственность и распространяет чуждые идеи и обычаи. В Утопии стоический идеал самообладания преобразовался в экономический идеал самодостаточности. Плутарха восхищало в Ликурговой Спарте, которую в его дни воспринимали романтически, то, что ни одно купеческое судно никогда не заходило в ее гавани [192*]. [177]
Эта приверженность идеалу самодостаточности и полная неспособность понять природу торговли и коммерции не дали утопистам распознать проблему территориальных пределов идеального государства. Вопрос: должны ли границы сказочной страны быть пространными? — даже не рассматривался. В самой маленькой деревне довольно места для реализации их планов. Такой подход открывал возможность осуществить Утопию в порядке пробы в малых масштабах. Оуэн основал в Индиане общину «Новая Гармония», Кабе в Техасе — Икарию, Консидеран в том же штате — образцовый фаланстер. [178] «Карманные издания нового Иерусалима» — так издевательски названы они в «Коммунистическом Манифесте». [179]
Только постепенно социалисты начали сознавать, что самообеспечивающиеся малые территории не могут быть фундаментом социализма. Томпсон, ученик Оуэна, догадался, что установление равенства между членами общины далеко не означает достижения равенства между членами различных общин. Под влиянием этого открытия он повернулся к централизованному социализму [193*]. [180] Сен-Симон и его школа были ярыми сторонниками централизма. [181] Схема реформ Пеккера претендовала на роль национальной и даже всемирной программы [194*].
Так возникает характерная для социализма проблема: может ли социализм существовать только на части земной поверхности? Или необходимо, чтобы все обитаемые земли образовали единую социалистическую общину?
2. Марксистское толкование проблемы
Для марксистов возможно только одно решение этой проблемы — всемирное. Марксизм исходит из предположения, что в силу внутренней необходимости капитализм уже поставил свою печать на всем мире. Уже сегодняшний капитализм не ограничен одним народом или небольшой группой народов: он интернационален и космополитичен. «На смену старой местной и национальной замкнутости и существованию за счет продуктов собственного производства приходит всесторонняя связь и всесторонняя зависимость наций друг от друга». Дешевизна товаров есть «тяжелая артиллерия» буржуазии. Этим орудием буржуазия вынуждает все народы под страхом уничтожения принять буржуазный способ производства, «заставляет их вводить у себя так называемую цивилизацию, т. е. становиться буржуа.
Словом, она создает себе мир по своему образу и подобию». И это верно относительно не только материального, но и интеллектуального производства. «Плоды духовной деятельности отдельных наций становятся общим достоянием. Национальная односторонность и ограниченность становятся все более и более невозможными, и из множества национальных и местных литератур образуется одна всемирная литература» [195*].
Из логики материалистического толкования истории следует, что и социализм не может быть национальным явлением, а только интернациональным. Это этап в истории не одного народа, а всего человеческого рода. Согласно логике марксизма вопрос, «созрел ли» тот или иной народ для социализма, не может быть даже поставлен. Капитализм делает готовым к принятию социализма не отдельный народ или промышленность, но весь мир. Экспроприаторов, экспроприация которых должна стать последним шагом к осуществлению социализма, не следует себе представлять иначе, как в виде крупнейших капиталистов, капитал которых инвестирован по всему миру. Поэтому для марксистов социалистические эксперименты «утопийцев» столь же бессмысленны, как и шуточное предложение Бисмарка устроить социалистический эксперимент в одном из польских округов Пруссии [196*]. [182] Социализм — это исторический процесс. Он не может быть испытан в колбе или проверен в малом масштабе. Следовательно, для марксистов проблема автаркии социалистической общины даже не может возникнуть. Для них единственная социалистическая община, о которой есть смысл говорить, охватывает всю поверхность Земли и весь человеческий род. Для них управление мировым хозяйством должно быть единым.
Позднее марксисты, однако, осознали, что в любой данный момент времени следует ожидать сосуществования многих социалистических обществ [197*]. Но, как только это признано, можно сделать следующий шаг и учесть возможность того, что будут существовать одно или несколько социалистических обществ в мире, который большей частью будет еще капиталистическим.
3. Либерализм и проблема границ
Когда Маркс, а за ним и большинство социалистов заявляют, что социализм может быть реализован только в едином мировом государстве, они не принимают в расчет могущественные силы, препятствующие унификации хозяйства.
Есть основания отнести легкомысленность их трактовки всех этих проблем к неоправданному принятию представлений о будущей политической организации мира, которые господствовали в период становления марксизма. В тот период либералы были убеждены, что все региональные и национальные деления можно рассматривать как политический атавизм. Выдвинутое либералами учение о свободе торговли и протекционизме казалось бесспорным для всех времен. Было показано, что все ограничения торговли ведут к общему убытку, и, опираясь на это, были сделаны небезуспешные попытки ограничить деятельность государства обеспечением безопасности производителей. Для либерализма проблема государственных границ не возникает. Если функции государства ограничены защитой жизни и собственности от убийства и грабежа, теряет значение вопрос, кому принадлежит та или иная земля. В период, когда успешно реализовалась политика снятия таможенных барьеров и унификации правовых и административных систем, казалось безразличным, занимает ли государство большую или меньшую территорию. В середине XIX столетия оптимистично настроенные либералы могли рассматривать идею Лиги Наций — подлинного мирового государства — как достижимую в не столь уж отдаленном будущем.
Либералы не учли в должной степени величайшее из препятствий на пути к мировому режиму свободной торговли — национальную и расовую проблему. Социалисты же совершенно не поняли, что это препятствие становится неизмеримо большим на пути создания социалистического общества. Отличающая марксистов неспособность во всех политико-экономических вопросах сделать хоть шаг дальше Рикардо, а также полнейшее непонимание национально-политических вопросов не позволили им даже осознать проблему.
Глава XIII. Проблема миграции при социализме
1. Миграция и различия национальных условий
При полной свободе торговли производство осуществлялось бы только в наиболее подходящих условиях. Сырые материалы заготавливались бы только в тех частях мира, где с учетом всех обстоятельств можно было бы получить наивысший результат. Перерабатывающая промышленность размещалась бы лишь там, где транспортные расходы, в том числе расходы на доставку товаров конечным потребителям, были бы наименьшими. Поскольку работники селятся вокруг центров производства, географическое распределение населения с необходимостью соответствовало бы естественным условиям производства.
Естественные условия, однако, остаются неизменными только в стационарной экономической системе. Силы изменения непрерывно преобразуют их. В изменяющейся экономике человек постоянно мигрирует из мест менее благоприятных в места более благоприятные для производства. При капитализме давление конкуренции направляет труд и капитал в наиболее подходящие места. В замкнутом социалистическом обществе тот же результат может быть достигнут за счет административных распоряжений. В обоих случаях принцип один и тот же: человек должен перемещаться туда, где условия жизни наиболее благоприятны [198*].
Эти миграции оказывают сильное влияние на условия жизни различных народов. Они вынуждают жителей одной страны, естественные условия жизни в которой менее благоприятны, перемещаться на территорию других народов, разместившихся более благополучно. Если условия миграции таковы, что иммигранты ассимилируются в новом окружении, тогда народ, который они покинули, количественно слабеет. Если же условия таковы, что иммигранты сохраняют прежнюю национальность в своем новом доме либо даже ассимилируют его исконных жителей, тогда иммиграция оборачивается угрозой положению коренной нации.
Принадлежность к национальному меньшинству политически ущербна [199*]. Чем шире полномочия политической власти, тем тягостнее положение национального меньшинства. Оно бывает наиболее сносным в государстве, основанном на чисто либеральных принципах. Оно тягостнее всего в государстве социалистическом. Чем сильнее ощущаются стеснения, тем энергичнее каждый народ старается избежать положения национального меньшинства. Численно умножиться, стать большинством на богатой и пространной территории — весьма привлекательная политическая цель. Но ведь это не что иное, как империализм [200*]. В последние десятилетия XIX века и в первые десятилетия XX излюбленным оружием империализма были условия торговли — протекционистские тарифы, ограничения импорта, экспортные премии, дискриминация на транспорте и т. п. [183] Меньшее внимание уделялось использованию другого могущественного оружия империализма — ограничений на иммиграцию и эмиграцию. Эти меры делаются более важными теперь. Однако ultima ratio [184] империализма — война. По сравнению с войной все остальные способы, доступные ему, кажутся просто малосущественными вспомогательными средствами.
Нет никаких оснований предполагать, что при социализме тяготы, порождаемые принадлежностью к национальному меньшинству, уменьшатся. Напротив. Чем больше индивидуум зависит от государства, чем сильнее политические решения сказываются на жизни индивидуума, тем мучительнее для национальных меньшинств чувство собственного политического бессилия.
Но когда мы обращаемся к проблеме миграции при социализме, нам не стоит даже уделять особое внимание межнациональным трениям. При социализме и между людьми одного народа должны возникнуть противоречия, которые сделают проблему раздела территории, что безразлично при либерализме, кардинальной проблемой.
2. Тенденции к децентрализации при социализме
При капитализме движение труда и капитала продолжается до тех пор, пока предельные полезности не станут везде одинаковыми. Равновесие достигается, когда выравниваются предельная производительность капитала и предельная производительность труда во всех сферах их применения.
Оставим пока движение капитала в стороне и рассмотрим вначале движение труда. Миграция рабочих ведет к понижению предельной производительности труда там, куда они бегут. А сокращение заработной платы в местах нового поселения есть прямая угроза местным рабочим. Естественно, что они воспринимают иммигрантов как причину сокращения заработков. Частные интересы наилучшим образом могут быть удовлетворены запретом на иммиграцию. И центральным моментом такой узкоэгоистической политики отдельных групп рабочих становится попытка не допускать пришельцев.
Либерализм показал, кто расплачивается за такую политику. Первыми жертвами оказываются рабочие в менее благоприятно расположенных центрах производства, которые из-за низкой предельной производительности труда вынуждены удовлетворяться низкой заработной платой. В то же самое время убытки несут владельцы средств производства в благоприятно расположенных центрах производства, которые не могут в полной мере использовать свои возможности, так как нет необходимого количества рабочих рук. Но и это еще не конец истории. Система, которая защищает непосредственные интересы отдельных групп, ограничивает производительность труда в целом, и в конечном итоге жертвами оказываются все, даже те, ради кого была начата вся политика. Как именно протекционизм влияет на положение индивидуума, выигрывает он или проигрывает в сравнении с тем, что имел бы при полной свободе торговли, зависит от уровня защищенности — его собственной и всех других. Хотя в условиях защиты общее производство неизбежно ниже, чем оно было бы в условиях свободной торговли, и соответственно средний доход также ниже, вполне возможно, что положение отдельных людей может быть лучшим, чем в условиях свободной торговли. Но чем выше уровень защищенности отдельных интересов, тем выше ущерб для общества в целом и соответственно тем ниже вероятность того, что выигрыш отдельных индивидуумов от такой политики окажется большим, чем их же проигрыш.
Как только становится возможным использовать частные интересы для получения особых привилегий, среди всех заинтересованных развертывается борьба за доминирование. Каждый старается захватить позиции лучшие, чем у других. Каждый старается получить больше привилегий для обеспечения большего выигрыша. Идея равной защиты всех и каждого есть фантазия, плод непродуманной теории. Ведь если бы различные интересы получали одинаковую защиту, никто не стремился бы к преимуществам: единственным результатом был бы общий ущерб от ограничения производительности. Только надежда получить для себя льготы и выигрыш большие; чем у остальных, делает протекционизм привлекательным для индивидуума. На защите всегда настаивают те, у кого есть сила для приобретения и сохранения особых привилегий для себя.
Делая явными результаты протекционизма, либерализм взламывает агрессивную власть особых интересов. Теперь стало совершенно очевидным, что — в лучшем случае! — только немногие могут абсолютно выиграть от установления режима протекционизма и привилегий, а подавляющее большинство неизбежно проигрывает. Демонстрация этого лишает подобные системы массовой поддержки. Теряя популярность, привилегии исчезают.
Для восстановления репутации протекционизма было необходимо разрушить либерализм. С этой целью была предпринята двойная атака: с точки зрения национализма, и с позиций тех особых интересов средних классов и рабочих, которым угрожал капитализм. Одни движения стремились к закреплению особого статуса территорий, другие — к усилению особых привилегий тех рабочих и служащих, которые не выдерживали давления конкуренции. Но как только либерализм был побежден и перестал угрожать системе протекционизма, исчезло всякое противодействие процессу расширения привилегий. Давно сложилось убеждение, что защита территорий может быть ограничена только пределами национального государства, что восстановление внутренних таможенных барьеров, ограничение внутренней миграции и т.п. более невозможны. И это убеждение было вполне реалистичным до тех пор, пока сохранялся авторитет либерализма. Но во время войны все это в Германии и Австрии было отброшено, и в одну ночь восстановились все виды региональных барьеров. Чтобы обеспечить низкую стоимость жизни для собственного населения, районы, производящие в избытке сельскохозяйственные продукты, отрезали себя от районов, которые нуждаются в завозе продовольствия извне. Города и промышленные зоны ограничили приток населения, чтобы не допустить роста цен на продовольствие и на жилища. Региональный эгоизм разрушает единство экономического пространства, на котором базировались этатистские планы неомеркантилизма. [185]
Если даже допустить, что социализм вполне реализуем, создание мировой системы социализма должно будет столкнуться с громадными трудностями. Вполне возможно, что работники отдельного района, предприятия или завода придут к решению, что орудия производства, оказавшиеся в их округе, являются их собственностью и что никто из посторонних не должен их использовать для получения выгоды. При этом мировой социализм должен расколоться на многочисленные, экономически самодостаточные социалистические общества, если, конечно, в мировом социализме не восторжествует принцип синдикализма. Ведь синдикализм есть не что иное, как последовательно проведенный принцип децентрализации.
Глава XIV. Иностранная торговля при социализме
1. Автаркия и социализм
Для социалистического общества, которое не охватывает всего человечества, не должно быть причин жить в изоляции от остального мира. Конечно, правителей такого государства может тревожить возможность того, что вместе с заграничными товарами через границу проникнут и заграничные идеи. Их может беспокоить сохранность системы в ситуации, когда подданные имеют возможность сравнивать свое положение с положением иностранцев из несоциалистических стран. Но все эти политические соображения не имеют смысла, если иностранные государства также являются социалистическими. Более того, государственный деятель, убежденный в желательности социализма, должен рассчитывать и на то, что общение с иностранцами сделает их также сторонниками социализма: он не испугается того, что это общение подорвет социализм его соотечественников.
Теория свободной торговли показывает, как закрытие границ социалистического общества от импорта зарубежных товаров нанесет ущерб его гражданам. Труд и капитал придется использовать в относительно менее благоприятных условиях, дающих меньший доход. Приведем крайний пример. Ценой невероятных затрат труда и капитала социалистическая Германия может выращивать в теплицах собственный кофе. Конечно, было бы намного выгоднее получать его из Бразилии в обмен на товары, условия для производства которых в Германии более благоприятны. [201*]
2. Иностранная торговля при социализме
Эти соображения намечают направления, которым должно следовать социалистическое общество в своей торговой политике. В той степени, в какой оно будет подчинять свою политику чисто экономическим соображениям, ему придется обеспечивать то, что при полной свободе торговли было бы обеспечено неограниченной игрой экономических сил. Социалистическому обществу придется ограничиться выпуском тех продуктов, условия для изготовления которых будут у него лучшими, чем за рубежом, и объемы производства будут определяться как раз этими сравнительными преимуществами. Все остальные товары оно будет получать в результате обмена с другими странами.
Этот фундаментальный принцип бесспорен независимо от того, осуществляется ли торговля с другими странами с помощью общего средства обмена — денег — или нет. В зарубежной торговле, как и во внутренней, — в этом между ними нет разницы — рациональное производство невозможно без денежных расчетов и образования денежных цен на средства производства. По этому поводу к уже сказанному нам нечего добавить. Мы рассмотрим положение социалистического общества в несоциалистическом мире. Это общество сможет осуществлять оценки и вычисления в деньгах совершенно так же, как это делают государственные железные дороги или городские службы водоснабжения, существующие в обществе, основанном на частной собственности на средства производства.
3. Иностранные инвестиции
Ни для кого на свете не может быть безразличным поведение его соседей. Каждый заинтересован в увеличении производительности труда за счет как можно более широкого при данных условиях участия в системе разделения труда. Я также испытываю ущерб от того, что кто-либо твердо стоит на позициях автаркического хозяйства; если бы они вышли из экономической самоизоляции, система разделения труда стала бы эффективней. Если средства производства используются относительно неэффективно отдельными хозяевами, то ущерб терпят все.
При капитализме стремление индивидуального предпринимателя к прибыли способствует гармонизации интересов индивидуума с интересами общества. С одной стороны, предприниматель всегда пребывает в поиске новых рынков, а увеличение продаж более дешевых и совершенных товаров ведет к сокращению сбыта товаров более дорогих и менее совершенных, создаваемых на не столь рационально организованных производствах. С другой стороны, предприниматель всегда в поиске более дешевых и более производительных источников сырых материалов, а также более благоприятных мест для размещения производства. Такова истинная природа капиталистической экспансии, которую неомарксистская пропаганда абсолютно фальшиво преподносит как « Verwertungsstreben des Kapitals» [187] и столь фантастично использует для объяснения современного империализма.
Прежняя колониальная политика Европы была меркантилистской, милитаристской и империалистической. После победы либеральных идей над меркантилизмом природа колониальной политики совершенно изменилась. Такие старые колониальные державы, как Испания, Португалия, Франция, утратили большую часть прежних своих владений. Англия, ставшая крупнейшей из колониальных держав, построила управление своими владениями на принципах теории свободной торговли. Разговоры английских фритредеров о призвании Англии возвысить отсталые народы до цивилизации не были лицемерием. Англия на деле показала, что рассматривала свою власть в Индии, в колониях короны и в протекторатах как мандат европейской цивилизации. [188] Когда английские либералы говорят о том, что колониальная власть Англии принесла жителям колоний и всему остальному миру не меньшее благо, чем самой Англии, — это не ханжество. Тот простой факт, что Англия установила в Индии режим свободной торговли, показывает, что дух английской колониальной политики был очень отличен от того, каким руководствовались новые и старые колониальные державы в последние десятилетия XIX века — Франция, Германия, США, Япония, Бельгия, Италия. Английские войны периода либерализма, которые были нацелены на расширение колониальных владений и на открытие территорий, сопротивлявшихся идее международной торговли, заложили основание современной мировой экономики. [202*] Для оценки истинного значения этих войн нужно только представить себе, что было бы, если бы Индия и Китай остались закрытыми для мировой торговли. Положение не только каждого индийца и китайца, но и каждого европейца и американца было бы много хуже, чем нынче. Если бы Англии пришлось нынче утратить Индию и если бы эта великая страна, столь богато одаренная природой, впала в состояние анархии, так что перестала бы участвовать в международной торговле или сильно сократила бы свое участие, то это обернулось бы экономической катастрофой первого ранга. [190]
Либерализм стремится открыть все запертые для торговли двери. Но при этом он никоим образом не намерен принуждать людей к купле или продаже. Либерализм враждебен только правительствам, которые, используя запреты и другие способы ограничения торговли, лишают своих подданных преимуществ, связанных с участием в мировой торговле, и таким путем наносят ущерб благосостоянию всего человечества. Либеральная политика не имеет ничего общего с империализмом. Напротив, она нацелена на поражение империализма и исключение его из сферы международной торговли.
Социалистическим обществам придется делать то же самое. Они также не смогут позволить областям, изобильно одаренным природой, быть постоянно отчужденными от международной торговли, а целым народам — воздерживаться от обмена. Но здесь социализм встретится с проблемой, которая может быть решена только капитализмом, — проблемой собственности на заграничный капитал.
При капитализме, по замыслу фритредеров, границы утрачивают свое значение. Они не должны мешать потокам торговли. Они не должны служить препятствием ни для лучших производителей, стремящихся получить доступ к недвижимым средствам производства, ни для приложения поддающихся перемещению средств производства в наилучших местах. Собственность на средства производства не должна быть ограничена гражданством. Иностранные инвестиции должны стать столь же простым делом, как и инвестиции внутри страны.
При социализме ситуация иная. Социалистическое общество не может владеть средствами производства за пределами собственных границ. Оно не может инвестировать капитал за рубежом, несмотря на то, что это обещает большие доходы. Социалистическая Европа обречена на роль наблюдателя, когда социалистическая Индия неэффективно использует свои природные ресурсы и посылает на мировой рынок меньше товаров, чем могла бы. Новые капиталовложения европейцам придется делать в Европе при менее благоприятных условиях, тогда как в Индии из-за нехватки капиталовложений благоприятнейшие условия производства используются не полностью. В результате независимые социалистические общества, существующие бок о бок и обменивающиеся только товарами, попадут в бессмысленную ситуацию. Независимо от их намерений сам факт их независимости приведет их к неизбежному снижению производительности труда.
Эти трудности не могут быть разрешены до тех пор, пока будут существовать независимые социалистические общества. Решение проблемы возможно только при слиянии отдельных обществ в единое социалистическое государство, охватывающее весь мир.
Раздел III. Отдельные формы социализма и псевдосоциализма
Глава XV. Отдельные формы социализма
1. Природа социализма
Суть социализма в следующем: все средства производства находятся в исключительном распоряжении организованного общества. Это, и только это, является социализмом. Все остальные определения вводят в заблуждение.
Можно верить в то, что социализм реализуем лишь при вполне определенных политических и культурных условиях. Однако такое убеждение — не основание, чтобы именовать социализмом лишь одну конкретную его форму и отрицать применимость этого термина ко всем остальным мыслимым способам осуществления социалистического идеала. Социалисты марксистского толка всегда очень ревностно настаивали на том, что их социализм есть единственно истинный, а все остальные социалистические идеалы и методы их достижения не имеют ничего общего с подлинным социализмом. В политическом плане это было исключительно умно. Если марксисты готовы были бы признать родство своего идеала с идеалами других партий, их политическая агитация сильно затруднилась бы. Им никогда не удалось бы созвать под свои знамена миллионы неудовлетворенных жизнью немцев, если бы им пришлось открыто признать, что их цели в основном не отличаются от целей правящих классов прусского государства. Если бы накануне октября 1917 г. марксиста спросили, чем его социализм отличается от социализма других течений, в первую очередь консервативных, он бы ответил, что в марксизме неразделимо присутствуют демократия и социализм и, более того, что марксизм есть безгосударственный социализм, поскольку намеревается устранить государство.
Мы уже знаем, чего стоят эти аргументы, и фактически после победы большевиков они быстро исчезли из списка марксистских общих мест. Во всяком случае нынешние представления марксистов о демократии и безгосударственности весьма отличны от их прежних представлений.
Но марксисты могли ответить на вопрос и иначе. Они могли сказать, что их социализм — революционный в отличие от реакционного и консервативного социализма других. Такой ответ лучше помогает понять отличие марксистской социал-демократии от других социалистических течений. Для марксиста революция означает не просто насильственное изменение существующего строя жизни, но в соответствии с марксистским хилиазмом некий шаг человечества к выполнению его предназначения [203*]. [191] Для него неизбежная социальная революция, которая приведет мир к социализму, есть последний шаг к вечному спасению. Революционеров история предназначила для реализации своих планов. Революционный дух суть священный огонь, который нисходит на них и позволяет выполнить эту великую задачу. В этом смысле определение партии как «революционной» является знаком благородного отличия для марксистского социалиста. В этом же смысле он рассматривает все иные партии как однородную, однообразную реакционную массу, поскольку они противостоят его методам достижения конечной цели.
Очевидно, что все это никак не связано с социологическим представлением о социалистическом обществе. Замечательно, конечно, когда некая группа лиц объявляет себя единственными носителями знания пути к спасению, но когда их путь к спасению оказывается таким же, как у многих других верующих, претензии на исключительную избранность становится недостаточно, чтобы провести различие между ними и другими такими же.
2. Государственный социализм
Для понимания концепции государственного социализма недостаточно этимологического раскрытия термина. [192] В истории слова отразился лишь тот факт, что господствующие круги Пруссии и других германских государств исповедовали социализм именно в форме государственного социализма. Поскольку они отождествляли себя со своим государством, с формой этого государства, с идеей государства вообще, естественно назвать избранную ими форму социализма государственным социализмом. Чем более Марксово учение о классовой природе государства и его отмирании затемняло основную концепцию государства, тем естественней казалось использование термина.
Марксистский социализм был жизненно заинтересован в проведении различия между огосударствлением и обобществлением средств производства. [193] Лозунги социал-демократической партии никогда не стали бы популярными, если бы они выдвигали огосударствление средств производства в качестве конечной цели социализма. Ведь государство, хорошо знакомое тем народам, среди которых марксизм получил наибольшее распространение, было не таким, чтобы с оптимизмом смотреть на его возможное вмешательство в экономику. Немецкие, австрийские и русские последователи марксизма жили в открытой вражде с власть имущими, представлявшими государство. К тому же у них была возможность оценить результаты национализации и муниципализации. При всем желании они не могли не видеть крупных недостатков национализированных и муниципализированных предприятий. Было просто немыслимо возбудить энтузиазм программой огосударствления. Оппозиционная партия была обязана нападать на ненавистное авторитарное государство. Лишь таким способом она могла бы привлечь симпатии недовольных. Из этой потребности политической агитации и возникла марксистская доктрина отмирания государства. Либералы настаивали на ограничении власти государства и передаче власти народным представителям; они требовали свободного государства. Маркс и Энгельс, пытаясь переиграть либерализм, приняли без критики анархистскую доктрину уничтожения всех видов государственной власти, вовсе игнорируя то, что социализм должен означать не уничтожение, а неограниченное расширение власти государства.
Схоластическое различение огосударствления и обобществления, тесно связанное с учением об отмирании государства при социализме, столь же абсурдно и безосновательно, как и это учение. Сами марксисты сознают слабость своей аргументации и посему обычно избегают ее обсуждения, ограничиваясь заявлениями об обобществлении средств производства, без попытки подробнее описать это понятие, чтобы создать впечатление, что обобществление чем-то отличается от огосударствления, с которым все знакомы. Когда не удается избежать от обсуждения этого щекотливого вопроса, им приходится признавать, что передача предприятий государству будет «шагом на пути к тому, чтобы само общество взяло в свое владение все производительные силы» [204*], или «естественным исходным пунктом того развития, которое ведет к социалистической ассоциации» [205*].
Энгельс находит выход в том, чтобы опротестовать отождествление «всякой» формы огосударствления, национализации с социализмом. Он не стал бы характеризовать как «движение к социализму» акты национализации, проводимые из финансовых потребностей казны, которые предпринимаются «главным образом для того, чтобы иметь новый независимый от парламента источник дохода». Но независимо от целей, само по себе огосударствление означает не что иное, как, выражаясь марксистским языком, уничтожение присвоения прибавочной стоимости капиталистами еще в одной отрасли производства. Это справедливо для актов огосударствления, осуществляемого ради политических или военно-политических целей, которые Энгельс также не согласен считать социалистическими. Он выдвигает в качестве критериев социалистичности национализации то, что данные средства производства и обращения действительно должны перерасти возможности управления в акционерных компаниях, так что национализация становится экономически неизбежной. Эта неизбежность в первую очередь возникает «для крупных средств сообщения: почты, телеграфа, железных дорог» [206*]. Но при этом крупнейшие железнодорожные сети мира, находящиеся в Северной Америке, так же как и самые важные телеграфные линии — глубоководные кабели, так и не были национализированы, тогда как огосударствлению подверглись небольшие и не имеющие важного значения железные дороги в этатистски ориентированных странах. Национализация почтовой службы была произведена в первую очередь по политическим причинам, а железных дорог — по соображениям военным. Можно ли сказать, что эти акты национализации были «экономически неизбежными»? И что вообще означает «экономическая неизбежность»?
Каутский также довольствуется отрицанием того, что «всякий переход в ведение государства какой-либо хозяйственной функции или какого-либо хозяйственного предприятия является шагом к социалистической ассоциации и что последняя может возникнуть из общей передачи государству всего хозяйственного механизма, без всякой перемены в самой сущности государства» [207*]. Но никто никогда не оспаривал, что сущность государства сильно изменится в случае преобразования его в социалистическое общество путем огосударствления всего производства. Потому-то Каутский в силах сказать лишь то, что «до тех пор, пока имущие классы в то же время будут и господствующими», полная национализация невозможна. Осуществление ее станет возможным только тогда, «когда трудящиеся классы станут господствующими в государстве». Лишь когда пролетариат захватит политическую власть, он «преобразует» государство в обширную хозяйственную ассоциацию, полностью удовлетворяющую все существенные потребности своими собственными силами» [208*]. Главный и единственный требующий ответа вопрос — станет ли полная национализация, проведенная несоциалистической партией, обоснованием социализма — Каутский оставляет без ответа.
Конечно, есть существеннейшее и чрезвычайно важное различие между национализацией или муниципализацией индивидуальных предприятий в обществе, основанном преимущественно на частной собственности на средства производства, и полным обобществлением, после которого никакая частная собственность индивидуума на средства производства невозможна. До тех пор, пока лишь отдельные предприятия принадлежат государству, цены на средства производства будут определяться рынком, а благодаря этому и государственные предприятия смогут осуществлять экономические расчеты. Другой вопрос — в какой степени управление предприятием будет учитывать результаты этих расчетов; но сам тот факт, что до известной степени результаты деятельности поддаются количественной оценке, дает в руки правлению таких предприятий критерии, которые не будут доступны администрации в чисто социалистическом обществе. С полным основанием можно назвать методы управления государственными предприятиями плохим бизнесом, но все-таки это еще бизнес. В социалистическом обществе, как мы уже видели, экономика в строгом смысле слова просто невозможна [209*].
Национализация всех средств производства ведет к полному социализму. Национализация части средств производства есть шаг в направлении к полному социализму. Удовольствуемся ли мы первым шагом или захотим двигаться дальше, не меняет фундаментального значения этого шага. Точно так же, если мы намерены передать все предприятия во владение организованного общества, нам не остается ничего иного, кроме как национализировать каждое отдельное предприятие -- все одновременно или одно за другим.
До какой степени марксисты запутали все, связанное с обобществлением, иллюстрирует опыт Германии и Австрии после того, как в ноябре 1918 г. социал-демократы пришли там к власти. [194] За одну ночь стал популярным новый, прежде неслыханный лозунг: «Социализация». Лозунг представлял собой просто парафраз немецкого слова «обобществление» (Vergesellschaftung), замену его привлекательно звучащим иностранным Sozialisierung. Никому и в голову не могло прийти, что социализация означает не что иное, как муниципализацию, или огосударствление, любого, кто заявил бы об этом, признали бы полным невеждой, не понимающим, что между этими понятиями зияет пропасть. Комиссии по социализации, созданные вскоре после прихода к власти социал-демократов, стремились изобрести для социализации такую форму, чтобы по крайней мере чисто внешне можно было этот процесс отличить от национализации и муниципализации, проводимых прежним режимом.
Первый отчет германской комиссии был посвящен социализации угольной промышленности, и в нем была отвергнута идея проведения социализации через национализацию шахт и угольной торговли, причем резко подчеркивались недостатки национализированных угольных предприятий. Но при всем том ни слова не было сказано, чем же на самом деле социализация может отличаться от национализации. В отчете было выражено убеждение, что «изолированное огосударствление угольной промышленности не может рассматриваться как социализация, пока капиталистические предприятия продолжают работать в других отраслях: просто-напросто один наниматель сменит другого». При этом оставался открытым вопрос о том, может ли намечавшаяся изолированная социализация при тех же условиях означать что-либо иное [210*]. Было бы еще понятно, если бы комиссия заключила все это заявлением, что для получения блаженных плодов социализма недостаточно национализировать лишь одну отрасль производства, и рекомендовала бы государству взять все предприятия одним махом, как это совершили большевики в России и Венгрии и как это мечтали совершить спартаковцы в Германии. [195] Но она не сделала этого. Напротив, она выработала предложения по социализации, включающие изолированную национализацию отдельных отраслей, начиная с добычи и торговли углем. То, что комиссия при этом избегала использовать термин «огосударствление», не имеет никакого значения. Предложение комиссии сделать собственником социализированной угольной промышленности не германское государство, а «Германское угольное общество» — не более чем юридическая казуистика. Когда комиссия заявила, что эта собственность должна рассматриваться только «в формально-юридическом смысле», поскольку «Угольное общество» не будет «располагать возможностями частного нанимателя и, значит, не сможет эксплуатировать рабочих и потребителей» [211*], она использовала самые пустые уличные лозунги. На деле и весь отчет представлял собой не что иное, как набор популярных ошибочных представлений о пороках капитализма. Единственное, чем угольная промышленность, социализированная в соответствии с предложениями большинства членов комиссии, должна была отличаться от других общественных публичных предприятий, — это высшее руководство. Во главе угольных шахт должно стоять не какое-то должностное лицо, но составленная по определенный правилам коллегия. Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus ! [196].
Итак, нельзя считать отличительным признаком государственного социализма признание государства организатором общественного хозяйства, поскольку никакого иного социализма просто нельзя вообразить. Семантический анализ этого термина может помочь нам не больше, чем анализ корневых значений слов, составляющих термин «метафизика», поможет пониманию самой метафизики. [197] Следует задаться вопросом: какой смысл связывали с этим выражением те, кого принято считать последователями движения за государственный социализм, т. е. радикальные этатисты.
Этатистский социализм отличается от всех других социалистических систем в двух пунктах. В противоположность многим другим социалистическим течениям, которые мечтали о наибольшем возможном равенстве в распределении общественного дохода между людьми, государственный социализм делает основой распределения заслуги и ранг индивидуума. Излишне говорить, что суждение о достоинствах чисто субъективно по природе своей и никоим образом не допускает научной проверки. Этатизм имеет вполне определенные представления об этической ценности отдельных групп в обществе. Он преисполнен почтения к монархии, знати, крупным землевладельцам, священнослужителям, профессиональным солдатам, особенно офицерству, и чиновничеству. Привилегированные позиции с некоторыми оговорками предоставляются также ученым и художникам. Крестьяне и ремесленники занимают скромное место, а еще ниже располагаются обычные работники ручного труда. На самом дне — ненадежные элементы, недовольные тем кругом деятельности и доходов, которые им предоставлены этатистским планом, и стремящиеся улучшить свое материальное положение. Этатист строит мысленную иерархию подданных своего будущего государства. Более благородный будет иметь больше власти, больше почета и больший доход, чем менее благородный. Что благородно и что неблагородно, будет определяться прежде всего традицией. Для этатиста самое плохое в капитализме то, что при нем распределение дохода не соответствует государственной шкале ценностей. То, что торговец молоком или фабрикант брючных пуговиц может иметь доход больший, чем отпрыск благородной семьи, чем тайный советник или лейтенант, кажется ему нетерпимым. Чтобы исправить это положение дел, капиталистическая система должна быть заменена этатистской.
Со стороны этатистов эта попытка удержать традиционный порядок социальных рангов и этических оценок различных классов никоим образом не предполагает передачи всех средств производства в формальную собственность государства. Это было бы, с точки зрения этатистов, полным ниспровержением исторически сложившегося порядка. Только большие предприятия подлежат национализации, и даже здесь необходимы исключения для крупных землевладений, особенно для наследственной семейной собственности. В сельском хозяйстве, как и на малых и средних промышленных предприятиях, частная собственность, по крайней мере на словах, должна сохраниться. Точно так же, с некоторыми ограничениями, следует сохранить поле деятельности для свободных профессий. Но все предприятия должны стать по существу государственными заведениями. Аграрий сохранит за собой титул собственника, но ему будет запрещена «эгоистичная ориентация только на мелочную прибыль»; на нем лежит «долг осуществлять цели государства» [212*]. Ведь сельское хозяйство, согласно этатисту, есть общественное дело. «Аграрий — это государственный служащий и должен по совести или предписаниям государства делать то, что необходимо. Если он получает довольно для того, чтобы содержать себя и удовлетворять свои нужды, значит, он имеет все, что может требовать». [213*] То же самое приложимо к труду ремесленников и торговцев. В системе государственного социализма точно так же, как и в любом другом социализме, почти нет места для независимого предпринимателя, свободно владеющего средствами производства. Власти устанавливают цены и определяют, что, как и в каком количестве должно производиться. Здесь невозможна спекуляция ради получения «чрезмерной» прибыли. Чиновники проследят, чтобы никто не получал больше «положенного», т. е. такого дохода, который соответствует его социальному рангу. Любой излишек будет «срезан».
Марксистские авторы также утверждают, что для торжества социализма не обязательно передавать непосредственно в общественную собственность малые предприятия. На самом деле они считают это просто неосуществимым; обобществить малые предприятия можно лишь так, чтобы, оставив их формально в собственности прежних владельцев, всесторонне подчинить государственному надзору. Каутский говорит, что «ни один серьезный социалист не требовал никогда, чтобы крестьяне были экспроприированы или чтобы их земли были конфискованы» [214*]. Не предлагает также Каутский и обобществления мелких производителей путем экспроприации их собственности [215*]. Крестьяне и ремесленники встроятся в механизм социалистического общества так, что производство и цены на их продукцию будут определяться властью, а номинальными собственниками будут по прежнему они сами. Уничтожение свободного рынка преобразит их из независимых собственников и предпринимателей в функционеров социалистического общества, отличающихся от прочих граждан только формой вознаграждения [216*]. Значит, формальное сохранение остатков частной собственности на средства производства нельзя рассматривать как исключительную особенность системы государственного социализма. Характерной для него является только степень использования этого метода упорядочения социальных условий производства. Уже было сказано, что этатизм в общем предполагает формально оставить собственность крупным землевладельцам, за исключением, возможно, собственников латифундий. Еще важнее то, что этатисты исходят из предположения, что большая часть населения найдет занятость в сельском хозяйстве и малом бизнесе, а сравнительно меньшая — будет занята непосредственно на крупных государственных предприятиях. Этатизм противоположен ортодоксальному марксизму, представленному Каутским, не только убеждением, что малые крестьянские хозяйства не менее продуктивны, чем большие сельскохозяйственные предприятия, но и верой, что в промышленности малые предприятия также имеют большие возможности развития бок о бок с крупными предприятиями. Это второе характерное отличие государственного социализма от других социалистических систем, особенно от социал-демократии.
Вряд ли есть нужда уточнять картину идеального государства, как оно преподносится социалистами-государственниками. Десятилетиями почти по всей Европе это был внутренний идеал миллионов, знакомый каждому, пусть даже четко и не определенный. Это социализм миролюбивых, лояльных государственных чиновников, землевладельцев, крестьян, мелких производителей и множества рабочих и служащих. Это социализм профессоров — знаменитый катедер-социализм, это социализм художников, поэтов, писателей той эпохи в истории искусства, когда уже сделались явными признаки упадка. Это социализм, который поддерживали церкви всех исповеданий. Это социализм цезаризма и империализма, идеал так называемой социальной монархии. [199] Именно в нем политика большинства европейских, особенно германского, государств провидела отдаленную цель человеческих усилий. Это общественный идеал эпохи, которая подготовила великую мировую войну и рухнула вместе с нею.
Социализм, который распределяет общественный доход в соответствии с заслугами и рангом, может быть представлен только в формах государственного социализма. Система распределения подчинена той единственной, достаточно популярной иерархии, которая способна не возбудить всеобщей оппозиции. Хотя она менее чем многие другие, способна выдержать рациональную критику, все же она санкционирована временем. И поскольку государственный социализм стремится к увековечению этой иерархии и старается предотвратить любые изменения в общественном устройстве, вполне оправданно нередкое обозначение его как «консервативного социализма». [217*] Фактически он больше любой другой формы социализма обременен представлениями о возможности полного оцепенения и неподвижности экономических отношений: его последователи рассматривают всякое изменение в экономике как излишнее и даже вредное. Такой установке соответствует метод, который этатизм намерен использовать для достижения своих целей. Если марксистский социализм собирает тех, для кого все надежды на будущее связаны только с кровавым революционным переворотом, то в государственном социализме выразились идеалы тех, кто вызывает полицию при малейшем беспорядке. Марксизм полагается на безошибочное суждение пролетариата, исполненного революционным духом. Этатизм — на непогрешимость господствующей власти. Тех и других объединяет вера в политический абсолютизм, всегда и заведомо непогрешимый.
В противоположность государственному муниципальный социализм не представляет собой особой формы социалистического идеала. Муниципализация предприятий не рассматривается как общий принцип новой организации экономической жизни. Она должна охватить только предприятия, сбывающие свою продукцию на ограниченном местном рынке. В жесткой системе государственного социализма муниципальным предприятиям отводится роль исполнителей распоряжений центральной администрации. Они могут быть свободными не в большей мере, чем те сельскохозяйственные и промышленные предприятия, которым будет позволено остаться в частном владении.
3. Военный социализм
Военный социализм есть социализм государства, в котором все установления подчинены целям ведения войны. Это государственный социализм, в котором иерархия социальных статусов и доходов определяется исключительно или преимущественно местом гражданина в вооруженных силах. Чем выше военный чин, тем выше общественная ценность индивидуума и его доля в национальном доходе.
Милитаризованное государство, т. е. государство воинов, в котором все подчинено военным целям, не может допустить существования частной собственности на средства производства. Постоянная готовность к войне недостижима, если наряду с ведением войны у индивидуума могут быть и какие-либо иные жизненные цели. Всякий раз, когда для жизненного обеспечения военной касты ее членам предоставляли доходы от владения землей или имуществом, собственные земельные хозяйства или даже производственные предприятия с подневольными работниками, результатом была с течением времени потеря воинского духа. Феодальный властитель оставлял хлопоты о войне и воинской славе, когда его поглощали экономические заботы и прочие, невоинские интересы. Во всем мире феодализм привел к демилитаризации воинов. Рыцарям наследовали юнкеры. [201] Право собственности обращает человека воюющего в человека хозяйствующего. Только исключение частной собственности может способствовать сохранению милитаристского характера государства. Только тот, у кого, кроме войны, есть лишь одна сфера деятельности — подготовка к войне, всегда готов воевать. Люди, думающие о хозяйстве, могут вести оборонительные войны, но они не приспособлены к длительным завоевательным войнам.
Милитаристское государство есть государство разбойников. Изо всех видов доходов оно предпочитает трофеи и дань. По отношению к этим источникам доходы от хозяйственной деятельности играют только подчиненную роль, а иногда и вовсе отсутствуют. Поскольку трофеи и дань поступают из-за рубежа, ясно, что они не могут поступать непосредственно индивидуумам, но только в общую казну, а уж оттуда распределяются в соответствии с воинским рангом. Армия, от которой одной зависит поддержание этих источников дохода, не потерпит никакого иного способа распределения. А отсюда следует, что и произведенное внутри страны должно распределяться по тому же принципу и доставаться гражданам как дань и оброк с крепостных.
Так объясняется «коммунизм» липарских пиратов и всех других разбойничьих государств [218*]. [202] «Это коммунизм грабителей и пиратов» [219*], возникающий при поглощении всех общественных отношений идеей войны. Цезарь замечает о свевах [203], которых он называет «gens longe bellicosissima Germanorum omnium» [204], что они ежегодно посылали воинов в чужие земли за добычей. Остававшиеся дома поддерживали хозяйство ушедших в поход; на следующий год роли менялись. Земля не могла быть в исключительной собственности индивидуума [220*]. Только обеспечив каждому долю в военной добыче и в плодах хозяйствования, объединив всех общей целью и общими опасностями, может государство воинов сделать каждого гражданина солдатом и каждого солдата гражданином. Как только оно позволит некоторым быть только солдатами, а остальным предоставит заниматься собственным хозяйством, так скоро эти два состояния придут в противоборство. Либо воины должны подчинить себе гражданское население, но в этом случае сомнительно, чтобы они смогли выступить в захватнический поход, когда дома останется притесненное население. Либо гражданское население одержит верх, но в этом случае воины будут низведены до положения наемников, которым не позволяют отправляться за добычей, поскольку нельзя допустить чрезмерного возрастания их могущества. В любом случае государство с необходимостью утрачивает свой чисто милитаристский характер. Отсюда следует, что любое ослабление «коммунистических» установлении ведет к ослаблению военной природы государства, и общество воинов постепенно перерождается в общество предпринимателей [221*].
Действие сил, влекущих военное государство к социализму, можно было наблюдать во время мировой войны. Чем дольше длилась война и чем полнее было преобразование европейских государств в воинские лагеря, тем яснее делалась политическая невозможность сохранять различия в положении солдат, которые несли на себе тяготы и опасности войны, и тех, кто оставался дома, чтобы пожать плоды военного бума. Слишком неравным было распределение тягот. Если бы этому различию было позволено утвердиться, а война продлилась бы еще дольше, страны, безо всяких сомнений, раскололись бы надвое и армии, в конце концов, обратили бы оружие против сородичей. Социализм армий, сформированных воинской повинностью, требует дополнения в виде социализма трудовой повинности в тылу.
Тот факт, что для сохранения своей милитаристской природы государства нуждаются в коммунистической организации общества, не делает эти государства более сильными на поле сражения. Для них коммунизм есть необходимое зло, источник гибельной слабости. В первые годы войны Германия двигалась к социализму под внушением духа воинственного этатизма, который и несет ответственность за политику, приведшую к войне и ввергнувшую страну в государственный социализм. К концу войны меры по социализации общества проводились тем более энергично, что — по уже отмеченным причинам — было необходимо сблизить условия жизни в тылу и на фронте. Но государственный социализм не облегчил положение Германии, а ухудшил его; он привел не к увеличению, а к ограничению производства; он не улучшил, а ухудшил снабжение армии и тыла [222*]. И нужно ли доказывать, что именно дух этатизма виновен в том, что в чудовищных потрясениях войны и последовавшей за ней революции народ Германии не выдвинул ни одного сильного человека?
Меньшая производительность коммунистических методов хозяйствования делает уязвимым государство воинов, когда оно сталкивается с более богатыми, а значит, лучше снабженными оружием и всем другим армиями государства, признающего право частной собственности. Неизбежное при социализме разрушение индивидуальной предприимчивости оставляет такое государство в решающие часы сражений без лидеров, способных указать путь к победе, и без подчиненных, способных осуществлять должное. Коммунистическая Империя инков была легко разгромлена горсткой испанцев. [223*] [206]
Если врага, с которым государству воинов приходится сражаться, ищут внутри страны, можно говорить о коммунизме господствующих (Communism of overlord). Макс Вебер назвал социальную организацию дорийцев в Спарте «коммунизмом казино» [224*] из-за их обычая совместных трапез. [207] Если правящая каста вместо укрепления коммунистических установлении раздаст землю вместе с ее обитателями во владение индивидуумов, рано или поздно эта каста будет ассимилирована побежденным народом. Каста преобразуется в землевладельческую знать, которая кончает тем, что начинает набирать вооруженные отряды из числа побежденных. Таким образом государство утрачивает свою природу военного государства. Подобное развитие имело место в королевстве лангобардов, у вестготов и франков, и повсюду, где завоевателями были норманны. [208]
4. Христианский социализм
Теократическая организация государства возможна либо при наличии самодостаточного семейного хозяйства, либо при социалистической организации производства. Она несовместима с экономическим порядком, который дает индивидуумам свободу для развития своих сил и возможностей. Простодушная религиозность и экономический рационализм несовместимы. Невообразимо общество, в котором священники управляли бы предпринимателями.
Церковный социализм, распространившийся в последние несколько десятилетий среди бесчисленных последователей всех христианских церквей, представляет собой просто разновидность государственного социализма. Государственный и церковный социализм настолько близки, что между ними почти невозможно провести границу, так же как почти немыслимо определить, к какой из этих ветвей принадлежит данный индивидуальный социалист. Христианский социализм еще в больше мере, чем этатизм, привержен представлению, что экономическая жизнь была бы совершенно стабильна, если бы спокойное ведение хозяйства не подвергалось давлению людей, стремящихся к прибыли и личной выгоде исключительно ради удовлетворения своих материальных интересов. Выгоды от совершенствования методов производства при этом признаются, но с ограничениями; при этом христианские социалисты не вполне отдают себе отчет, что именно эти усовершенствования нарушают мирное течение хозяйственной жизни. Если допустить, что они это понимают, придется признать, что они предпочитают существующее положение дел какому бы то ни было прогрессу. Сельское хозяйство, ремесло, может быть, и мелочная торговля — единственные достойные занятия. Торговля и спекуляция излишни, вредны и с нравственной точки зрения должны быть прокляты. Заводы и крупная промышленность суть порочные плоды «еврейского духа»; они выпускают скверные товары, которые всучиваются затем потребителям — к их ущербу — большими универмагами и другими чудищами современной торговли. Задача законодателей — пресечь эти злоупотребления, порождаемые духом предпринимательства, и вернуть ремеслу его место в производстве, которого оно лишилось из-за махинаций крупного капитала [225*]. Большие транспортные предприятия, без которых нельзя обойтись, следует национализировать.
Основная идея христианского социализма, сквозящая решительно во всех высказываниях, выглядит чисто стационарной. Ее приверженцы воображают себе хозяйство, в котором нет предпринимателя, нет спекуляции и «незаконной» прибыли. Цены и заработная плата — «справедливы». Каждый доволен судьбой, поскольку в противном случае это было бы восстанием против божественных и человеческих установлении. Неспособных к труду будет поддерживать христианская благотворительность. Считается, что идеал был уже достигнут в средние века. Только неверие могло увести человечество из этого рая. Чтобы восстановить идеал, мир должен прежде всего вернуться к церкви. Просвещение и либерализм — источник всех страданий, которые постигли сегодня мир.
Поборники христианского переустройства общества, как правило, не признают общественный идеал христианского социализма в какой-либо степени социалистическим. Но это просто самообман. Христианский социализм кажется консервативным потому, что намеревается сохранить существующие отношения собственности, или, говоря точнее, он кажется реакционным потому, что хотел бы восстановить и укрепить отношения собственности, существовавшие в прошлом. Верно и то, что он весьма энергично противостоит намерениям социалистов всякого иного толка ликвидировать частную собственность и в отличие от всех остальных утверждает, что ею цель — не социализм, а социальная реформа. Но консерватизм может быть реализован только через социализм. Там, где частная собственность на средства производства существует не только формально, но и на деле, там доход не может распределяться в соответствии с историческим или предустановленным образцом. Где есть частная собственность, там только рыночные цены могут влиять на формирование доходов. По мере уяснения этой истины христианский реформатор общества шаг за шагом движется к социализму, и для него это может быть только государственный социализм. Он должен согласиться, что ни в каком ином случае не удастся тот возврат к традиционному порядку вещей, которого требует его идеал. Он должен понять, что фиксированные цены и заработная плата могут существовать только там, где всякое отклонение пресекается вмешательством высшей власти. Он должен признать, что цены и заработную плату нельзя устанавливать произвольно, согласно идеям того, кто пришел усовершенствовать этот мир, ибо всякое отклонение от рыночных цен разрушает равновесие хозяйственной жизни. А значит, ему придется перейти от идеи регулирования цен к требованию централизованного контроля над производством и распределением. Эту эволюцию уже проделал реальный этатизм. В обоих случаях итог — жесткий социализм, который чисто формально сохраняет частную собственность, а на деле передает все управление средствами производства в руки государства.
Только часть христианских социалистов откровенно приняла эту радикальную программу. Остальные уклоняются от открытого признания. Они трусливо избегают логических выводов из своих построений. Они утверждают, что их цель — борьба только с издержками и недостатками капитализма; они отбрасывают упрек в малейшем намерении уничтожить частную собственность. Они постоянно подчеркивают свою противоположность марксистскому социализму. Но очень характерно, что эта противоположность сводится в основном к различию мнений о способах достижения наилучшего общественного устройства. Они не революционеры и ожидают прогресса только от растущей популярности реформ. Во всем остальном, как они постоянно декларируют, они не намерены нападать на частную собственность. Но им удастся сохранить только оболочку частной собственности. Если контроль над частной собственностью передать государству, владелец станет просто чиновником, представителем хозяйственного ведомства.
Несложно видеть, как именно соотносится современный христианский социализм с экономическим идеалом средневековых схоластиков. Они совпадают в требовании «справедливых» цен и заработков, т. е. исторически обусловленного распределения дохода. [209] Только осознание того, что это невозможно, пока существует частная собственность на средства производства, толкает современное движение христианских реформаторов в сторону социализма. Для достижения своих целей им приходится оправдывать меры, которые даже при формальном сохранении частной собственности ведут к полной социализации общества.
Позднее мы покажем, что этот современный христианский социализм не имеет ничего общего с гипотетическим коммунизмом ранних христиан, на который так часто ссылаются. Социалистическая идея — новинка для церкви. Этого не опровергает даже тот факт, что новейшее развитие христианской теории общества привело церковь к признанию фундаментальной оправданности частной собственности на средства производства, тогда как раннее учение церкви, подчинявшееся указанию евангелий на греховность всякого хозяйствования, избегало даже упоминаний о частной собственности. [226*] Следует понять, что церковь признала оправданность частной собственности только для противодействия усилиям социалистов опрокинуть существующий порядок. На деле церковь не желает ничего иного, кроме определенного рода государственного социализма.
Природа социалистического способа производства не зависит от конкретных методов, какими его пытаются достичь. Каждое устремление к социализму должно быть остановлено в нереализуемостью чисто социалистической экономики. Социализм обречен на провал именно по этой причине, а не из-за морального несовершенства человечества.
Можно принять, что моральные качества, требуемые от членов социалистического общества, лучше всего воспитываются церковью. В социалистическом обществе должна господствовать та же атмосфера, что и в религиозной общине. Но чтобы преодолеть трудности, неизбежные на пути построения социализма, потребуются такие изменения в природе человека или в законах окружающей его природы, что даже вера не сможет их обеспечить.
5. Плановая экономика
Так называемая плановая экономика (Planwirtschaft) есть новейшая разновидность социализма.
Каждая попытка реализации социализма быстро наталкивается на непреодолимые трудности. Это и случилось с прусским государственным социализмом. Провал политики национализации был столь велик, что его нельзя было игнорировать. Состояние обобществленных предприятий никак не вдохновляло на расширение государственного и муниципального управления хозяйством. Всю вину за это возложили на должностных лиц. Они сделали ошибку, исключив «деловых людей». Так или иначе, но дар предпринимательства должен быть поставлен на службу социализму. Из этой идеи возникло «смешанное» предприятие. Вместо полного огосударствления или муниципализации мы получаем частное предприятие с участием государства или муниципалитета. Таким образом, с одной стороны, удовлетворены запросы тех, кто полагает неправильным, что государство и муниципалитеты не имеют доли в прибылях предприятий, существующих под августейшим присмотром. Конечно, государство способно извлечь и извлекает свою долю с помощью налогов, причем намного эффективнее и без опасности ущерба для общественных финансов. С другой стороны, предполагается таким образом поставить активность предпринимателей на службу общим интересам. Но это грубая ошибка, ибо, как только представители правительства начинают участвовать в управлении, вступают в действие все силы, парализующие всякую чиновничью инициативу. «Смешанный» характер предприятия позволяет исключить формально его служащих и рабочих из под действия правил, связывающих государственных чиновников, и как следствие ослабить ущерб для прибыльности, проистекающий от привнесения официозности в предпринимательство. «Смешанные» предприятия ведутся в целом куда лучше, чем чисто правительственные. Но то, что при некоторых благоприятных условиях оказывается возможным успешное ведение национализированных предприятий, работающих в окружении частного бизнеса, не доказывает возможности полной социализации экономики.
Во время мировой войны власти Германии и Австрии пытались в условиях военного социализма оставить предпринимателей руководителями национализированных предприятий. Вынужденная трудными условиями войны поспешность мер по социализации, также как и то, что никто не представлял себе ни фундаментальных последствий новой политики, ни ее продолжительности, просто не оставляли другого выхода. Управление отдельными отраслями производства было поручено принудительно созданным ассоциациям предпринимателей, работавшим под правительственным надзором. Установление твердых цен и большие налоги на прибыль с несомненностью свидетельствовали, что в данном случае предприниматели были просто служащими, которые получили долю в прибылях. [227*] Система работала очень скверно. Тем не менее, раз уж не отказывались вовсе от идеи социализма, приходилось принимать именно такое решение, поскольку лучшего никто не придумал. Меморандум германского министерства экономики от 7 мая 1919 г., составленный Висселем и Меллендорфом [211], сухо констатирует, что социалистическому правительству ничего не остается, как сохранить систему, названную во времена войны «военной экономикой». [212] «Социалистическое правительство, — говорит меморандум, — не может игнорировать тот факт, что, отталкиваясь от ряда злоупотреблений, заинтересованные группы настроили общественное мнение против обязывающего планирования экономики; оно может улучшить систему планирования; оно может реорганизовать старую бюрократию; оно может через самоуправление перенести ответственность на самих трудящихся; но при этом оно должно заявить о своей приверженности системе обязывающего планирования; иначе говоря, о приверженности в высшей степени непопулярным понятиям долга и принуждения» [228*].
Модель плановой экономики предлагает такую организацию социалистического общества, при которой была бы решена неразрешимая проблема ответственности органов управления. Не только идейная основа этой модели порочна, но и предложенное решение является чистой фикцией. Тот факт, что этого обстоятельства не видят создатели и сторонники этой модели, говорит лишь об исключительных свойствах интеллекта чиновничества. Самоуправление отдельных территорий и подразделений производства имеет подчиненное значение, ибо центр тяжести хозяйственной деятельности лежит в согласовании интересов территорий и подразделений. Это согласование должно осуществляться как нечто единое; если этого не будет, мы получим синдикалистскую модель. На самом деле Виссель и Меллендорф предусматривают создание государственного экономического совета, который будет осуществлять «верховное управление хозяйством Германии в сотрудничестве с высшими компетентными органами государства» [229*]. В сущности это предложение означает только, что ответственность за результаты хозяйственного управления будет разделена между министерствами и органами второго ранга.
Социализм планового хозяйства отличается от прусского государственного социализма времен Гогенцоллернов главным образом тем, что привилегия управлять деловой активностью и распределением доходов, которая в последнем случае принадлежала юнкерам и бюрократам, здесь передается бывшим предпринимателям. [214] Это изменение порождено новизной политической ситуации, сложившейся в результате катастрофы, постигшей монархию, бюрократию, знать и офицерство; что же касается проблемы социализма, то здесь не содержится ничего нового.
В последние несколько лет было найдено новое слово для обозначения того, что прежде называли плановой экономикой: государственный капитализм. И нет сомнения, что в будущем появится еще множество рецептов по спасению социализма. Мы узнаем много новых имен для обозначения того же самого. Но имеет значение суть, а не ее название, и все новые модели такого рода не изменят природы социализма.
6. Гильдейский социализм
В первые годы после мировой войны люди в Англии и на континенте смотрели на гильдейский социализм как на панацею. [215] Он уже давно забыт. Но несмотря на это, не следует обходить его молчанием при обсуждении социалистических моделей. Ведь он представляет собой единственный вклад англосаксов — экономически самого развитого народа мира — в современные социалистические прожекты. Гильдейский социализм является еще одной попыткой разрешить нерешаемую проблему социалистического управления хозяйством. Для просвещения англичан не понадобилось опыта неудач с затеями государственного социализма; долгое господство либеральных идей спасло их от той сверхоценки возможностей государства, которая столь характерна для современной Германии. Английский социализм никогда не мог пересилить недоверия к способности правительства наилучшим образом управлять всеми человеческими делами. Англичане всегда осознавали значимость этой проблемы, которую едва замечали остальные европейцы до 1914 г.
В гильдейском социализме следует различать три момента. Он дает обоснование необходимости замены капитализма социализмом; в дальнейшем мы не будем обращаться к этой весьма эклектичной теории. Далее, гильдейский социализм предлагает путь к достижению социализма; для нас здесь важно только то, что этот путь легко может привести не к социализму, а к синдикализму. Наконец, он предлагает модель социалистической организации общества. Этим мы и займемся.
Целью гильдейского социализма является обобществление средств производства. Следовательно, вполне оправданно применение к нему термина «социализм». Уникальным в этом учении является проект административного устройства будущего социалистического государства. Производство должно управляться работниками отдельных производственных подразделений. Они выбирают мастера, управляющего и других хозяйственных руководителей, и они прямо и косвенно регулируют условия труда, определяют методы и цели производства. [230*] Гильдии, являющиеся организациями производителей, противостоят государству как организации потребителей. Государство имеет право облагать гильдии налогом и, таким образом, может регулировать их политику в области цен и заработной платы [231*].
Вера гильдейского социализма, что таким путем можно создать социалистический порядок, не угрожающий свободе индивидуума и позволяющий избежать всех тех дурных черт централизованного социализма, которые англичане презрительно называют пруссачеством — чистый самообман [232*]. Даже в организованном на основе гильдий социалистическом обществе конечный контроль над производством принадлежит государству. Только государство устанавливает цели производства и определяет, что нужно сделать для достижения этих целей. Прямо или косвенно — через налоговую политику — оно определяет условия труда, перемещает труд и капитал из одной отрасли в другую, обеспечивает взаимоприспособление элементов хозяйственного механизма и действует как посредник между самими гильдиями, а также между производителями и потребителями. Эти задачи, достающиеся государству, являются важнейшими и составляют самое существо контроля над хозяйством [233*]. На долю отдельных гильдий, а внутри их — на долю местных профсоюзов и отдельных предприятий достается только выполнение того, что им поручено государством. Вся система представляет собой попытку применить принципы политического устройства Англии к сфере производства, причем образцом служат отношения между центральным правительством и местным самоуправлением. Гильдейский социализм открыто характеризует себя как хозяйственный федерализм. Но в политическом устройстве либерального государства нетрудно предусмотреть определенную самостоятельность отдельных территориальных объединений. Необходимая координация между частями целого вполне обеспечивается тем, что каждая территориальная единица обязана вести свои дела в соответствии с законом. В случае производства этого далеко не достаточно. Общество не может предоставить самим работникам, занятым в определенных подразделениях производства, решение вопроса о количестве и качестве труда и затратах вещественных средств производства. [234*]
Если работники некоей гильдии трудятся менее ревностно или разбазаривают средства производства, это затрагивает уже не только их, но и все общество. Государство, на которое возложено управление производством, не может, следовательно, освободить себя от участия во внутригильдейских делах. Если оно не может вмешиваться непосредственно (назначая директоров и управляющих), тогда ему придется с помощью косвенных методов (может быть, манипулируя налогами или распределением потребительских благ) свести независимость гильдий на нет, оставив только ничего не значащую видимость. Ведь больше всего рабочие ненавидят непосредственного начальника, который с ними и день, и ночь, направляет их работу и надзирает за ними. Социальные реформаторы, которые наивно клюнули на чувства рабочих, могут верить в возможность заменить органы управления людьми, которых рабочие выберут на эти должности из доверия к ним. Это менее абсурдно, чем вера анархистов, что каждый готов безо всякого принуждения соблюдать правила общественной жизни, но не намного лучше. Общественное производство представляет собой такое единство, в котором каждая часть должна выполнять именно свои собственные функции в рамках целого. Нельзя дать части целого свободу произвольно устанавливать, как именно она будет приспосабливаться к общему действию. Если добровольно выбранный надсмотрщик не будет вкладывать в свою работу по надзору то же рвение и энергию, как тот, кого назначили на должность, производительность труда упадет.
Гильдейский социализм не устраняет ни одной из проблем, стоящих на пути реализации социалистического общества. Он делает социализм более приемлемым для англичан, поскольку заменяет слово «огосударствление», неприятное для английского уха, «самоуправлением в промышленности». Но в сущности он не предлагает ничего такого, что не входит в требования социалистов на континенте, — предоставить управление производством комитетам рабочих и служащих, а также потребителей. Мы уже говорили, что это не приближает нас к решению проблемы социализма.
Значительная часть популярности гильдейского социализма объясняется элементами синдикализма, который, по мнению многих приверженцев, в нем содержится. Правда, гильдейский социализм, по буквальным заявлениям его же представителей, не является синдикалистской доктриной. Но способы, которые они предлагают для достижения программных целей, могут очень легко привести к синдикалистским результатам. Если бы, например, национальные гильдии были созданы для начала в некоторых важных отраслях промышленности, которым пришлось бы работать в окружении капиталистического сектора, это означало бы синдикализацию отдельных отраслей. Здесь, как и везде, то, что кажется дорогой к социализму, на деле может оказаться путем к синдикализму.
Глава XVI. Псевдосоциалистическиесистемы
1. Солидаризм
В последние десятилетия мало кто избежал воздействия социалистической критики капитализма. Даже те, кто не намеревался капитулировать перед социализмом, учитывали в своей деятельности его критику системы частной собственности на средства производства. Так возникали плохо продуманные, эклектичные и слабые системы, имевшие целью сглаживание противоположностей. О них скоро забывали. Лишь одна из этих систем получила распространение — система, называвшая себя солидаризм. Родной дом этой системы — Франция; говорили, и не без оснований, что солидаризм является официальной социальной философией Третьей республики. [217] За пределами Франции термин «солидаризм» менее известен, но его идеи повсеместно получили социально-политическое признание в тех религиозно настроенных или консервативных кругах, которые не связали себя с христианским или государственным социализмом. Солидаризм не выделяется ни численностью сторонников, ни особенной глубиной теории. Определенный вес ему дает лишь влияние на множество лучших и благороднейших мужчин и женщин нашего времени.
Солидаризм начинает с заявления о гармонии интересов всех членов общества. Институт частной собственности на средства производства нужен и полезен всем, а не только владельцам; каждый пострадает от перехода к системе общественной собственности, угрожающей производительности общественного труда. Здесь солидаризм вполне совпадает с либерализмом. Затем, однако, их пути расходятся. Солидаристская теория утверждает, что принцип общественной солидарности не может быть реализован только системой, основанной на частной собственности на средства производства. Без каких-либо дополнительных аргументов, на основе идей, пущенных прежде в оборот социалистами, особенно немарксистского толка, солидаристы отрицают концепцию, согласно которой в рамках правового порядка, гарантирующего охрану собственности и свободы, частные интересы сами собой приходят в соответствие с целями общественного сотрудничества. Люди в обществе, в силу самой природы совместной жизни, вне которой они не могут существовать, взаимно заинтересованы в благополучии своих близких; их интересы «солидарны», в силу чего они должны действовать «солидарно». Но сама по себе частная собственность на средства производства не могла обеспечить солидарности в обществе с разделением труда. Чтобы достичь солидарных действий, необходимы некоторые меры. Более этатистски настроенное крыло намеревается обеспечить «солидарность» с помощью государственных мероприятий: законодательство должно обязать собственников учитывать интересы бедняков и общее благо. Более церковно ориентированное крыло солидаризма предполагает достичь той же цели обращением к совести: не государственные законы, но нравственные предписания, христианская любовь должны привести индивидуума к выполнению общественного долга.
Представители солидаризма воплотили свои социально-философские взгляды в блистательных эссе, демонстрирующих благородство и утонченность французской культуры. Никому не удавалось лучше, в столь красивых словах изобразить зависимость человека от общества. Пальма первенства здесь у Сюлли-Прюдома. [218] В знаменитом сонете он изображает поэта, проснувшегося после мрачного сна, в котором он увидел себя живущим в обществе, не знающем разделения труда, где никто не хочет работать для другого — «Seul, abandonne de tout le genre humain» <«Одиноким, покинутым человечеством»>. Это приводит его к пониманию
«...qu'au siecle ou nous sommes Nul ne peut se vanter de se passer des hommes Et depuis ce jour-la, je les ai tous aimes» <»... в нашем веке Никто не может изменить все человечество; И с этого дня я возлюбил каждого из людей» (фр.)>.Они также превосходно владели искусством прямо говорить о своих целях, используя теологические или юридические аргументы [235*]. [236*] Но все это не должно скрывать от нас внутренней слабости теории. Солидаристская теория представляет собой темную эклектику, и она не заслуживает специального рассмотрения. Гораздо больше нас интересует общественный идеал солидаризма, который претендует на то, чтобы, «избежав ошибок индивидуализма и социализма, сохранить все лучшее, что есть в обеих системах» [237*].
Солидаризм предполагает сохранить частную собственность на средства производства. Но над собственником он намерен поставить кого-то — то ли закон и государство, то ли совесть и церковь, — кто будет следить, чтобы собственник правильно использовал собственность. Эта вышестоящая инстанция должна предотвращать «неумеренное» использование хозяйственных полномочий; владение собственностью подлежит определенным ограничениям. Таким образом, государство или церковь, закон или совесть становятся определяющими факторами жизни общества. Собственность подчинена их нормам, она перестает быть основным и конечным элементом общественного порядка. Она сохраняется лишь в той степени, какая допускается законом или моралью; иными словами, собственность отменяется, поскольку владелец должен управлять ею не в соответствии с интересами самой собственности, но подчиняясь совсем иным принципам. Ничего нельзя сказать против того, что при всех обстоятельствах собственник обязан подчиняться нормам права и морали и что всякий правовой порядок признает законность владения только в рамках определенных норм. Ведь если эти нормы направлены только на обеспечение свободы собственности и на охрану нерушимости права на собственность, пока она в результате договора не перешла к другому владельцу, тогда они содержат всего лишь признание частной собственности на средства производства. Солидаризм, однако, не считает эти нормы достаточными для успешной координации труда членов общества. Солидаризм намерен подчинить их иным нормам, и эти другие нормы образуют основной закон общества. Уже не частная собственность, но правовые и нравственные предписания особого типа становятся основным законом общества. Солидаризм замещает принцип частной собственности «высшим правом», другими словами, он низвергает собственность.
На деле, конечно, солидаристы не намерены идти так далеко. По их словам, они хотели бы сохранить собственность, только ограничив ее. Но поставить собственности границы иные, чем обусловлено ее собственной природой, — это и значит уничтожить собственность. Если собственник свободен только в рамках определенных предписаний, тогда национальную экономическую деятельность будет определять не собственность, но эта предписывающая инстанция.
Солидаризм желает, например, регулировать конкуренцию; она не должна вести к «упадку среднего класса» или «к угнетению слабых» [238*]. Это ведь означает только то, что нужно законсервировать данное состояние общественного производства, хотя в условиях частной собственности оно бы не устояло. Владельцу указывают, что, в каком количестве и как он должен производить, на каких условиях и кому сбывать произведенное. Таким образом, он перестает быть собственником. Он превращается в привилегированного гражданина плановой экономики, в чиновника, имеющего право на особый доход.
Кто определит в каждом отдельном случае, сколь далеко зайдет ограничение прав собственника законом или этическими нормами? Только сам закон или моральный кодекс.
Если бы сам солидаризм осознавал последствия выбранных им предпосылок, его, конечно, следовало бы отнести к одной из разновидностей социализма. Но в нем и близко нет такого ясного понимания. Солидаризм верит в свое коренное несходство с государственным социализмом [239*], и большая часть его последователей ужаснулась бы, узнав, что же на деле означает их идеал. В силу этого общественный идеал солидаризма можно числить среди псевдосоциалистических явлений. Но при этом следует осознавать, что от социализма его отделяет только один шаг. Лишь интеллектуальная атмосфера Франции, в целом благоприятная для либерализма и капитализма, помешала французским солидаристам и иезуиту Пешу, экономисту, находившемуся под сильным влиянием французского духа, перешагнуть решающую черту между солидаризмом и социализмом. Однако многих, которые все еще называют себя солидаристами, следует считать полными этатистами. Шарль Жид, например, — один из них. [220]
2. Разные планы экспроприации
Кульминацией докапиталистических движений за реформу собственности обычно было требование равенства благосостояния. Все должны быть равно богатыми; никто не должен иметь больше или меньше другого. Равенство должно быть достигнуто переделом земли и увековечено запретом продавать и закладывать землю. Конечно, это не социализм, хотя порой его и называют аграрным социализмом.
Социализм вовсе не желает раздела средств производства и стремится к большему, чем простая экспроприация; целью его является организация производства на базе общей собственности на средства производства. Значит, не следует считать социализмом всякое предложение по экспроприации средств производства; в лучшем случае оно может толкать на путь, ведущий к социализму.
Если, например, предлагается ограничить собственность одного лица неким максимумом, то это предложение окажется социалистическим только в том случае, если отбираемые излишки отойдут государству в качестве базы социалистического производства. Тогда этот план окажется просто предложением по обобществлению имущества. Легко видеть, что это предложение нецелесообразно. Величина обобществляемого таким путем имущества будет зависеть от величины легального максимума. Если разрешено будет владеть совсем небольшим состоянием, то предлагаемая система мало чем отличается от непосредственного обобществления. Если в собственности индивидуума будет разрешено оставить много имущества, то результаты обобществления средств производства окажутся малосущественными. В любом случае при этом не избежать целого ряда непредвиденных последствий. Ведь как раз самые энергичные и деятельные предприниматели будут преждевременно исключены из сферы хозяйственной деятельности, а те богатые люди, состояние которых близко к узаконенной границе, будут побуждены к расточительному образу жизни. Ограничение индивидуального богатства должно замедлить процесс образования капитала.
Подобные рассуждения приложимы и к нередким предложениям отменить право наследования. Отмена права наследования и права дарения, которое можно было бы использовать, чтобы обойти запрет на наследование имущества, не приведет к полному социализму, хотя и передаст в руки государства за время жизни одного поколения существенную часть средств производства. Но прежде всего такое установление замедлит формирование новых капиталов и вызовет проедание части существующих.
3. Участие в прибылях
Группа благонамеренных писателей и предпринимателей рекомендует предоставлять рабочим и служащим долю в прибыли. Прибыли более не принадлежат исключительно предпринимателю; они должны быть поделены между предпринимателем и рабочими. Доля в прибыли предприятия должна являться дополнением к заработной плате. Энгель [221] уверен, что это «решение удовлетворит обе враждующие партии и, значит, разрешит социальный вопрос». [240*] Большинство сторонников системы участия в прибылях придают ей не меньшее значение.
Предложение передавать рабочим часть предпринимательской прибыли возникло из представления, что при капитализме предприниматель лишает рабочих части того, на что они имеют право. В основе замысла — смутная концепция неотъемлемого права на «полный» продукт труда, т. е. теория эксплуатации в ее популярной и наиболее наивной форме. [222] Защитники этого представления изображают социальный вопрос как борьбу за предпринимательскую прибыль. Социалисты хотят отдать ее рабочим, предприниматели также претендуют на нее. Приходит некто с рекомендацией покончить борьбу компромиссом: каждая сторона получает часть того, на что претендует. При этом вес выигрывают. Предприниматели выигрывают, поскольку их требование заведомо несправедливо; рабочие — потому что получают без борьбы существенную прибавку к доходу. Это направление мысли, которое толкует проблему общественной организации труда как правовую проблему и пытается урегулировать исторический спор, как если бы это было противостояние двух лавочников при разделе спорной суммы, является заблуждением в такой степени, что дальнейшее обсуждение его просто не имеет смысла. Либо частная собственность на средства производства является необходимым установлением человеческого общества, либо нет. Если нет, ее можно и должно уничтожить, и нет резона останавливаться здесь на полпути ради личных интересов предпринимателей. Если, однако, частная собственность необходима, тогда нет нужды в других оправданиях ее существования и не следует ослаблять ее социальную полезность частичной отменой.
Сторонники участия в прибылях полагают, что эта система побудит рабочих к более ревностному выполнению обязанностей, чем когда рабочий не заинтересован в доходности предприятия. И здесь они заблуждаются. Где эффективность труда не подорвана всеми видами разрушительного социалистического саботажа, где рабочего легко уволить, а его заработок можно привести в соответствие с производительностью без оглядки на коллективный договор, нет нужды в других стимулах, чтобы сделать его прилежным. [223] В таких условиях рабочий прекрасно отдает себе отчет в том, что его заработная плата зависит от его труда. Когда же эти факторы отсутствуют, перспектива получить долю в прибыли не побудит его делать больше, чем формально необходимо. Хоть и на другом уровне, но перед нами та же проблема преодоления тягот труда, которую мы уже рассматривали применительно к социалистическому обществу. Из дохода, приносимого дополнительным трудом, все тяготы которого несет сам рабочий, он получает лишь часть, которая далеко не оправдывает дополнительных усилий.
Если система участия в прибылях проводится индивидуально, так что каждый рабочий участвует в прибылях только того предприятия, на котором он работает, тогда — без сколь нибудь основательных причин — возникает разница в доходах, не выполняющая экономических функций, представляющаяся полностью неоправданной и которую все должны считать несправедливой. «Недопустимо, чтобы токарь в одном месте зарабатывал двадцать марок и получал еще десять как долю в прибыли, тогда как токарь в конкурирующем заведении, где дела идут хуже, может быть, из-за дурного управления, получал только двадцать марок. Это приведет либо к возникновению «ренты», и, возможно, рабочие места с этой «рентой» будут продаваться, либо к тому, что рабочий скажет своему предпринимателю: «Мне плевать, где ты возьмешь тридцать марок; если мой коллега получает их, я тоже хочу»» [241*]. Такая схема участия в прибылях должна вести прямо к синдикализму, даже если при этом варианте синдикализма предприниматель сохранит еще часть предпринимательской прибыли.
Можно, однако, попробовать и другой путь. Не отдельные рабочие, но все граждане будут участвовать в прибылях; часть прибылей всех предприятий распределяется между всеми без различия. Это уже реализовано в системе налогов. Задолго до войны акционерные компании в Австрии выплачивали государству и другим налоговым инстанциям от 20 до 40 процентов чистой прибыли, а в первые годы мира эта доля составила 60–90 процентов и выше. «Смешанные» предприятия представляют собой попытку найти форму для участия общества в управлении предприятием в обмен на предоставление части капитала. Но и здесь нет оснований останавливаться на полпути в деле уничтожения частной собственности, если только общество может совершенно уничтожить это установление без ущерба для производительности труда. Если, однако, уничтожение частной собственности ведет к ущербу, то и частичное ее уничтожение также оборачивается вредом, причем на деле полумеры могут оказаться не менее разрушительными. Защитники «смешанных» предприятий обычно говорят, что они оставляют место для существования предпринимательства. Но мы уже показали, что деятельность государства или муниципалитетов сковывает свободу предпринимательских решений. Предприятие, вынужденное сотрудничать с чиновничеством, неспособно использовать средства производства так, как это диктуется интересами извлечения прибыли [242*].
4. Синдикализм
Как политическая тактика синдикализм представляет собой особое средство борьбы организованных рабочих для достижения их политических целей. Такой целью может быть и создание истинного, централизованного социализма, иными словами — обобществление средств производства. Но термин «синдикализм» используется и в ином смысле, как обозначение особого рода социально-политической цели. При этом синдикализм понимается как направление, стремящееся к установлению общественного строя, при котором рабочие являются непосредственными собственниками средств производства. Здесь нас интересует синдикализм только как цель; синдикализм как движение, как политическую тактику мы рассматривать не будем.
Синдикализм как цель и синдикализм как политическая тактика не всегда совпадают. Многие группы, взявшие на вооружение синдикалистский метод «прямого действия», стремятся к созданию социалистического общества. В то же время попытки реализовать цели синдикализма не обязательно связаны с рекомендованным Ж. Сорелем насилием. [225]
В сознании рабочих масс, причисляющих себя к социалистам или коммунистам, синдикализм как цель великого переворота по меньшей мере столь же жизнен, как и социализм. «Мелкобуржуазные» идеи, с которыми боролся Маркс, широко распространены даже среди социалистов марксистского толка. Множество людей стремятся не к подлинному социализму, т. е. не к централизованному социализму, а к синдикализму. Работник хочет быть господином средств производства, которые используются на его предприятии. С каждым днем общественные движения все более отчетливо показывают, что именно это, и ничто другое, есть желание работников. В противоположность социализму, который является плодом кабинетных исследований, идеи синдикализма есть плод ума обычного человека, всегда враждебного «незаработанному» доходу, достающемуся не ему, а другим. Подобно социализму синдикализм стремится к тому, чтобы устранить отчуждение работника от средств производства, правда, иными методами. Не все работники станут владельцами всех средств производства; работники конкретного этого предприятия или отрасли получат средства производства именно этого производства или отрасли. Железные дороги — железнодорожникам, рудники — горнякам, заводы — заводским рабочим. Таков лозунг.
Нам следует игнорировать всякие причудливые планы реализации синдикалистских программ, обратив все внимание на анализ того общественного строя, который логически должен возникнуть вследствие реализации главных принципов учения. Это нетрудно. Все меры, нацеленные на то, чтобы отнять средства производства у предпринимателей, капиталистов и землевладельцев без того, чтобы передать эти средства всем гражданам, проживающим на данной территории, должны рассматриваться как синдикализм. Не имеет никакого значения, как и какие ассоциации сформированы в таком обществе. Неважно, охватывают ли ассоциации отдельные отрасли производства, либо отдельные предприятия, либо даже отдельные цехи. В сущности результат почти не меняется даже от того, крупнее или мельче клетки, на которые делится общество, — подразделяется ли оно по вертикали или по горизонтали. Единственным решающим моментом является то, что гражданин такого общества владеет долей некоторых средств производства и при этом как собственник противостоит другим, не владеющим долей в них, а в некоторых случаях, например при неспособности к труду, не владеющим вовсе ничем. Вопрос о том, будет ли при этим существенно меняться доход работника, для нас также неважен. Большинство рабочих имеют абсолютно фантастические представления о росте благосостояния, которого можно ожидать при синдикалистском переустройстве собственности. Они уверены, что даже простое перераспределение того, чем владели предприниматели, капиталисты и землевладельцы при капитализме, должно существенно увеличить доход каждого из них.
Кроме того, они ожидают значительного роста производства в промышленности, потому что они сами — опытные эксперты! — будут управлять предприятием и потому что каждый работник будет лично заинтересован в процветании предприятия. Работник будет отныне работать не на чужака, а на себя лично. Либерал представляет себе все это иначе. Он отмечает, что распределение среди рабочих от ренты и прибыли лишь незначительно увеличит их доходы. Кроме того, он полагает, что предприятия, управляемые не предпринимателями, преследующими личные интересы, а рабочими лидерами, не вовлеченными в предпринимательство, будут приносить меньший доход. В результате рабочие станут зарабатывать не больше, а существенно меньше, чем в условиях свободной экономики.
Если синдикалистская реформа просто ограничится передачей отдельным группам работников собственности на используемые ими средства производства, оставив в остальном капиталистическую систему собственности, результатом будет всего лишь примитивное перераспределение богатства. Перераспределение благ с целью восстановления равенства собственности и доходов — есть тайная мысль каждого обывателя, когда он задумывается о реформировании общества. Эта же идея составляет основу всех популярных предложений по социализации. Это вполне понятно в случае наемных сельскохозяйственных работников, для которых высшей целью является приобретение дома и достаточного для содержания себя и семьи земельного участка: в условиях деревни перераспределение есть популярное и вполне понятное решение социальных проблем. В промышленности, в горном деле, в системах связи, в торговле и в банковском деле, где физическое перераспределение средств производства неосуществимо, мы встречаем стремление к перераспределению прав собственности при сохранении единства отрасли или предприятия. Такой простой передел в лучшем случае сможет на время устранить неравенство в распределении дохода и имущества.
Но через короткое время часть новых собственников промотает свои доли, а другие обогатятся, приобретя доли хозяйствующих менее удачно. Значит, появится нужда в постоянном перераспределении, которое будет служить просто наградой мотовству и расточительству — словом, всем видам неэкономности. Не будет стимулов для экономии, если плоды труда прилежных и бережливых постоянно передавать в руки ленивых и расточительных.
Но даже этого результата — временного достижения равенства доходов и имущества — нельзя достичь в результате синдикализации, ибо она ни в коем случае не обещает всем рабочим одно и то же. Ценность средств производства в различных отраслях непропорциональна числу занятых рабочих. Нет нужды говорить о том, что есть продукты, на производство которых расходуется относительно большее количество такого фактора производства, как труд, и меньшее количество природных факторов. Даже в историческом начале производственной деятельности распределение факторов производства вело к неравенству. В еще большей степени с этим столкнется синдикализация на далеко продвинутой стадии накопления капитала, когда делению подлежат не только природные производственные факторы, но и произведенные средства производства. Ценность того, что достанется отдельному работнику при такого рода распределении, окажется весьма различной: некоторые получат больше, другие — меньше, а в результате некоторые будут извлекать больший доход от собственности (незаработанный доход!), чем другие. Синдикализация никоим образом не является средством достижения равенства доходов. Она устраняет существующее неравенство доходов и собственности и заменяет его другим. Конечно, можно рассматривать синдикалистское неравенство как более справедливое, чем неравенство капиталистическое, но по этому вопросу у науки не может быть суждения.
Если синдикалистская реформа должна значить что-то большее, чем простое перераспределение производительных благ, тогда нельзя допустить сохранения капиталистической организации собственности на средства производства. Придется изъять из оборота производительные блага. Придется запретить отдельным гражданам отчуждение выделенных им долей в средствах производства. При синдикализме эта долевая собственность будет намного более тесно связана с личностью владельца, чем в либеральном обществе. Можно по-разному регламентировать, при каких условиях и каким образом допустимо ее отделение от личности.
Наивная логика защитников синдикализма предполагает, что общество будет пребывать в совершенно неизменном состоянии, а потому не уделяет ни малейшего внимания проблеме адаптации системы к изменениям в условиях хозяйствования. Если предположить, что не будет никаких изменений ни в методах производства, ни в структуре спроса и предложения, ни в технике, ни в населении, тогда все окажется в полном порядке. Каждый работник заводит только одного ребенка, и покидает этот мир в тот момент, когда его единственный преемник и наследник становится пригодным к работе; сын заступает непосредственно на место отца. Пожалуй, можно представить себе, что будет позволен добровольный обмен профессиями и рабочими местами при одновременном обмене долями в соответствующем производстве. Но в остальном синдикалистское общество с неизбежностью предполагает жесткую кастовую систему и полное прекращение каких-либо изменений в производстве, а значит, и в жизни. Такое простое событие, как смерть бездетного гражданина, разрушит это общество, вызовет проблемы, которые окажутся совершенно неразрешимыми в логике этой системы.
В синдикалистском обществе доход гражданина состоит из дохода от его доли в собственности и из заработной платы. Если долю в собственности на средства производства можно свободно передавать по наследству, тогда в очень короткое время возникнут различия в обеспеченности собственностью, даже если все остальное будет неизменным. Даже если в начале синдикалистской эпохи будет преодолено отчуждение работников от средств производства, так что каждый гражданин будет одновременно и предпринимателем, и работником собственного предприятия, может случиться, что чуть позже граждане, не имеющие отношения к какому-либо предприятию, станут его совладельцами. И это очень быстро приведет к новому отделению труда от собственности, хотя и без преимуществ, которые предоставляет капиталистическое устройство общества [243*].
Каждое изменение в экономике чревато проблемами, которые разрушат синдикализм. Изменения в структуре и объеме спроса или в технике производства могут сделать необходимыми изменения в организации производства, влекущие за собой перевод работников с одного предприятия или из одной отрасли в другие.
Немедленно возникает вопрос: что же делать с собственностью работников на средства производства? Нужно ли позволить рабочим и их наследникам сохранить право собственности на долю в тех предприятиях, на которых они трудились в начальный момент синдикализации, а на других производствах быть простыми работниками, получающими свой заработок и не имеющими никакого права на долю в доходе? Либо при таком переходе у них следует отбирать прежнюю долю и наделять их новой собственностью на средства производства на новом предприятии, равной тому, чем владеют новые коллеги? Любое решение ведет к быстрому разрушение принципов синдикализма. Если к тому же работнику позволить распоряжаться своей долей в собственности на средства производства, тогда условия постепенно вернутся к тому, что было до реформы. Если работник при переходе с места на место будет менять одновременно и свой пай в средствах производства, тогда те работники, кому предстоит потерять от такого перехода, будут, вполне естественно, со всей энергией сопротивляться любому изменению производства. Внедрение новинок, ведущих к повышению производительности труда, будет встречено сопротивлением, если оно чревато перемещением работников с места на место. В то же время работники каждого производства или отрасли будут сопротивляться любым изменениям, влекущим за собой появление новых работников и как следствие сокращение дохода от собственности. Короче говоря, синдикализм сделает практически невозможным любое изменение производства. Там, где он воцарится, не может быть и речи об экономическом прогрессе.
Синдикализм как цель настолько абсурден, что, вообще говоря, он не нашел даже последователей, которые бы взялись открыто выступить в его защиту. Те, кто отстаивал его под именем «социализма содружества», никогда не продумывали проблемы до конца. Синдикализм не что иное, как идеал грабящей толпы.
5. Частичный социализм
Естественное право собственности на средства производства делимо. В капиталистическом обществе, как правило, так оно и происходит [244*]. Но власть распоряжаться, которая принадлежит тому, кто управляет производством, и которую мы только и обозначаем как собственность, неделима и не может быть ограничена. Она может принадлежать одновременно нескольким людям как совместная собственность, но не может быть разделена в том смысле, что право распоряжаться нельзя разделить на отдельные права отдавать команды. Власть распоряжаться использованием средств производства может быть только единой; невозможно представить, чтобы ее можно было разделить на отдельные элементы. Собственность в естественном смысле не может быть ограничена; когда говорят об ограничениях, имеют в виду либо уточнение слишком вольных юридических формулировок, либо тот факт, что владельцем в естественном смысле является в данном конкретном случае кто-то другой, а не личность, которую закон признает владельцем.
В силу этого рассуждения нужно оценить все попытки компромиссного снятия противоположности между общественной и частной собственностью на средства производства как ошибочные. Собственность всегда там, где есть право распоряжения [245*]. Следует признать, что системы государственного социализма и плановой экономики, которые хотели бы сохранить формы частной собственности, подчиняя при этом собственника государственным распоряжениям, ведут к обобществлению собственности и являются в полном смысле слова социалистическими системами. Частная собственность существует только там, где индивидуум может распоряжаться своей собственностью на средства производства наиболее выгодным для себя образом. То, что при этом он служит и другим членам общества, поскольку в обществе с разделением труда каждый является слугой всех, а все являются господами каждого, никоим образом не отменяет того факта, что индивидуум сам выбирает путь лучшего служения.
Компромисса не достичь и в том случае, если предоставить часть средств производства в распоряжение общества и оставить остальное индивидуумам. Такие две системы просто существуют рядом, без взаимосвязи, и каждая из них действует только в своей сфере. Подобная мешанина в принципах социальной организации должна каждому казаться бессмысленной. Для каждого естественно стремление воплотить до конца тот принцип, который он считает верным. Ни с какой стороны нельзя обосновать утверждение, что та или иная система является наилучшей для определенной группы средств производства. Там, где мы встречаемся с такими утверждениями, на самом деле провозглашается требование, чтобы эта система была распространена по крайней мере на одну группу средств производства или чтобы она охватывала не более чем одну группу. Компромисс является всегда только временной передышкой в борьбе двух принципов, а не результатом логического продумывания проблемы. С точки зрения каждой из сторон, полумеры есть только временная передышка на пути к полному успеху.
Самые известные и уважаемые компромиссные построения исходят из того, что полумеры могут оказаться постоянными установлениями. Реформаторы сельского хозяйства хотят социализации природных факторов производства, но в остальном намерены сохранить частную собственность на средства производства. Значит, они исходят из предположения, рассматриваемого как самоочевидное, что общественная собственность на средства производства приносит больший доход, чем частная собственность. Поскольку для них земля представляется самым важным средством производства, они хотят передать ее в руки общества. Когда опровергнуто утверждение, что общественная собственность дает лучшие результаты, чем частная, идея земельной реформы также терпит поражение. Тот, кто рассматривает землю как важнейшее из средств производства, должен, конечно же, защищать частную собственность на землю, если, конечно, он считает частную собственность более прогрессивной формой организации хозяйства.
Часть III. Предполагаемая неизбежность социализма
Раздел I. Социальная эволюция
Глава XVII. Социалистический хилиазм
1. Происхождение хилиазма
Социализм черпает силу из двух разных источников. С одной стороны, он представляет собой этический, политический и экономико-политический вызов. Социалистическое устройство общества, которое реализует требования высшей нравственности, должно заменить «аморальную» капиталистическую экономику; «экономическое господство» немногих над массой должно уступить место строю сотрудничества, который один только сделает возможной истинную демократию; плановая экономика, единственная рациональная система, работающая согласно единым принципам, сметет прочь иррациональную частную экономику, анархическое производство ради прибыли. Социализм в результате предстает в качестве цели, к которой следует стремиться ради ее моральной и рациональной желательности. И задачей человека, желающего блага, становится преодоление сопротивления социализму, поскольку оно держится только на непонимании и предрассудках. Такова основная идея того социализма, который Маркс и его ученики называют утопическим.
С другой стороны, однако, социализм предстает как неизбежная цель и конец исторической эволюции. Темная непреодолимая сила влечет человечество шаг за шагом ко все более высоким уровням социального и морального бытия. История есть прогрессивный процесс очищения, который достигает совершенства в форме социализма, и это — конец истории. Такое направление мысли не противоречит идеям утопического социализма. Скорее оно включает их, поскольку предполагает как нечто самоочевидное, что социалистическая жизнь будет лучше, благороднее и прекраснее, чем несоциалистическая. Это направление мысли идет даже дальше: оно рассматривает движение к социализму как прогресс, как эволюционное восхождение к более высокой стадии, нечто независимое от воли человека. Социализм — природная необходимость, неизбежное порождение сил, движущих общественную жизнь, — такова основная идея эволюционного социализма, который в марксистской своей форме выбрал гордое имя «научного» социализма.
В недавний еще времена ученые пытались доказать, что основные положения материалистической или экономической концепции истории были выдвинуты домарксистскими авторами, в том числе такими, которых Маркс и его сторонники презрительно называли утопистами. Эти исследования и содержащаяся в них критика материалистической концепции истории, однако, слишком сузили проблему. Они сконцентрировались на марксистской теории эволюции, на экономической природе движущих сил этой эволюции, на вытекающем отсюда значении классовой борьбы и забыли при этом, что это также учение о совершенствовании, теория прогресса и развития.
Материалистическая концепция истории содержит три элемента, образующих замкнутую систему, но при этом обладающих и отдельной значимостью для марксистской теории. Во-первых, особый метод исторических и социальных исследований, призванный объяснить отношения между структурой экономики и всеми особенностями жизни изучаемого времени. Во-вторых, социологическая теория, поскольку она утверждает определенную концепцию классов и классовой борьбы. Наконец, теория прогресса, учение о предназначении рода человеческого, о смысле и природе, о целях и задачах человеческой жизни. На этот аспект материалистической концепции истории было обращено меньше внимания, чем на два других, при том, что только он один имеет отношение к теории социализма как таковой. В качестве простого метода исследования, эвристического принципа познания эволюции общества материалистическая концепция истории не может ничего сказать о неизбежности социалистического строя. Из исследований экономической истории нельзя с необходимостью заключить, что человечество движется к социализму. То же самое справедливо и относительно теории классовой войны. Если история всех предыдущих обществ является историей борьбы классов, непонятно, почему эта борьба должна внезапно прекратиться. Почему не предположить, что то, что всегда было содержанием истории, останется им до самого конца. Только являясь теорией прогресса, материалистическая концепция истории может поставить вопрос о конечной цели исторической эволюции и высказать утверждение, что упадок капитализма и победа пролетариата равно неизбежны. Вера в неизбежность социализма больше, чем любая другая идея, ответственна за популярность социалистических идей. Она зачаровала даже большую часть противников социализма: их сопротивление оказывается бессильным. Образованный человек боится упрека в несовременности, если он не выказывает близости к социалистическим идеям: ведь эра социализма, исторический день четвертого сословия уже наступили, и всякий, кто все еще привержен идеям либерализма, — реакционер. [226] Каждая победа социалистической идеи, приближающая нас к торжеству социалистического способа производства, оценивается как прогресс; каждое мероприятие по защите частной собственности — как отступление. Одна сторона вызывает сожаление или еще более сильные эмоции, другая — восхищение: эпоха частной собственности уходит, и все убеждены, что история осудила ее на окончательное уничтожение.
Как теория прогресса, выходящая за пределы опыта и практики, материалистическая концепция истории представляет собой не науку, но метафизику. [227] Существом всякой исторической и эволюционной метафизики является доктрина начала и конца, происхождения и назначения вещей. Все эти темы воспринимаются либо космически, с охватом всего мироздания, либо антропоцентрически, сосредоточиваясь лишь на человечестве. Метафизика может быть религиозной или философской. Метафизические теории антропоцентрической эволюции известны как философия истории. Религиозные теории эволюции неизбежно являются антропоцентрическими, поскольку высокое значение человека в религиозном учении может быть оправдано только антропоцентрической доктриной. Эти теории, как правило, предполагают райское начало, Золотой век, из которого человек уходит все дальше и дальше, чтобы прийти, наконец, к столь же, а если возможно, и еще более блаженному времени совершенства. Обычно во всем этом участвует идея спасения. Возвращение Золотого века спасет человека от грехов, которые довлели над ним в эпоху зла. И вся доктрина в целом оказывается посланием о земном спасении. Ее не следует путать с теми доктринами, в которых спасение ожидает человека не в этой жизни, а в ином мире, и которые представляют собой самое возвышенное выражение религиозной идеи. Согласно этим доктринам земная жизнь человека не есть конец всего. Это просто приготовление к иной — лучшей и лишенной страданий — жизни, которая может быть даже предвосхищена в состоянии несуществования, в растворении во всем или в разрушении.
Для нашей цивилизации весть о спасении, идущая от иудейских пророков, приобрела особую значимость. Иудейские пророки не обещали спасения в лучшем потустороннем мире, они провозглашали царство Божие на земле. «Вот наступят дни, -- говорит Господь, ~ когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград — сеятеля; и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут» [246*]. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей: ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море.» [247*] Такое послание принимается с восторгом только когда спасение обещано в ближайшем будущем. И на самом деле, Исайя говорит, что «еще немного, очень немного», отделяет человека от заветного часа [248*]. [228] Но чем больше приходится ждать, тем нетерпеливее становятся верующие. Что за благо для них в Царстве спасения, если они не доживут до этой радости! В силу этого обещание спасения должно претвориться в доктрину воскрешения мертвых, так что каждый предстанет пред Господом, чтобы взвесили его добро и его зло.
Иудаизм был полон такого рода идеями в то время, когда Иисус явился среди своего народа как Мессия. Он пришел не только для того, чтобы провозгласить близкое спасение, но и во исполнение пророчества — как податель царства Божия. [249*] Он ходит среди людей и учит, но мир следует старыми путями. Он умирает на кресте, но все остается как встарь. И это поначалу глубоко потрясло веру его учеников. На какое-то время они сникли в изнеможении, и первая малая община верующих распалась. Только вера в воскрешение распятого Христа вернула им воодушевление, наполнила новым восторгом и дала силы завоевывать новых приверженцев доктрины спасения [250*]. Они проповедуют то же послание о спасении, что и Христос: Господь близок, а с ним и великий Судный день, когда мир обновится, и царство Божие займет место земных царств. Но по мере того как надежды на скорое второе пришествие не оправдывались и умножившиеся общины настраивались на долгое ожидание, вере в спасение также пришлось изменяться. Устойчивая мировая религия не могла быть основана на вере в близость царства Божия. Каждый день неисполненного пророчества вел бы к подрыву авторитета церкви. Фундаментальная идея первоначального христианства, что царство Божие уже рядом, должна была преобразиться в культ Христа: в веру в то, что воскресший Господь таинственно присутствует в общине верующих и что Он спас этот грешный мир. Только так могла быть создана христианская церковь. С момента этой трансформации христианское учение порывает с ожиданием царства Божия на земле. Идея спасения была сублимирована в учение о том, что в результате крещения верные становятся частью Христова тела. «Уже в апостольские времена царство Божие сливается с церковью и место ожидания царства Божия занимает прославление церкви, презрение к земному и суетному и освобождение сияющего сокровища из смертной оболочки. В остальном царство Божие было заменено эсхатологией Рая, Ада и Чистилища, бессмертия и потустороннего бытия — какой контраст с превозносимыми Евангелиями. Но даже этот компромисс перестал действовать, и наконец место церкви заняла идея Золотого века [251*].
Был, однако, и другой способ выйти из трудности, созданной долгим неисполнением обещанного пророчеством. Верующие могли найти прибежище в учении, которое некогда поддерживало пророков. Согласно этому учению будет установлено земное тысячелетнее царство спасения. Осужденное церковью как ересь, это учение о зримом возвращении Христа постоянно возрождается не только как религиозное и политическое верование, но, прежде всего как идея социальной и экономической революции. [229]
От христианского хилиазма, который прошел сквозь столетия, постоянно находя новые источники силы, лишь один шаг до философского хилиазма, ставшего в XVIII веке рационалистической интерпретацией христианства, а от него, последовательно, через Сен-Симона, Гегеля и Вейтлинга, — к Марксу и Ленину [252*]. [230] Достаточно забавно, что именно эта разновидность социализма, возникшая из мистических идей, происхождение которых теряется во мраке истории, назвав себя научным социализмом, пыталась ославить как «утопический» тот социализм, который возник из рациональных построений философов.
Во всех существенных моментах философская антропоцентрическая метафизика эволюции напоминает религию. В ее пророчестве о спасении обнаруживается та же странная смесь экстатичной и экстравагантной фантазии с тусклой пошлостью и грубым материализмом, что и в большинстве древних мессианских пророчеств. Подобно христианской литературе которая стремится истолковывать Апокалипсис, она пытается доказать свою жизненность истолкованием конкретных исторических событий. В этих попытках она часто выставляет себя в смешном виде, когда спешит истолковать каждое значительное событие с помощью доктрины, претендующей одновременно быть конкретным знанием и описанием истории всего мироздания. Сколь много таких систем философии истории возникло во время мировой войны!
2. Хилиазм и социальная теория
Следует отчетливо различать метафизическую философию истории и рациональную. Последняя строится исключительно на опыте, стремится к получению результатов, согласующихся с логикой и практикой. Когда рациональной философии приходится выходить за эти пределы, она выдвигает гипотезы, но никогда не забывает, где кончаются пределы опытного знания и начинаются гипотетические толкования. Она избегает концептуальных фантазий там, где возможно опытное знание, и никогда не пытается подменить его собой. Единственная цель ее — систематизировать наше понимание социальных событий и хода исторической эволюции. Только таким путем можно выявить закон, управляющий изменениями общественных условий. Устанавливая или пытаясь установить силы, определяющие рост общества, рациональная философия истории стремится открыть закон социальной эволюции. Предполагается, что этот закон всегда проявляет свою силу, иными словами, он действует на всем протяжении существования общества. В противном случае нужно выдвинуть другой закон и показать, при каких условиях управляет первый, а при каких — второй. Но это означает всего лишь, что конечным законом общественной жизни будет закон, определяющий границы действия и смены законов социальной эволюции.
Установить закон, в соответствии с которым общество растет и изменяется, совсем не то же самое, что определить направление общественной эволюции. Ведь всякое данное направление развития по необходимости ограничено. Оно имеет начало и конец. А область действия закона принципиально не ограничена: не имеет ни начала, ни конца. Это последовательность движения, а не отдельное событие. Если закон определяет только часть общественной эволюции и перестает действовать за определенной границей, он несовершенен. В таком случае он перестает быть законом. Развитие общества прекращается только вместе с исчезновением самого общества.
Телеологический подход описывает ход развития со всеми отклонениями. [231] Типичным результатом является теория стадий развития. Она рисует смену последовательных стадий цивилизации вплоть до той, которая неизбежно оказывается последней, которую уже нечем заменить. Когда эта точка достигнута, дальнейшего течения истории вообразить невозможно. [253*]
Хилиастическая философия истории принимает «точку зрения Провидения, лежащую за пределами человеческой мудрости»; она стремится провидеть то, что может провидеть только «божественное зрение» [254*]. Чем бы мы ни признали такое учение — поэзией, пророчеством, выражением веры или надежды — оно никогда не будет ни знанием, ни наукой. Его можно признать гипотезой не с большим основанием, чем прорицания ясновидца или гадалки. Марксисты сделали невероятно умный шаг, назвавши свое хилиастическое учение научным. Этот ход был заведомо удачен в эпоху, когда люди привыкли доверять науке и отвергли метафизику (хотя, стоит признать, лишь для того, чтобы некритично попасться на удочку метафизики природы Бюхнера и Молешотта). [232]
Закон общественного развития гораздо менее содержателен, чем метафизика развития. Он априорно ограничивает свои утверждения признанием того, что его действие может оказаться перечеркнутым вмешательством иных сил, не описанных законом. В то же время он не признает никаких границ своего применения. Он претендует на то, чтобы быть истинным всегда и везде; у него нет ни начала, ни конца. Но при этом он не ссылается на некий рок, «безвольными и бессильными» жертвами которого мы являемся. Он раскрывает только внутренние, побудительные силы наших стремлений, устанавливает обусловленность их законами природы. Как таковой, закон выступает как Провидение, но предопределяющее не предназначение человека, а его действия и поведение.
Поскольку «научный» социализм представляет собой метафизическое учение, хилиастическое обетование спасения, бесполезно и бессмысленно вести с ним научные дискуссии. Разум не может победить мистические догмы. Фанатиков ничему нельзя научить, пока они не разобьют голову о стену. Но марксизм -_ это не только хилиазм. Он находился под сильным влиянием научного духа XIX века и пытался рационально обосновывать свое учение. С этими, и только этими, попытками мы будем иметь дело в следующих главах.
Глава XVIII. Общество
1. Природа общества
Понимание общественной жизни древними определялось идеей судьбы. Общество движется к предначертанной божеством цели. Такое понимание вполне логично, если, говоря о прогрессе и регрессе, о революции и контрреволюции, действии и противодействии, использовать подход, столь популярный у многих историков и политиков: история оценивается согласно тому, приближает ли она человечество к цели или, напротив, удаляет.
Наука об обществе, однако, начинается в тот момент, когда мыслитель освобождает себя от такого подхода и вообще от каких бы то ни было оценок. Наука об обществе телеологична в том смысле, в каком и должно быть каждое каузальное исследование волеизъявления. [233] Но при этом представление о цели должно полностью содержаться в каузальном объяснении. В науке об обществе причинность остается фундаментальным принципом познания, и ущерб ее высокому положению не может быть нанесен телеологией [255*]. Поскольку наука не выносит суждений о целях, она не может ничего сказать об эволюции к более высокой стадии в том смысле, скажем, как об этом говорили Гегель и Маркс. [234] Ведь никак не доказано, что все развитие идет по восходящей или что каждая последующая стадия является более высокой, чем предыдущая. Не в большей степени можно согласиться и с пессимистической концепцией истории, которая видит в историческом процессе только упадок, прогрессивное движение к дурному исходу. Поставить вопрос о движущих силах исторического развития — значит задаться вопросом о природе общества и о причинах изменения условий общественной жизни. Что такое общество, как оно возникло, как изменяется, — только такие вопросы может ставить перед собой научная социология.
Еще древние подметили, что общественная жизнь человека напоминает биологический процесс. Это уподобление лежит в основе знаменитой легенды о Менении Агриппе, донесенной до нас Ливием. [235] Общественная наука мало что приобрела, когда под обаянием триумфального развития биологии в XIX веке эта аналогия была доведена в многотомных трудах до полного абсурда. Что пользы называть результат человеческой деятельности «межклеточной социальной субстанцией»? [256*] Что добавили к нашему пониманию споры ученых о том, какой орган общественного тела соответствует центральной нервной системе? Лучшим комментарием к такого рода социологическим штудиям было замечание одного политэконома, что уподобление денег крови, а денежного обращения — кровообращению принесло экономической теории столько же пользы, сколько дало бы биологии уподобление крови деньгам, а кровообращения — системе денежного обращения. Современная биология позаимствовала у науки об обществе некоторые из своих важных понятий, как, например, развитие, разделение труда и борьба за существование. Но она не остановилась на метафорах и выводах по аналогии, а к своей пользе развила благоприобретенное. Биологическая социология, напротив, всего лишь развлекалась пустой словесной игрой со взятыми взаймы собственными понятиями. [238] Романтическое направление с его «органической» теорией государства, сделало еще меньше для уяснения социальных взаимоотношений. [239] Умышленное пренебрежение важнейшим из достижений науки об обществе — системой классической политической экономии — лишило его возможности освоить ее часть — учение о разделении труда, которое должно быть исходным пунктом всей социологии так же, как оно образует исходный пункт новейшей биологии. [257*]
Одно только сравнение с биологическим организмом должно было бы научить социологию, что организм может быть постигнут только как система органов. Но ведь это означает именно то, что сущность организма составляет разделение труда. Только разделение труда делает из частей члены, в совместной работе которых распознается единство системы, организма [258*]. Это верно как для жизни растений и животных, так и для жизни общества. Именно в терминах разделения труда общественный организм может быть уподоблен биологическому. Разделение труда есть tertium comparationis [240] давнишних аналогий.
Разделение труда есть фундаментальный закон организации всех форм жизни [259*]. Сначала он был установлен в сфере общественной жизни, когда политэкономы подчеркивали значение разделения труда в общественном хозяйстве. Сначала этот принцип был воспринят в биологии — в 1827 г. Мильн-Эдвардсом. [241] Тот факт, что разделение труда можно рассматривать как общий закон, не должен мешать пониманию, что он действует совсем по-разному на уровне организмов животных и растений и на уровне организации человеческого общества. Как бы мы ни представляли сe6e происхождение, эволюцию и значение физиологического разделения труда, это не имеет ничего общего с природой разделения труда в обществе. Процессы дифференциации и интеграции однородных клеток совершенно отличны от процессов, в результате которых самодостаточные индивидуумы соединяются в человеческое общество. Во втором случае разум и воля способствуют объединению прежде независимых групп и превращению их в часть некоего целого, тогда как в первом случае вмешательство этих сил невообразимо.
Даже в «животных сообществах» пчел и муравьев все движения и изменения происходят инстинктивно и бессознательно. Вполне возможно, что инстинкт также играл ведущую роль в начале и на ранних стадиях образования общества. Копа человек проявляет себя в качестве мыслящего, волеизъявляющего творения, он уже является членом человеческого общества, поскольку невозможно представить мыслящего человека потерянным одиноким существом». «Только среди людей человек становится человеком» (Фихте). [242] Развитие разума и развитие общества — один и тот же процесс. Весь дальнейший рост общественных отношений есть исключительный результат действия воли. Общество есть продукт мысли и воли. Оно не существует помимо мысли и воли. Его бытие — внутри человека, а не во внешнем мире. Изнутри оно проецируется наружу. Общество — это сотрудничество, это общность в действии. Определить общество как организм — значит определить его как систему разделения труда [260*]. Чтобы оценить значимость этой идеи, нужно представить себе все цели, которые человек ставит перед собой, и все средства, которые он использует для достижения этих целей. Сюда входят все взаимосвязи мысли и воли человека. Современный человек есть общественное существо не только в том смысле, что его материальные нужды не могут быть удовлетворены вне общества, но также в том отношении, что развитие его разума и способностей восприятия было бы невозможным вне общества. Нельзя представить себе человека в виде изолированного существа; человечество существует только как общественное явление, и род людской вышел за пределы животного мира только в силу того, что сотрудничество устанавливало общественные связи между индивидуумами. Эволюция от человека-животного к человеку разумному была возможна и была осуществлена только благодаря общественному сотрудничеству. Только так мы можем понять высказывание Аристотеля, что человек есть ζωον πολιτικον [243].
2. Разделение труда как закон общественного развития
Мы еще далеки от понимания последних и самых глубоких тайн жизни, законов происхождения живого. Раскроем ли мы их когда-либо? Сегодня нам известно лишь то, что при образовании организма из отдельных форм создается нечто, прежде не существовавшее. Растения и животные представляют собой нечто большее, чем скопление отдельных клеток, а общество больше, чем сумма составляющих его индивидуумов. Мы еще не осознали полного значения этого факта. Наше мышление все еще ограничено механистической теорией сохранения энергии и вещества, которая не способна помочь нам в понимании того, как один превращается в два. И опять для того, чтобы расширить наше знание о природе жизни, понимание общественных процессов должно опередить понимание биологических процессов.
Исторически разделение труда имеет два природных источника: неравенство человеческих способностей и разнообразие внешних условий жизни человека на земле. В действительности два этих факта сводятся к одному — разнообразию природы, которая не повторяет себя, но творит бесконечную и неисчерпаемо богатую вселенную. Особенность нашего исследования, нацеленного на социологическое знание, оправдывает отдельный анализ этих двух аспектов.
Очевидно, что как только поведение человека становится сознательным и логичным, оно подпадает под действие этих двух условий. В общем-то, они таковы, что буквально навязывают человечеству разделение труда. [261*] Старые и молодые, мужчины и женщины в сотрудничестве находят подходящее использование для своих разнообразных способностей. Здесь же зародыш и географического разделения труда: мужчина идет на охоту, а женщина к ручью за водой. Если бы сила и способности каждого, так же как и внешние условия производства, были везде одинаковыми, идея разделения труда никогда бы и не возникла. Сам по себе человек никогда бы не додумался до того, чтобы облегчить себе борьбу за существование сотрудничеством и разделением труда. Общественная жизнь не смогла бы возникнуть у людей с одинаковыми от природы способностями в мире, наделенном географическим однообразием [262*]. Может быть, люди бы объединялись порой для решения задач, непосильных для отдельного человека, но подобные союзы еще далеко не образуют общества. Такие отношения кратковременны и длятся, лишь пока не решена общая задача. Для происхождения общественной жизни эти альянсы важны только тем, что, сближая людей, приносят осознание различий в природных способностях, а это в свою очередь дает начало разделению труда.
Как только разделение труда стало фактом, оно становится фактором дальнейшей дифференциации. Делается возможным дальнейшее совершенствование индивидуальных способностей, а благодаря этому сотрудничество становится все более и более производительным. Сотрудничая, человек оказывается в состоянии выполнять то, что ему одному было бы не по силам, а посильные труды делаются более производительными. Понять значение всего этого можно лишь после того, как условия роста производительности в условиях сотрудничества формулируются с достаточной для анализа точностью.
Теория международного разделения труда представляет собой важнейшее достижение классической политэкономии. Она показывает, что до тех пор, пока движение труда и капитала между странами не свободно, географическое разделение труда определяется не абсолютными, а относительными расходами на производство [263*]. Когда тот же принцип был приложен к разделению труда между индивидами, обнаружилось, что преимущество возникает не только от сотрудничества с теми, кто превосходит тебя в том или ином отношении, но и от сотрудничества с теми, кто решительно во всех отношениях тебе уступает. Если благодаря своему превосходству над В А нужно 3 часа труда для производства единицы товара p и 2 часа для производства единицы товара q, а В соответственно нужно 5 и 4 часа, тогда А выгодно сосредоточиться на производстве q, а производство р предоставить В. Если они оба затратят по 60 часов на каждый товар, тогда А произведет 20p+30q, В — 12p +15q, а совместно они произведут 32p+45q. Если, однако, А затратит 120 часов на производство р, а В — на производство q, тогда они произведут 24p+60q. Поскольку для А меновая ценность р равна 3:2p, а для В — 5:4q, общий результат будет больше, чем в первом случае, — 32p+45q. Отсюда ясно, что углубление разделения труда всегда выгодно для его участников. Тот, кто сотрудничает с менее одаренным, менее способным и менее прилежным, выигрывает столько же, как и тот, кто сотрудничает с более одаренным, более способным и более прилежным. Преимущество, даруемое разделением труда, имеет общий характер; оно не ограничено теми случаями, когда нужно выполнить работу, непосильную для одного.
Рост производительности в результате разделения труда способствует объединению. Этот рост учит человека смотреть на каждого скорее как на товарища в общей борьбе за благосостояние, чем как на конкурента в борьбе за выживание. Этот опыт обращает врагов в друзей, войну в мир и создает из разрозненных людей общество. [264*]
3. Организм и организация
Организм и организация столь же несхожи, как жизнь и машина, как цветок естественный и искусственный. В естественном растении каждая клетка живет своей собственной жизнью и при этом находится в функциональном взаимодействии с другими клетками. Как раз это самостоятельное и самодостаточное существование мы и называем жизнью. В искусственном растении отдельные части входят в целое только в той мере, в какой были успешны усилия того, кто соединил их. Только в меру эффективности этой воли взаимосвязаны различные части в организации. Каждая часть занимает выделенное ей место и покидает его лишь, так сказать, в соответствии с инструкцией. Внутри этой структуры части могут жить, т. е. существовать ради самих себя, только в той степени, в какой создатель структуры предоставил им такую возможность. Лошадь, запряженная кучером, продолжает жить как лошадь. В организации, в «команде», лошадь столь же чужда повозке, как двигатель автомобиля кузову. То, что происходит с частями, может быть противоположно «организации», в которую они входят. Лошадь может выйти из повиновения, тонкая ткань, из которой сделаны искусственные цветы, может распасться под действием кислоты. С человеческими организациями дело обстоит не иначе. Подобно обществу, они представляют собой результат целенаправленного действия. Но при этом они оказываются живыми не в большей степени, чем бумажная роза. Организация сохраняет единство только до тех пор, пока остается действенной создавшая ее воля. Части, из которых составлена организация, связаны только в той мере, в какой они удерживаются вместе волей создателя организации. Для батальона на параде существует лишь одна воля — воля командира, в остальном организация, именуемая «батальон», является безжизненным механизмом. В подавлении воли отдельного солдата, поскольку она не нужна для целей воинского соединения, и заключается суть военной муштры. При линейной тактике боя, когда отряд не выступает как организация, действующая по команде, необходимо, чтобы солдат уже был «выдрессирован». В войсковой части нет жизни индивидуума: он может жить как личность вне части, возможно, — в борьбе с ней, но никогда в ней.
Современная военная доктрина, предполагающая самостоятельные действия участника схватки, пытается поставить на службу своим целям мысль и волю отдельного солдата, словом, его жизнь. Она рассчитывает на солдата не столько вымуштрованного, сколько обученного.
Организация основывается на господстве, организм — на взаимности. Древние всегда рассматривали мир как нечто организованное внешней силой и никогда — как нечто само возникшее, органическое. Человек видел выструганную им стрелу. Он знал, как сделал ее, как привел ее в движение. Поэтому про все остальное он спрашивал: как оно сделано и кто привел все это в движение. Он искал создателя для каждой формы жизни, автора — для каждого изменения природы и находил анимистические объяснения. Так возникли боги. [246] Человек видит организованную общину с ее правителями и подчиненными и соответственно пытается понять жизнь как организацию, а не как организм. Отсюда древнее представление о голове как о господине тела и использование того же термина «глава» для обозначения руководителя в организации.
Одним из величайших достижений науки стало осознание природы организма и преодоление концепции организации как основной модели понимания мира. При всем уважении к мыслителям ранних эпох нужно сказать, что в области общественных наук основные достижения датируются в основном XVIII веком, и главную роль в этом сыграла классическая политэкономия и ее непосредственные предшественники. Биология продолжила эту великолепную работу, отбросив все анимистические и виталистские верования. [247] Для современной биологии голова больше не является правителем тела, его венцом. В живущем теле больше нет ведущих и ведомых, нет контраста цели и средства, господина и исполнителя. Есть только члены, органы.
Стремление «организовать» общество есть намерение столь же безумное, как попытка расщепить живое растение на части, чтобы из этих мертвых частей составить новое. Вопрос об организации человечества можно поставить только после того, как живой общественный организм будет убит. Уже в силу этого коллективистские движения обречены на неудачу. Может быть, удастся создать организацию, которая охватит всех людей. Но она навсегда останется только организацией, рядом с которой будет продолжаться общественная жизнь. Эта организация будет изменяться и подрываться силами общественной жизни, и она, конечно же, будет разрушена, как только предпримет попытку противопоставить себя этим силам. Чтобы осуществить строй коллективизма, нужно сначала покончить со всякой жизнью общества, а уж затем строить коллективистское государство. Большевики, таким образом, вполне логичны в своем желании разорвать все традиционные общественные связи, разрушить здание общества, которое созидалось бесчисленными столетиями, чтобы на руинах воздвигнуть новую структуру. Они только не учитывают того, что изолированные индивидуумы, между которыми не сохранилось никаких общественных отношений, уже не являются хорошим материалом для организации.
Организации возможны только до тех пор, пока они не направлены против органического, не разрушают его. Все попытки принудить живую волю человека служить чему-то, чему он служить не хочет, обречены на провал. Организация может процветать до тех пор, пока она опирается на волю тех, кого организует, и пока она служит их целям.
4. Индивидуум и общество
Общество — это не только взаимодействие. Взаимодействуют и животные, например, когда волк ест ягненка или когда волк и волчица спариваются. Однако мы не говорим об обществе животных или об обществе волков. Волк и ягненок, волк и волчица являются членами одного организма — организма природы. Но у этого организма отсутствуют специфические характеристики общественного организма: он пребывает вне воли и деятельности. По той же причине отношения между полами не являются сами по себе общественными отношениями. Когда мужчина и женщина сходятся, они следуют закону, который предписывает им место в природе. В этот момент они подчиняются инстинкту. Общество существует только там, где волеизъявление делается совместным, а действие превращается в содействие. Совместно стремиться к целям, которые для отдельного человека недостижимы вовсе или достижимы с меньшей эффективностью, кооперироваться — вот в чем общество. [265*]
Таким образом, общество является не целью, но средством, с помощью которого каждый отдельный член общества стремится достичь собственных целей. И само-то общество возможно лишь потому, что воля одного человека и воля другого находят связь в общем стремлении. Общая работа возникает из стремления к одному и тому же. Поскольку я могу получить желаемое, только если и мой ближний получит желаемое, его воля и его деятельность становятся для меня средствами, с помощью которых я достигаю собственных целей. Поскольку моя цель с необходимостью включает его цель, моим намерением не может быть разрушение его воли. На этом фундаментальном факте строится вся общественная жизнь. [266*]
Принцип разделения труда пролил свет на природу общественного бытия. Как только было осознано значение разделения труда, знание об обществе стало быстро углубляться, что легко видеть, сравнив Канта с теми, кто пришел после него. Выдвинутое экономистами в XVIII веке учение о разделении труда было еще далеко не разработано в тот период, когда писал Кант. Доктрине еще не доставало точности, которую внесла рикардовская теория международной торговли. [250] Но учение о гармонии интересов уже содержало все далеко идущие приложения, столь важные для теории общества. Кант не был затронут этими идеями. У него было единственное объяснение общества: существует некий импульс, побуждающий людей жить в обществе, и противоположный импульс, направленный к расколу общества. Противостояние этих двух тенденций используется природой, чтобы вести человека к конечным, предустановленным ею целям [267*]. Трудно вообразить нечто более плоское, чем эта попытка представить общество турниром двух импульсов: к «общественной жизни» и к «самоизоляции». [251] Она столь же глубока, как объяснение действия опия его virtus dormitiva, cuius est natura sensus assupire [252].
5. Развитие разделения труда
Поскольку возникновение общества происходило по ту сторону пробуждения человеческой мысли и воли, под господством инстинктов, — оно не может быть предметом социологического рассмотрения. Но это не значит, что социология должна передать объяснение становления общества другой науке и принять сеть общественных связей как данность. Ведь если мы решим, — а таков непосредственный вывод из отождествления общества и разделения труда, — что образование общества не завершилось с появлением мыслящего и целеполагающего человеческого существа и что этот процесс продолжался в ходе исторического развития, то нам следует найти принцип, который бы сделал всю эту эволюцию умопостижимой. Этот принцип дает нам экономическая теория разделения труда. Существует высказывание, что цивилизация стала возможной в силу счастливого случая, который сделал хозяйство с разделением труда много более продуктивным, чем без разделения. Сфера использования принципа разделения труда расширяется вместе с осознанием того, что, чем дальше зашел этот процесс, тем производительнее сам труд. В этом смысле расширение сферы применения принципа разделения труда означает прогресс хозяйства, его приближение к цели — максимально возможному удовлетворению потребностей. Это одновременно является и социальным прогрессом, поскольку предполагает интенсификацию общественных отношений.
Только в этом смысле, при полном исключении всех телеологических или этических оценок, можно использовать термин «прогресс» в исследовании истории общества. Мы предполагаем, что условия общественной жизни изменяются в определенном направлении, и мы подвергаем каждое такое изменение отдельному исследованию, чтобы проверить, действительно ли и в какой степени оно совпадает с нашим предположением. Может случиться, что будут выдвинуты разные предположения, каждое из которых окажется в той или иной степени соответствующим опыту. Возникнет проблема об отношениях между этими предположениями: независимы ли они друг от друга или между ними есть внутренняя связь. Затем нам придется идти дальше и выяснять природу этой внутренней связи. Но все это останется в рамках научного исследования, свободного от ценностных суждений, основанного на гипотезах о направлении последовательных изменений.
Если отбросить наивные теории эволюции общества, основанные на ценностных суждениях, в большинстве остальных мы найдем два крупных недостатка, которые делают теории совершенно неудовлетворительными. Первый недостаток состоит в том, что принцип эволюции никак не связан с самим обществом. Ни закон Конта о трех стадиях развития интеллекта, ни пять стадий социально-психического развития Лампрехта не дают нам ключа к пониманию внутренних и внешних зависимостей между эволюцией разума и эволюцией общества. [253] Нам показывают, как действует общество, когда оно переходит на новую ступень развития, но нам-то нужно знать больше: какой закон управляет созданием и изменением общества. Изменения общества истолковываются такими теориями как результат воздействия извне; но нам-то нужно понять их как действие неизменного закона. Второй недостаток состоит в том, что все эти теории являются теориями стадий. В стадиальных концепциях на самом деле нет места для эволюции, т. е. для непрерывных изменений, в которых мы могли бы усмотреть определенное направление. Эти концепции не выходят за пределы утверждений об определенной последовательности событий; они не доказывают наличия причинных связей, которые объясняли бы эту последовательность. В лучшем случае они устанавливают параллелизм развития разных народов. Но одно дело — разделить человеческую жизнь на детство, юность, зрелость и старость и совсем другое — найти закон, управляющий ростом и упадком организма. Каждой концепции стадий свойственна некая произвольность, и определение стадий очень изменчиво.
Современная немецкая история народного хозяйства сделала, конечно же, правильный выбор, положив в основу теории эволюции принцип разделения труда. [254] Но она не сумела освободиться от старой традиционной схемы стадиального развития. Ее теория до сих пор остается теорией стадий. Так, Бюхер различает стадию замкнутого домашнего хозяйства (производство только для собственного потребления, хозяйство, не знающее обмена), стадию городской экономики (производство по заказу, стадия прямого обмена) и стадию народного хозяйства (производство на рынок, стадия товарооборота) [268*]. Шмоллер различает периоды деревенского, городского, территориального и государственного хозяйства [269*]. Филиппович различает замкнутое домашнее хозяйство и торговое хозяйство, а в рамках торгового хозяйства он усматривает эпоху местной торговли, эпоху торговли, контролируемой государством и ограниченной территорией государства, и эпоху свободной торговли (развитое национальное хозяйство, капитализм) [270*]. Против этих попыток загнать эволюцию в общую схему было выдвинуто много серьезных возражений. Не стоит обсуждать ценность таких классификаций для обнаружения свойств определенных исторических эпох или степень полезности их как вспомогательного средства представления общей картины. В любом случае пользоваться ими нужно с большой разборчивостью. Бесплодный спор о хозяйственной жизни древних народов показывает, сколь легко страсть классифицировать ведет к подмене исторической реальности схоластической игрой в слова. Для социологических исследований теории стадий бесполезны [271*]. При рассмотрении одной из самых важных исторических проблем — о непрерывности исторического развития — они заводят нас в тупик.
Решение этой проблемы пытаются найти обычно, либо принимая, что общественное развитие (под которым мы понимаем развитие разделения труда) представляет собой непрерывную восходящую линию, либо утверждая, что каждый народ всегда должен проходить заново все ступени прогресса. Оба предположения несообразны. Абсурдно говорить о непрерывности эволюции, когда мы отчетливо различаем в истории периоды упадка, периоды регресса в разделении труда. В то же время прогресс, достигнутый отдельными народами в совершенствовании системы разделения труда, никогда полностью не утрачивался. Достижения схватывались другими народами, что ускоряло их развитие. Крушение античного мира, конечно же, отбросило на века развитие хозяйства. Но недавние исторические исследования показали, что связи между экономической культурой античности и культурой средневековья были гораздо сильнее, чем принято думать. Экономика обмена, конечно же, сильно пострадала от великого переселения народов, но пережила его. Города, служившие центрами обмена, не были полностью разрушены, а бартерный обмен стал соединительным звеном между остатками городской жизни и новым развитием торговли [272*]. Городская культура сохранила фрагменты социальных достижений античности и перенесла их в жизнь средневековья.
Прогресс системы разделения труда целиком зависит от реализации ее преимуществ, т. е. — более высокой производительности. Эта истина впервые была высказана во фритредерских доктринах физиократов и в классической политэкономии XVIII века. [255] Но элементы ее обнаруживаются во всех аргументах в пользу мира, прославляющих мир и осуждающих войну. История являет нам борьбу двух принципов: принципа мира, способствующего развитию торговли, и принципа милитаристско-империалистического, который трактует человеческое общество не как дружелюбную систему разделения труда, но как насильственное подавление одних членов общества другими. Империализм побеждает вновь и вновь. Либерализм не может устоять до тех пор, пока свойственная массам склонность к мирному труду не будет осознана как важнейший закон эволюции общества. Там, где господствует империализм, мир может быть только локальным и временным явлением: он длится не дольше, чем позволяют обстоятельства. Интеллектуальная атмосфера империализма не благоприятна для развития и расширения системы разделения труда внутри государственных границ и практически враждебна распространению системы разделения труда через воздвигнутые между государствами военно-политические баррикады. Система разделения труда нуждается в свободе и мире. Только когда либеральная мысль в XVIII столетии выдвинула философию мира и общественного сотрудничества, был заложен фундамент удивительного развития экономической цивилизации того периода, который позднейшие империалистические и социалистические доктрины заклеймили как эпоху грубого материализма, эгоизма и капитализма.
Нет ничего более превратного, чем вывод, который в этой связи сделал исторический материализм: общественный строй зависит от достигнутой ступени технического развития. Совершенно ошибочно широко известное высказывание Маркса: «Ручная мельница дает вам общество с сюзереном во главе, паровая мельница — общество с промышленным капиталистом». [273*] Этот вывод даже формально некорректен. Попытка истолковать развитие общества как результат развития техники является просто способом обойти проблему, никак ее не решая. Как в рамках такой концепции можно объяснить само развитие техники?
Фергюсон [256] показал, что развитие техники зависит от общественных отношений и что каждый век развития техники дает лишь то, что позволяет достигнутая ступень общественного разделения труда [274*]. Технические усовершенствования возможны лишь там, где разделение труда создало почву для их использования. Механизированное производство обуви предполагает такое общество, где на небольшом числе предприятий можно сконцентрировать производство обуви для десятков тысяч или миллионов человек. В обществе самодостаточных крестьянских хозяйств нет места для паровой мельницы. Только разделение труда может натолкнуть на мысль о механизации мукомольного производства. [275*]
Сведение всех общественных явлений к развитию системы разделения труда не имеет ничего общего с грубым и наивным материализмом технологических и других материалистических концепций истории. Но это не означает и недопустимого ограничения концепции общественных отношений, как склонны утверждать последователи идеалистической философии. Такой подход не сводит общество только к материальным аспектам бытия. Находящаяся вне хозяйственных отношений, сфера общественной жизни представляет собой конечную цель, но продвижение к цели необходимо подчинено закону всякого рационального действия; когда необходимо определить путь — мы попадаем в сферу экономического поведения.
6. Как общество изменяет индивидуума
Самым важным результатом системы разделения труда является то, что она превращает независимого индивидуума в зависимое общественное существо. Под действием системы разделения труда общественный человек изменяется подобно клетке, которая приспосабливается к жизни организма. Он приспосабливает себя к новым способам жизни, отбрасывает некоторые прежние силы и органы и развивает другие. Он делается односторонним. Целое племя романтиков, непреклонных laudatores temporis acti [257], оплакивало этот факт. Для них человек прошлого, чьи силы были «гармонически» развиты, является идеалом, которому больше не соответствует наше выродившееся племя. Они сторонники свертывания системы разделения труда, чем и объясняются их похвалы сельскохозяйственному труду, а в конечном счете — самодостаточному крестьянскому хозяйству. [276*]
В этом деле современные социалисты оказываются впереди всех. Маркс обещает, что при достижении высшей стадии коммунизма «исчезнет порабощающее человека подчинение его разделению труда ... исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда». [277*] Будет учитываться «потребность человека в разнообразии». «Чередование умственного и физического труда» «обеспечит гармоничность развития человека» [278*].
Мы уже имели дело с этой иллюзией [279*]. Если бы можно было осуществить все цели с затратой лишь того количества труда, которое не тяготит человека и одновременно избавляет его от раздражения, вызываемого бездействием, тогда труд вовсе не был бы экономическим фактором. Даже независимый в экономическом отношении работник должен, как правило, трудиться и тогда, когда трудовые усилия уже не приносят удовлетворения. Можно предположить, что труд для него менее тягостен, чем для специализированного рабочего. В отличие от последнего он в начале каждого вида деятельности получает свежее чувство удовольствия от деятельности самой по себе. Но человек, несмотря ни на что, все дальше уходит по пути специализации труда в первую очередь потому, что рост производительности специализированного труда более чем вознаграждает его за потерю удовольствия от самого труда. Система разделения труда не может быть ограничена без снижения производительности труда. Это справедливо для всех видов труда. Ошибочно думать, что можно сохранить достигнутый уровень производительности труда и одновременно уменьшить уровень специализации труда.
Упразднив систему разделения труда, мы не устраним вреда, причиняемого душе и телу работника специализацией, без общественного регресса. Заботиться о полноте человеческого бытия надлежит самому индивидууму. Средство от болезни — в преобразованиях в сфере потребления, а не труда. Игра и спорт, наслаждение искусством, чтение — вот очевидные пути избавления.
Поиски гармонично развитого человека у истоков хозяйственного развития — тщетная задача. Почти совершенно независимый в экономическом отношении человек, каким мы его знаем на примере дальних хуторян, ничем не напоминает то благородное, гармонически развитое существо, которое воспето романтиками. Цивилизация есть продукт досуга и душевного мира, которые становятся возможными только благодаря системе разделения труда. Нет ничего более ложного, чем предположение, что человек появляется на арене истории с уже развитой, независимой индивидуальностью и только в ходе развития, ведущего к великому обществу, он утрачивает вместе с материальной свободой и свою духовную независимость. Все исторические свидетельства, факты и наблюдения за примитивными обществами прямо противоречат этому предположению. У человека примитивного общества вовсе отсутствует индивидуальность в нашем смысле слова. Два полинезийца похожи друг на друга гораздо больше, чем два современных лондонца. Личность не была дарована человеку изначально. Она была приобретена в ходе эволюции общества [280*].
7. Упадок общества
Эволюция общества в смысле развития системы разделения труда есть результат воли: она целиком зависит от воли человека. Мы не будем вдаваться в вопрос, можно ли каждый шаг в развитии системы разделения труда, а значит, и каждое усиление общественных связей рассматривать как подъем на высшую ступень; нам следует задаться другим вопросом: является ли такое развитие необходимостью? Является ли поступательное развитие общества содержанием истории? Возможны ли остановка развития или регресс общества?
Мы должны a priori отбросить любое предположение, что историческое развитие имеет цель в соответствии с «намерением» или «скрытой целью» природы, как это воображали Кант и Гегель и предполагал Маркс; но нам не обойтись без исследования вопроса: нет ли какого-либо закона, который делает рост общества неизбежным? Первым требует рассмотрения закон естественного отбора. Более развитые общества становятся богаче, чем менее развитые. В силу этого у них больше возможностей предохранить своих членов от нищеты и убожества. Они лучше снаряжены для защиты от врагов. Нас не должно вводить в заблуждение то, что более богатые и более цивилизованные народы часто терпели поражение в войнах от народов менее богатых и менее цивилизованных. Народы, пребывающие на более высоком этапе общественного развития, всегда были способны, по крайней мере, устоять перед превосходящими силами менее развитых народов. Только клонящиеся к упадку народы, внутренне разложившиеся цивилизации поддавались натиску восходящих народов. Там, где более организованное общество уступало под ударами менее развитого народа, дело кончалось тем, что побежденные средствами культуры подчиняли себе победителей — те принимали хозяйственный и социальный порядок и даже язык и веру покоренного племени.
Превосходство более развитого народа определяется не только материальным благосостоянием, но также численностью членов общества и качественно более высокой, надежностью внутренней структуры. Ведь более высокое развитие общества состоит именно в расширении сферы общественной жизни, включении в систему разделения труда большего числа людей и более сильном захвате этой системой каждого индивидуума. Развитое общество отличается от менее развитого более тесным союзом своих членов; это предотвращает насильственное разрешение внутренних конфликтов и создает замкнутую линию обороны перед любым внешним врагом. В менее развитых обществах, где общественные связи слабее, а союз между различными частями общества представляет собой скорее конфедерацию на случай войны, чем истинную сплоченность, основанную на совместном труде и экономическом сотрудничестве, разногласия разрушают общество легче и быстрее. Ведь военная конфедерация не создает такой уж прямой и сильной связи. По самой своей природе это просто временный союз, который скрепляется перспективами минутного преимущества, но распадается тотчас после победы над врагом, когда начинается схватка за добычу. В борьбе против менее развитых обществ важнейшим преимуществом более развитых всегда оказывалось отсутствие единства во вражеских рядах. Пребывающие на низших ступенях развития народы только изредка умудрялись организовать сотрудничество ради больших военных начинаний. Внутренняя раздробленность всегда бывала причиной быстрого распада их армий. Примером могут служить набеги монголов на центрально-европейские страны в XIII веке и попытки турок проникнуть на Запад. [258] Превосходство промышленного общества над военным, если использовать выражение Герберта Спенсера, определяется главным образом тем, что чисто военные союзы всегда распадаются в силу отсутствия внутреннего единства. [281*]
Развитию общества способствует и еще одно. Доказано, что все члены общества заинтересованы в расширении влияния общества. Для высокоразвитого общественного организма далеко не безразлично, продолжают ли другие народы вести экономически самодостаточное существование, оставаясь на низшей ступени развития общества. Более развитые организмы заинтересованы в том, чтобы вовлечь менее развитые в хозяйственную и социальную общность, даже несмотря на то, что неразвитость делает их в политическом и военном планах безвредными, а оккупация их территорий, отличающихся, допустим, неблагоприятными природными условиями производства, не обещает немедленных преимуществ. Мы видели, что расширение круга вовлеченных в разделение труда всегда выгодно, так как и более развитые народы могут выигрывать от сотрудничества с менее развитыми. Именно это столь часто подталкивает народы высокоразвитых обществ к расширению радиуса хозяйственной деятельности за счет поглощения прежде недоступных территорий. Преодоление замкнутости отсталых регионов Ближнего и Дальнего Востока, Африки и Америки расчистило путь для создания мирового хозяйственного сообщества, так что накануне мировой войны нам уже грезилось вселенское общество. Прекратила ли война полностью развитие в этом направлении или просто на время приостановила его? Возможно ли, что это развитие может прекратиться и что общество может даже регрессировать?
При подходе к этой проблеме не обойти другую — проблему смерти народов. Принято говорить о том, что народы стареют и умирают, о молодых и старых обществах. Сравнение хромает, как и все сравнения. При обсуждении такого рода вещей следовало бы избегать метафор. В чем же сердцевина этой проблемы?
Ясно, что мы не должны путать ее с другой, не менее трудной проблемой изменения национальных особенностей. Тысячу или полторы тысячи лет назад германцы говорили не на таком языке, как сегодня, но в связи с этим мы и не подумаем сказать, что средневековая культура Германии «умерла». Напротив, мы видим в культуре Германии непрерывную цепь развития, идущего от «Хелианда» и «Евангелия» Отфрида (не говоря об утраченных памятниках литературы) до наших дней. [259] Мы и на самом деле говорим о народах Померании и Пруссии, которые были ассимилированы в ходе германской колонизации, что они вымерли, но вряд ли кто-либо заявит, что эти народы были «дряхлыми». [260] Чтобы избежать путаницы, приходится говорить о народах, умерших в молодости. Нас здесь не интересует трансформация наций; наша проблема иная. Не идет разговор и об упадке государств. Это явление, хотя иногда и выглядит как результат одряхления народов, нередко вызвано совершенно иными причинами. Падение древнего польского государства не связано с каким-либо упадком польской цивилизации или польского народа. Оно не остановило развитие польского общества.
Факты, упоминаемые при разговоре о старении культур, обычно таковы: сокращение населения, уменьшение благосостояния и упадок городов. Историческая значимость всех этих явлений делается ясной, как только мы начинаем видеть в дряхлении народов процесс свертывания системы разделения труда. Упадок древнего мира, например, был результатом движения общества вспять. Упадок Римской империи был всего лишь результатом распада древнего общества, которое сначала достигло высокого уровня разделения труда, а затем скатилось к почти безденежной экономике. В результате этого города обезлюдели, деревенское население уменьшилось, а нищета и убожество распространились повсеместно просто потому, что хозяйство, стоящее на более низкой ступени развития системы разделения труда, менее производительно. Постепенно технические навыки были утрачены, искусства пришли в упадок, научная мысль иссякла. Слово, наиболее адекватно описывающее этот процесс, — разложение. Классическая культура умерла, потому что классическое общество регрессировало [282*].
Смерть народа — это регресс общества и деградация общественного разделения труда. Что бы ни было причиной этого, в каждом отдельном случае в конечном счете все определяется ослаблением воли к общественному сотрудничеству. Прежде это могло представляться нам непостижимой загадкой, но теперь, когда мы с ужасом наблюдаем, как это происходит, нам легче понять проблему, хотя мы по прежнему не в силах осознать самые глубокие, конечные причины изменений.
Дух общества, дух общественного сотрудничества — это то, что определяет возникновение, дальнейшее развитие и сохранение общества. Как только он утрачен, общество распадается на составные элементы. Смерть народа есть результат регресса общества, возврат от системы разделения труда к экономической самодостаточности отдельных производителей. Общественный организм распадается на клетки, с которых он и начинался. Человек остается, но общество погибает [283*].
Ничто не свидетельствует о том, что развитие общества должно идти по восходящей прямой. Стагнация и регресс общества — исторические факты, которые мы не можем игнорировать. Мировая история представляет собой кладбище умерших цивилизаций, и сейчас в Индии и Восточной Азии мы видим масштабные примеры стагнирующей цивилизации.
Наша литературная и художественная клика, чье преувеличенное мнение о своей пустяковой продукции столь противоположно скромности и самокритичности действительно великих художников, заявляет, что не столь уж важно сохранение экономического развития, если растет внутренняя культура. Но ведь любая внутренняя культура требует внешних средств ее реализации, а эти внешние средства могут быть добыты только хозяйственными усилиями. Когда в результате регресса общественного сотрудничества падает производительность труда, следом идет падение внутренней культуры.
Все прежние цивилизации возникли и расцвели, не осознавая вполне внутренние законы развития культуры и значимость системы разделения труда и сотрудничества. В ходе своего развития им часто приходилось противостоять тенденциям и движениям, враждебным цивилизации. Нередко они выходили победителями, но рано или поздно сдавались. Они подпадали под власть духа распада. Через социальную философию либерализма человек впервые пришел к осознанию законов развития общества и, также впервые, уяснил, на чем основывается прогресс культуры. В тот период можно было смотреть в будущее с большими надеждами. Казалось, что открываются огромные перспективы. Но случилось иное. Либерализму пришлось столкнуться с противодействием милитаристско-националистических и прежде всего социалистическо-коммунистических доктрин, которые традиционно являются источниками сил, разлагающих общество. Националистическая теория называет себя органической, социалистическая называет себя социальной, но в действительности обе по своему действию являются дезорганизующими и антисоциальными.
Среди всех претензий к системе свободной торговли и частной собственности нет более дурацкой, чем обвинение, что это антиобщественная и индивидуалистическая система, ведущая к атомизации общества. Торговля не разъединяет, как утверждают романтические энтузиасты автаркической организации небольших районов, а объединяет. Первым источником общественных связей является система разделения труда: это чистый и простой источник социальности. Защитники хозяйственной самодостаточности государств и народов стремятся к разложению общемирового общества. Стремление к тому, чтобы методами классовой войны разрушить систему разделения труда в обществе, есть стремление антисоциальное.
Упадок общемирового общества, которое медленно формировалось два последних столетия под влиянием постепенного распространения либерализма, был бы абсолютно беспрецедентной мировой катастрофой. Ни один народ не будет пощажен. Кто же будет отстраивать разрушенный мир?
8. Частная собственность и эволюция общества
Разделение людей на собственников и не имеющих собственности возникло в результате разделения труда.
Вторым великим достижением классической политэкономии и «индивидуалистической» теории общества было осознание в XVIII веке социальной функции частной собственности. До этого частная собственность всегда рассматривалась как что-то вроде привилегии немногих, как захват общего достояния, как нечто хотя и неизбежное в некоторых ситуациях, но дурное с моральной точки зрения. Либерализм первым осознал, что социальная функция частной собственности на средства производства заключается в передаче благ в руки тех, кто лучше умеет ими распоряжаться, т. е. в руки наиболее опытных менеджеров. Отсюда следует, что нет ничего более чуждого существу собственности, чем особые привилегии для некоторых видов собственности и особая защита для некоторых производителей. Любые ограничения вроде исключительных прав и других привилегий производителя затрудняют отправление социальных функций частной собственности. Либерализм борется против таких установлений с той же решимостью, что и против попыток ограничить свободу рабочих.
Собственник ни у кого ничего не отнимает. Никто не может оправдывать свою нищету богатством другого. Зависть толпы разгорается сильнее от подсчетов выгод, которые получили бы бедняки, если бы собственность была распределена равномерно. При этом не понимают, что объемы производства и национального дохода суть величины не постоянные, а существенно зависящие от распределения собственности. При вмешательстве в эти дела возникает опасность, что собственность может попасть в руки тех, кто не столь уж умеет ее поддерживать, кто менее способен к предвидению, кто хозяйствует менее рачительно; все это неминуемо приведет к сокращению производства. [284*] Идеи коммунистического распределения — идеи атавистические. Они возвращают нас к временам, когда общества либо вовсе еще не существовало, либо оно было не столь развито, как теперь, и когда объем производства был соответственно много ниже теперешнего. В обществе, не знающем обмена, безземельный человек действовал вполне логично, когда центром своих притязаний делал перераспределение земель. Когда же современный пролетарий страстно жаждет подобного перераспределения, он проявляет полное непонимание природы общественного производства.
Социалистической идее передать средства производства в руки организованного общества либерализм противопоставляет утверждение, что социалистическое производство будет менее производительным. В ответ социализм гегелевской школы стремится доказать, что историческое развитие неизбежно ведет к упразднению частной собственности на средства производства. [261]
Лассаль полагал, что «вся история законов состоит, вообще говоря, во все большем ограничении собственности индивидуума и в выведении все большего числа объектов за рамки частной собственности». Тенденция к увеличению свободы собственности, просматриваемая в исторической эволюции, — только видимость. Сколь бы «ни было парадоксальным представление о все ускоряющемся сокращении сферы частной собственности как принципа, определяющего культурное и историческое развитие права», данное представление, согласно Лассалю, выдержало самые придирчивые проверки. К сожалению, Лассаль не сообщает никаких подробностей этих проверок. По его собственным словам, он «уделил ему <этому представлению> лишь самое поверхностное внимание» [285*]. И никто другой после Лассаля не попытался представить нужные доказательства. Но если бы даже такая попытка была предпринята, никакие факты служить доказательством необходимости такого развития не могли бы. Концептуальные конструкции спекулятивной юриспруденции, погруженной в море гегельянских идей, в лучшем случае смогли бы продемонстрировать прошлые тенденции. Предположение, что выявленные тенденции развития должны с необходимостью продлиться и в будущее, весьма произвольно. Искомым доказательством может быть лишь демонстрация того, что силы, определявшие развитие в прошлом, все еще действуют. Гегельянец Лассаль ничего такого не сделал. Для него весь вопрос исчерпывается соображением, что «поступательное сужение сферы частной собственности не имеет другого основания, кроме положительного развития человеческой свободы» [286*]. Подогнавши свой закон эволюции к великой гегелевской схеме исторического развития, он выполнил все, что могла потребовать его школа.
Маркс видел недостатки гегелевской схемы развития. Он также полагал бесспорной истиной то, что ход исторического развития ведет от частной собственности к общественной. Но в отличие от Гегеля и Лассаля его не занимали идея собственности и юридическое понятие собственности. Частная собственность в ее «политико-экономических аспектах» движется к полному уничтожению, «но она делает это только путем развития, независящего от нее, бессознательного, против ее воли происходящего и природой самого объекта обусловленного; только путем порождения пролетариата как пролетариата — этой нищеты, сознающей свою духовную и физическую нищету, этой обесчеловеченности, сознающей свою обесчеловеченность» [287*]. Так на сцену выводится доктрина классовой борьбы в качестве главного движущего элемента исторического развития.
Глава XIX. Конфликт как фактор развития общества
1. Движущая сила эволюции общества
Простейший способ изобразить развитие общества — показать различие между двумя тенденциями эволюции, которые можно условно назвать интенсивным и экстенсивным развитием. Общество развивается и как субъект, и по отношению к объекту. Развитие общества как субъекта — это умножение числа членов общества; развитие по отношению к объекту — это умножение целей деятельности. Система разделения труда, которая первоначально была ограничена самым узким кругом, ближайшими соседями, постепенно становится все более универсальной, пока, наконец, не охватывает все человечество. Этот процесс еще далеко не завершен, но он конечен. Когда все население земли включится в единую систему разделения труда, цель будет достигнута. Наряду с расширением сети общественных связей идет процесс их интенсификации. Круг целей совместных действий все более расширяется; область заботы индивидуума только о собственном потреблении оказывается все более узкой. Не будем останавливаться здесь на вопросе, не приведет ли этот процесс, в конце концов, к специализации всякой производительной деятельности.
Развитие общества всегда означает сотрудничество в совместных действиях; общественная жизнь всегда предполагает мир, а не войну. Война и убийство всегда антисоциальны. [288*] Все теории, которые рассматривали прогресс человечества как результат межгрупповых конфликтов, игнорировали эту истину.
3. Дарвинизм
Судьба индивидуума однозначно определена его бытием. Все, что он имеет, с необходимостью определено его прошлым; а все, что будет, есть необходимый результат того, что есть. В каждый данный момент ситуация представляет собой завершение истории [289*]. Кто до конца понимает все это, сможет предвидеть будущее. Долгое время считалось необходимым, чтобы человеческие воля и действия не могли воздействовать на ход вещей, поскольку не было понято особое значение «вменения», этого хода мысли, неотъемлемого от всякого рационального действия. Полагали, что причинное объяснение несовместимо с идеей вменения. Теперь это не так. Экономическая теория, философия права и этическое учение прояснили проблему вменения достаточно, чтобы устранить прежнее непонимание.
Для упрощения исследования мы можем вычленить из единства, называемого индивидуумом, некоторые функциональные механизмы, но только помня, что эта операция оправдана желанием облегчить анализ и никакого другого смысла не имеет. Попытки разделить, ориентируясь на некоторые внешние характеристики, то, что разделено, в сущности, быть не может, в конечном счете, не выдерживают испытания. Только помня об этих ограничениях, можно попытаться выделить факторы, влияющие на жизнь индивидуума.
То, с чем человек рождается в этом мире, т. е. врожденное, мы называем национальными, расовыми особенностями [290*]. Врожденное в человеке есть то, что накоплено историей всех его предков, их судьбой и всем их опытом. Жизнь и судьба индивидуума не начинаются в момент рождения; они тянутся из бесконечного, невообразимого прошлого. Потомки наследуют предкам; этот факт не имеет отношения к спору о наследовании приобретенных свойств.
После рождения начинается непосредственный опыт. Индивидуум начинает испытывать влияние окружения. Взаимодействуя с врожденными свойствами, это влияние определяет бытие индивидуума в каждый момент его жизни. Окружение человека включает природу (почву, климат, питание, растительный и животный мир) и общество (социальные факторы и явления). К последним относят язык, положение в процессе производства и обмена, идеологию и силы принуждения (неограниченное и упорядоченное насилие). Упорядоченную организацию насилия называют государством.
Со времен Дарвина мы склонны рассматривать зависимость человека от природного окружения как борьбу с враждебными силами. Возразить на это было нечего до тех пор, пока образное выражение не применили в сфере, где оно оказалось совершенно неуместным и вызвало тяжкие ошибки. Когда формула дарвинизма, возникшая из идей, заимствованных биологией у общественных наук, вернулась в общественные науки, люди забыли о первоначальном значении этих идей. Так возникло это чудовищное образование — социал-дарвинизм, который выродился в романтическое прославление войны и убийства и который в особенно большой степени ответствен за подавление либеральных идей и создание той интеллектуальной атмосферы, которая и привела человечество к мировой войне и сегодняшней социальной борьбе.
Хорошо известно, что Дарвин пребывал под сильным влиянием книги Мальтуса «Опыт о законе народонаселения». [263] Но Мальтус был далек от того, чтобы видеть в борьбе необходимое общественное установление. Даже Дарвин, когда говорит о борьбе за существование, не всегда имеет в виду смертельную битву, борьбу на жизнь или смерть за места кормления или за самку. Он часто использует это выражение метафорически, чтобы указать на зависимость живых существ друг от друга и от окружения [291*]. Это метафора, и понимать ее буквально не следует. Путаница усугубляется, когда уравнивают борьбу за существование с войной на уничтожение, которая нередка у людей, и стремятся соорудить теорию общества, основанную на борьбе за существование.
Не имеющие социологического образования критики просто не знают того, что мальтузианская теория народонаселения является лишь частью либеральной теории общества и может быть понята только в этих рамках. Сердцевиной либеральной теории общества является теория разделения труда. Лишь с ее учетом можно использовать закон народонаселения для истолкования общественных явлений. Общество представляет собой союз отдельных людей для лучшей эксплуатации природных условий существования; по самой сути своей эта концепция предполагает не борьбу за существование, а взаимопомощь, которая является важным мотивом для всех членов единого организма. В пределах общества борьбы нет, есть только мир. В действительности каждый акт борьбы прерывает общественные связи. Общество в целом как организм ведет борьбу за существование с недружественными силами. Но внутри его, если общество полностью включило индивидуумов, царит только сотрудничество. Ведь общество и есть не что иное, как сотрудничество. В современном обществе даже война не в силах разорвать все узы. В войне между государствами, признающими обязательность международного права, некоторые узы сохраняются, хотя и ослабленными. Частицы мира выживают даже во время войны.
Частная собственность на средства производства образует в обществе механизм регулирования, который поддерживает равновесие между имеющимися ограниченными средствами существования и менее ограниченными возможностями потребления. Установление зависимости доли каждого члена общества в общественном продукте от того, что может быть ему экономически вменено, т. е. вменено его труду и его собственности, меняет механизм изменения численности членов общества. Вместо борьбы за существование, царящей в растительном и животном мире, регулятором численности населения делается ограничение рождаемости под воздействием общественных сил. «Нравственное ограничение», ограничение числа детей в соответствии с положением в обществе, — вот что приходит на смену борьбе за существование.
В обществе нет борьбы за существование. Тяжкая ошибка предполагать, что логично развитая либеральная теория общества может вести к другому выводу. Отдельные фразы в работе Мальтуса, которые могут быть истолкованы иначе, легко объяснить тем, что первоначальный набросок своей знаменитой работы Мальтус завершил до того, как он полностью постиг дух классической политэкономии. В доказательство того, что его учение не допускает иного толкования, можно указать на тот факт, что до Спенсера и Дарвина никто и не помышлял рассматривать борьбу за существование (в современном значении этого выражения) как закон человеческого общества. Дарвинизм первый выдвинул теории, в которых борьба индивидуумов, рас, народов и классов предстала основным фактором общественной жизни; и именно в дарвинизме, который развился в кругах либеральной интеллигенции, теперь находят люди оружие для войны с ненавистным либерализмом. В гипотезах Дарвина, долго считавшихся неопровержимыми, марксизм [292*], расовый мистицизм и национализм нашли, как им кажется, несокрушимую основу своих учений. Особенно привержен популярным лозунгам дарвинизма современный империализм. [293*]
Дарвинизм, а точнее говоря, псевдодарвинистские теории общества, никогда не сознавал той главной трудности, которая возникает при попытке применить к общественным отношениям их лозунг борьбы за существование. В природе за существование борется индивидуум. В природе исключительно редки явления, которые можно было бы истолковать как проявление борьбы между группами животных. Конечно, бывают войны между группами муравьев, — хотя вполне возможно, что однажды нам придется принять совсем другое объяснение тому, что мы здесь наблюдаем [294*]. Теория общества, основанная на идеях дарвинизма, должна прийти к тому, чтобы объявить войну всех против всех естественной формой отношений между людьми и, таким образом, отвергнуть возможность каких-либо общественных связей. Либо эта теория должна объяснить, с одной стороны, почему в некоторых группах царит и должен царить мир, а с другой стороны, почему принцип мирного объединения, который и сделал возможным возникновение таких групп, не действует вне их, так что группы обречены на взаимную вражду. Именно на этот риф наталкиваются все антилиберальные теории общества. Нельзя признать закон, который управляет объединением всех немцев, всех долихокефалов [264] или всех пролетариев в особую нацию, расу или класс, действенным только внутри некоего коллектива. Антилиберальные теории общества предполагают, что совпадение интересов внутри групп самоочевидно и может быть принято без всякого обсуждения, а потому и сосредоточивают все внимание на доказательстве того, что существуют межгрупповые конфликты интересов и что этот род конфликтов необходим как единственная движущая сила исторического развития. Но если война есть мать всех вещей, плодотворный источник исторического прогресса, тогда непонятно, зачем пресекать действие этого плодотворного фактора внутри государств, народов, рас и классов. Если природа нуждается в войне, почему тогда не в войне всех против всех? Почему всего лишь в войне всех групп друг против друга? Единственная теория, которая объясняет, как возможен мир между индивидуумами и как общество создается из объединения индивидуумов, — это либеральная теория общества как системы разделения труда. Но принятие этой теории делает невозможной веру в то, что враждебность между группами есть некая необходимость. Если ганноверцы и бранденбуржцы мирно живут в обществе бок о бок, почему не могут так же жить немцы и французы? [265]
Социологический дарвинизм неспособен объяснить явление роста общества. Это не теория общества, а «теория несоциальности» [295*].
Об упадке социологической мысли в последние десятилетия ясно свидетельствует тот постыдный факт, что социальный дарвинизм начали теперь опровергать примерами взаимопомощи, симбиотических отношений, которые биологи только недавно обнаружили в мире животных и растений. Кропоткин, дерзкий противник либеральной теории общества, никогда не понимавший, что именно он отрицает и с чем сражается, обнаружил у животных рудименты общественных связей и выдвинул их как противоположность конфликта. [266] Он противопоставил благоприятный принцип взаимопомощи разрушительному принципу войны на истребление [296*]. Биолог Каммерер [267], захваченный идеями марксистского социализма, продемонстрировал, что в природе принцип конфликта дополняется принципом помощи [297*]. В этом вопросе биология вновь присоединяется к своему истоку, к социологии. Она несет с собой заимствованный некогда у социологии принцип разделения труда. Она не учит социологию ничему новому, что не было бы уже ранее включено в теорию разделения труда, как ее сформулировала презираемая классическая политэкономия.
3. Конфликт и конкуренция
Теории общества, основанные на естественном праве, начинают с догмы о равенстве всех людей. Раз все равны, за каждым естественное право требовать, чтобы к нему относились, как к полноправному члену общества, и попытка отнять жизнь была бы нарушением естественного права на жизнь. Так формулируются постулаты мира, всеохватности общества и равенства всех его членов. В то же время либеральная теория выводит эти принципы из концепции полезности. Для либерализма понятия «человек» и «общественный человек» тождественны. Общество готово принять в качестве своего члена каждого, кто готов жить в мире и совместном труде. Всем выгодно, чтобы к каждому относились как к полноправному и равноправному гражданину. Но с теми, кто пренебрегает преимуществами мирного совместного труда, предпочитает раздор и отказывается от приспособления к общественному порядку, следует сражаться, как с опасным животным. Следует принять такую установку в отношении антиобщественных преступников и диких племен. Либерализм одобряет только оборонительные войны. Он рассматривает войну вне ситуаций защиты как антиобщественное явление, которое ведет к уничтожению общественного сотрудничества.
Отказываясь замечать фундаментальное различие между войной и конкуренцией, антилиберальные общественные теории стремятся дискредитировать либеральный принцип мира. В исходном смысле слова бой означает схватку не на жизнь, а на смерть между человеком и животными. Общественная жизнь человека начинается с преодоления инстинктов и иных побуждений к схватке на смерть. История демонстрирует нам постепенный отказ от стычки как формы общественных отношений. Драки становятся более редкими и менее напряженными. Побежденного больше не уничтожают; если общество может включить его в свои ряды, жизнь ему сохраняют. Появляются правила войны, что смягчает их. Тем не менее, войны и революции остаются средствами разрушения и уничтожения. По этой причине либерализм никогда не упускает случая, чтобы подчеркнуть их антиобщественный характер.
Когда конкуренцию называют конкурентной войной или просто войной — это метафора. Цель войны — уничтожение; цель конкуренции — созидание. Экономическая конкуренция ведет к тому, чтобы производство осуществлялось самым рациональным способом. Здесь, как и везде, задачей является отбор лучшего. Это фундаментальный принцип общественного сотрудничества, без которого немыслима общественная жизнь. Без той или иной формы конкуренции, хотя бы в виде экзаменов, не может существовать даже социалистическое общество. Эффективность социалистического строя жизни будет зависеть от того, сумеют ли сделать конкуренцию достаточно жесткой и энергичной, чтобы осуществлять надлежащий отбор.
Значение метафоры, уподобляющей конкуренцию сражению, раскрывается следующими тремя сравнениями. Во-первых, ясно, что между сражающимися сторонами существуют такие же враждебность и конфликт интересов, как и между конкурентами. Ненависть мелкого лавочника к своему более удачливому сопернику может быть не менее напряженной, чем ненависть южных славян к мусульманам. [268] Но чувства, которые побуждают человека к действию, не имеют отношения к социальной функции этих действий. Чувства не имеют значения до тех пор, пока действия ограничиваются нормами общественного порядка.
Во-вторых, и война, и конкуренция осуществляют функцию отбора. В какой степени война осуществляет отбор наилучших — неясно; ниже мы покажем, что, по мнению многих людей, войны и революции отбирают наихудших. В любом случае, несмотря на тождество функций, не следует забывать о существенном различии между войной и конкуренцией.
В-третьих, сравнивают последствия поражения для побежденных. Говорят часто об уничтожении побежденных, но при этом не отдают себе отчет, что в одном случае слово «уничтожен» используется как метафора. Потерпевший поражение в бою действительно убит, хотя в современной войне выживших пленников щадят, все-таки льется кровь. Говорят, что в конкурентной борьбе уничтожаются хозяйственные единицы. Но в действительности ведь это означает просто то, что проигравшим навязывают в структуре общественного разделения труда совсем иное положение, чем им хотелось бы. Это никоим образом не обрекает их на голодную смерть. В капиталистическом обществе для каждого есть хлеб и место. Его способность к росту обеспечивает каждому работнику средства к существованию. Постоянная безработица нехарактерна для свободного капитализма.
Война в исходном, действительном значении этого слова есть антиобщественное явление. Среди воюющих сотрудничество — основной элемент общественных отношений -- делается невозможным, и оно разрушается там, где оно уже существовало. Конкуренция, напротив, есть элемент общественного сотрудничества, она является руководящим принципом организации общественной жизни. С социологической точки зрения конкуренция и война являются крайними противоположностями.
На этом должна базироваться оценка всех теорий, для которых сущность общественного развития представляется войной противостоящих групп. Классовая борьба, расовые конфликты и национальные войны не могут быть созидательным принципом. На фундаменте разрушения и уничтожения никакого здания не построишь.
4. Борьба наций
Язык — важнейший посредник в общественном сотрудничестве. Язык прокладывает мосты через пропасти, разделяющие индивидуумов, и только с его помощью человек может сообщить другому, что им движет. Не стоит здесь обсуждать более широко значение языка для мысли и воли: как он обусловливает мысль и волю и как обезъязыченная мысль обращается просто в инстинкт, а лишенная языка воля — в побуждение [298*]. Мысль также есть общественный феномен; она не продукт изолированного духа, но дитя взаимовлияния и взаимообогащения людей, стремящихся, объединив свои силы, к одним целям. Труд одинокого мыслителя, размышляющего в уединении о мало кого заботящих проблемах, также есть разговор, диалог с богатствами мысли, которые как плоды духовной работы многих поколений запечатлены в языке в виде понятий повседневной речи и в литературной традиции. Мысль связана с языком. Здания концепций сооружаются из элементов языка.
Дух человека живет только в языке; только благодаря Слову человек совершает прорыв от темной неопределенности и смутности инстинкта к казавшейся недостижимой ясности. Мышление и мысль неотделимы от языка, в котором они берут начало. Когда-нибудь мы, быть может, придем к единому мировому языку, но, конечно, не тем путем, который пытаются проложить изобретатели волапюка, эсперанто и иных подобных «изделий». [269] Трудности создания универсального языка и общего взаимопонимания людей не могут быть разрешены методом подбора идентичных комбинаций слогов для повседневного словаря, которым будут пользоваться люди, не думающие о том, что они говорят. Непереводимый компонент понятий, вибрирующий в их словах, разделяет языки в не меньшей степени, чем разнообразие звуков, которые допускают любые перестановки. Даже когда по всему миру научатся одинаково произносить слова «официант» или «порог», это не уничтожит пропасти, которая разделяет народы и языки. Но если когда-нибудь мы придем к тому, что все сказанное на одном языке сможет быть передано на другом без малейших потерь смысла, то это и будет обретением единого языка, даже если при этом мы не достигнем одинакового звучания слогов. Тогда различные языки обратятся просто в разные диалекты одного языка, и непереводимость слова перестанет быть препятствием передачи мысли от одного народа другому.
Пока этот день не настал — а он, быть может, никогда не настанет, — среди рядом живущих и говорящих на разных языках людей неизбежно будут возникать политические напряжения, которые могут привести к развитию серьезных политических противоречий [299*]. Прямо или косвенно, но эти раздоры ответственны за современную «ненависть» между народами, на которой и основывается новейший империализм.
Теория империализма упрощает свою задачу, когда ограничивает ее доказательством того, что конфликты между народами существуют. Для полноты аргументации следовало бы также показать, что существует и солидарность интересов внутри народов. Националистическо-империалистическая доктрина появилась как реакция на учение о вселенской солидарности, бывшее частью фритредерской доктрины. Она застала духовную атмосферу космополитической идеи мирового гражданства и братства народов, и ей казалось, что необходимо лишь доказать наличие противоречивых интересов разных народов. При этом просмотрели тот факт, что все аргументы, свидетельствующие о несовместимости национальных интересов, можно с тем же основанием использовать для доказательства несовместимости региональных и даже личных интересов. Если немцам вредно потреблять английские ткани и русское зерно, то точно так же берлинцам должны наносить вред баварское пиво и рейнские вина. Если дурно допускать, чтобы разделение труда перешагивало за государственные границы, то в конце концов вообще лучше всего было бы вернуться к самодостаточности домашнего хозяйства. Лозунг «Долой иностранные товары!», если принять все выводы из него, приведет нас к полному упразднению системы разделения труда. Ведь принцип, согласно которому представляется выгодным международной разделение труда, универсален и действителен по отношению к разделению труда вообще.
Не случайно, что из всех народов именно немцы обладали наименьшим чувством национальной сплоченности и последними из всех европейских народов пришли к пониманию идеи политического объединения всего народа в одном государстве. Идея национального объединения есть плод либерализма, свободной торговли и системы laisser faire. [270] Немецкий народ, немалая часть которого живет на положении национального меньшинства среди иноязычных народов, одним из первых ощутил ущерб от национального притеснения. Но так как он отвергал либерализм, у него не было духовных средств для преодоления регионального сепаратизма и особых устремлений различных групп. И опять-таки не случайно, что чувство национальной сплоченности ни у кого не развито столь сильно, как у англосаксов — у классического народа либерализма.
Империалисты впадают в фатальное заблуждение, когда считают, что возможно усилить национальную сплоченность отрицанием космополитизма. Они не понимают, что основная антиобщественная компонента их доктрины должна при логически последовательном ее применении расколоть любую общность.
5. Борьба рас
Научное знание о врожденных качествах человека пока еще только зарождается. О наследственных свойствах индивидуума нам известно лишь, что одни люди от рождения одарены больше других. Мы не знаем, где искать причины разницы между хорошим и плохим. Мы знаем только, что люди различны по своим физическим и психическим свойствам. Мы знаем, что некоторые семьи, племена и группы племен имеют сходные характерные особенности. Мы знаем, что есть основания различать расы и расовые особенности индивидуумов. Но пока что попытки обнаружить соматические характеристики рас были безрезультатными. Одно время думали, что черепной индекс может служить показателем расовой принадлежности, но теперь ясно, что нет никакой связи между черепным индексом и психическими и умственными особенностями индивидуума и что антропологическая школа Ляпужа заблуждалась. [271] Недавние измерения показали, что длинноголовые люди не всегда блондины, добрые, благородные и культурные, а круглоголовые не всегда брюнеты, злые, посредственные и некультурные. Самые длинные головы имеют австралийские аборигены, эскимосы и кафры. Среди величайших гениев было много круглоголовых. Черепной индекс Канта был равен 88 [300*]. Появились основания считать, что изменения черепного индекса могут и не быть результатом смешения рас, а иметь причиной изменения образа жизни и географического окружения [301*].
Зла не хватает для описания процедур, используемых «расовыми экспертами». Они устанавливают критерии расовых различий совершенно произвольно. Больше думающие о звонких лозунгах для политической борьбы, чем о прогрессе знания, они пренебрегают всеми требованиями научного исследования. А критики этого дилетантизма относятся к своей задаче легкомысленно. Они обращают внимание исключительно на конкретный облик, который придают расовой теории отдельные авторы, на высказывания об отдельных расах, их физических и умственных признаках и свойствах. Даже когда доказывается, что произвольные, лишенные всякого основания и противоречивые гипотезы Гобино и Чемберлена должны быть отброшены как пустые химеры, при этом не затрагивается корень расовой теории, не связанный с разделением рас на благородные и подлые. [272]
В теории Гобино раса есть начало всего; созданная особым актом творения, она наделена особыми качествами. Влияние окружения оценивается как незначительное: смешение рас создает ублюдков, у которых хорошие наследственные свойства благородной расы затухают или исчезают вовсе. Чтобы оспорить социологическую «ценность» расовой теории, недостаточно доказать неосновательность подобных утверждений или показать, что расы есть результат эволюции, протекавшей под воздействием чрезвычайно различных факторов. Этому возражению можно противопоставить тезис, что длительно действовавшие факторы способствовали появлению одной или нескольких рас с чрезвычайно благоприятными свойствами и что представители этих рас благодаря этим преимуществам настолько далеко обошли всех, что другие расы должны признать их первенство. В своем современном виде теория рас и на самом деле выдвигает аргументы такого рода. Необходимо проанализировать эту форму расовой теории и выяснить, как она соотносится с развитой в данной книге теорией трудового общественного сотрудничества [302*].
Совершенно ясно, что расовая теория не враждебна учению о разделении труда. Они вполне совместимы. Можно предположить, что умственные и волевые качества рас различны, а потому они весьма неравны по своей способности создавать общество, и более того, что совершенные расы отличает как раз особая склонность к усилению общественного сотрудничества. Эта гипотеза бросает свет на некоторые аспекты эволюции общества, которые при другом подходе понять нелегко. Она позволяет нам объяснить развитие и упадок системы общественного разделения труда, процветание и упадок цивилизаций. Мы оставляем открытым вопрос о логичности этой гипотезы и других, выстроенных на ее основе. Сейчас нас занимает иное. Нам нужно здесь показать, что расовая теория легко совместима с теорией общественного сотрудничества.
Когда расовая теория сражается с постулатом естественного права о равенстве и равных правах человека, она не затрагивает либеральную концепцию свободной торговли. Ведь либерализм выступает в защиту свободы рабочих не с позиций естественного права, а потому, что считает несвободный труд (т. е. отсутствие полного вознаграждения работника в соответствии с продуктом, экономически вменяемым его труду, и отрыв дохода от производительности труда) менее производительным, чем свободный. Аргументы расовой теории не опровергают утверждений теории свободной торговли относительно роли расширения системы общественного разделения труда. Можно утверждать, что расы отличаются по своей талантливости и свойствам характера и что нет надежд на выравнивание этих различий. Но теория свободной торговли показывает, что даже самые одаренные расы выигрывают от объединения усилий с менее способными и что общественное сотрудничество приносит им преимущества более высокой производительности в процессе общего труда [303*].
Расовая теория вступает в конфликт с либеральной теорией общества, когда она начинает проповедовать борьбу между расами. При этом она использует те же аргументы, что и другие милитаристские теории общества. Высказывание Гераклита о том, что «война есть отец всех вещей», является недоказуемой догмой [273]. Невозможно показать, каким образом общественные структуры возникают из разрушения и уничтожения. Нет, адепты расовой теории — в той мере, в какой они пытаются быть беспристрастными, а не просто следовать своей склонности к идеологии милитаризма и конфликта, — должны признать, что война должна быть осуждена как раз с точки зрения отбора. Ляпуж показал, что только у примитивных племен война осуществляет отбор самых сильных и одаренных; у цивилизованных народов она ведет к упадку расы в силу неблагоприятного отбора. [304*] Скорее будут убиты пригодные к военной службе, чем непригодные, которые попадают на фронт позже всех, если попадают вообще. Выжившие на войне с меньшей вероятностью -- из-за различных увечий — дадут здоровое потомство.
Результаты научного исследования рас никоим образом не могут опровергнуть либеральную теорию развития общества. Они скорее подтверждают ее. Расовые теории Гобино и многих других возникли из чувств горечи и обиды военных и дворян на буржуазную демократию и капиталистическую экономику. Для обслуживания насущных потребностей современного империализма они впитали старые теории насилия и войны. Но их критические суждения могут затронуть только лозунги старой философии естественного права. Они совершенно непригодны применительно к либерализму. Даже расовая теория не может пошатнуть утверждения, что цивилизация представляет собой результат мирного сотрудничества.
Глава XX. Столкновение классовых интересов и классовая борьба
1. Концепция классов и классовых конфликтов
В каждый данный момент положение индивидуума в общественном хозяйстве определяет его отношения с другими членами общества. Он связан с ними отношениями обмена как дающий и получающий, как продавец и покупатель. Положение в обществе не предопределяет однозначно его деятельность. Можно быть одновременно землевладельцем, капиталистом и получать заработную плату; другой может быть одновременно предпринимателем, служащим и землевладельцем; третий — предпринимателем, капиталистом, землевладельцем и т. д. Можно производить сыр и корзинки и при этом подрабатывать поденщиной. Но даже положение тех, кто занимает примерно одинаковые позиции, не вполне идентично. Даже в качестве потребителя один человек отличается от другого своими особыми нуждами. На рынке всегда выступают отдельные индивидуумы. В свободной экономике рынок дает проявиться индивидуальным отличиям; как не без сожаления порой говорят, — рынок «атомизирует». Даже Марксу пришлось отметить это: «Так как купли и продажи совершаются лишь между отдельными индивидуумами, то недопустимо искать в них отношения между целыми общественными классами». [305*]
Обозначая термином «класс» всех тех, кто занимает примерно одинаковые позиции в обществе, важно помнить, что мы так и не ответили на вопрос: принадлежит ли классам какая-либо особая роль в общественной жизни. Сами по себе схемы и классификации не обладают никакой познавательной ценностью. Научное значение понятия определяется его местом в теории; вне теоретического контекста это просто интеллектуальная игрушка. Ссылка на то, что различие общественных положений людей делает бесспорным существование классов, вовсе не доказывает полезности теории классов. Важен ведь не сам факт различий в общественном положении индивидуумов, но то, какое значение этот факт имеет в жизни общества.
Давно признано, что противоположность между богатыми и бедными подобно всем другим экономическим оппозициям играет важную роль в политике. Столь же хорошо известно значение кастовых и сословных различий, т. е. различий в правовом положении, в неравенстве перед законом. Классическая политэкономия не отрицала этого. Но она показала, что все эти противоположности суть результаты извращенных политических установлении. Согласно классической политэкономии, интересы индивидуумов, будучи правильно понятыми, никогда не бывают полностью несовместимыми. Вера в противоположность интересов, столь важная прежде, проистекает из непонимания естественных законов общественной жизни. Стоит только осознать, что все верно понятые интересы совпадают, — старые аргументы перестают служить в политической борьбе.
Но классическая политэкономия, которая провозглашала солидарность интересов, сама заложила краеугольный камень новой теории классовых противоречий. Меркантилисты центром экономической теории, которая была для них теорией объективного богатства, сделали экономические блага. Великим достижением классиков в этом отношении было то, что за благами они увидели хозяйствующего человека. Этим они подготовили путь для современной политической экономии, которая центром системы сделала человека с его субъективными ценностными предпочтениями. Система, в которой человек и экономические блага рассматриваются в одной плоскости, неизбежно распадается на две части. Одна становится теорией производства богатства, а другая — распределения. Чем ближе экономика к точной науке, чем в большей степени она превращается в каталактику [275], тем менее удовлетворительна эта концепция. Но понятие распределения еще остается, и с ним невольно связано представление о границе между процессами производства и распределения: блага сначала общественно производятся, а затем распределяются. Неразрывность производства и «распределения» в капиталистической экономике может быть уяснена лишь в той мере, в какой вытесняется это злополучное словцо [306*].
Но если термин «распределение» принят и проблема вменения истолковывается как проблема распределения, недоразумений не избежать. Ведь теория вменения, или, если использовать термин, более соответствующий классической постановке проблемы, теория дохода должна различать разные категории факторов производства, при том, что на деле ко всем этим факторам равно применим основной закон формирования ценности. «Труд» отделяется от «капитала» и от «земли». При таком подходе нет ничего естественней, чем рассматривать работников, капиталистов и землевладельцев как отдельные классы, что и сделал первым Рикардо в предисловии к своим «Началам политической экономии». Тот факт, что классики не расщепили «прибыль» на составные части, только усилил эту тенденцию, и в результате мы получили картину общества, разделенного на три основных класса.
Рикардо пошел и дальше. Показав, как «на разных стадиях общественного развития» [307*] изменяются пропорции произведенного продукта, поступающие в распоряжение каждого из трех классов, он сделал возможным динамическое рассмотрение классовых противоречий. В этом у него нашлись последователи. Именно здесь Маркс выступил со своей экономической теорией, которую он выдвинул в «Капитале». В своих ранних работах, особенно во введении к «Коммунистическому Манифесту», Маркс рассматривал классы и классовые противоречия в прежних терминах — как противоположность правовых позиций и благосостояния. Связь между двумя идеями была обеспечена благодаря представлению о современных отношениях в промышленности как о господстве капиталиста над рабочими. Но даже в «Капитале» Маркс не дает точного определения понятия «класс», несмотря на фундаментальную важность этого понятия для его теории. Не сформулировав понятия «класс», он ограничивается перечислением «основных классов», на которые делится современное капиталистическое общество [308*]. Здесь он следует классификации Рикардо, хотя для последнего деление на классы было лишь элементом теории каталактики.
Успех марксистской теории классов и классовой борьбы был грандиозным. Сегодня Марксовы положения о делении общества на классы и постоянстве непреодолимых классовых противоречий приняты почти всеми. Даже те, кто желает классового мира и стремится к нему, как правило, не оспаривают утверждения о реальной противоположности классовых интересов и классовой борьбы. Но сама концепция классов остается столь же неопределенной, как и прежде. Для последователей Маркса, как и для него самого эта концепция переливается всеми цветами радуги.
Если в соответствии с логикой «Капитала» эта концепция строится на проводившемся классической школой разделении факторов производства, тогда классификация, которая была изобретена для нужд теории обмена и только в ней правомерна, становится основой общего социологического знания. Упускается из виду, что объединение факторов производства в две, три или четыре большие группы было произведено только для удобств экономической теории и только в этом контексте имеет какой-либо смысл. Классификация факторов производства представляет собой классификацию функций, а не людей или групп людей; разделение подчинено исключительно целям каталактики, которую оно и должно обслуживать. Выделение земли, например, вызвано особым положением земельной ренты в классической теории. В соответствии с теорией особенность земли как блага в том, что при некоторых предпосылках она может приносить рентный доход. Подобным образом положение капитала как источника прибыли и труда как источника заработной платы определяется особенностями классической системы. В позднейших решениях проблемы распределения, когда «прибыль» классической школы была разделена на предпринимательский доход и на процент с капитала, группировка решительно изменилась. В современной теории вменения группировка факторов производства в соответствии со схемами классической теории не имеет более никакого значения. То, что раньше называлось проблемой распределения, теперь превратилось в проблему образования цен на блага высших порядков. Старая терминология сохранилась только в силу консерватизма научной классификации. Духу теории вменения гораздо больше соответствовала бы совершенно другая группировка, например разделение источников доходов на статические и динамические.
Существенно важно то, что никакая политэкономическая система не выделяет определенную группу производственных факторов как некое единство по природным свойствам или по способу их применения. Непонимание этого и составляет тягчайшую ошибку теории экономических классов. Эта теория исходит из наивного предположения о природности внутренних связей тех факторов производства, которые были выделены в единую группу только для аналитических целей. Она конструирует некую однородную землю, которая пригодна для любых сельскохозяйственных целей, и некий однородный труд, который может производить что угодно. Ради большей реалистичности теория пошла на уступки и ввела различение сельскохозяйственной земли, земли для горных разработок и городской земли, так же как квалифицированного и неквалифицированного труда. Но эти уступки не улучшили ситуации. Квалифицированный труд — такая же абстракция, как и труд вообще, а сельскохозяйственная земля не более конкретна, чем просто земля. Особенно существенно, что эти абстракции не охватывают как раз те характеристики объектов, которые являются решающими для социологического осмысления. Если речь идет об особенностях ценообразования, мы можем при некоторых условиях противопоставить три следующие группы: землю, капитал и труд. Но отсюда вовсе не следует, что эта группировка приемлема и в тех случаях, когда мы рассматриваем совсем другие проблемы.
2. Сословия и классы
Теория классовой борьбы постоянно путает понятия «сословие» и «класс». [309*] Сословия представляли собой правовые установления, а не результат хозяйственной жизни. Каждый от рождения принадлежал к какому-либо сословию и оставался в нем обычно до своей смерти. Через всю жизнь человек проносил принадлежность к сословию, членство в определенном сословии.
Человек был господином или слугой, свободным или рабом, помещиком или крепостным, патрицием или плебеем не в силу того, что он занимал определенное положение в хозяйственной жизни, но в силу принадлежности к определенному сословию. Предполагается, что сословия первоначально были экономическим установлением в том смысле, что, как и любой другой общественный порядок, они возникли в конечном итоге из необходимости поддерживать общественное сотрудничество. Но лежавшая в основе этих установлении теория общества была существенно иной, чем либеральная теория, поскольку все сотрудничество между людьми мыслилось таким образом, что одни только «берут», а другие только «дают». Для этой теории было невообразимо, что «давать» и «брать» можно взаимно и это будет выгодно для всех. В следующую эпоху под влиянием либеральных идей система сословий начала терять престиж, стала выглядеть как антиобщественная и несправедливая, основанная на одностороннем обременении низших сословий. Тогда в оправдание сословного устройства были выдвинуты искусственные конструкции взаимообусловленности сословий: высшие сословия обеспечивают низшим защиту и поддержку, предоставляют им землю и пр. Но само возникновение этой доктрины свидетельствует о начавшемся упадке сословной системы. Такого рода идеи были совершенно чужды и враждебны системе сословной организации в период ее расцвета. Тогда сословные разграничения виделись в неприкрашенном свете как отношения насилия, как отношения свободных и несвободных. Сам раб воспринимал рабство как природное установление. Но не следует думать, что он не бунтовал и не пытался бежать, потому что считал рабство установлением справедливым, равно благоприятным для господина и раба. Нет, он попросту избегал смерти за неповиновение.
Предпринимались попытки, превознося историческую роль рабства, опровергнуть либеральное понимание института личной зависимости, лежащего в основе сословного деления. Утверждалось, что рабство есть шаг в прогрессе цивилизации, поскольку захваченных в плен врагов перестали убивать, а стали обращать в рабство. Без рабства общество с разделением труда, в котором ремесло отделено от сельского хозяйства, не смогло бы развиться до тех пор, пока сохранялась незанятая земля; ведь каждый предпочитает быть вольным хозяином на собственной земле, а не безземельным переработчиком добываемого другими сырья, а тем более неимущим батраком на чужом поле. С этой точки зрения рабство имеет свое историческое оправдание, поскольку высшая цивилизация невозможна без разделения труда, которое обеспечивает части населения досуг, освобождает его от повседневных забот о хлебе насущном [310*].
Вопрос об оправданности тех или иных исторических установлении может возникнуть лишь для тех, кто смотрит на историю глазами моралиста. Факт появления чего-либо в истории свидетельствует о том, что были некие силы, достаточные для его осуществления. Единственный вопрос, который может задать ученый, — действительно ли рассматриваемое установление выполняло приписываемые ему функции. При таком подходе ответ в данном случае должен быть безусловно отрицательным. Личная зависимость не расчистила путь для общественного производства на основе разделения труда. Напротив, она была препятствием на этом пути. Рост современного промышленного общества с его развитой системой разделения труда не мог начаться, пока не уничтожили личную зависимость. Существовали свободные, пригодные для поселения земли — и это не помешало ни возникновению обособленного ремесла, ни образованию класса свободных наемных работников. Ведь пустующие земли надо сначала сделать пригодными к обработке. Прежде чем они станут плодоносными, они нуждаются в улучшении. Эти земли почти всегда хуже уже обрабатываемых: нередко — по плодородию, почти всегда — по расположению. [311*] Единственно необходимым общественным условием для развития системы разделения труда является частная собственность на средства производства. И для ее развития не было никакой нужды в порабощении работников.
Существуют два характерных типа отношений между сословиями. Во-первых, отношение между феодальным властителем и оброчным крестьянином. Феодальный властитель стоит совершенно вне процесса производства. Он появляется на сцене, когда урожай уже собран и производство завершено. Тогда он и получает свою долю. Для понимания природы таких отношений нам нет нужды знать, возникли ли они в результате покорения прежде свободных крестьян или в результате заселения земли, принадлежавшей властителю. Значение имеет лишь то, что эти отношения лежат вне сферы производства, а значит, и не могут исчезнуть в результате экономического процесса, такого, как превращение рентных платежей и десятины из натуральной формы в денежную. Если рента может быть переведена в денежную форму, вместо отношений зависимости возникают отношения по поводу прав собственности. Вторым типичным отношением является отношение господина к рабу. Здесь господин требует труда, а не готовых благ, и получает требуемое без оказания ответных услуг рабу. Ведь предоставление пищи, одежды и убежища не есть ответные услуги, но всего лишь необходимые затраты, если только господин не хочет потерять труд раба. При последовательно проводимой системе рабства раба кормят лишь до тех пор, пока его труд приносит больше, чем стоит его содержание.
Совершенно неоправданно было бы сравнивать эти два типа отношений с теми, которые существуют в свободной экономике между предпринимателем и работником. Исторически свободный труд по найму частично вырос из труда рабов и крепостных. Потребовалось немало времени, чтобы исчезли все следы такого происхождения, и он стал тем, что он есть в капиталистической экономике. Но ставить рядом на одну доску экономически свободный труд по найму и труд подневольный — значит совершенно не понимать капиталистической экономики. С позиций социологии можно провести сопоставление этих двух систем. Ведь обе они включают разделение труда и общественное сотрудничество, а потому являют немало общих черт. Но социологическое исследование не должно проходить мимо того факта, что экономическая природа двух систем совершенно различна. Использование аргументов, почерпнутых при изучении рабского труда, для экономического анализа свободного труда не может иметь никакой цены. Свободный работник в виде заработной платы получает то, что экономически вменено его труду. Владелец раба тратит столько же на поддержание существования раба и на уплату работорговцу цены, которая соответствует текущей или будущей разнице между заработной платой свободного работника и расходами на содержание раба. Эта разница между заработком свободного и ценой содержания раба идет человеку, который обращает свободного в раба — охотнику на рабов, а не работорговцу и не рабовладельцу. В рабовладельческой экономике эти двое не извлекают какого-либо специфического дохода. Отсюда ясно, что каждый, кто пытается оправдать теорию эксплуатации ссылкой на условия рабовладельческой экономики, просто не понимает существа проблемы. [312*]
В обществе, разделенном на сословия, все члены тех сословий, которые не обладают полнотой прав, имеют один общий интерес: они борются за улучшение правовых позиций своего сословия. Все прикрепленные к земле стремятся облегчить бремя оброка; рабы стремятся к свободе, т. е. к состоянию, когда они смогут распоряжаться своим трудом. Общность интересов всех членов сословия тем сильнее, чем менее способен индивидуум подняться над правовыми рамками своего сословия. Не имеет большого значения, что в отдельных редких случаях особо одаренные индивидуумы с помощью счастливого случая способны стать членами высших сословий. Массовые движения не возникают из-за неудовлетворенных желаний и надежд изолированных индивидуумов. Привилегированные сословия позволяют талантам подняться по социальной лестнице не ради сглаживания общественного недовольства, а для обновления собственной силы. Одаренные индивидуумы, которым перекрыли путь наверх, могут стать опасными только в том случае, если их призыв к насильственным действиям найдет отклик в широких слоях недовольных.
3. Классовая борьба
Устранение отдельных межсословных конфликтов не разрешало противоречий между сословиями до тех пор, пока сохранялась идея сословного разделения общества. Даже когда угнетенным удавалось сбросить ярмо, это не устраняло всех сословных различий. Только либерализм смог разрешить фундаментальный конфликт сословного общества. Он сделал это, борясь со всеми формами личной зависимости — опираясь на то, что свободный труд производительнее несвободного, и превратив свободу выбора места работы и профессии в фундаментальное требование рациональной политики. Ничто лучше не характеризует неспособность антилиберальной критики понять историческое значение либерализма как попытки преуменьшить значение этого действия, представляя его продиктованным «интересами» отдельных групп.
В борьбе между сословиями все члены каждого сословия сплочены общей целью. Как бы ни различались они во всем другом, это одно их объединяет. Они стремятся к улучшению правовых позиций своего сословия, с чем обычно связаны и экономические преимущества. Ведь различия в правовом статусе сословий поддерживаются как раз ради того, что при этом экономические преимущества одних создаются за счет экономической несправедливости по отношению к другим.
Но в теории классовой борьбы «класс» — это совсем иное. Теория, утверждающая неразрешимость классовых конфликтов, поступает нелогично, когда делит общество только на три или четыре класса. Доведенная до логического конца, эта теория должна была бы дробить общество на группы с общими интересами до тех пор, пока не выделились бы группы, члены которых выполняют одни и те же функции. Недостаточно разделить собственников на землевладельцев и капиталистов. Дифференциация должна продолжаться до тех пор, пока не будут вычленены такие группы, как производители хлопковой пряжи такого-то номера, или производители черной козлиной кожи, или легкого светлого пива. У таких групп и на самом деле есть только один общий интерес: они жизненно заинтересованы в благоприятных условиях сбыта своего продукта. Но этот общий интерес узко ограничен. В свободной экономике никакая отрасль не может в длительной перспективе получать прибыль больше средней и в то же время не может работать в убыток. Общий отраслевой интерес, таким образом, не выходит за пределы краткосрочных тенденций рынка. В остальном же в группе господствует конкуренция, а не групповая сплоченность. Особые интересы делаются могущественнее конкуренции, когда экономическая свобода так или иначе ограничена. Чтобы защитить теорию борьбы между классами и соответственно внутриклассовой солидарности, следовало бы показать, что конкуренция не столь важна даже в условиях свободной экономики. Нельзя обосновать теорию классовой борьбы ссылками на солидарность землевладельцев против городского населения в вопросе о тарифной политике или на конфликт землевладельцев и горожан по вопросу политического руководства. Либерализм не отрицает ни того, что вмешательство государства в хозяйственные вопросы порождает особые интересы, ни того, что в результате вмешательства возникают привилегии для отдельных групп. Он просто говорит, что особые привилегии малых групп ведут к жестоким политическим конфликтам и постоянным нарушениям мира, что сдерживает развитие общества. Либерализм утверждает, что, когда такие особые привилегии делаются общим правилом, они обращаются в несправедливость для всех, поскольку при этом одной рукой забирают то, что дает другая, и единственным постоянным результатом оказывается общий упадок производительности труда.
В длительной перспективе солидарность интересов внутри группы и противоположность межгрупповых интересов всегда являются результатом ограничений права собственности, свободы торговли и свободы выбора профессии. Только ненадолго такие результаты могут возникнуть как отражение условий самого рынка. Но если даже в малых группах, члены которых занимают идентичное положение в хозяйственном процессе, нет такой общности интересов, которая бы противопоставляла их всем другим группам, тем более не может идти речь о такой солидарности интересов в больших группах, члены которых занимают не идентичные, а просто сходные позиции в экономике. Если уж нет особой общности интересов внутри группы изготовителей хлопковой пряжи, ее не может быть у всех занятых переработкой хлопка или у прядильщиков и машиностроителей. Интересы прядильщиков и ткачей, интересы машиностроителей и тех, кто использует машины, весьма и весьма различны. Общность интересов возникает только при исключении конкуренции, например, у владельцев земли определенного качества и местоположения.
Теория, которая делит все население на три или четыре большие группы, ошибочно полагает всех землевладельцев единым классом с общими интересами. Никакой определенный интерес не соединяет владельцев земли, пригодной к возделыванию, владельцев лесов, виноградников, рудных месторождений или участков городской земли, если только им не приходится защищать право частной собственности на землю. Но как раз этот интерес характерен не только для землевладельцев. Тот, кто осознал важность системы частной собственности на средства производства, даже если он и не владеет ничем, должен защищать этот принцип так же, как собственник свое владение. У землевладельца же особые интересы возникают только в тех случаях, когда бывает затронута свобода приобретения и продажи собственности.
Также не существует общего интереса и у продающих труд. Однородный труд так же абстрактен, как и универсальный работник. Труд прядильщика отличен от труда шахтера и от труда доктора. Теоретики социализма и неустранимого классового конфликта говорят так, как если бы действительно существовал некоторый абстрактный труд, который под силу каждому, а вопрос о квалификации вообще не имел значения. На деле никакого «абсолютного» труда не существует. Да и неквалифицированный труд вовсе не однороден. Подметальщик улицы — не то же, что носильщик. Более того, даже в чисто количественном отношении неквалифицированный труд занимает много меньшее место, чем предполагает ортодоксальная классовая теория.
Когда мы анализируем основы теории вменения, у нас есть право говорить просто о земле и о труде. При этом подходе все блага высших порядков имеют значение только как элементы хозяйства. Сведение бесконечного многообразия благ высшего порядка к нескольким большим группам оправдано удобствами выработки теории, которая, разумеется, направлена к определенным целям. Часто высказывают сожаление, что экономическая теория имеет дело с абстракциями; но как раз эти сожалеющие забывают, что понятия «труд» и «рабочий», «капитал» и «капиталист» и т. д. есть всего лишь абстракции, а потому и бестрепетно переносят «рабочего», созданного построениями экономической теории, на картинку, которая предположительно изображает реальную общественную жизнь.
Члены класса — конкуренты друг другу. Если численность рабочих уменьшается, а предельная производительность труда соответственно растет, тогда растут и заработная плата, и уровень жизни рабочих. Профсоюзы здесь ничего изменить не могут. И когда профсоюзы, предположительно созданные для борьбы с предпринимателями, ограничивают рост своих членов, как это делали средневековые цехи, они тем самым признают этот факт. [279]
Рабочие конкурируют между собой за продвижение на более высокие должности и за лучшие места работы. Члены других классов вполне могут позволить себе безразличие к тому, кто же именно займет место мастера, кто входит в это относительное меньшинство, которое сумеет перейти в более высокий слой, до тех пор, пока это будут самые способные. Но для самих рабочих этот вопрос очень важен. Каждый конкурирует со всеми другими. Конечно, каждый заинтересован и в том, чтобы должность мастера во всех других случаях доставалась самым способным и самым подходящим. Но при этом каждый желает сам занять доступную ему вакансию мастера, даже если он лично и не является самым подходящим для этой работы. И это его личное преимущество перевешивает ту малую долю неблагоприятных последствий неверного выбора, наносящего ущерб всем вместе.
Теория общности интересов всех членов общества есть единственная теория, которая показывает, как вообще возможно общество; и если отбросить эту теорию, единое общество распадается даже не на классы, а на взаимно враждебных индивидуумов. Конфликт индивидуальных интересов может быть преодолен только в рамках общества, но не внутри класса. Общество не знает других составных частей, чем индивидуумы. Класс, объединенный общим особым интересом, просто не существует — это изобретение непродуманной теории. Чем сложнее и дифференцированное общество, тем больше в нем групп, члены которых занимают схожие позиции в общественном организме; естественно, что численность членов в каждой группе уменьшается по мере того, как растет число самих групп. Из того факта, что у членов каждой группы есть некоторые общие интересы, не следует полного равенства их интересов. Равенство позиций делает их конкурентами, но не людьми с общими целями. Частичное сходство интересов у членов близких групп также не ведет к полному единству стремлений. В той мере, в какой их групповые позиции близки, они вынуждены конкурировать между собой.
Интересы владельцев хлопкопрядильных фабрик могут до некоторой степени быть параллельными, но это и обостряет конкуренцию между ними. Совершенно сходными будут интересы тех фабрикантов, которые вырабатывают пряжу одних и тех же номеров. Но как раз между ними и будет самая жесткая конкуренция. В некоторых случаях параллельность интересов может охватывать более широкую сферу; это могут быть все работники хлопчатобумажной промышленности, либо все производители хлопка, включая тех, кто его выращивает, либо все занятые в промышленности: группировки зависят от конкретных целей и интересов. Но полное совпадение интересов здесь встречается редко, а когда встречается, то ведет не только к солидарности против третьей стороны, но и к конкуренции внутри группы.
Теории, которая выводит все общественное развитие из борьбы классов, следовало бы показать, что положение каждого человека в обществе однозначно определяется его классовым положением, т. е. его принадлежностью к определенному классу и отношением между этим классом и другими классами. Тот факт, что во всех политических схватках определенные социальные группы конфликтуют друг с другом, никак не доказывает этой теории. Доказательством правоты могла бы быть демонстрация того, что классы стремятся к предустановленным целям и не подвержены влиянию идеологий, независимых от классовых позиций; нужно было бы доказать, что малые группы объединяются в большие, а те — в классы не под влиянием компромиссов и временных союзов, но под давлением общественной необходимости, исходя из однозначной общности интересов.
Рассмотрим, например, составляющие элементы аграрной партии. В Австрии виноделы, хлеборобы и скотоводы объединились в партию. Но никак нельзя утверждать, что их свела воедино общность интересов. У каждой из этих трех групп свои интересы. Их объединение ради достижения определенных мер таможенной политики есть компромисс между конфликтующими интересами. Но такой компромисс возможен только на основе идеологии, выходящей за пределы классовых интересов. Классовый интерес каждой из этих трех групп противоположен интересам остальных. Они могут объединиться, только отодвинув полностью или частично определенные особые интересы на задний план, хотя, конечно, это делается ради более эффективной защиты других особых интересов.
То же самое с рабочими в их противостоянии владельцам средств производства. Особые интересы отдельных рабочих групп также не едины. В зависимости от способности и умений их члены также имеют различные интересы. Пролетариат является однородным классом, конечно же, не в силу его классовых позиций, как это утверждают социалистические партии. Таким его делает социалистическая идеология, которая принуждает каждого индивидуума и каждую группу отказываться от своих особых интересов. Повседневная работа профсоюзов как раз и заключается главным образом в достижении компромиссов в этом конфликте интересов. [313*]
Всегда возможны иные, чем уже существующие, коалиции и союзы между группами и их интересами. Те, что существуют, возникли не в результате классового положения групп, но под влиянием идеологии. Сплоченность групп порождается политическими целями, а не идентичностью интересов. Единство особых интересов всегда существует на некотором ограниченном пространстве и уравновешивается или уничтожается конфликтом между другими особыми интересами. И так до тех пор, пока некая идеология не сделает видимую общность интересов фактором более сильным, чем реальный конфликт интересов.
Общность классовых интересов не существует независимо от классового сознания, а классовое сознание не есть простое приложение к уже имеющейся общности особых интересов: оно создает эту общность. В современном обществе пролетарии не представляют собой особой группы, поведение которой однозначно определялось бы классовым положением. Отдельные люди вовлекаются в общие политические действия социалистической идеологией; источником единства пролетариата является не его классовое положение, а идеология классовой борьбы. До социализма пролетариат не существовал как класс. Социалистическая идея сформировала пролетариат как класс, объединив определенных индивидуумов для достижения определенных политических целей. В социализме нет ничего, что делало бы его особенно пригодным для достижения действительных целей пролетарских классов.
С классовой идеологией дело обстоит так же, как с национальной. На деле не существует противоположности между интересами отдельных наций и народностей. Исторически именно национальная идеология создала впервые веру в особые интересы и превратила народы в особые группы, враждующие друг с другом. Национализм разделяет общество по вертикали; социализм разделяет его по горизонтали. В этом смысле две эти идеологии в целом взаимоисключают друг друга. В Германии в 1914 г. националистическая идеология положила социализм на обе лопатки — и неожиданно возник объединенный фронт националистов. В 1918 г. социалисты взяли реванш. [280]
В свободном обществе нет классов, разделенных противоположными и непримиримыми интересами. Общество представляет собой единство интересов. Союзы особых групп всегда стремились к разрушению этой сплоченности. По своим целям и по своей сущности они антисоциальны. Особое единство интересов пролетариата существует постольку, поскольку оно обусловлено одной целью — разрушить общество. Та же природа у особой общности национальных интересов.
Поскольку марксистское определение класса расплывчато, его удавалось использовать для выражения весьма разнообразных идей. Когда в одном случае в качестве решающих выдвигают противоречия интересов владельцев капитала и неимущих, затем — интересов городского и деревенского населения, потом — интересов буржуазии, пролетариата и крестьянства, когда говорят об интересах военно-промышленного капитала, алкогольного капитала, финансового капитала [314*], когда сначала толкуют о золотом интернационале [281], а затем, не переводя дыхания, заводят речь о том, что империализм есть следствие борьбы между капиталистами, легко понять, что это просто демагогические лозунги, лишенные какого бы то ни было социологического смысла. Даже в центральных моментах своего учения марксизм никогда не поднимался над уровнем уличных демагогов. [315*]
4. Формы классовой борьбы
Национальный продукт делится на заработную плату, земельную ренту, проценты на капитал и предпринимательскую прибыль. Все экономические теории признают важность того, чтобы национальный доход делился не в соответствии с внеэкономической силой отдельных классов, но согласно той оценке, которую рынок вменяет отдельным факторам производства. В этом согласны между собой классическая политэкономия и современная теория предельной полезности. Даже марксизм, заимствовавший теорию распределения у классиков, согласен с этим. В марксистской теории распределения решающее значение имеют только экономические факторы. И хотя эта теория представляется переполненной противоречиями и несуразностями, в ней была предпринята попытка найти чисто экономическое объяснение тому, как формируются цены на факторы производства. Позднее, когда Маркс по политическим причинам решил признать преимущества, приносимые рабочим стараниями профсоюзов, он слегка изменил свой подход. Но тот факт, что он сохранил преданность своей экономической теории, показывает, что это были лишь незначительные уступки, которые не изменили его основных воззрений.
Если бы мы обозначили усилия всех участников рынка получить наилучшую цену как «борьбу», тогда можно было бы говорить, что экономическая жизнь заключается в борьбе всех со всеми, но тогда нельзя было бы сказать, что это пример классовой борьбы. Сражение идет между отдельными людьми, но не между классами. Когда группы конкурентов сходятся ради общего дела, не класс противостоит классу, но группа — группе. Выигрыш, полученный отдельной группой рабочих, не есть выигрыш всего рабочего класса. Интересы работников разных отраслей также конфликтуют между собой, как и интересы работников и предпринимателей. Говоря о классовой борьбе, социалистическая теория не подразумевает противоположность интересов покупателей и продавцов на рынке. То, что она называет классовой борьбой, происходит вне экономики, хотя и порождается экономическими мотивами. Когда классовую борьбу уподобляют борьбе между сословиями, речь может идти только о политической борьбе, идущей за пределами рынка. В конце концов, иначе и не могло быть между господами и рабами, помещиками и крепостными — на рынке они не вступали в отношения между собой.
Но марксизм идет еще дальше. Он предполагает самоочевидным, что только собственники заинтересованы в сохранении частной собственности на средства производства, что пролетариат заинтересован в противоположном и что обе стороны сознают свои интересы и действуют соответственно. Мы уже показали, что этот подход можно принять только в том случае, если мы принимаем марксизм целиком. Частная собственность на средства производства равно служит интересам и владеющих, и не владеющих ею. Совершенно неверно, что члены двух больших классов, на которые делит общество марксистская теория, естественным образом сознают свои интересы в классовой борьбе. Марксистам пришлось немало потрудиться, чтобы пробудить классовое сознание рабочих, т. е. чтобы привлечь рабочих к поддержке марксистского плана обобществления собственности. Только теория непримиримости классового конфликта соединила рабочих для совместных действий против буржуазии. Классовое сознание, сотворенное идеологией классового конфликта, и является сущностью борьбы, но не наоборот. Идея создала класс, а не класс — идею.
Оружие классовой борьбы имеет столь же малое отношение к экономике, как и происхождение самой борьбы. Забастовки, саботаж, насильственные действия и терроризм всякого рода не являются средствами экономики. Это средства разрушения, созданные для развала хозяйственной жизни. Это орудия войны, которая должна привести к разрушению общества.
5. Классовая борьба как фактор общественной эволюции
Опираясь на теорию классовой борьбы, марксисты доказывают, что социализм есть неизбежное будущее всего человечества. В любом обществе, основанном на принципах частной собственности, неизбежно должны существовать непримиримые конфликты между интересами различных классов: эксплуататоры противостоят эксплуатируемым. Эта противоположность интересов определяет исторические позиции классов, обусловливает их политику. Так история превращается в цепь классовых битв, пока, наконец, в лице современного пролетариата не возникает класс, который может освободиться от классового господства, только уничтожив все классовые конфликты и всякую эксплуатацию.
Марксистская теория классовой борьбы распространила влияние далеко за пределы социалистических кругов. То, что либеральная теория солидарности интересов всех членов общества оказалась на задворках, объясняется, конечно, не только этим, но и возрождением империалистических и протекционистских идей. Но по мере того как блекли идеи либерализма, марксистские обещания с необходимостью делались все более притягательными. Ведь у марксизма была общая черта с либерализмом, которая отсутствовала у всех других антилиберальных теорий: он также признавал возможность общественного сотрудничества. Все другие теории, отрицая солидарность интересов, тем самым отрицают и такую возможность. Тот, кто вместе с националистами, расистами и даже протекционистами утверждает, что расхождение интересов рас и народов неизбежно и неустранимо, отрицает тем самым возможность мирного сотрудничества народов, а значит, отрицает возможность международной организации. Тот, кто вслед за несгибаемыми героями борьбы за интересы крестьян или мелкой буржуазии считает бескомпромиссную защиту классовых интересов сущностью политики, поступит просто логично, отказавшись признать какие-либо преимущества общественного сотрудничества.
По сравнению с другими теориями, которые не могут не породить крайне пессимистические представления о будущем человеческого общества, социализм представляется оптимистической доктриной. По крайней мере, в желательном ему общественном строе он провидит полную солидарность общественных интересов. Потребность в философии, которая бы не отрицала преимуществ общественного сотрудничества, настолько сильна, что многие люди, которые при других обстоятельствах держались бы подальше, вовлеклись в ряды социалистов. Социализм оказался единственным оазисом, который они нашли в пустыне антилиберальных теорий.
В своей готовности принять марксистские догмы эти люди не заметили, что все обещания бесклассового общества покоятся на предположении, подаваемом как бесспорное, что производительность социалистически организованного труда окажется просто безгранично высокой. Аргумент хорошо известен: «Возможность обеспечить всем членам общества путем общественного производства не только вполне достаточные и с каждым днем улучшающиеся материальные условия существования, но также полное свободное развитие и применение их физических и духовных способностей — эта возможность достигнута теперь впервые, но теперь она действительно достигнута» [316*]. Частная собственность на средства производства является тем Красным морем, которое преграждает нам путь к земле обетованной общего процветания. [282] Капитализм, который раньше был «ступенью развития производительных сил», стал для них «оковами» [317*]. Освобождение производительных сил от уз капитализма — «единственное предварительное условие беспрерывного, постоянно ускоряющегося развития производительных сил, а благодаря этому — и практически безграничного роста самого производства» [318*]. «Поскольку развитие современной техники делает возможным достаточное, даже богатое, удовлетворение потребностей всех членов общества — при условии, что производство будет вестись обществом и в интересах общества, — противоположность классов впервые предстает не как условие общественного развития, но как помеха его сознательной и планомерной организации. В свете этого знания классовые интересы угнетенного класса пролетариев направлены к устранению всяких классовых интересов и к установлению бесклассового общества. Древний, казавшийся вечным закон классовой борьбы в силу собственной логики делает практически необходимыми — в интересах пролетариата, последнего и самого многочисленного класса, — устранение всех классовых противоположностей и создание общества, в котором господствуют единство интересов и человеческая солидарность» [319*]. В конечном итоге марксисты говорят следующее: социализм придет, поскольку социалистический способ производства более рационален, чем капиталистический. Но при этом будущее превосходство социалистического производства предлагают просто взять на веру. За исключением немногих случайных замечаний никакие попытки доказать чтобы то ни было не предпринимаются. [320*]
Если предположить, что производительность труда при социализме будет выше, чем при любом другом строе, то, как можно ограничивать это утверждение, заявляя, что оно верно только при определенных исторических условиях, которых никогда ранее не было? Почему время должно созреть для социализма? Можно было бы понять утверждение, что до XIX века люди просто не наткнулись на эту счастливую идею или что она все равно не могла быть реализована ранее, даже если бы до нее кто-то и додумался. Но почему данный народ по дороге к социализму должен пройти все стадии эволюции, если он уже знаком с идеей социализма? Можно понять утверждение: народ не дозрел до социализма до тех пор, пока большинство враждебно социализму и не хочет иметь с ним ничего общего.
Однако трудно понять, почему «нельзя с определенностью утверждать», что время уже приспело, «когда пролетариат образует большинство народа и когда это большинство проявляет волю к социализму» [321*]. Разве не логично утверждение, что Мировая война отбросила назад развитие и тем самым затормозила продвижение к социализму? «Социализм, т. е. общее благосостояние на уровне современной цивилизации, становится возможным только благодаря громадному развитию производительных сил, которое принес капитализм, благодаря непомерности созданного капитализмом и сосредоточенного в руках класса капиталистов богатства. Государство, которое растрачивало это богатство на бессмысленную политику, такую, как безуспешные войны, не создает благоприятных условий для скорейшего распространения благосостояния среди всех классов» [322*]. Но, конечно же, те, кто верит в способность социализма умножить производительные силы, видят в военных разрушениях еще одну причину для ускорения его прихода.
На это Маркс отвечает: «Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, а новые, более высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования в недрах самого старого общества» [323*]. Но этот ответ предполагает, что то, что следовало продемонстрировать, уже доказано: социалистическое производство будет более производительным, и социалистическое производство есть «высший этап», т. е. соответствует более высокой стадии общественного развития.
6. Теория классовой борьбы и истолкование истории
Сегодня почти всеобщей стала уверенность, что история ведет к социализму. От феодализма через капитализм к социализму, от господства аристократии через господство буржуазии к пролетарской демократии — примерно так люди представляют себе неизбежное развитие. К обетованию о том, что социализм есть наша непременная судьба, многие относятся с радостью, другие принимают его с сожалением, и только немногие мужественные души — с сомнением. Эта схема эволюции была известна и до Маркса, но только Маркс развил ее и сделал популярной. Кроме того, Маркс сумел встроить ее в философскую систему.
Изо всех великих систем немецкой идеалистической философии только системы Шеллинга и Гегеля оказали прямое и устойчивое воздействие на формирование отдельных наук. Из Шиллинговой философии природы выросла спекулятивная школа, некогда столь превозносимая и уже давно позабытая. [283] Гегелевская философия истории месмеризировала целое поколение немецких историков. [284] Люди по гегелевским рецептам писали всеобщую историю, историю философии, историю религии, историю права, историю искусства, историю литературы. Эти произвольные и зачастую эксцентричные эволюционные гипотезы также позабыты. Школы Шеллинга и Гегеля довели философию до полного ничтожества и лишили ее уважения, реакцией на что стало отрицание в естественных науках всего, кроме экспериментов и лабораторных анализов. Гуманитарные науки отклоняют все, что не является сбором и обзором источников. Наука ограничила себя исключительно сферой «фактического» и отвергла всякий синтез как ненаучную деятельность. Импульс к тому, чтобы еще раз пронизать науку духом философии, должен был прийти со стороны — из биологии и социологии.
Из всех созданий гегелевской школы только марксистская теория общества была обречена на долгую жизнь. Но ее место было за пределами науки. Идеи Маркса как указующие направление исторических исследований оказались совершенно несостоятельными. Все попытки написать историю в соответствии с Марксовой схемой провалились. Исторические работы ортодоксальных марксистов, как Каутский и Меринг, не дали ничего нового и оригинального. [285] Это оказался только пересказ результатов, добытых другими, попытка увидеть мир через очки марксизма. Но при этом влияние марксистских идей распространяется далеко за пределы круга ортодоксальных молодых последователей. Многие историки, которые в политическом отношении никак не являются марксистскими социалистами, очень близки к этим идеям в своем понимании философии истории. Но как раз влияние Маркса вносит путаницу в их работы. Использование таких неопределенных выражений, как «эксплуатация», «стремление капитала к прибавочной стоимости» и «пролетариат», затуманивает взор и мешает беспристрастной оценке материала. Идея, что вся история есть просто подготовка к социалистическому обществу, толкает историков к искаженному толкованию источников.
Представление, что господство пролетариата должно прийти на смену господству буржуазии, основывается большей частью на том обозначении сословий и классов, которое распространилось после французской революции. Люди назвали французскую революцию и те изменения, которые она принесла в разные государства Европы и Америки, освобождением третьего сословия и полагали при этом, что теперь настала очередь четвертого сословия. Здесь важно не проглядеть тот факт, что понимание победы либеральных идей как классового триумфа буржуазии и толкование эпохи фритредерства как эпохи господства буржуазии предполагают, что все элементы социалистической теории общества уже доказаны. Но здесь перед нами немедленно возникает другой вопрос: следует ли считать, что то самое четвертое сословие, чей черед, как предполагается, уже наступил, и есть именно пролетариат? Не будет ли столь же или еще более оправданным видеть в нем крестьянство? Маркс, конечно, не мог сомневаться по этому поводу. Он считал решенным делом, что в сельском хозяйстве малые фермы будут вытеснены крупными предприятиями, а безземельные крестьяне станут батраками латифундистов. Теперь, когда теория о неконкурентоспособности среднего и мелкого крестьянства давно похоронена, возникает проблема, на которую марксизм ответить не может. Протекающая на наших глазах эволюция позволяет предположить, что господство должно перейти скорее не к пролетариату, а к крестьянству [324*].
Но и здесь решение должно основываться на суждении об эффективности двух социальных порядков: капиталистического и социалистического. Если капитализм не является порождением ада, как это представляется в социалистических карикатурах, если на деле социализм не является идеальным обществом, как это утверждают социалисты, тогда вся доктрина рушится. Дискуссия все время возвращается к той же точке, к фундаментальному вопросу: действительно ли социализм обещает более высокую производительность общественного труда, чем капитализм?
7. Итоги
Раса, национальность, гражданство, принадлежность к сословию — все это непосредственно влияет на действия людей. Вопрос о том, объединяет ли партийная идеология всех людей одной расы или одной национальности, всех граждан государства или членов сословия, не имеет значения. Сам факт существования рас, наций, государств или сословий в определенном смысле направляет действия людей, принадлежащих к данной группе, даже в отсутствие идеологии, общей для группы. На мышление и действия немца воздействует тот духовный склад, который он приобрел как член немецкой языковой общности. И здесь неважно, влияет ли на него идеология националистической партии. Будучи немцем, он мыслит и действует иначе, чем румын, мышление которого определяется историей румынского, а не немецкого, языка.
Идеология националистической партии есть фактор, вполне независящий от факта принадлежности к данной нации. Различные взаимно противоречивые националистические партийные идеологии могут конкурировать и сражаться за душу индивидуума; в то же время может и вовсе не существовать националистической идеологии. Партийная идеология всегда извне привносится в уже существующие социальные группы и особым образом изменяет поведение их членов. Общественное бытие не формирует в головах людей адекватные партийные доктрины. Партийные позиции всегда определяются теоретическими представлениями о том, что есть благо. При некоторых обстоятельствах общественная жизнь может делать человека предрасположенным к определенной идеологии, а партийные доктрины порой обладают свойством привлекать членов определенных общественных групп. Но следует всегда отличать идеологию от данного в общественном и природном бытии.
Общественное бытие само по себе идеологично, хотя бы в той степени, в какой оно есть продукт воли и разума человека. Материалистическая концепция истории глубоко заблуждается, когда полагает, что жизнь общества не зависит от мысли.
Если положение индивидуума в экономической жизни рассматривать как его классовое положение, тогда все вышесказанное относится и к классам. Но и здесь нужно различать, как влияет на человека его классовое положение и как на него же влияет политическая идеология. На жизнь банковского клерка воздействует занимаемое им положение в обществе. Но заключит ли он, что ему следует оправдывать капитализм или, напротив, что ему следует проповедовать социализм, определяется тем, какие идеи властвуют над ним.
Если понимать классы по-марксистски, как троичное деление общества на землевладельцев, капиталистов и рабочих, это понятие потеряет всякую определенность. Оно обращается в фикцию, нужную лишь для оправдания партийно-политической идеологии. Так же и понятия «буржуазия», «рабочий класс», «пролетариат» вполне фиктивны, а их познавательная ценность зависит от теории, которая их использует. Эта теория — марксистская доктрина, утверждающая неразрешимость классовых противоречий. Если мы сочтем эту теорию неприемлемой, тогда никакие классовые различия и классовые противоречия в марксистском смысле просто не существуют. Если мы докажем, что при правильном понимании интересы всех членов общества не конфликтуют между собой, тем самым мы не только отвергнем как необоснованную марксистскую идею противоречия интересов, но и признаем лишенным всякой ценности самое понятие «класс», как оно фигурирует в марксистской теории. Ведь только в рамках этой теории имеет смысл классификация членов общества как капиталистов, землевладельцев и рабочих. Вне этой теории это столь же бесцельно, как и соединение всех блондинов или всех брюнетов, — разве что мы вслед за некоторыми теоретиками расы решим, что цвет волос имеет особую важность как внешний признак или как конституциональное свойство.
Положение индивидуума в системе разделения труда влияет на весь образ его жизни, на мышление и отношение к миру. Во многом это верно также и относительно различий в положении индивидуумов в общественном производстве. Предприниматели и рабочие мыслят по-разному, поскольку навыки ежедневного труда вырабатывают у них разный взгляд. Предприниматель на все смотрит, в общем и в целом, рабочий обращает внимание на частности и мелочи [325*]. Первый приучается мыслить и действовать масштабно, второй остается в плену мелких забот. Эти факты, конечно, важны для понимания общественных условий, но из них не следует, что социалистическая концепция класса может служить каким-либо полезным целям. Ведь эти различия не связаны каким-либо простым и единственным образом с положением в процессе производства. Способ мышления малого предпринимателя ближе к мышлению рабочего, чем к умственным навыкам крупного инвестора; получающий жалованье менеджер большого предприятия ближе по стилю мышления к предпринимателю, чем к рабочему. Во многих отношениях различие между богатым и бедным полезнее для понимания изучаемых нами общественных условий, чем различие между предпринимателем и рабочим. Уровень дохода в большей степени, чем отношение человека к факторам производства, определяет уровень жизни. Его положение как производителя делается важным лишь постольку, поскольку оно влияет на уровень его дохода.
Глава XXI. Материалистическая концепция истории
1. Мышление и бытие
Фейербахом было сказано: «Мышление исходит из бытия, а не бытие из мышления» [326*]. Это замечание, которое должно было означать всего лишь отрицание гегелевского идеализма, превратилось в знаменитый афоризм: «человек есть то, что он ест» («Der Mensch ist was er isst») [327*] — пароль материализма, как он представлен Бюхнером и Молешоттом. Фогт усилил тезис материализма, защищая высказывание: «Мысль находится примерно в таком же отношении к мозгу, как желчь к печени или моча к почкам» [328*]. [286] Тот же наивный материализм, то же пренебрежение всеми трудностями и попытки полностью и просто разрешить основную проблему философии, сводя все духовное к материальному, обнаруживается в экономической концепции истории Маркса и Энгельса. Название «исторический материализм» верно отражает природу теории; здесь преднамеренно и остро подчеркивается эпистемологическая однородность [287] с воззрениями современного основоположникам материализма [329*].
Согласно материалистической концепции истории общественное бытие определяет сознание. Эта доктрина выступает в двух различных версиях, существенным образом противоречащих друг другу. Одна объясняет мышление как простое и прямое отражение экономического окружения, производственных отношений, при которых живут люди. Согласно этой версии не существует истории науки и истории отдельных наук как самостоятельного ряда развития, потому что ни постановка проблем, ни их разрешение не являются поступательным интеллектуальным процессом, а просто отражают соответствующие общественные производственные отношения. По словам Маркса, Декарт [288] видит в животном машину, поскольку «смотрит на дело глазами мануфактурного периода, в отличие от средних веков, когда животное представлялось помощником человека, — как позже — и господину Галлеру [289] в его «Restauration der Staatswissenschaft». [330*] Из этого отрывка ясно, что производственные отношения рассматриваются как нечто независимое от человеческого сознания. Они в свою очередь «соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил» [331*], или, другими словами, «определенной ступени развития этих средств производства и обмена» [332*]. Производительные силы, средства труда находят выражение в определенном устройстве общества [333*]. «Технология вскрывает активное отношение человека к природе, непосредственный процесс производства его жизни, а вместе с тем и его общественных условий жизни и проистекающих из них духовных представлений» [334*]. Похоже, что Марксу никогда не приходило в голову, что производительные силы сами являются продуктом человеческой мысли, и попытка представить мысль как их порождение просто заводит в порочный круг. Маркс был просто заколдован словом-фетишем «материальное производство». Материальное, материалистическое, материализм были модными философскими словечками в его время, и он не смог избежать их влияния. Он полагал своей основной задачей как философа устранить «недостатки абстрактного естественнонаучного материализма, исключающего исторический процесс»; ему казалось, что он различает эти недостатки в «абстрактных и идеологических представлениях его защитников, едва лишь они решаются выйти за пределы своей специальности». По этой причине он характеризует свои процедуры как «единственно материалистический, а, следовательно, единственно научный метод» [335*].
Согласно второй версии материалистической концепции истории мысль определяется классовыми интересами. Маркс говорит о Локке [291], что он «представлял новую буржуазию во всех ее формах — промышленников против рабочих и пауперов, коммерсантов против старомодных ростовщиков, финансовую аристократию против государственных должников... и даже доказывал в одном своем сочинении, что буржуазный рассудок есть нормальный человеческий рассудок» [336*]. По мнению Меринга, самого плодовитого из марксистских историков, Шопенгауэр — «философ испуганного мещанства ... со свойственной ему пронырливостью, своекорыстием и злословием является духовной копией буржуазии, которая, испуганная шумом оружия, дрожала, как осиновый лист, думала только о своей ренте и бежала от идеалов своей величайшей эпохи, как от чумы» [337*]. [293] В Ницше он видит «философа крупной буржуазии» [338*]. [294]
В его экономических суждениях этот подход проявляется с особой отчетливостью. Маркс первым разделил экономистов на буржуазных и пролетарских, и только после него это деление было подхвачено этатистами. Гельд объясняет теорию ренты Рикардо просто «ненавистью богатых капиталистов к владельцам земли» и полагает, что всю теорию стоимости Рикардо следует оценивать только «как попытку оправдать, прикидываясь защитником естественных прав, господство и прибыли капитализма» [339*]. [295] Лучший способ опровергнуть эту идею — напомнить, что вся экономическая теория Маркса вышла из школы Рикардо. [296] Все основные элементы ее заимствованы в системе Рикардо, где был взят также и методологический принцип разделения теории и политики и исключения морализаторского подхода [340*]. В политике классическая экономическая теория была использована как для защиты, так и для нападок на капитализм, как для оправдания, так и для отрицания социализма. [297]
Марксизм использовал те же методы по отношению к современной субъективной экономической теории. Не в силах противопоставить ей хотя бы единое слово убедительной критики, марксисты пытались заклеймить ее как «буржуазную экономическую науку». [341*] Чтобы показать, что субъективная школа не есть «апологетика капитализма», достаточно указать на социалистов, приверженных теории субъективной ценности. [342*] [299] Развитие экономической теории есть интеллектуальный процесс, не зависящий от предполагаемых классовых интересов экономистов, и он не имеет ничего общего с поддержкой или отрицанием каких бы то ни было общественных установлении. Любой научной теорией можно злоупотребить для политических целей, но не политики создают теории для поддержки преследуемых ими целей. [343*] Идеи современного социализма возникли не в пролетарских мозгах. Их создали интеллектуалы, сыновья буржуа, а не поденщиков. [344*] Социализм завоевал не только рабочих — он имеет тайных и явных сторонников даже в среде имущих классов.
2. Наука и социализм
Абстрактная мысль не зависит от желаний, лелеемых мыслителем, и от целей, к которым он стремится. [345*] Когда говорят, что экономика воздействует на мышление, то все выворачивают наизнанку. Экономика, как и всякое рациональное действие, зависит от мысли, а не мышление от экономики.
Если согласиться, что направление мышлению указывают классовые интересы, в расчет надо будет принимать только осознанные классовые интересы. Но осознание классового интереса есть уже результат мышления. Говорит ли нам мышление, что классовые интересы различны или что интересы всех классов общества гармонируют, процесс мышления в любом случае должен предшествовать классовому влиянию на мышление.
Только пролетарское мышление марксизм полагает истинным, имеющим непреходящую ценность, свободным от всех ограничений классового эгоизма. Будучи одним из классов, пролетариат должен, преодолевая границы классового эгоизма, отражать интересы всего человечества, устраняя деление общества на классы. Подобным же образом пролетарское мышление содержит не относительные, классово ограниченные идеи, но абсолютную истину чистой науки, которая даст плоды в будущем социалистическом обществе. Иными словами, только марксизм является наукой. То, что исторически предшествовало марксизму, можно назвать предысторией науки. Догегелевских философов марксизм почитает примерно так же, как христианство — ветхозаветных пророков, а сам Гегель занимает место Иоанна Крестителя по отношению к Спасителю. [301] После явления Маркса, следовательно, вся истина покоится в марксизме, а все остальное — сплошной обман и капиталистическая апологетика.
Это очень простая и ясная философия, а в руках последователей Маркса она стала еще проще и ясней. Для них наука и марксистский социализм тождественны. Наука есть толкование слов Маркса и Энгельса. В качестве доказательства служат цитаты и изложения их высказываний, то и дело сыплются обвинения в незнании их «Писания». Возник настоящий культ пролетариата. Энгельс говорит: «Только в среде рабочего класса продолжает теперь жить, не зачахнув, немецкий интерес к теории. Здесь уже его ничем не вытравишь. Здесь нет никаких соображений о карьере, о наживе и о милостивом покровительстве сверху. Напротив, чем смелее и решительнее выступает наука, тем более приходит она в соответствие с интересами и стремлениями рабочих» [346*]. Согласно Теннису, «только пролетариат, т. е. его литературные представители и лидеры», присоединяется «принципиально к научному мировоззрению со всеми выводами из него» [347*]. [302]
Чтобы верно оценить эти бесцеремонные утверждения, нужно лишь припомнить отношение социалистов ко всем достижениям науки в последние десятилетия. Когда примерно четверть века назад марксистские авторы попытались очистить партийное учение от самых нелепых ошибок, была организована охота на еретиков ради сохранения чистоты системы. [303] Ревизионизм спасовал перед ортодоксией. В марксизме нет места для свободной мысли.
3. Психологические предпосылки социализма
Согласно марксизму в капиталистическом обществе пролетариат неизбежно мыслит социалистически. Но почему это так? Легко понять, почему социалистическая идея не могла распространиться до появления крупных предприятий в промышленности, на транспорте, в добывающей промышленности. До тех пор пока можно было рассчитывать на перераспределение материальной собственности богатых, не было нужды изобретать другие способы обеспечения равенства доходов. Только когда развитие разделения труда привело к образованию больших, безусловно, неделимых предприятий, возникла потребность в социалистических методах обеспечения равенства. Хотя так можно объяснить, почему в капиталистическом обществе не может больше быть и разговоров о «переделе», это все же еще не ответ на вопрос, почему социализм должен быть политикой пролетариата.
В наши дни мы принимаем за данное, что рабочий люд должен мыслить и действовать по-социалистически. Но к этому нас привело предположение, что, либо социализм есть наиболее благоприятная для пролетариата форма общественной жизни, либо пролетарии, по крайней мере, верят в это. Первая альтернатива уже обсуждалась на этих страницах. Перед лицом бесспорного факта, что социализм, имея немало сторонников в иных классах общества, наиболее распространен среди рабочих, остается выяснить, почему рабочий в силу занимаемого им положения наиболее отзывчив к социалистической идеологии.
Демагогическая лесть социалистических партий наделяет современного капиталистического рабочего всеми совершенствами ума и характера. Возможно, что трезвое и менее предвзятое исследование могло бы привести к другим выводам. Но такого рода исследования можно спокойно оставить партийным литераторам различных направлений. Они не имеют ценности ни для познания социальных условий вообще, ни для социологии партийных движений в частности. Наша проблема в ином: почему положение рабочего в процессе производства делает его податливым к внушению, что социалистические методы производства не только возможны в принципе, но и что они будут рациональней капиталистических?
Ответ прост. Рабочий большого или среднего капиталистического предприятия не знает ничего о связях между отдельными этапами производства и экономической системой в целом. Его горизонт как рабочего и производителя ограничен операциями, которые он выполняет. Отсюда уверенность, что он один есть производительный член общества, а все остальные — инженеры, мастера, предприниматели, словом, кто не стоит у станка и не переносит грузы, — это паразиты. Даже банковский клерк убежден, что он один производительно трудится в банке, что он один приносит прибыль заведению, что управляющий, который заключает сделки, излишен и его можно легко и без потерь заменить. В силу своего положения рабочий не может видеть, как движется мир. Он может это понять только в результате упорных размышлений с помощью книг, но не из собственного производственного опыта. Как средний человек из своего ежедневного опыта может сделать только вывод, что солнце движется вокруг земли с востока на запад, так и рабочий из своего опыта не в силах получить истинное знание о природе и функционировании экономики.
И вот к этому экономически невежественному человеку приходит социалистическая идеология и взывает:
«Труженик, творец, воспрянь! На свою на силу глянь: Лишь захочешь — в миг один Остановишь ход машин». (Гервег)[304]Что же будет удивительного, если, опьянев от иллюзии власти, он последует этим советам? Социализм есть соответствующее душе рабочего выражение принципа насилия, как империализм соответствует душе чиновника и солдата.
К социализму массы притягивает не то, что действительно отвечает их интересам, а то, что представляется им отвечающим этим интересам.
Раздел II. Концентрация капитала и образование монополий как предпосылки социализма
Глава XXII. Постановка проблемы
1. Марксистская теория концентрации
Маркс стремился экономически обосновать идею неизбежности эволюции в сторону социализма, и продемонстрировать эту неизбежность должна была неуклонная концентрация капитала. Капитализм преуспел в деле изъятия частной собственности на средства производства у рабочих; он завершил «экспроприацию непосредственных производителей». Как только это было сделано, «дальнейшее обобществление труда, дальнейшее превращение земли и других средств производства в общественно эксплуатируемые и, следовательно, общие средства производства и связанная с этим дальнейшая экспроприация частных собственников приобретают новую форму. Теперь экспроприации подлежит уже не работник, сам ведущий независимое хозяйство, а капиталист, эксплуатирующий многих рабочих. Эта экспроприация совершается игрой имманентных законов самого капиталистического производства, путем централизации капиталов. Один капиталист побивает многих капиталистов». Одновременно с этим идет процесс социализации производства. Число «магнатов капитала» непрерывно уменьшается. «Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют». Это есть процесс экспроприации немногих узурпаторов массой всего народа, «превращение капиталистической частной собственности, фактически уже основывающейся на общественном процессе производства, в общественную собственность» — процесс гораздо менее «долгий, трудный и тяжелый», чем был в свое время процесс превращения «основанной на собственном труде раздробленной частной собственности отдельных личностей в капиталистическую» [348*].
Маркс придает своим утверждениям диалектическую форму: «Капиталистическая частная собственность есть первое отрицание индивидуальной частной собственности, основанной на собственном труде. Но капиталистическое производство порождает с необходимостью естественного процесса свое собственное отрицание. Это — отрицание отрицания. Оно восстанавливает не частную собственность, а индивидуальную собственность на основе достижений капиталистической эры: на основе кооперации и общего владения землей и произведенными самим трудом средствами производства» [349*]. Если отбросить диалектические завитушки, то останется все то же: концентрация предприятий, производства и богатства неизбежна (Маркс не различает эти три явления и, совершенно явно, воспринимает их как тождественные). Концентрация приведет, в конце концов, мир к социализму, т. е. к состоянию единого гигантского предприятия, которым общество будет с легкостью управлять; но пока дело идет к этой стадии, «растет и возмущение рабочего класса, который постоянно увеличивался по своей численности, который обучается, объединяется и организуется механизмом самого-процесса капиталистического производства» [350*].
Для Каутского ясно, что «тенденция капиталистического производства клонится к сосредоточению средств производства, уже ставших монополией класса капиталистов, во все меньшем и меньшем числе рук. Это развитие, в конце концов, ведет к тому, что все средства производства данной нации или даже всего мирового хозяйства... сделаются частной собственностью отдельной личности или акционерного общества, которые будут распоряжаться ими по своему произволу, весь хозяйственный механизм превратится в одно единственное чудовищное предприятие, в котором все служат, все принадлежат одному господину. Частная собственность на средства производства приводит в капиталистическом обществе к тому, что все лишаются собственности, за исключением одного человека. Она ведет, следовательно, к своему собственному упразднению, к лишению всех собственности и к порабощению всех». К этому состоянию мы все быстро движемся — «быстрее, чем кажется большинству». Конечно, нам говорят, что дело не зайдет так далеко. «Ведь даже приближение к такому состоянию должно довести все страдания, противоположности и противоречия в обществе до такого предела, что они станут невыносимыми и, если развитию заблаговременно не будет дано другое направление, общество выйдет из своей колеи и рухнет» [351*].
Следует отметить, что согласно этому подходу переход от «развитого» капитализма к социализму должен совершиться только в результате стихийных выступлений масс. Массы убеждены, что существующее зло порождается частной собственностью на средства производства. Они верят, что социалистическая организация производства должна улучшить их положение. Значит, их действия будут направляться теоретическими представлениями. Согласно историческому материализму, однако, сама эта теория должна быть неизбежным результатом определенной организации производства. Здесь перед нами еще один пример того, как марксизм движется по кругу, когда пытается доказать свои утверждения. Определенные условия должны возникнуть, поскольку к этому ведет развитие; развитие приводит к этим результатам, поскольку это диктуется сознанием; но сознание определяется бытием. Это бытие, однако, не может быть не чем иным, как существующими общественными отношениями. Из сознания, определяемого существующими отношениями, выводится необходимость других отношений.
Есть два возражения, перед которыми беззащитна вся эта цепь умозаключений. Она не в состоянии противостоять тем, кто, пользуясь той же по существу аргументацией, рассматривает мышление как первичное, а общественное бытие как производное. Точно так же эта цепь рассуждений ничего не может противопоставить возражению, что будущие условия вполне могут быть неверно понятыми и в результате то, что сегодня представляется столь желательным, может оказаться много хуже существующих отношений. В результате мы опять подходим к дискуссии о преимуществах и недостатках различных типов общества — как уже существующих, так и спроектированных реформаторами. Но именно эту дискуссию марксизм и хотел бы прекратить.
Не следует думать, что марксистское учение об исторической тенденции капиталистического накопления может быть легко верифицировано статистическими показателями развития предприятий, доходов и состояний. Статистика доходов и состояний просто противоречит теории концентрации. Это можно утверждать со всей определенностью, несмотря на все несовершенство существующих статистических методов и все трудности, которые колебания ценности денег ставят на пути истолкования данных. С равной уверенностью можно заявить, что оборотная сторона теории концентрации — пресловутая теория обнищания, в которую едва ли верят даже ортодоксальные марксисты, — не подтверждается данными статистических исследований [352*]. Статистика сельскохозяйственных предприятий также противоречит предположениям Маркса. Напротив, данные о числе предприятий в промышленности, на транспорте и в добывающей промышленности, как будто подтверждают эти предположения. Но данные количественного учета за небольшой период времени не могут служить решающим доказательством. На коротком отрезке развитие может идти в противоположном по отношению к общей тенденции направлении. Поэтому лучше будет вывести статистику из игры и отказаться от того, чтобы считать ее аргументом за или против определенной теории. Не следует забывать, что в любом статистическом доказательстве уже содержится теория. Цифры сами по себе ничего не могут ни доказать, ни опровергнуть. Решающее значение могут иметь выводы, которые извлекаются из всего собранного материала. А это всегда вопрос теории.
2. Теория антимонопольной политики
Теория монополии основательнее, чем марксистская теория концентрации. Согласно ей свободная конкуренция — источник жизни общества с частной собственностью на средства производства — ослабляется неуклонным ростом монополий. Неограниченное господство частных монополий настолько невыгодно для общества, что у него нет другого выбора, как превратить частные монополии путем их национализации в государственную монополию. Каковы бы ни были недостатки социализма, он предпочтительней, чем частный монополизм. Если окажется невозможным противодействие тенденции к монополизации во все большем круге отраслей, тогда частная собственность на средства производства обречена [353*].
Очевидно, что этот приговор теории взывает к проведению исследований: во-первых, действительно ли развитие идет в направлении монополизации и, во-вторых, каково же воздействие такой монополии на экономику. Здесь нужно соблюдать величайшую осторожность. Эта доктрина появилась на свет в период, который был неблагоприятен для теоретического изучения подобных проблем. В порядке вещей было не холодное исследование существа вопроса, а скорее эмоциональная оценка явлений. Даже аргументы такого выдающегося экономиста, как Д. Б. Кларк, пронизаны распространенной тогда ненавистью к трестам. [305] Как в такой обстановке обстояло дело с высказываниями политиков, можно судить по отчету Немецкой комиссии по социализации от 15 февраля 1919 г., в котором в качестве бесспорного преподносится утверждение, что монопольное положение немецкой угольной промышленности «образует независимую власть, несовместимую с природой современного государства, и не только социалистического». По мнению комиссии, не было необходимости «заново обсуждать вопрос, использовалась ли и до какой степени эта власть во вред остальным членам общества, потребителям и рабочим; само существование ее делает достаточно очевидной необходимость ее полной ликвидации» [354*].
Глава XXIII. Концентрация производства
1. Концентрация производства как оборотная сторона разделения труда
Вместе с разделением труда автоматически происходит концентрация производства. В сапожной мастерской концентрируется производство обуви, которая раньше изготовлялась в отдельных домохозяйствах. Поселок сапожников, сапожная мануфактура, становится центром производства для большой области. Обувная фабрика, которая создается для массового производства обуви, представляет собой еще более широкое объединение производств. Основной принцип ее внутренней организации, с одной стороны, заключается в разделении труда, с другой — в концентрации отдельных операций в особых цехах. Коротко говоря, чем сильнее расщеплена работа, тем выше должна быть концентрация однородных операций.
Ни по результатам цензов, проводившихся в разных странах для верификации доктрины концентрации производства, ни по другим статистическим материалам, отражающим изменение числа предприятий, мы не можем судить о действительном состоянии концентрации производства. То, что в этих статистических обследованиях принимается за производственную единицу, всегда является некоторым образом единицей в юридическом и финансовом смысле, хозяйственным предприятием, но не единицей производства. Лишь иногда в таких исследованиях учитываются отдельные производства, которые ведутся в рамках охватывающего их предприятия. Необходим совершенно иной подход к понятию «производство», чем используемый в промышленной статистике.
Система разделения труда обеспечивает большую производительность труда в первую очередь благодаря специализации операций и процессов. Чем чаще повторяется операция, тем выгодней использовать для нее специализированный инструмент. Расщепление труда идет дальше, чем профессиональная специализация или, по крайней мере, чем специализация производств. На обувной фабрике используют разнообразные частичные процессы. Вполне можно представить себе, что каждый процесс осуществляется на особом производстве и даже на отдельном предприятии.
На деле существуют фабрики, которые производят заготовки или части обуви и поставляют их на обувные фабрики. Тем не менее, мы обычно рассматриваем операции и процессы, объединенные в рамках одной обувной фабрики, которая сама производит все компоненты обуви, как единое производство. Если же к обувной фабрике присоединяется кожевенная фабрика или цех по выпуску упаковки для обуви, мы говорим об объединении нескольких производственных единиц в общем предприятии. Это чисто историческое различение, которое нельзя объяснить ни техническими условиями производства, ни спецификой делового предприятия.
Если мы принимаем в качестве производства ту совокупность процессов, которая является единством, с точки зрения бизнесмена, нам следует помнить, что это единство не является неделимым. Каждая производственная единица включает вертикально и горизонтально объединенные процессы и операции. Следовательно, концепция производства есть концепция экономическая, а не техническая. В каждом отдельном случае она формируется под влиянием экономических, а не технических соображений.
Размер производственной единицы определяется дополняемостью факторов производства. Цель — оптимальная комбинация этих факторов, т. е. такая, при которой может быть получен наибольший результат. Экономическое развитие толкает промышленность ко все большему разделению труда и вместе с тем к увеличению размеров отдельных производств при одновременной большей специализации производственных единиц. Действительный размер производства является результатом взаимодействия этих двух побуждений.
2. Оптимальный размер производства в добывающей промышленности и на транспорте
Закон пропорциональности факторов производства был впервые сформулирован для сельскохозяйственного производства и получил наименование закона убывающего дохода. Длительное время природа этого закона понималась неверно. Его рассматривали как закон, описывающий особенности сельскохозяйственной технологии, и противопоставляли закону растущего дохода, который считали справедливым для промышленного производства. С тех пор эти ошибки исправлены [355*].
Закон оптимального сочетания факторов производства устанавливает наиболее прибыльный размер производства. Чем полнее размеры производства позволяют использовать все факторы производства, тем выше чистая прибыль. Это единственный способ оценки преимущества, получаемого при данном уровне техники одним производством над другим за счет своего размера. Идея, что увеличение размеров производства всегда ведет к экономии издержек, была заблуждением, вину за которое несут Маркс и его школа, хотя отдельные замечания позволяют предположить, что Маркс понимал истинное положение дел. Ведь всегда есть некий предел, за которым увеличение масштабов не обеспечивает более экономного применения факторов производства. В принципе, то же самое может быть сказано о добывающей промышленности и сельском хозяйстве: различаются только конкретные цифры. Некоторые особенности сельскохозяйственного производства создали иллюзию, что закон убывающего дохода в основном относится к использованию земли.
Концентрация производств есть в первую очередь объединение в одном месте. Поскольку сельское и лесное хозяйство связаны земельными пространствами, каждая попытка расширения размеров производства увеличивает трудности преодоления расстояний. Таким образом, устанавливается верхний предел для размеров сельскохозяйственных и лесных производств. Из-за того, что сельское и лесное хозяйство протяженны в пространстве, концентрация производства возможна лишь до определенного уровня. Легкомыслием было бы задаваться вопросом, который часто поднимают при обсуждении этой проблемы: какие предприятия более выгодны в сельском хозяйстве — крупные или мелкие? Этот вопрос не имеет никакого отношения к закону концентрации производства. Даже если принять, что в сельском хозяйстве предприятия больших размеров представляют преимущественную форму, это вовсе не значит, что в этой отрасли не стоит вопрос о действии закона концентрации производства. Наличие больших земельных владений не означает крупного производства. Большие поместья всегда делятся на множество ферм.
Еще яснее это применительно к различным отраслям добывающей промышленности. Добывающая промышленность привязана к рудным месторождениям. Размер производства всякий раз определяется тем, что допускают размеры месторождения. Производство может быть сконцентрированным только в той мере, в какой местоположение отдельного месторождения делает это рентабельным. Иными словами, в добывающей промышленности нельзя усмотреть тенденции к концентрации производства. То же самое верно относительно транспорта.
3. Оптимальный размер производства в обрабатывающей промышленности
Процесс переработки сырья до известной степени не знает пространственных ограничений. Выращивание хлопка не может быть сконцентрировано, а выработка нитей и пряжи — может. Но и здесь был бы преждевременным вывод, что закон концентрации производства действует только потому, что большие размеры заводов обычно предоставляют преимущества.
Ведь в промышленности расположение производства также имеет значение, несводимое к тому факту, что (при прочих равных, т. е. при данном уровне разделения труда) экономическое превосходство более крупных производств существует лишь постольку, поскольку это соответствует закону оптимального сочетания факторов производства, из чего следует, что расширение за пределы, которых требует эффективное использование оборудования, не приносит выгод. Каждое производство имеет некое естественное местоположение, которое, в конечном счете, зависит от географического распределения добывающей промышленности. Невозможность сконцентрировать добывающее производство должна воздействовать на размещение процессов переработки. Степень этого влияния зависит от издержек по транспортировке сырых материалов и готовой продукции в различных отраслях.
Закон концентрации производства действует, следовательно, только в той мере, в какой разделение труда ведет к возникновению новых отраслей производства. В действительности эта концентрация есть не что иное, как оборотная сторона процесса разделения труда. В результате прогресса в разделении труда на место множества однородных производств, в каждом из которых выполняется множество различных процессов и операций, приходит множество различающихся производств, в каждом из которых осуществляются однородные процессы и операции. В результате число одинаковых производств сокращается, тогда как круг их прямых или косвенных потребителей растет. Если бы изготовление сырых материалов не было привязано к определенным географическим точкам, — обстоятельство, действующее в направлении, противоположном тенденции к разделению труда, — в каждой отрасли образовалось бы только одно производство. [356*]
Глава XXIV. Концентрация предприятий
1. Горизонтальная концентрация предприятий
Слияние нескольких схожих независимых производств в одно предприятие можно назвать процессом горизонтальной концентрации производства. Здесь мы следуем за словоупотреблением авторов, пишущих о картелях, хотя их определения не вполне согласуются с нашими. Если отдельные производства не сохраняют полной независимости, если, например, создается единое управление или сливаются некоторые отделы или подразделения производств, тогда имеет место концентрация производства. Когда отдельные единицы сохраняют полную независимость во всем, за исключением главных экономических решений, мы имеем дело исключительно с концентрацией предприятий. Типичным примером является образование картеля или синдиката. Все остается, как было, но в зависимости от того, какой это картель -- по сбыту, по снабжению или и то, и другое, решения о покупках и продажах принимаются централизованно.
Если такое объединение не направлено только на подготовку к слиянию производств, целью его является монополистическое господство на рынке. Тенденция к горизонтальной концентрации предприятий имеет причиной стремление отдельных предпринимателей к преимуществам монополиста.
2. Вертикальная концентрация предприятий
Вертикальная концентрация есть объединение нескольких предприятий, одни из которых используют то, что производится другими. Эта терминология принята в современной экономической литературе. Примерами вертикальной концентрации являются: объединение чесальных, крутильных, ткацких и красильных производств; создание типографских предприятий, включающих бумажную фабрику и газетное производство; комбинирование железорудных и угледобывающих производств и т. п.
Каждое производство представляет собой вертикальную концентрацию отдельных операций и оборудования. Единство производственного процесса создается в результате того, что часть средств производства, например определенные станки, строения, аппарат управления, сосредоточена в одном месте. Такое единство места отсутствует в вертикальной увязке предприятий. Здесь объединение создано предпринимателем, его желанием добиться того, чтобы предприятия служили друг другу. Тот факт, что два предприятия принадлежат одному владельцу, сам по себе еще недостаточен. Когда производитель шоколада владеет также и металлургическим заводом, вертикальная концентрация не возникает.
Вертикальная концентрация имеет целью обеспечить сбыт продукции или снабжение сырьем и полуфабрикатами — так обычно отвечают предприниматели на вопрос о цели таких объединений. Многие экономисты удовлетворяются этим, поскольку не считают своим долгом проверять высказывания «людей дела», а приняв это высказывание за истину, остается только анализировать его моральное содержание. Но хотя они и избегают углубляться в суть, точное расследование фактов должно было бы навести их на след. Ведь от управляющих заводов, объединенных в вертикальную структуру, часто можно услышать многочисленные жалобы. Управляющий бумагоделательной фабрики говорит: «Я мог бы получить гораздо лучшую цену за бумагу, если бы не должен был поставлять ее «нашей» типографии». Управляющий ткацкой фабрики говорит: «Если бы я не должен был брать пряжу у «своих», я мог бы получать ее дешевле». Такие сожаления — факт, и совсем нетрудно понять, почему они неизбежны в каждой вертикально интегрированной структуре.
Если объединенные производства были по отдельности достаточно эффективны и не боялись конкуренции, вертикальное объединение им не нужно. Лучшая в отрасли бумагоделательная фабрика может не тревожиться о сбыте. Типография, которая не уступает своим конкурентам, может не беспокоиться за свое положение на рынке. Эффективное предприятие продает там, где ему дают наилучшую цену, покупает там, где это выгоднее. Это значит, что вовсе не обязательно, чтобы принадлежащие одному собственнику предприятия, каждое из которых представляет определенную стадию отраслевого производства, нуждались в вертикальном объединении. Только когда одно или другое из них оказывается неконкурентоспособным, предприниматель обращается к идее укрепить слабое союзом с сильным. Тогда он начинает смотреть на прибыли успешного дела как на источник покрытия убытков дела прогорающего. Если не считать налоговых и иных особых преимуществ, вроде тех, которые умели извлекать из картелизации металлургические заводы Германии, объединение не дает совершенно ничего, кроме мнимых прибылей одного предприятия и мнимых убытков другого.
Количество и значение вертикально концентрированных структур чудовищно преувеличены. В экономической жизни современного капитализма, напротив, постоянно возникают предприятия новых отраслей, а части существующих предприятий непрерывно откалываются, дабы обрести независимость.
Настойчивая тенденция к специализации в современной промышленности показывает, что направление развития противоположно вертикальной концентрации, которая (кроме тех случаев, когда она диктуется технологическими требованиями) всегда существует лишь как исключение, объяснимое особыми правовыми и политическими условиями производства. Но даже здесь вновь и вновь происходят распад таких объединений и восстановление независимых предприятий.
Глава XXV. Концентрация богатства
1. Постановка проблемы
Тенденция к концентрации производства или к концентрации предприятий никоим образом не равнозначна тенденции к концентрации богатства. По мере того как масштабы производств и предприятий увеличивались, современный капитализм развил формы предпринимательства, позволяющие людям с небольшим состоянием начинать большое дело. Доказательством того, что тенденции к концентрации богатства не существует, служит количество предприятий этого типа, значение которых растет изо дня в день, в то время как независимый предприниматель почти исчез из сферы тяжелой и добывающей промышленности и транспорта. История форм предприятий от societas unius acti до современных акционерных обществ полностью опровергает доктрину концентрации капитала, столь произвольно заявленную Марксом. [306]
Если мы хотим доказать, что бедных становится больше и они делаются все беднее, а число богатых сокращается и они все богатеют, бесполезно ссылаться на отдаленные времена античности, столь же недоступные для нас, как Золотой век для Овидия и Вергилия, когда различия в богатстве были будто бы меньше, чем ныне. [307] Следовало бы указать на экономические механизмы, которые повелительно ведут дело к концентрации богатства. Но марксисты даже не пытались сделать этого. Их теория, в которой капитализму приписывается особая склонность к концентрации богатства, высосана из пальца. Попытки подобрать ей хоть какое-нибудь историческое обоснование совершенно безнадежны и демонстрируют нечто обратное тому, что утверждал Маркс.
2. Возникновение состояний за пределами рыночной экономики
Желание разбогатеть можно удовлетворить через обмен, единственно доступный в капиталистической экономике метод, или с помощью насилия и прошений, как в милитаристском обществе, где сильный приобретает с помощью силы, а слабый — с помощью просьбы. В феодальном обществе собственность принадлежит сильному лишь до тех пор, пока он может защитить ее, а собственность слабого всегда ненадежна, поскольку получена в знак милости от сильного и всегда зависит от его расположения. Собственность слабого не имеет правовой защиты. В милитаристском обществе, следовательно, только сила может воспрепятствовать расширению богатства сильных. Они могут обогащаться до тех пор, пока не наткнутся на противодействие другого сильного человека.
Нигде и никогда крупная земельная собственность не возникала в результате действия экономических сил. Она всегда является результатом военных и политических усилий. Созданная насилием, она и поддерживалась только и исключительно насилием. Как только латифундии вовлекаются в сферу действия рыночных сил, они начинают раскалываться, и так до тех пор, пока не исчезают вовсе. Ни их возникновение, ни их существование экономически не обусловлены. Большие земельные состояния — не результат экономического превосходства крупной собственности. Они возникают вследствие аннексий, совершаемых за пределами сферы обращения. «Пожелают полей, — печалится пророк Михей, — и берут их силою, домов, — и отнимают их» [357*]. [308] Так возникает собственность тех, о ком говорит Исайя: «Прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле» [358*].
Внеэкономическое происхождение латифундий выявляется тем фактом, что создавшая их экспроприация земель, как правило, ничего не меняла в способе производства. Прежние владельцы в новом статусе продолжали вести хозяйство на своем клочке земли.
Крупная земельная собственность может быть создана также и дарением. Именно так приобрела громадные свои владения церковь при франкских королях. Не позднее VIII века эти латифундии попали в рука знати: согласно прежней теории — в результате секуляризации земли, проведенной Карлом Мартеллом и его наследниками, а согласно новейшим исследованиям вследствие «наступления служилой аристократии» [359*]. [309]
Что в рыночной экономике трудно поддерживать существование латифундий, показывают попытки подвести под них правовые основы в виде семейного фидеикомисса и сопутствующие правовые установления вроде английского майората. [310] Целью фидеикомисса было сохранение крупной земельной собственности, поскольку никаким другим способом это не удавалось. Закон о наследовании изменяется, залог и отчуждение земель запрещаются, и государство назначает тех, кто должен надзирать за неделимостью и неотчуждаемостью собственности, чтобы не угас блеск старинных семей. Если бы экономические обстоятельства благоприятствовали непрерывной концентрации земельной собственности, такие законы были бы не нужны. Тогда бы законодательство было озабочено тем, как не допустить формирования латифундий, а не тем, как их сохранить. Но о таких законах история права не знает ничего. Законы против сноса крестьянских дворов, против огораживания пахотных земель и т. п. были направлены против процессов, происходивших вне сферы рынка, т. е. против насилия. [311] Вводимые законом ограничения «праву мертвой руки» — того же типа. [312] Земли «мертвой руки», защищенные почти таким же законом, что и фидеикомисс, прирастают не в силу экономического развития, но через благочестивые даяния.
В настоящее время наивысшая концентрация богатства характерна как раз в сельском хозяйстве, где концентрация производств невозможна, а концентрация предприятий экономически бессмысленна, где крупные хозяйства экономически уступают средним и мелким и не выдерживают свободной конкуренции с ними. Концентрация собственности на средства производства никогда не была выше, чем во времена Плиниев, когда половина провинции Африка была собственностью шести человек, или во времена Меровингов, когда большая часть французских земель принадлежала церкви. [313] И ни в одной части света нет более раздробленной земельной собственности, чем в капиталистической Северной Америке.
3. Образование состояний в рыночной экономике
Первоначально утверждение об одновременном росте богатства на одной стороне и бедности на другой не было никоим образом сознательно связано с какой-то экономической теорией. Сторонники этого воззрения основывались на личных впечатлениях о социальных отношениях. На суждение наблюдателей влияло представление, что сумма богатства в обществе всегда есть величина постоянная, так что если кому-то стало принадлежать больше, то другим должно принадлежать меньше [360*]. В каждом обществе появление новых богачей и новых бедняков всегда бросается в глаза, тогда как медленное истощение старых состояний и медленный подъем малообеспеченных слоев остаются незамеченными менее внимательным наблюдателем, который в результате приходит к незрелому выводу, очень популярному у социалистов: «Богачи богатеют, а бедняки беднеют».
Нет нужды в обстоятельных доказательствах того, что действительность полностью расходится с этим утверждением. Совершенно необоснованно предположение, что в обществе, основанном на разделении труда, богатство одних предполагает бедность других. Это верно при определенных условиях для милитаристских обществ, не знающих разделения труда, но неверно для капиталистического общества. Точно так же выводы, основанные на беглом взгляде на узкий участок общественной жизни, не могут служить достаточным доказательством теории концентрации богатства.
У иностранца, приезжающего в Англию с хорошими рекомендациями, есть отличные возможности для наблюдения за богатыми и знатными семьями и их образом жизни. Если он из любознательности или из чувства долга стремится сделать свое путешествие чем-то большим, чем увеселительная поездка, он может поглядеть на мастерские крупных предприятий. Для непрофессионала в этом нет ничего интересного. Сначала шум, дым, суета поражают посетителя, а после знакомства с двумя-тремя фабриками зрелище делается однообразным. Но при коротком визите такой способ изучения социальных отношений может оказаться привлекательным. Прогулка по трущобам в Лондоне или любом другом большом городе оказывает вдвое большее воздействие на наблюдателя, если совершается в промежутке между обычными развлечениями. Так посещение жилищ бедняков стало непременной частью маршрута знакомящихся с Англией туристов с континента. Именно здесь будущие государственные деятели и экономисты получают представление о том, как промышленность действует на жизнь масс, и эти впечатления делаются пожизненной основой взглядов этих людей. Турист возвращается домой с убеждением, что промышленность обогащает немногих за счет массы. Когда позднее ему приходится говорить или писать о социальном значении промышленности, он не забывает описать нищету и убожество трущоб, подчеркивая самые болезненные детали, зачастую с более или менее сознательным преувеличением. Но изображенная им картина не говорит нам ничего, кроме того, что одни люди бедны, а другие богаты. Чтобы это знать, нет нужды в отчетах людей, которые видели страдания собственными глазами. И без них мы знали, что капитализм еще не уничтожил всю нищету в мире. Им следовало бы доказать, что число богатых людей все более сокращается, при том что отдельные богачи делаются все богаче, а число и нищета бедняков растут. Для доказательства этого, однако, нужна теория развития экономики.
Попытки статистической демонстрации того, что нищета массы и богатство сужающегося круга богачей растут, ничуть не лучше прямой апелляции к чувствам публики. Имеющиеся у статистиков оценки денежного дохода бесполезны из-за изменения покупательной способности денег. Одного этого факта достаточно, чтобы показать, что мы не можем арифметически сопоставлять распределение дохода в разные годы. А там, где нельзя свести к единому выражению ценность различных благ и услуг, из которых слагаются доходы и состояния, нельзя построить на основании статистики доходов и капитала ряды показателей для исторического сравнения.
Внимание социологов часто обращается к факту, что буржуазное богатство, т. е. богатство, не вложенное в землю и месторождения полезных ископаемых, редко сохраняется в одной семье на длительное время. Буржуазные семьи поднимаются из низов к богатству иногда настолько быстро, что человек за несколько лет превращается из сражающегося с нуждой в одного из богатейших людей своего времени. История современных состояний полна рассказами о нищих парнях, ставших миллионерами. Но мало сказано о разорении состоятельных семей. Обычно это происходит не настолько быстро, чтобы поразить внимание случайного наблюдателя, но детальное исследование открывает, что этот процесс повсеместен. Торговые и промышленные состояния редко удерживаются в семье дольше, чем на 2–3 поколения, разве что в тех случаях, когда их инвестируют в землю [361*]. Тогда они становятся земельной собственностью и тем самым выпадают из делового оборота.
В противоположность тому, что думают наивные социальные и экономические мыслители, капитал не является вечным источником доходов. Получение прибыли, т. е. способность капитала к самовоспроизведению, вовсе не является самоочевидным свойством, априорно предопределенным самим фактом его существования. Производительные блага, из которых и состоит капитал, исчезают в производстве, а на их место приходят другие, в конечном счете, потребительские, блага, из ценности которых и должен быть воссоздан капитал. Это возможно только когда производство было успешным, т. е. когда получена ценность большая, чем израсходована. Не только получение прибыли, но и воспроизводство капитала предполагает успешность процесса производства. Получение прибыли на капитал и сохранение капитала — это всегда следствие счастливо проведенной спекуляции. В случае неудачи инвестор теряет не только доход, но и исходные вложения. Следует тщательно различать капитальные блага и такой производственный фактор, как природа. В сельском и лесном хозяйстве исходные природные силы земли сохраняются даже при полной неудаче, плохое управление неспособно их разрушить. Они могут утратить ценность в результате изменения спроса, но не могут потерять способности производить. В перерабатывающей промышленности это не так. Здесь можно утратить все: и корни, и крону. Производство должно непрерывно пополнять капитал. Отдельные инвестиционные блага имеют ограниченный срок жизни; сохранение капитала требует постоянных реинвестиций в производство. Чтобы сохранять собственность на капитал, его нужно изо дня в день зарабатывать заново. В конечном счете, такое богатство вовсе не является источником дохода, которым можно наслаждаться в праздности.
Попытки опровергать эти аргументы, указывая на постоянный доход от «хороших» капиталовложений, — ошибочны. Ведь чтобы вложения были «хорошими», они должны быть результатом успешной спекуляции. Арифметические фокусники любят вычислять суммы, которые можно было бы получить из одного пенни, вложенного под сложные проценты во времена Христа. Результат настолько поразителен, что остается только спросить: почему не нашлось ни одного умника, который бы так и поступил, чтобы обогатить свое семейство? Помимо всяких других препятствий такому вложению денег, отметим главное — каждое вложение капитала сопряжено с риском полностью или частично утратить исходную сумму. Это верно не только для предпринимательских инвестиций, но также и для вложений капиталиста, который ссужает предпринимателю и тем самым делается полностью зависимым от его удачи. Его риск меньше, поскольку он дает деньги под залог той собственности предпринимателя, которая не участвует в данном вложении, но, по сути, он рискует, как и предприниматель. Ссужающий деньги также может потерять свое состояние, и нередко теряет его. [362*]
Надежное навеки помещение капитала невозможно. Каждая инвестиция спекулятивна -- ее успех не может быть предвиден с абсолютной точностью. Если бы представления о капиталовложениях были почерпнуты из сферы бизнеса, предпринимательства, не могла бы возникнуть даже идея о «вечном и гарантированном» доходе на капитал. Представления о вечности и гарантированности порождены земельной рентой и доходами от государственных ценных бумаг. Они соответствуют действительным отношениям, когда закон признает опекаемыми только вложения в землевладение или в рентные бумаги, обеспечиваемые землевладением либо выпущенные государством или другими публичными корпорациями. Капиталистическое предприятие не знает гарантированного дохода и гарантии состояния. Правила наследования вроде майората — за пределами сельского и лесного хозяйства и эксплуатации рудных богатств они не имеют смысла.
Но если капитал сам по себе не растет, если только для его поддержания, не говоря уже об извлечении прибыли и возрастании, постоянно нужны успешные спекуляции, не может быть и вопроса о тенденции к росту богатства. Состояния не могут расти сами по себе — кто-то должен их взращивать. [363*] Для этого нужна успешная деятельность предпринимателя. Капитал воспроизводит себя, приносит плоды и возрастает только до тех пор, пока продолжаются Успешные и удачные инвестиции. Чем быстрее изменяется экономическая ситуация, тем короче периоды времени, когда сделанные инвестиции можно рассматривать как источник благ. Для новых капиталовложений, для реорганизации производства, для обновления техники нужны способности, имеющиеся только у немногих. Если в исключительных случаях эти способности переходят из поколения в поколение, потомки могут сохранить и даже преумножить оставленное им богатство, несмотря на раздел его между наследниками. Но если, что, как правило, и происходит, наследники не проявляют предпринимательских способностей, унаследованное богатство быстро расточается.
Когда разбогатевшие предприниматели стремятся сохранить богатство в семье, они вкладывают его в землевладение. Наследники Фуггеров и Вельзеров даже сегодня живут в немалом достатке, если не в роскоши, но они давно перестали быть купцами и вложили свои состояния в землю. [315] Они вошли в состав германской знати и ни в чем не отличаются от других аристократических семей Южной Германии. Многочисленные купеческие семьи в иных странах прошли тот же путь; добыв богатство в торговле и промышленности, они перестали быть купцами и предпринимателями и превратились в землевладельцев, начали заботиться не о приросте, но о сохранении богатства, чтобы передать его детям и внукам. Семьи, поступившие иначе, утонули в пучине нищеты. Есть всего несколько банкирских семей, чье дело существует на протяжении ста и более лет, и при внимательном изучении оказывается, что их коммерческая активность ограничивается мерами по управлению собственным богатством, вложенным в земли и рудники. Не существует процветающих, т. е. непрерывно растущих, старых состояний.
4. Теория обнищания
Теория обнищания масс занимает центральное место как в марксизме, так и в предшествующих социалистических доктринах. Накопление нищеты идет параллельно с накоплением капитала. «Антагонистический характер капиталистического производства» — причина того, что «накопление богатства на одном полюсе есть в то же время накопление нищеты, муки труда, рабства, невежества, огрубения и моральной деградации на противоположном полюсе» [364*]. Вот теория абсолютного обнищания масс. Не имеющая другого основания, кроме неискренней, трудно постижимой системы мышления, она интересует нас тем меньше, чем быстрее отходит на задний план даже в работах ортодоксальных марксистов и в официальных программах социал-демократических партий. Даже Каутский в период ревизионистской бучи был вынужден признать, что как раз в развитых капиталистических странах материальная нищета уменьшается, а уровень жизни рабочего класса выше, чем за 50 лет до этого [365*]. Но марксисты все еще используют теорию растущего обнищания в чисто пропагандистских целях, эксплуатируют ее сегодня так же, как в первые годы жизни своей стареющей партии.
В интеллектуальном обиходе теория абсолютного обнищания была заменена развитой Родбертусом теорией относительного обнищания. «Бедность, — говорит Родбертус, — ... есть общественное, т. е. относительное, понятие. И вот я утверждаю, что, с тех пор как рабочие классы в общем заняли более высокое общественное положение, число таких справедливых потребностей значительно возросло. Было бы несправедливо по отношению к прежнему времени, когда они еще не занимали этого более высокого положения, отрицать ухудшение их материального положения, раз упала бы их заработная плата. Точно так же было бы несправедливо отрицать такое ухудшение в их материальном положении теперь, когда они уже заняли это более высокое положение, даже если их заработная плата осталась той же самой» [366*]. Это рассуждение воспроизводит подход социалистов-государственников, которые считают «оправданным» рост требований рабочих и приписывают им «более высокое положение» в социальной иерархии. Невозможно спорить с произвольными суждениями такого рода.
Марксисты подхватили доктрину относительного обнищания. «Если в результате развития внук скромного прядильщика, жившего в одном доме со своими подмастерьями, переехал в громадную, роскошно обставленную виллу, а внук подмастерья снимает меблированную квартиру, конечно, много более комфортабельную, чем чердак его деда в доме прядильщика, все-таки дистанция между ними бесконечно возросла. Внук подмастерья будет чувствовать свою бедность тем сильней, чем более комфортабельна жизнь его нанимателя. Его собственное положение лучше, чем у его предка, его уровень жизни возрос, но его ситуация относительно ухудшилась. Социальная нищета возросла... рабочие относительно нищают» [367*]. Даже если бы все было так, это не было бы обвинением против капиталистической системы. Если капитализм улучшает экономическое положение всех, не столь уж важно, что не все поднимаются одинаково. Нельзя осудить общественное устройство только за то, что оно помогает одним больше, чем другим. Если я живу неплохо, какой вред мне от того, что другие живут еще лучше? Следует ли разрушать капитализм, день изо дня все полнее удовлетворяющий нужды людей, только потому, что при нем некоторые становятся богатыми, а часть из них -- очень богатыми? Как же можно утверждать, что «логически неопровержимо», что «относительное обнищание масс... должно в последнем счете кончиться катастрофой». [368*]
Каутский пытался изменить марксистскую теорию обнищания, чтобы она звучала иначе, чем в «Капитале». «Термин нищета, — говорит он, — можно понимать в смысле как физической, так и социальной нищеты. Нищета в первом смысле измеряется физиологическими потребностями людей, которые, конечно, не везде и не во все времена одни и те же, но, в общем, между ними не существует такой большой разницы, как между социальными потребностями, неудовлетворение которых порождает социальную нищету» [369*]. Маркс имел в виду, заявляет Каутский, именно социальную нищету. Учитывая ясность и точность стиля Маркса, такое толкование можно назвать образцом софистики, и оно соответственно было отвергнуто ревизионистами. Для того, кто не видит в Марксе пророка, совершенно безразлично, содержится ли теория обнищания в первом томе «Капитала», взята ли она у Энгельса или выдвинута неомарксистами. Важен только вопрос: основательна ли эта теория и что из нее следует?
Каутский полагает, что рост социальной нищеты «засвидетельствован самой буржуазией, она дала ей только другое название: она называет ее жадностью, Решающим является тот факт, что противоположность между потребностями наемных рабочих и возможностью их удовлетворения из заработной платы, а, следовательно, также противоположность между наемным трудом и капиталом, все возрастает» [370*]. Но зависть существовала всегда, это не новое явление. Мы можем даже признать, что сейчас она развита больше, чем прежде; общее стремление к улучшению своего материального положения есть специфическая черта капиталистического общества. Но совершенно непостижимо, как можно из этого сделать вывод, что капитализм должен непременно уступить место социализму.
На деле учение об относительном и социальном обнищании есть не что иное, как попытка дать экономическое обоснование политике, основанной на озлоблении масс. Рост социального обнищания означает только рост зависти [371*]. Мандевиль и Юм, два величайших знатока человеческой природы, заметили, что сила зависти определяется дистанцией между завистником и тем, кому он завидует. [317] Если дистанция велика, сравнений быть не может и чувство зависти не возникает. Чем меньше дистанция, тем сильнее зависть. [372*] Таким образом, из роста недовольства масс можно сделать вывод, что неравенство в распределении доходов сокращается. Растущая «завистливость» не доказывает, как считает Каутский, рост относительной нищеты; напротив, это свидетельство того, что расстояние между классами сокращается.
Глава XXVI. Монополия и ее влияние
1. Природа монополии и ее воздействие на ценообразование
Никакая другая часть экономической теории не была столь дурно понята, как теория монополии. Простое упоминание о монополии обычно вздымает такие эмоции, что ясное суждение делается невозможным, а экономические аргументы замещает моральное негодование, обычное в этатистской и другой антикапиталистической литературе. Даже в Соединенных Штатах неистовство вокруг проблемы трестов вытеснило обсуждение проблемы монополии. [319]
Распространенное представление, что монополист может диктовать цены, столь же ошибочно, как и делаемый отсюда вывод, что он располагает властью, позволяющей достичь чего угодно. Так могло бы быть только в случае, если бы монополизированный товар по своей природе был совершенно несопоставим со всеми другими благами. Тот, кто сумел бы монополизировать воздух или питьевую воду, смог бы, конечно, принудить все человечество к слепому повиновению. Такая монополия не знала бы никакой конкуренции. Монополист смог бы произвольно распоряжаться жизнью и собственностью всех своих сограждан. Но подобная монополия не рассматривается в нашей теории монополии. Вода и воздух являются свободными благами, а там, где это не так, как, например, обстоит с водой на вершине горы, можно избежать воздействия монополии, перебравшись на другое место. Похоже, что ближайшим приближением к такого рода монополии была возможность управлять благодатью, которую имела средневековая церковь в глазах верующих. Отлучение от церкви было не менее ужасным, чем смерть от удушья и жажды. При социализме государство, выступающее в качестве «организованного общества», создаст похожую монополию. Все экономические блага окажутся объединенными в одних руках, и оно сможет принудить граждан к выполнению любых команд, сможет поставить человека перед выбором между послушанием и голодной смертью.
Здесь нас интересуют только монополии в рыночных отношениях. Они воздействуют только на экономические блага, которые — при всей важности и незаменимости — не способны оказывать решающего влияния на жизнь человека. Когда массовый товар, абсолютно необходимый для жизни в каком-то минимальном количестве каждому, оказывается монополизированным, тогда действительно наступают все те последствия, которые молва приписывает любым монополиям. Но нам не следует обсуждать здесь эти гипотезы. Они практически несущественны, поскольку лежат вне сферы экономических отношений, а значит, и вне сферы теории цен — за исключением забастовок на определенных предприятиях [373*]. Иногда при рассмотрении последствий монополизации проводят различие между благами, существенными для жизни, и другими. Но эти предположительно незаменимые блага на самом деле есть не то, чем они представляются. Поскольку здесь столь важно понятие «незаменимость», нужно выяснить, имеем ли мы дело с незаменимостью в прямом и точном значении слова. На самом деле мы всегда можем обойтись без «незаменимых» благ: либо отказавшись от соответствующих потребностей, либо удовлетворяя их с помощью альтернативных благ. Хлеб, конечно же, очень важен. Но можно обойтись и без него за счет картошки, например, или кукурузных лепешек. Столь важный сегодня уголь, который даже называют хлебом промышленности, в прямом значении слова также заменим, поскольку и энергию, и тепло можно получать и без него.
Отсюда и все последствия. Занимающее нас понятие «монополия» развито в теории о монопольном ценообразовании, и только в этом значении может быть нам полезно в деле понимания условий хозяйствования; это понятие не требует, чтобы монополизированный товар был незаменимым, уникальным и не имел субститутов. Оно предполагает только отсутствие совершенной конкуренции в области предложения товаров. [320] [374*]
Слишком широкие и вольные концепции монополии не просто непригодны для анализа; они ведут к теоретическим заблуждениям. Из них делают вывод, что ценовые явления могут без дальнейшего исследования быть объяснены наличием монополии. Однажды приняв, что монополист «диктует» цены, что его намерения максимально вздуть цены могут быть остановлены только действующей за пределами рынка «властью», такой теоретик делает понятие монополии настолько растяжимым, что оно начинает включать все товары, предложение которых нельзя увеличить или можно увеличить только при условии роста цен. Поскольку это относится к большинству цен, они освобождают себя от необходимости разрабатывать саму теорию цен. В результате многие начинают говорить о монопольной собственности на землю и полагают при этом, что разрешили проблему ренты указанием на существование монополистических отношений.
Другие идут еще дальше и стремятся объяснить процент, прибыль и даже заработную плату как монопольные цены и монопольные прибыли. Помимо иных недостатков такого «объяснения», их авторы не понимают, что, ссылаясь на существование монополии, они вовсе ничего не говорят о природе ценообразования, а значит, это модное словцо «монополия» никак не заменяет правильно развитой теории цен. [375*]
Монопольные цены подчиняются тем же законам, что и все остальные цены. Монополист не может запрашивать любую произвольную цену. Ценовые предложения, с которыми он выходит на рынок, воздействуют на установки покупателей. Спрос сужается или расширяется в зависимости от того, какую цену он запрашивает, и ему приходится считаться с этим, как и любому другому продавцу. Единственная особенность монополии в том, что при определенной форме кривой спроса максимальная чистая прибыль может быть достигнута при более высокой цене, чем в случае конкуренции между продавцами [376*]. При такой форме кривой спроса и неспособности монополиста дифференцировать цены так, чтобы извлечь максимум выгоды от каждой группы покупателей, ему окажется выгодней продавать по высокой монопольной цене, чем по низкой конкурентной цене, хотя при этом объем продаж и сократится. [322] В этих условиях монополия ведет к трем результатам: рыночная цена выше, прибыли больше, объем продаж и потребления меньше, чем в условиях свободной конкуренции.
Последний из эффектов заслуживает более подробного анализа. Если запасы монополизированного товара не могут быть распроданы по монопольной цене, его нужно либо запрятать, либо уничтожить избыток, чтобы оставшееся количество как раз соответствовало выбранной цене. Так, голландская Ост-Индская компания, монополизировавшая европейский рынок кофе в XVII веке, частично уничтожала свои запасы. [323] Другие монополисты поступали так же. Греческое правительство, Например, уничтожало коринку, чтобы поднять цены. С экономической точки зрения возможна только одна оценка таких действий: они уменьшают запас благ, служащих для удовлетворения потребностей, снижают благосостояние и сокращают богатство. Уничтожение благ, пригодных для удовлетворения потребностей, и запасов пищи, которые могли бы утолить голод столь многих, одинаково осуждают как возмущенное население, так и разумные экономисты.
Однако даже в деятельности монополистов уничтожение товаров — редкость. Дальновидный монополист не производит блага, чтобы выкинуть их на свалку. Чтобы сократить объем торговли, он просто снижает производство. Проблема монополии должна быть рассмотрена с точки зрения ограничения производства, а не уничтожения благ.
2. Экономические эффекты изолированной монополии
Сможет или нет монополист использовать свое положение, зависит от формы кривой спроса на монополизированный товар и от издержек производства предельной единицы товара при существующем масштабе производства. Только когда условия таковы, что продажа меньшего количества по более высоким ценам приносит большую чистую прибыль, чем продажа большего количества при менее высоких ценах, возможно использование некоторых принципов монополистической политики [377*]. Но даже при этом они приложимы лишь в том случае, если монополист не найдет метода получения еще большей прибыли. Монополист служит своим интересам наилучшим образом тогда, когда он способен разделить покупателей на классы по их покупательной способности и получать наивысшую цену в каждом классе. Таковы железные дороги и другие транспортные предприятия, которые дифференцируют тарифы в зависимости от характера груза. Если бы, следуя общему методу монополистов, они подходили ко всем пользователям одинаково, менее платежеспособные просто не смогли бы пользоваться транспортом, а более платежеспособные платили бы меньше, чем могли. Ясно, как это могло бы повлиять на географическое размещение промышленности: один из факторов, определяющих местоположение предприятия, а именно транспортная ориентация, будет сказываться совсем иначе.
В нашем исследовании монополии мы остановимся только на случаях ограничения производства монополизированного товара. Главный результат такого ограничения не в том, что сокращается объем производства. Сокращение производства ведет к высвобождению труда и капитала, которым приходится искать для себя занятость в других производствах. Ведь в долгосрочной перспективе свободная экономика не знает ни безработного капитала, ни безработного труда. Сокращение производства монополизированных благ ведет к росту производства иных благ. Но они, конечно же, являются менее важными; их бы не производили и не потребляли, если бы можно было удовлетворить более насущную нужду в монополизированном благе. Разница между ценой этих благ и более высокой ценой непроизведенного монополизированного блага представляет ту потерю благосостояния, которую понесла национальная экономика из-за монополии. Здесь частнохозяйственная рентабельность и народнохозяйственная производительность не совпадают. В таких условиях социалистическое общество будет себя вести не так, как капиталистическое.
Порой отмечалось, что, хотя монополия может быть неблагоприятной для потребителя, ее можно обернуть и к его благу. Монополия может производить дешевле, поскольку она устраняет все издержки конкуренции, и кроме того, освоившись с широкомасштабным производством, она может извлечь все преимущества из развитого разделения труда. Но все это не отменяет того факта, что монополия отвлекает ресурсы от более важных производств в пользу менее важных.
Возможен и такой случай, о котором любят говорить защитники трестов, когда монополист, не имея других способов к увеличению прибыли, начинает улучшать технику производства. Трудно понять, однако, почему он будет усердствовать в этом больше, чем конкурирующие производители. Но даже признание такой возможности не поколеблет основ представлений о социальном эффекте монополии.
3. Границы образования монополий
Возможности монополизации рынка резко различны для разных товаров. Даже защищенный от конкуренции производитель не обязательно будет в состоянии устанавливать монопольные цены и извлекать монопольную прибыль. Если с ростом цен объем продаж сокращается так резко, что доход от роста цен не покрывает убытков от сокращения продаж, тогда монополист будет вынужден удовлетворяться той ценой, которая бы сама установилась в ситуации конкурентных продаж [378*].
Если не считать случаев, когда есть некая искусственная поддержка, например особые государственные привилегии, монополия, как правило, базируется на исключительном распоряжении некоторыми природными факторами производства. Подобное же распоряжение воспроизводимыми средствами производства, как правило, не ведет к длительной монополизации рынка. Всегда могут возникнуть новые предприятия. Углубление разделения труда, как уже отмечалось, направлено к тому, что в результате высочайшей специализации производства каждый окажется единственным производителем одной или нескольких вещей.
Но это не значит, что для всех этих товаров будут существовать монополизированные рынки. Попытки производителей получить монопольную цену будут, помимо всего другого, сдерживаться появлением новых конкурентов.
В последние десятилетия это полностью подтверждает опыт картелей и трестов. Все устойчивые монополистические организации построены на монопольном распоряжении природными ресурсами или на особом географическом положении. Тот, кто пытается стать монополистом без контроля над такими ресурсами и без особой правовой поддержки в виде тарифов, патентов и пр., должен для достижения хотя бы временного успеха использовать всякого рода трюки и искусственные приемы. Разбираемые комиссиями многочисленные жалобы на картели и тресты показывают, что практически все они порождены уловками и интригами, с помощью которых создаются искусственные монополии в тех случаях, когда для них нет естественной базы. Большинство картелей и трестов просто никогда бы не возникло, если бы протекционистская политика правительства не создала для них подходящих условий. Монополии в торговле и в обрабатывающей промышленности своим происхождением обязаны не внутренним законам капиталистической экономики, а интервенционистской политике правительства, направленной против свободы торговли и режима laisser-faire.
Без особой возможности распоряжаться природными ресурсами или благоприятно расположенным участком земли монополии возникают только там, где капитал, нужный для создания конкурирующего предприятия, не может рассчитывать на адекватную прибыль. Железнодорожная компания способна добиться монопольного положения там, где движение недостаточно интенсивно, чтобы оправдать строительство второй линии. Так же обстоит дело и в других случаях. Но это только означает, что возможны лишь отдельные монополии такого рода и что не существует всеобщей тенденции к образованию монополий.
Такие монополии, как железнодорожные компании или электростанции, получают возможность в зависимости от обстоятельств перенимать у соседствующих предприятий большую или меньшую часть земельной ренты. Результатом может быть достаточно неприятное изменение в распределении дохода и собственности, во всяком случае для тех, кого это прямо коснется.
4. Значение монополии в добывающей промышленности
В экономике, основанной на частной собственности на средства производства, производство сырья является единственной сферой, тяготеющей к монополизации без особого покровительства государства. Горнодобывающая промышленность (в самом широком смысле этого слова) является вотчиной монополий. Независящие от правительственного вмешательства монопольные структуры (оставляя в стороне железные дороги и энергетику) почти исключительно основаны на праве распоряжаться природными ресурсами. Монополии возникают лишь там, где требуемые природные ресурсы имеются в немногих местах. Мировая монополия производителей картофеля или производителей молока немыслима. [379*] Картофель и молоко или, по крайней мере, их заместители могут быть произведены на большей части земной поверхности. Мировые нефтяные, цинковые, ртутные, никелевые и т. п. монополии могут образовываться путем объединения владельцев редких месторождений. Примеров такого рода было немало в последние годы. [324]
Когда такая монополия возникает, на место конкурентных цен приходят монопольные. Доход владельцев рудников растет, производство и потребление их продуктов падают. Некоторая масса труда и капитала, которые были бы использованы здесь, отвлекается в другие отрасли. С точки зрения отдельных субъектов мировой экономики, перед нами рост дохода монополистов и соответствующее сокращение дохода всех остальных. Однако если взглянуть с точки зрения всей мировой экономики и sub specie altemitatis [325], окажется, что монополия делает потребление невозобновляемых естественных ресурсов более экономным. Когда на смену конкурентной цене приходит монопольная, люди понуждаются к большей бережливости в обращении с сокровищами земли и делается выгодней меньше добывать, но тщательней перерабатывать ресурсы. При разработке месторождений невосполнимый дар природы в конце концов исчерпывается, поэтому, чем меньше мы потребляем, тем больше оставляем будущим поколениям. Теперь нам понятен смысл свойственного монополизму конфликта между общественной производительностью и частной рентабельностью. Совершенно справедливо, что в социалистическом обществе не будет оснований для ограничения производства, что возможно при капитализме на монополизированных рынках. Но это означает, что социализм будет относиться к невозобновляемым ресурсам менее экономно, чем капитализм, что он принесет будущее в жертву настоящему.
Из существования специфического для монополии конфликта между рентабельностью и производительностью вовсе не следует, что воздействие монополий всегда следует оценивать как пагубное. Совершенно произвольно наивное предположение, что деятельность социалистического общества, направляемая идеей повышения производительности, — это абсолютное благо. У нас нет мерила для вынесения надежного решения о том, что здесь добро и что зло.
Если отбросить сказанное по поводу монополизма авторами популярной литературы о картелях и трестах, у нас исчезнут все аргументы в пользу того, что растущая монополизация делает капитализм невыносимым. В капиталистической экономике, свободной от государственного вмешательства, монополии занимают гораздо более узкое место, чем утверждает эта литература, а о социально-экономических последствиях монополизма следует судить иначе — отбросив пустые словечки о диктатуре цен и господстве трестовских магнатов.
Часть IV. Социализм как нравственный императив
Глава XXVII. Социализм и этика
1. Социалистическое отношение к этике
С точки зрения чистого марксизма социализм не является политической программой. Он не требует трансформации общества на социалистических началах, а также не осуждает либерального устройства общественной жизни. Он провозглашает себя научной теорией, которая претендует на то, что в законах исторического развития выявила тенденцию к обобществлению средств производства. Сказать, что чистый марксизм выступает за социализм, или что он желает прихода социализма, или стремится к его введению, — значит примерно то же, что сказать, что астрономия считает желательным или стремится устроить предсказанное ею солнечное затмение. Мы знаем, что жизнь Маркса, так же как и многие его устные и письменные высказывания, резко противоречит его теоретическим установкам и что в социалистическом негодовании всегда просвечивает раздвоенное копыто. Последователи Маркса, по крайней мере в практической политике, давно забыли, чем же именно они обязаны его доктрине. Их слова и дела далеко выходят за пределы того, что допускает «теория повивальной бабки». [326] [380*] Для нашего исследования это, однако, имеет небольшое значение, поскольку здесь мы имеем дело с чистой, не профанированной доктриной.
Помимо чисто марксистского взгляда, что социализм должен прийти в силу неумолимой неизбежности, у адвокатов социализма есть еще два мотива. Они являются социалистами либо потому, что ожидают роста производительности труда в социалистическом обществе, либо потому, что верят в большую справедливость социалистического общества. Марксизм несовместим с этическим социализмом. Но его отношение к рационально-экономическим аргументам в пользу социализма совсем иное: материалистическую концепцию истории вполне можно истолковать так, что экономическое развитие естественно ведет мир к самой производительной экономике, т. е. к социализму. Конечно, от такого понимания очень далеки многие марксисты. Они за социализм, во-первых, потому, что он все равно придет, во-вторых, потому, что он морально предпочтителен, и, наконец, потому, что он предполагает более рациональную организацию экономики.
Два мотива немарксистского социализма взаимно исключают друг друга. Если кто-то выступает за социализм, потому что ожидает от него роста производительности труда, ему не следует подпирать свое требование высокой моральной оценкой социалистического общества. Если же он это делает, то должен быть готов к вопросу: будет ли он выступать за социализм, если обнаружится, что это далеко не совершенный в этическом отношении строй? В то же время ясно, что тот, кто оправдывает социализм по моральным причинам, должен быть готов продолжать это, даже убедившись, что общество, основанное на частной собственности на средства производства, обеспечивает более высокую производительность труда.
2. Эвдемонистская этика и социализм
С точки зрения эвдемонистско-рационалистического подхода к общественным явлениям сама постановка проблемы этического социализма выглядит неудовлетворительной. Если не рассматривать этику и экономику как две ничего общего между собой не имеющие системы деятельности, тогда этические и экономические суждения и оценки нельзя считать взаимно независимыми. Все этические целеполагания суть просто часть человеческих целеполаганий вообще. Это означает, что, с одной стороны, в человеческом стремлении к счастью этические цели выступают как средства, а с другой стороны, они включены в процесс выработки ценностей, в результате которого все промежуточные цели формируются в единую шкалу ценностей и располагаются на ней в соответствии с собственной значимостью. В силу этого представление об абсолютных этических ценностях, которые могут быть противопоставлены экономическим ценностям, является необоснованным.
Конечно, не приходится обсуждать эту тему с интуитивистом или этическим априористом. Те, для кого нравственность есть конечный аргумент и кто исключает научный анализ ее элементов ссылкой на трансцендентальность ее происхождения, никогда не смогут согласиться с теми, кто подвергает концепцию истины дотошному научному анализу. Этические идеи долга и совести требуют слепого подчинения [381*]. Априорная этика, настаивающая на безусловной вескости своих норм, ко всем земным отношениям подходит с внешней точки зрения, чтобы всему придать свою собственную форму безо всякой заботы о последствиях. Fiat justitia, pereat mundus -- это ее выражение, и она наиболее искренна тогда, когда честно негодует против вечно непонимаемого утверждения «цель оправдывает средства». [327]
Воображаемый изолированный человек устанавливает свои цели в соответствии с собственным законом. Он не знает и не учитывает ничего, кроме самого себя, и соответственно устраивает свои дела. Человек общественный, однако, должен сообразовывать свои действия с требованиями общества, и его действия должны утверждать существование и прогресс общества. Из основного закона общественной жизни следует, что никого не привлекают цели, лежащие за пределами личных устремлений. Превращая общественные цели в свои собственные, человек при этом не подчиняет свою личность и свои желания намерениям высшей личности; точно так же он не отказывается от удовлетворения любых своих желаний в пользу устремлений мистического Целого. Ведь с точки зрения его собственной шкалы ценностей общественные цели являются целями не конечными, а всего лишь промежуточными. Он должен принимать общество, поскольку оно позволяет полнее удовлетворять его собственные желания. Отрицая общество, он получит только временное преимущество; разрушив общество, он, в конечной перспективе, навредит самому себе.
Совершенно неосновательна развиваемая большинством этических теорий идея дуализма мотивации, т. е. различения между эгоистическими и альтруистическими мотивами действий. Противопоставление эгоистических и альтруистических действий имеет источником непонимание социальной взаимозависимости индивидуумов. Мне, к счастью, не дано выбирать, служить ли своими действиями только себе или только другим. Если бы это было не так, человеческое общество оказалось бы невозможным. В обществе, основанном на системе разделения труда и сотрудничестве, интересы всех членов гармонируют между собой, а из этого основного факта общественной жизни следует, что не существует конфликта между действиями ради себя и ради других, поскольку интересы индивидуумов в конечном итоге совпадают. Можно считать, что мы тем самым определенно разделались со знаменитым научным спором относительно возможности вывести альтруистические мотивы поведения из эгоизма.
Нет противоположности между моральным долгом и эгоистическими интересами. То, что индивидуум отдает обществу ради его сохранения как общества, он отдает не ради чуждых себе целей, но во имя собственных [382*]. Индивидуум, который является продуктом общества не только как мыслящий, чувствующий, волеизъявляющий человек, но просто как живое существо не может отрицать общество, не отрицая самого себя.
Это положение общественных целей в системе индивидуальных целей воспринимается разумом индивидуума, что и позволяет ему верно осознать собственные интересы. Но общество не может положиться на то, что индивидуум всегда будет правильно осознавать их. Если индивидууму дать возможность ставить под вопрос существование общества, оно станет заложником капризов каждого глупого, больного, порочного человека. Тем самым подвергнется опасности продолжение общественного развития.
Это соображение и легло в основу общественного принуждения, которое противостоит индивидууму как требующая безоговорочного подчинения внешняя сила. В этом общественное значение государства и правовых норм. Они не есть нечто чуждое индивидууму, не требуют от него поведения, противоречащего его интересам, не принуждают его служить чужим целям. Они только препятствуют тому, чтобы запутавшиеся, асоциальные личности, слепые к собственным интересам, наносили вред окружающим своим бунтом против общественного порядка.
Неверно утверждение, что либерализм, эвдемонизм и утилитаризм «враждебны государству». Они отрицают идею этатистов, которые обожествляют государство как мистическое бытие, недоступное человеческому пониманию; они направлены против Гегеля, для которого государство представляло «божественную волю»; они отвергают гегельянца Маркса и его школу, которые заменили культ «государства» культом «общества». Они борются с любым, кто хочет, чтобы «государство» или «общество» выполняли задачи иные, чем те, которые соответствуют их представлениям о целях общественного устройства. Оправдывая частную собственность на средства производства, они требуют, чтобы государственный аппарат принуждения был направлен на ее защиту, и отвергают все предложения, клонящиеся к ограничению или ликвидации частной собственности. Но они вовсе не помышляют об «устранении государства». Либеральная концепция общества никоим образом не пренебрегает аппаратом государства: она возлагает на него защиту жизни и собственности. Чтобы обвинить противников государственных железных дорог, государственных театров или государственных молочных ферм во «враждебности к государству», нужно совершенно погрязнуть в реалистической (в схоластическом значении термина) концепции государства.
В определенных обстоятельствах государство может контролировать граждан, даже не прибегая к насилию. Не каждая социальная норма для проведения в жизнь требует обращения к крайним мерам государственного принуждения. Во многих отношениях нравы и обычаи сами по себе, без обращения к силе закона, могут побуждать индивидуумов к признанию общественных целей. Мораль и нравы сильнее государственного закона, когда дело касается защиты широких социальных целей. Отличаясь по сфере и силе воздействия от законов, они в принципе не противостоят им. Существенное противоречие между правовым порядком и нравственными законами возникает только там, где они порождены различными воззрениями на общественное устройство, т. е. когда они принадлежат к различным общественным системам. Тогда это противоречие носит динамический, а не статический, характер.
Этические оценки «добро» или «зло» приложимы только к целям, на которые направлено действие. Как сказал Эпикур [328] Αδιχια ον χαθ εαντηω χαχον [329] [383*]. Поскольку действие никогда не бывает самоценным, но всегда есть только путь к цели, мы называем действие добрым или злым, оценивая его последствия. Суждение о действии выносится по его месту в системе причин и следствий. Оно оценивается как средство. А при оценке средств решающее значение имеет оценка целей. Как и любая другая, этическая оценка исходит из оценки целей, из конечного блага. Ценность действия определяется ценностью той цели, которой оно служит. Намерение также имеет свою ценность, если оно ведет к действию.
Единство действий возможно, только если все конечные ценности могут быть сведены в единую шкалу ценностей. Будь это невозможным, человек не смог бы действовать, т. е. работать как существо, осознающее свое стремление к цели; ему пришлось бы все отдать на волю сил, находящихся вне его контроля. Сознательное ранжирование ценностей предшествует каждому человеческому действию. Тот, кто предпочел достичь цели А, отказываясь одновременно от достижения В, С и Д, решил, что в данных обстоятельствах для него достижение А ценнее, чем достижение всего остального.
Прежде чем вопрос о предельном благе был разрешен современными исследованиями, эта проблема долгое время привлекала внимание философов. В настоящее время эвдемонизм более не доступен для нападок. В конечном итоге все аргументы, выдвинутые против него философами от Канта до Гегеля, не смогли вбить клин между концепциями нравственности и счастья. Никогда еще в истории столько интеллекта и одаренности не было поставлено на защиту неосновательной позиции. Нас изумляют масштабные труды этих философов. Можно сказать, что сделанное ими для доказательства невозможного вызывает большее восхищение, чем достижения великих мыслителей и социологов, которые сделали эвдемонизм и утилитаризм неотъемлемым достоянием человеческого разума. Конечно, их старания не были напрасны — колоссальные усилия по обоснованию антиэвдемонистской этики были необходимы для выявления проблемы во всех ее разветвлениях и тем помогли достижению окончательного решения. Поскольку несовместимые с научным методом принципы интуиционистской этики подорваны, для каждого, кто понимает эвдемонистический характер всех этических оценок, дальнейшее обсуждение этического социализма становится излишним. Для него моральное не есть нечто лежащее за пределами единой шкалы жизненных ценностей. Для него никакие этические нормы не являются обоснованными per se [330]. Прежде он должен иметь возможность изучить, почему эти нормы так оцениваются. Он никогда не может отвергнуть то, что признал разумным и полезным, просто потому, что норма, основанная на некоей мистической интуиции, провозглашает это безнравственным, — при том, что ему даже не позволено исследовать смысл и цели данной нормы [384*]. Его принцип не fiat justitia, pereat mundus [331], но fiat justitia, ne pereat mundus [332].
Тем не менее, отдельное обсуждение аргументов этического социализма представляется не совсем бесполезным не только потому, что у него много приверженцев. Что намного важнее, это дает возможность показать, как за любым ходом рассуждений априористски-интуитивной этики скрываются эвдемонистские идеи и как эта система (буквально каждое ее высказывание) может привести к неосновательным представлениям об экономическом поведении и общественном сотрудничестве. Любая этическая система, построенная на идее долга, даже если она столь же строга, как кантовская, в конечном счете, так много вынуждена заимствовать у принципа эвдемонизма, что лишается собственного обоснования [385*]. В этом же смысле каждое отдельное требование априористски-интуитивистской этики носит в конечном счете эвдемонистический характер.
3. Вклад в понимание эвдемонизма
Формалистская этика слишком значительно облегчает себе борьбу против эвдемонизма, когда истолковывает счастье, о котором говорит эвдемонизм, как удовлетворение чувственных желаний. Более или менее сознательно формалистская этика приписывает эвдемонизму утверждение, что все человеческие стремления направлены единственно к наполнению желудка и чувственным наслаждениям низшего рода. Не приходится отрицать, конечно, что мысли и влечения многих очень многих людей сконцентрированы на этих вещах. Но при чем же здесь социальная наука, которая просто указывает на существующий факт. Эвдемонизм не подталкивает людей — стремиться к счастью; он просто показывает, что человека неизбежно влечет именно в этом направлении. И, в конце концов, счастье не сводится только к наслаждениям секса и хорошего пищеварения.
Если энергистическая концепция морали видит высшее благо в самореализации, в полном проявлении сил, то это может рассматриваться как иное выражение того, что эвдемонисты имеют в виду, говоря о счастье. Конечно же, счастье сильного и здорового существа не заключается в ленивом безделье. Но как противопоставление эвдемонизму эта концепция несостоятельна. Какой смысл в высказывании Гюйо: «Жизнь это не расчет, а действие. В каждом живущем есть запас силы, избыток энергии, которая стремится истратить себя не ради сопутствующих ощущений удовольствия, но ради того, чтобы истратиться. Долг возникает из силы, которая неизбежно тяготеет к действию» [386*]. [333] Действие всегда целесообразно, т. е. основано на размышлении и расчете. Гюйо скатился к интуиционизму, который он отвергает в других случаях, когда некое темное устремление изображается как руководитель морального поведения. Еще яснее интуитивистский элемент проявляется у Фулье в его идеях-силах (idees-forces) [387*]. [334] У него то, что мыслится, стремится к реализации. Но ведь так бывает только в тех случаях, когда желанна сама цель, к которой направлено действие. А на вопрос, почему цель представляется нам благом или злом, Фулье ответа не дает.
Попытки сконструировать этику, какой она должна быть, без учета природы человека и его жизни, — занятие бесплодное. Декламации философов не изменят того, что жизнь стремится к внешнему выражению, что живое существо ищет удовольствий и избегает боли. Все сомнения в возможности признать это как основной закон человеческого действия отпадают с признанием фундаментального принципа общественного сотрудничества. То, что каждый живет и желает жить в первую очередь ради самого себя, никак не препятствует, а, наоборот, скрепляет совместную жизнь людей, поскольку высшая самореализация индивидуальной жизни возможна только в обществе и через общество. В этом и состоит истинное значение учения об эгоизме как основном законе общества.
Высшее требование, которое может выдвинуть общество по отношению к индивидууму, это пожертвовать собственной жизнью. Если все другие ограничения действий, которые общество налагает на индивидуума, могут быть истолкованы как направленные к его же в конечном счете выгоде, то одно это, утверждает антиэвдемонистская этика, не может быть объяснено никакой попыткой перебросить мост между индивидуальными и общими интересами, между эгоизмом и альтруизмом. Смерть героя полезна для общества, но для него это не великое утешение. Только этика долга может разрешить эту трудность. При близком рассмотрении выясняется, что это возражение легко может быть отвергнуто. Когда существование общества под угрозой, каждый должен рискнуть чем может, чтобы избежать разрушения. Даже перспектива гибели не может в таком случае стать помехой. Ведь здесь нет выбора между продолжением прежнего образа жизни и самопожертвованием ради отчизны, общества или убеждений. Здесь нужно противопоставить неизбежность смерти, рабства или невыносимой нищеты — возможности победоносного возвращения с поля боя. Война, которую ведут pro aris et focis [335], не требует жертв от индивидуума. В ней участвуют не для того, чтобы таскать каштаны из огня для других, а для сохранения собственного существования. Это, конечно, относится только к войнам, в которых люди воюют за собственное существование. Это вовсе не относится к войнам ради обогащения, как во времена феодальных раздоров. Потому-то империализм, всегда жадный до завоеваний, не может обойтись без этики, требующей от человека «готовности к жертвам на благо государства».
Долгая борьба моралистов против эвдемонистического объяснения нравственности через выгоду имеет параллель в усилиях политэкономов разрешить проблемы экономической ценности иначе, чем через полезность потребительских благ. Ведь не было для политэкономов ничего проще объяснения ценности через значимость вещи для благосостояния человека, но, тем не менее, попытки такого построения концепции ценности отвергались опять и опять, и непрерывно подыскивались другие теории ценности. Причина была в трудности, которую представляет собой проблема величины ценности. Например, явным было противоречие между высокой стоимостью драгоценных камней, удовлетворяющих отнюдь не главные потребности, и низкой ценой хлеба, который удовлетворяет одну из самых важных нужд. Вода и воздух, без которых просто жить нельзя, как правило, вовсе не оцениваются. Полезность благ оказалось возможным положить в основу теории ценности, когда удалось понятийно разделить ранжирование классов потребностей и сами конкретные потребности. При этом было осознано, что шкала, по которой измеряется важность потребностей, зависит от наличия благ и от насущности конкретных потребностей [388*].
Утилитарно-эвдемонистическому объяснению морали пришлось преодолеть трудности не меньшие, чем те, с которыми столкнулась экономическая теория в усилиях вернуть экономические ценности к идее полезности. Никак не удавалось согласовать учение эвдемонизма с тем очевидным фактом, что нравственный поступок заключается как раз в том, что человек избегает того, что ему непосредственно полезно, и делает то, что представляется прямо вредным ему же. Либеральная философия общества первая нашла решение. Она показала, что, сохраняя и развивая общественные связи, каждый человек служит своим высшим интересам, так что жертвы, приносимые ради совершенствования общественной жизни, суть только временные жертвы. Он обменивает меньшее непосредственное преимущество ради существенно большего косвенного преимущества. Так сходятся долг и интерес [389*]. В этом значение той гармонии интересов, о которой говорит либеральная теория общества.
Глава XXVIII. Социализм как эманация аскетизма
1. Аскетическая точка зрения
Уход от мира и отрицание жизни даже с религиозной точки зрения являются не конечными целями, к которым стремятся ради них самих, но средствами достижения определенных трансцендентных целей. [336] Но хотя в мире верующего они выступают как средства, исследование, которое не может выйти за пределы этой жизни, должно рассматривать их как конечные цели. Ниже под аскетизмом мы будем понимать только то, что вдохновляется философией жизни или религиозными мотивами. Аскетизм (при этих ограничениях) есть предмет нашего исследования. Его не нужно путать с того рода аскетизмом, который является средством для достижения определенных земных целей. Верящий в отравляющие свойства спиртных напитков будет воздерживаться от выпивки ради собственного здоровья либо чтобы укрепить себя перед каким-то испытанием. Он не является аскетом в том смысле, который был указан выше.
Идея ухода от жизни и отрицания жизни нигде не была выражена полнее и логичнее, чем в индийской религии — джайнизме, который насчитывает 2500-летнюю историю. «Бездомность, — говорит Макс Вебер, — есть фундаментальный путь к спасению в джайнизме. Это означает разрыв всех земных отношений, а значит, прежде всего предполагает безразличие к переживаниям и избегание всех мирских мотивов, отказ от действия, от надежды, от желания. Человек, у которого сохранилось из всех способностей мыслить и чувствовать только сознание «Я есть Я», в этом смысле является бездомным. У него нет друзей, не возникает протеста против направленных на него действий других (например, против обычного омовения ног, которое выполняют для святых благочестивые люди). Он ведет себя в соответствии с принципом, что не надо сопротивляться злу и что состояние благодати проверяется способностью переносить боль и страдания» [390*]. Джайнизм особенно строг в запрете убийства живых существ. Ортодоксальный джайн не зажигает огонь в темное время года, чтобы не жечь мошкару, не разводит костров, чтобы не навредить насекомым, процеживает воду перед кипячением, закрывает повязками нос и рот, чтобы не вдохнуть насекомых. Дать насекомым мучить себя, не отгоняя их, есть проявление высшего благочестия [391*].
Только часть общества может реализовать идеал аскетической жизни, поскольку аскет не может быть работником. Тело, истощенное упражнениями по умертвлению плоти, способно только претерпевать происходящее либо сжигать последние силы в экстатических трансах. Аскет, который возвращается к труду и хозяйству, чтобы заработать для себя минимум необходимого, тем самым предает свои принципы. История монашества, и не только христианского, подтверждает это. Монастыри из обителей аскетизма превращались порой в места утонченного наслаждения жизнью.
Неработающий аскет может существовать только в том случае, если аскетизм не обязателен для всех. Поскольку он не прокормит себя без труда других, необходимо существование работников, за счет которых аскет мог бы жить [392*]. Он нуждается в платящем дань мирянине. Его половое воздержание требует существования мирянина, который бы выращивал для аскета последователей. Если бы отсутствовало это необходимое дополнение, род аскетов быстро вымер бы. Аскетизм в качестве общего правила поведения означал бы конец рода человеческого. Истребление собственной жизни есть цель, к которой стремится отдельный аскет, и хотя аскетизм не обязательно требует воздержания от всех действий по поддержанию жизни — ради скорого конца, преодоление сексуального влечения предполагает разрушение общества. Аскетический идеал есть идеал добровольной смерти. Следует ли пояснять, что ни одно общество не может быть основано на принципах аскетизма? Ведь это разрушение жизни и общества.
Этот факт можно упустить из виду только потому, что аскетический идеал редко додумывают до конца и еще реже реализуют до его логического конца. В полном ладу с принципами тот аскет, который живет в лесу подобно животному, питаясь травами и корешками. Такая строгая логичность поведения редка; на деле не так уж много людей, готовых отринуть все плоды культуры, как бы уничижительно ни относились они к ним в мыслях и на словах, готовых без дальнейших церемоний вернуться к жизни оленей и коров. Св. Эгидий, один из самых ревностных спутников св. Франциска, считал пчел суетными, поскольку они слишком уж заняты накоплением запасов; он полностью одобрял только птиц, которые не запасают пищи в амбарах. [337] Ведь птица в воздухе, животное на земле и рыба в море довольны, когда у них есть корм. Сам он считал, что живет в соответствии с теми же принципами, когда кормит себя трудом собственных рук и собиранием милостыни. Когда он вместе с другими бедняками выходил подбирать колоски во время жатвы и люди предлагали поделиться с ним урожаем, он отказывался со словами: «У меня нет амбара для хранения, и он мне не нужен». Тем не менее, этот святой извлекал свои преимущества из осуждаемого им экономического порядка. Его жизнь в бедности, возможная только внутри и благодаря этому экономическому порядку, была бесконечно лучше, чем у тех птичек и рыбок, которым он подражал. За свой труд он получал доход из запасов упорядоченного хозяйства. Если бы остальные не собирали добро в амбары, святому пришлось бы голодать. Вот если бы и для всех остальных рыбка была жизненным идеалом, святой смог бы узнать, что значит жить подобно рыбе. Критически настроенные современники осознавали это. Английский бенедиктинец Матвей Парижский сообщает, что папа Иннокентий III, выслушав св. Франциска, посоветовал ему идти жить к свиньям, на которых он похож больше, чем на человека, рыться с ними в грязи и учить их своим правилам [393*]. [338]
Правила аскетической жизни не могут быть универсально обязательной нормой. Последовательный аскет добровольно уходит из жизни. Аскетизм, стремящийся к утверждению на земле, не доводит собственных принципов до логического конца, он останавливается в каком-то пункте. И неважно, какой софистикой он пытается это оправдать, — достаточно, что он это делает и должен делать. Более того, он обязан терпимо относиться к неаскетам. А в итоге возникает двойная мораль, одна — для святых, другая — для мирян, что раскалывает этику. Жизнь профанов терпима, но не более. Действительно моральным является образ жизни монахов, какое бы имя они ни носили, которые стремятся к совершенству с помощью аскезы. Раскалывая таким образом мораль, аскетизм отказывается от своих претензий на руководство жизнью. Единственное требование, которое аскетизм может после этого предъявить мирянам, — это маленькие даяния с их стороны, чтобы у святых душа не рассталась с телом.
Идеал аскетизма вообще не знает об удовлетворении желаний. Он вне экономики в самом прямом смысле слова. Разбавленный идеал аскетизма, единственно доступный на практике мирянам общества, поклоняющегося аскетизму праведников, как и аскетизм монахов, живущих самодостаточной общиной, может ограничиваться производством только хлеба насущного, но при этом никак не враждебен крайней рационализации хозяйственной деятельности. Напротив, он требует такой рационализации. Раз уж погруженность в мирские заботы, которые приходится терпеть как средство для достижения промежуточных, но, увы, неизбежных целей, сбивает, людей с единственно праведного пути, тем важнее, чтобы эта далекая от святости деятельность была бы максимально экономичной, сводилась к минимуму. Рационализм, нужный мирянину, чтобы смягчить тяготы и сделать жизнь приятнее, делается обязательным для аскета; тяготы труда и лишения есть, конечно, ценные уроки смирения, но его прямой долг — уделять временному не больше, чем абсолютно необходимо.
С аскетической точки зрения, следовательно, социалистическое производство можно предпочесть капиталистическому только в том случае, если оно окажется более производительным. Аскетизм может требовать ограничения всякой деятельности, направленной на удовлетворение потребностей, поскольку питает отвращение к чрезмерному комфорту. Но в допускаемых им границах комфорта он не имеет оснований для отказа от требований рационального хозяйствования.
2. Аскетизм и социализм
Социалистическое святое благовествование сначала игнорировало воззрения аскетизма. Социалисты яростно отвергали успокоительные обещания жизни после смерти и стремились к прижизненному раю для всех. Обещания грядущего рая, как и любые другие религиозные приманки, не интересовали их. Единственной заботой социализма было гарантировать каждому наивысший возможный уровень жизни. Его принципом было не самоотрицание, но наслаждение. Вожди социализма всегда и со всей определенностью противостояли тем, кто выказывал безразличие к росту производительности. Они подчеркивали, что для смягчения тягот труда и увеличения радости жизни нужно умножить производительность труда. Широкие жесты выродившихся наследников богатых семей во славу обаяния бедности и простой жизни никогда их не привлекали.
Но при более внимательном рассмотрении мы можем обнаружить постепенное изменение социалистических установок. По мере того как бесхозяйственность социалистического производства становилась все более явной, социалисты начали менять свое отношение к желательности изобильного удовлетворения человеческих нужд. Многие даже стали проявлять свою симпатию к авторам, которые восхваляли средние века и презирали капиталистическое богатство. [394*]
Утверждение, что мы можем быть счастливы или даже более счастливы при меньшем количестве благ, нельзя ни опровергнуть, ни доказать. Конечно, большинство людей воображают, что у них нет материального достатка; они истощают себя напряженным трудом, поскольку ценят рост благосостояния больше, чем тот досуг, который стал бы им доступен при меньших притязаниях. Но если даже принять тот половинчатый аскетизм, о котором говорилось выше, то из него никак не следует преимущество социалистических методов производства перед капиталистическими. Если капитализм производит слишком много благ, то лекарство всегда под рукой — достаточно уменьшить количество труда. Такими аргументами нельзя оправдать требования об уменьшении производительности труда просто за счет выбора менее плодотворного способа производства.
Глава XXIX. Христианство и социализм
1. Религия и этика общественного поведения
Христианство не только как церковь, но и как философия подобно любому другому оплоту духовной жизни есть продукт сотрудничества людей. Наше мышление никоим образом не есть индивидуальное явление, оторванное ото всех общественных отношений и традиций. Оно имеет общественный характер просто в силу того факта, что использует методы мышления, выработанные за тысячелетия сотрудничества бесчисленных групп людей, и мы способны овладеть этими методами только потому, что являемся членами общества. Именно по этой причине мы не можем представлять себе религию как изолированное явление. Даже мистик, забывающий действительность в благоговейной радости слияния с Богом, не только своим усилиям обязан собственной религиозностью. Не он один создавал те формы мышления, которые привели его к религии: они принадлежат обществу. Каспар Гаузер не может стать религиозным без помощи извне. [339] Религия, как и все остальное, возникла исторически и постоянно изменяется, как и всякое другое общественное явление.
Но религия и сама является фактором общественной жизни в том смысле, что она под определенным углом истолковывает общественные отношения и соответственно устанавливает правила поведения. Она не может уклониться от формулирования принципов этики общественного поведения. Ни одна религия, претендующая на решение жизненных вопросов, на утешение своих последователей в самые ответственные моменты жизни, не может ограничиться истолкованием отношения человека к физическому миру, к рождению и смерти. Если она обойдет вниманием отношения между людьми, не выработает правил поведения в обществе, то оставит верующего одного, когда он начинает размышлять о недостатках общественных отношений. Религия должна отвечать на вопросы: почему есть богатые и бедные, насилие и суд, война и мир, — иначе человеку придется искать ответы в другом месте. А ведь это будет означать утрату влияния на последователей, утрату духовной власти. Без этики общественного поведения религия мертва.
Сегодня ислам и иудаизм мертвы. [340] Своим последователям они не предлагают ничего, кроме ритуала. Они устанавливают правила молитвы и поста, определенные пищевые ограничения, требования обрезания и тому подобное — и это все. Для духа они не дают ничего. Полностью обездуховленные, они учат только правовым формам и обрядам. Они замыкают верующих в клетке традиционных обычаев, а этого совершенно недостаточно для жизни; им нечего сказать душе верующих. Они подавляют духовную свободу, вместо того чтобы возвышать и спасать душу верующих. Много столетий в исламе и почти два тысячелетия в иудаизме не было новых религиозных движений. Сегодня иудаизм есть то же самое, что в период создания Талмуда. [341] Ислам не изменился со времен арабских завоевательных походов. [342] Их литература, их школьная мудрость продолжают повторять старые идеи и не выходят за рамки теологии. Напрасно вы здесь будет искать людей и движения того типа, какие каждое столетие появлялись в западном христианстве. Они держатся только за счет отрицания всего чужого и инородного, за счет традиционализма и консерватизма. Только лишь ненависть ко всему иностранному подвигает их время от время на крупные действия. Все возникающие здесь новые секты и новые доктрины суть не что иное, как формы войны с чужим, ранее несуществовавшим, иноверием. Религия не оказывает влияния на духовную жизнь индивидуума, если, конечно, эта духовная жизнь вообще возможна под удушающим давлением жесткого традиционализма. Особенно ясно это видно в невлиятельности клира. Уважение к священникам имеет чисто внешний характер. В этих религиях нет ничего и близко сравнимого с глубоким влиянием священнослужителей Западных церквей, хотя это влияние весьма различно в разных церквях; нет ничего сопоставимого по влиятельности с фигурой иезуита, католического епископа или протестантского пастора. Такого же рода инерционность характеризовала политеистические религии античности, и до сих пор мы можем ее наблюдать в восточном православии. Греческая церковь мертва уже более тысячи лет [395*]. Только во второй половине XIX века она еще раз оказалась способной породить человека, в котором вера и надежда пылали как огонь. Но христианство Толстого при всех его внешних чертах русскости и востока в основе своей — западное. Весьма характерно, что в отличие от Франциска Ассизского, сына итальянского купца, или Мартина Лютера, сына немецкого горняка, этот великий проповедник вышел из знатной семьи, которую образование и воспитание полностью вестернизировали. Русская церковь с большей легкостью порождала людей типа Иоанна Кронштадтского или Распутина. [343]
У этих мертвых церквей отсутствует какое-либо определенное учение об этике. Гарнак [344] говорит о греческой церкви [396*]: «Вся сфера трудовой жизни, поведение в которой должно регулироваться верой, оказалась вне ее влияния. Все предоставлено государству и обществу». В живых церквах Запада это иначе. Здесь, где вера еще не иссякла, где она не выродилась в пустую форму, сводящуюся к бессмысленным ритуалам, где, иными словами, она охватывает всего человека, есть постоянное стремление к поиску этических основ общественной жизни. Вновь и вновь верующие возвращаются к Евангелию, чтобы обновить свою жизнь в Господе и его Послании.
2. Евангелие как источник христианской этики
Для верующего Святое Писание есть кладезь божественного откровения, слова Божьего к людям, которое должно быть вечно непоколебимым основанием всей религии и всего поведения, контролируемого ею. Это верно не только для протестантов, которые принимают поучения проповедников лишь в той мере, в какой они совпадают со Святым Писанием; это верно и для католиков, которые, с одной стороны, основывают авторитет Святого Писания на авторитете церкви, а с другой — признают божественное происхождение и самого Святого Писания, поскольку верят, что оно явилось в мир через посредство Святого Духа. Дуализм здесь разрешен благодаря тому, что одна только церковь дает окончательное и достоверное, т. е. непогрешимое, толкование Святого Писания. Обе конфессии предполагают логическое и системное единство всего собрания священных книг; устранение трудностей, порождаемых таким подходом, должно быть, следовательно, одной из самых важных задач церковного учения и науки.
Наука рассматривает тексты Ветхого и Нового Завета как исторические источники, к которым следует подходить так же, как и ко всем другим историческим документам. Она разрывает единство Библии и пытается для каждой из ее книг найти собственное место в истории литературы. Современные библейские исследования такого рода несовместимы с теологией. Католическая церковь уже осознала этот факт, но протестантизм все еще вводит себя в заблуждение. Бессмысленно реконструировать облик исторического Иисуса, чтобы потом на выводах этих исследований строить учение о вере и нравственности. Усилия такого рода мешают научным исследованиям текстов, поскольку отвлекают их от действительной цели и навязывают задачи, которые нельзя решить без привнесения современных ценностей. Более того, они и сами по себе внутренне противоречивы. С одной стороны, предпринимается попытка исторического объяснения Христа и христианства, а с другой — эти исторические явления рассматриваются как незыблемая почва всех правил духовного поведения, истинных даже в совершенно изменившемся современном мире. Ведь это противоречие — подвергнуть христианство историческому исследованию, а затем в результатах исследования искать ключ к современности. Историческая наука не может представить христианство в его «чистом виде», но только в его «первоначальном виде». Отождествить эти два образа можно, лишь закрыв глаза на две тысячи лет исторического развития [397*]. Ошибка многих протестантских теологов в этом вопросе та же, что совершается частью сторонников исторической школы права, когда они пытаются использовать выводы исторического исследования юриспруденции для современного законодательства и отправления правосудия. Так не может поступать настоящий историк; такой подход — для тех, кто отрицает все развитие и даже саму возможность развития. По сравнению с таким абсолютизмом абсолютизм многократно осужденных, «поверхностных» рационалистов XVIII века, которые подчеркивали как раз эту сторону прогресса и развития, выглядит истинно историческим воззрением.
Для анализа отношений между христианской этикой и проблемой социализма непригоден подход протестантских теологов, исследования которых нацелены на выявление неизменной и недвижной «сущности» христианства. Если взглянуть на христианство как на живое, а значит, и постоянно изменяющееся явление (взгляд не столь уж несовместимый, как может показаться, со взглядом католической церкви), тогда следует с самого начала уклониться от исследования того, что же именно — социализм или частная собственность — больше соответствуют идее христианства. Лучшее, что можно сделать, — это рассмотреть историю христианства с точки зрения того, выказывало ли оно когда-либо особую склонность к той или этой организации общества. Наше внимание к текстам Ветхого и Нового Завета оправдано их значимостью как источников духовного учения, но не расчетом на то, что они одни способны дать понимание того, что же такое христианство.
В конечном итоге исследования такого рода должны выяснить: обязательно ли христианству — и сейчас, и в будущем — отвергать экономику, основанную на частной собственности на средства производства? Вопрос этот не может быть разрешен простым указанием на тот известный факт, что с самого возникновения, уже почти два тысячелетия, христианство умело ладить с частной собственностью. Ведь может случиться, что либо частная собственность, либо христианство достигнет в своем развитии точки, после которой они станут несовместимыми, если, конечно, они были совместимы прежде.
3. Первоначальное христианство и общество
Первоначальное христианство не было аскетичным. Свойственное ему радостное приятие жизни отодвинуло на задний план аскетические идеалы, характерные для многих тогдашних сект (даже Иоанн Креститель жил аскетом). Только в III и IV веках аскетизм был привнесен в христианство, и с этого времени начинается аскетическое перетолкование и преобразование евангельских учений. Евангельский Христос наслаждается жизнью среди учеников, укрепляет себя пищей и питьем и разделяет людские праздники. Он так же далек от аскетизма и желания бежать от мира, как и от невоздержанности и разврата [398*]. Только его отношение к половой жизни производит впечатление аскетического, но это можно объяснить тем же, чем мы объясняем практически все целесообразные поучения Евангелий, — а они не предлагают других правил жизни, кроме целесообразных, — основной концепцией, которая раскрывает нам всю идею Иисуса, концепцией Мессии.
«Исполнилось время и приблизилось Царство Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие». Таковы слова, с которыми, по Евангелию от Марка, является Спаситель [399*]. Иисус смотрит на себя как на пророка приближающегося Царства Божия. Царства, которое согласно древнему пророчеству принесет избавление от всех земных несовершенств, а с этим и от всех хозяйственных забот. Его последователи не имели других забот, кроме как подготовиться к этому дню. Время для земных дел прошло, и теперь, в ожидании Царства, человек должен обратиться к более важным вещам. Иисус не предлагает правил земного поведения и борьбы; его Царство не от мира сего. Правила, которым он наставляет своих последователей, ценны только на краткий промежуток времени, который осталось прожить в ожидании надвигающихся великих событий. В Царстве Божием не будет хозяйственных забот. Здесь верующие будут есть и пить за столом Господа [400*]. В близкой перспективе такого Царства все хозяйственно-политические распоряжения были бы излишними. Все указания Иисуса следует рассматривать просто как предписания переходного периода [401*].
Это единственный способ понять, почему в Нагорной проповеди Иисус советует своим людям не заботиться о пище, питье и одежде; почему он убеждает их не сеять, не жать и не собирать в амбары, не трудиться и не прясть. Это единственное объяснение «коммунизма» его и его учеников. Этот «коммунизм» не является социализмом; здесь нет общины, которой бы принадлежали средства производства. Это только распределение потребительских благ среди членов общины — «каждому давалось, в чем кто имел нужду» [402*]. Это коммунизм потребительских благ, а не средств производства, это община потребителей, а не производителей. Первоначальное христианство не производит, не трудится и не собирает. Новообращенные распродают собственность и делят полученное с братьями и сестрами. Долго так жить нельзя. Подобный образ жизни можно понимать только как временный порядок, каковым он на деле и был. Ученики Христа жили в ежедневном ожидании Спасения.
Свойственная первоначальному христианству идея близкого избавления постепенно преображалась в концепцию Страшного Суда, которая лежит в основе всех церковных движений, имевших сколь нибудь долгую жизнь. Бок о бок с этим преображением шло полное преобразование христианских правил жизни. Ожидание Царства Божия больше не могло служить основой поведения. Когда церковные братства начали приспосабливаться к долгой земной жизни, им пришлось отказаться от требований, чтобы прихожане воздерживались от труда и посвящали себя целиком созерцательной жизни в ожидании Царства Божия. Им не только пришлось терпеть участие их братии в трудах этого мира, но даже поощрять их к труду, поскольку в ином случае были бы разрушены условия для существования религий.
Вот так христианству, которое начало с полного безразличия ко всем общественным обстоятельствам, пришлось практически узаконить общественный порядок разлагавшейся Римской империи — раз уж процесс приспособления церкви к этим порядкам начался.
Ошибкой является разговор о социальном учении первоначального христианства. Исторический Христос и его учение, как они представлены в старейших памятниках Нового Завета, вполне безразличны ко всем общественным обстоятельствам. Не то чтобы Христос не давал резкой критики существовавшего положения вещей, но он не считал стоящим делом рассмотрение того, как можно улучшить дела, а может быть, и вовсе не думал об этом. У Него Божьи заботы. Он установит свое славное и беспорочное Царство, и время это близко. Никто не знал, на что будет похоже это Царство, но одно было определенным: жизнь в нем будет беззаботной. Иисус опускает все малые детали, да они и не были важны; иудеи в его время не сомневались в том, что жизнь в Царстве Божием будет восхитительной. Пророки это предсказывали, и их слова продолжали жить в умах людей, образуя самое существо их религиозного мышления.
Ожидание того, что Господь, когда придет время, сам все. преобразует, а также обращение всех действий и мыслей к будущему Царству Божию делают учение Иисуса чисто отрицательным. Он отрицает все существующее, не предлагая ничего взамен. Он доходит до разрушения всех существующих общественных связей. Ученик должен быть не просто безразличным к собственной жизни, воздерживающимся от всякой работы и избавившимся от всякой собственности. Не может быть учеником Христа тот, кто «не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а при том и самой жизни своей» [403*]. Иисус презирает мирские законы Римской империи и предписания иудейского закона. Он способен переносить их в силу полного безразличия, как нечто только временно полезное, но не потому, что признает их истинную ценность. Его рвение в разрушении общественных связей безгранично. Побудительной силой этой чистоты и мощи полного отрицания является экстатическое вдохновение и энтузиастическая надежда на новый мир. Отсюда его страстные нападки на все существующее. Позволительно все разрушить, поскольку Бог в его всемогуществе заново создаст строительный камень для будущего порядка. Нет нужды уточнять, что же именно может быть перенесено из старой жизни в новую, потому что новый порядок возникнет без человеческого участия. Поэтому он и не требует от своих последователей никакой системы этики, никакого определенного позитивно-созидательного поведения. Лишь одна вера, и ничего кроме веры, надежды и упования — вот все, что требуется. Не нужно вклада для созидания будущего — это обеспечит сам Господь. В современности отчетливейшей параллелью к этой установке первоначального христианства на полное отрицание является большевизм. Большевики также хотят разрушить все существующее, поскольку они рассматривают все как безнадежно дурное. Но у них есть некие идеи, пусть неопределенные и противоречивые, об общественном строе будущего. Они требуют от своих последователей не только разрушения всего, что есть, но также и определенной линии поведения по отношению к будущему Царству, о котором они столько мечтали. В этом отношении учение Иисуса есть более полное отрицание [404*].
Иисус не был социальным реформатором. Его учение было неприложимо к земной жизни, и его наставления ученикам имели значение только в свете непосредственной цели — ждать Господа, препоясавши чресла и возжегши светильники, «дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему» [405*]. Именно это и обеспечило христианству триумфальное шествие по миру. Будучи безразличным к любой общественной системе, оно прошло сквозь века и не было разрушено грандиозными социальными революциями. Только по этой причине оно смогло быть религией римских императоров и англосаксонских предпринимателей, африканских негров и европейских германцев, феодальных властителей средневековья и современных промышленных рабочих. Каждая эпоха и каждая партия могли почерпнуть здесь, что хотели, поскольку ничто не привязывало христианство к определенной общественной системе.
4. Запрет процента в каноническом праве
Каждая эпоха находила в Евангелиях то, что искала, и не замечала того, чего не хотела видеть. Лучше всего это видно на примере того, какое чрезвычайное значение многие века церковная мораль уделяла учению о ростовщичестве. [406*] Требования к ученикам Христа в Евангелиях и других текстах Нового Завета очень далеки от идеи отказа от процента на отданный в ссуду капитал. Каноническое запрещение процента есть порождение средневекового учения об обществе и торговле, и первоначально оно не имело ничего общего с христианством и его учением. [345] Моральное осуждение процента и запрещение ростовщичества предшествовали христианству. Позаимствованные у писателей и законодателей античности, они приобрели актуальность по мере обострения борьбы между аграриями, с одной стороны, и поднимающимися купцами и ремесленниками — с другой. Только в это время начали поддерживать эти запреты цитатами из Святого Писания. Взимание процента осуждалось не потому, что так требовало христианство. Скорее, в силу общественного негодования люди старались вычитать в христианских писаниях осуждение ростовщичества. Новый Завет сначала показался бесполезным для этой цели, и соответственно обратились к Ветхому. Столетиями никому и в голову не приходило привести хоть один отрывок из Нового Завета в поддержку запрета. Это длилось до тех пор, пока схоластическое искусство толкования не преуспело в вычитывании всего нужного в одном часто цитировавшемся месте Евангелия от Луки, и, таким образом. Евангелие стало оружием против ростовщичества [407*]. Это произошло на исходе XII века. Впервые в декреталиях папы Урбана III указанный отрывок был приведен как подтверждение запрета ростовщической прибыли. [408*] [346] Но то, значение, которое придали словам Луки, было, конечно, совершенно невозможно защитить: отрывок, конечно же, не касается взимания процента. Вполне возможно, что в контексте Μηδεν απιζοωτες [347] может значить «не рассчитывать на возврат данного в долг». Или, что более вероятно: «Следует давать в долг не только богатым, которые смогут когда-нибудь дать тебе в долг, но также тому, кто не сможет никогда, бедняку. [409*]
Значение, которое придавалось этому отрывку, резко контрастирует с тем невниманием, которое проявляют к этой теме запреты и повеления других Евангелий. Средневековая церковь намеревалась довести запрет на ростовщичество до логического предела, но она же упрямо пренебрегала тем, чтобы затратить хоть долю той же энергии на исполнение многих ясных и недвусмысленных предписаний Евангелий. В той же главе Евангелия от Луки другие вещи запрещаются или предписываются в точных и ясных словах. [349] Но церковь никогда всерьез не пыталась, например, запретить ограбленным требовать назад свое добро, не запрещала сопротивление грабежу, не пыталась заклеймить как нехристианский акт осуждения. Такие предписания Нагорной проповеди, как не заботиться о еде и питье, точно так же никогда никто не пытался навязывать верующим [410*]. [350]
5. Христианство и собственность
Христианство всегда, начиная с III века, одновременно использовалось и теми, кто поддерживал социальный порядок, и теми, кто хотел его сокрушить. Обе партии с равной неискренностью обращались к Евангелиям и находили библейские пассажи в свою поддержку. То же мы видим и сегодня: христианство воюет и за, и против социализма.
Но все усилия найти в учении Христа поддержку для институтов частной собственности вообще, и частной собственности на средства производства в частности, вполне тщетны. Никакое искусство толкования не способно найти в Евангелии хоть один отрывок, который мог бы быть прочитан как поощряющий частную собственность. Те, кто ищет в Библии такое указание, должны или обратиться к Ветхому Завету, или удовлетвориться оспариванием утверждения, что в общинах ранних христиан господствовал коммунизм [411*]. Никто никогда не отрицал, что еврейское общество было знакомо с частной собственностью, но это никак не помогает нам уяснить отношение первоначального христианства к этому вопросу. Столь же мало доказательств того, что Иисус одобрял экономические и политические идеи еврейской общины, как и того, что он их осуждал. Конечно, Христос говорит, что пришел не разрушить закон, но исполнить его [412*]. Но и эти слова следовало бы толковать в свете представлений о деятельности Иисуса в целом. Эти слова едва ли могут относиться к Моисееву закону, ориентированному на земную жизнь до наступления Царства Божия, поскольку некоторые предписания Христа резко противоречат этому закону. Точно так же то обстоятельство, что «коммунизм» первых христиан никак не свидетельствует в пользу «коллективистского коммунизма в его современном понимании» [413*], не означает, что Христос одобрял частную собственность. [414*]
Одно, конечно, ясно, и никакие искусные толкования не могут этого затемнить: слова Иисуса полны осуждения богачей, и апостолы в этом отношении не мягче. Богатый человек проклят за то, что богат, нищий превознесен за то, что беден. Иисус не призывал к войне против богатых и не проповедовал мести богачам только по одной причине — возмездие осуществляет сам Господь: «Мне отмщение и аз воздам». В Царстве Божием бедные станут богатыми, а богачей заставят помучиться. Позднее толкователи пытались смягчить высказывания Христа против богатых, с наибольшей силой и полнотой явленные в Евангелии от Луки, но их осталось вполне достаточно для поддержки тех, кто подбивает мир ненавидеть богатых, подбивает его к возмездию, убийству и пожару. Вплоть до появления современного социализма ни одно движение против частной собственности в христианском мире не упустило возможности укрепиться авторитетом Иисуса, апостолов и отцов церкви, не говоря уже о тех, кто подобно Толстому сделал евангельское негодование на богатство душой и сердцем своего учения. Это злые всходы, взошедшие из слов Спасителя. Они стали причиной больших страданий и большего кровопролития, чем преследования еретиков и ведьм. Они всегда оставляли церковь беззащитной перед лицом движений, стремившихся к разрушению человеческого общества. Церковь как организация, конечно же, всегда стояла на стороне тех, кто пытался отразить коммунистические атаки. Но она не могла достичь многого в этой борьбе. Ее обезоруживали слова: «Блаженны нищие, ибо их есть Царство Небесное».
Совершенно неосновательно часто повторяемое утверждение, что религиозность, в данном случае исповедание христианства, служит защитой от учений, враждебных собственности, и что она предохраняет массы от яда социального возмущения. Каждая церковь, возникшая в обществе, основанном на частной собственности, должна каким-то образом научиться с ней ладить. Но, учитывая отношение Иисуса к вопросам общественной жизни, никакая христианская церковь не могла здесь добиться ничего, кроме слабого компромисса, действенного лишь до тех пор, пока никто не настаивает на буквальном понимании слов Писания. Было бы глупостью утверждать, что просвещение, которое ослабило религиозные чувства масс, расчистило дорогу социализму. Напротив, именно сопротивление христианства распространению либеральных идей приготовило почву для разрушительной злобы современной социалистической мысли. Церковь не только ничего не сделала для прекращения пожара, она сама раздувала огонь. В католических и протестантских странах возник христианский социализм; в русской церкви зародилось учение Толстого, ни с чем несравнимое по враждебности к обществу. Конечно, официальная церковь пыталась сначала противодействовать этим движениям, но была вынуждена сдаться как раз в силу своей беззащитности перед словами Писания.
Евангелия не коммунистические, не социалистические. Как мы видели, они, с одной стороны, безразличны ко всем социальным вопросам, а с другой — полны гнева на всякую собственность и на всех собственников. Потому-то и христианское учение, уже отделенное от ситуации, в которой проповедовал Христос, — ожидания близкого Царства Божьего, может быть крайне разрушительным. Нигде и никогда система социальной этики и общественного сотрудничества не может быть построена на учении, которое запрещает труд и любую заботу о средствах к существованию и при этом яростно выступает против богатых, проповедует ненависть к семье и оправдывает добровольное самооскопление.
Культурные достижения церкви за столетия развития есть труд и заслуга церкви, но не христианства. Остается открытым вопрос, какая часть этих достижений обязана цивилизации, унаследованной от Римской империи, а какая — идее христианской любви, которую полностью преобразило влияние философии стоиков и многих других учений античности. Социальная этика Иисуса не участвовала в этом творчестве культуры. Заслугой церкви в данном случае была только нейтрализация этого учения, что всегда удавалось лишь ненадолго. Поскольку церковь обязана утверждать Евангелия как свое основание, она должна быть всегда готова к восстанию тех своих членов, которые толкуют слова Христа совсем не так, как предписывает церковь.
Из Евангелий невозможно вывести этическое учение, пригодное для общественной жизни. И не имеет значения, насколько верно они передают слова и поступки исторического Иисуса. Ведь для каждой христианской церкви эти и другие книги Нового Завета являются тем единственным фундаментом, без которого невозможно ее существование. Даже если исторические исследования с высокой степенью достоверности покажут, что исторический Иисус думал и учил о человеке и обществе иначе, чем записано в Новом Завете, для церкви его учение не изменится. Для церкви тексты Нового Завета должны навечно остаться словом Божиим. Здесь есть только два выхода. Либо церковь, как это сделало православие, складывает с себя долг по формированию этики общественных отношений, но тогда она перестает быть нравственной силой и ограничивает свою роль чисто ритуальными действиями. Либо она может выбрать путь Западной церкви, которая всегда включала в свое учение те элементы социальной этики, которые лучшим образом служили в данный момент ее интересам, ее положению в государстве и обществе. Она была союзницей феодальных властителей в борьбе против крепостных, она поддерживала рабовладельческую экономику южных штатов, но она же, как протестантская и особенно кальвинистская церковь, сделала своей этику крепнущего рационализма. [352] Она поддерживала борьбу ирландских арендаторов против английских аристократов, она была вместе с католическими профсоюзами в борьбе против нанимателей и снова -- с консервативными правительствами против социал-демократии. И в каждом случае ей удавалось подкрепить свою позицию цитатами из Библии. Это также свидетельствует о том, что христианство отрекается от выработки этики общественной жизни, что и делает церковь безвольным орудием времени и моды. Но, что еще хуже, церковь пытается обосновать каждую фазу своей политики учением Евангелий, а тем самым подталкивает каждое движение к тому, чтобы искать в Писаниях опоры для своих целей. Если учесть характер используемых таким образом евангельских отрывков, ясно, что на успех обречены самые разрушительные учения.
Но если нет надежды воздвигнуть на словах Евангелий христианскую социальную этику, может ли христианское учение прийти к согласию с такой социальной этикой, которая не разрушает общество, но созидает его, чтобы таким образом поставить великие силы христианства на службу цивилизации? Примеры подобного преображения известны в истории христианства. Церковь смирилась с тем, что современная наука разрушила представления Ветхого и Нового Заветов, касающиеся естествознания. Церковь больше не превращает в жаркое еретиков, утверждающих, что Земля движется, не привлекает к трибуналу инквизиции тех, кто сомневается в воскрешении Лазаря и телесном восстании из мертвых. Даже священники римской церкви могут сегодня изучать астрономию и историю эволюции. Не может ли нечто подобное случиться и в области социологии? Не может ли церковь приспособиться к принципам свободного сотрудничества в системе разделения труда? Может быть, можно истолковать в этом направлении сам принцип христианской любви?
Эти вопросы интересуют не только церковь. Здесь речь идет о судьбах цивилизации. Ведь сопротивление церкви либерализму далеко не безвредно. Церковь обладает такой властью, что ее враждебности к силам, созидающим общество, хватит, чтобы разнести всю культуру вдребезги. В последние десятилетия мы с ужасом наблюдали, как она превращалась во врага общества. Ведь церковь, как католическая, так и протестантская, была не последним из факторов, ответственных за преобладание разрушительных идеалов в сегодняшнем мире. Для воцарения нынешнего смятения христианский социализм сделал не меньше, чем социализм атеистический.
6. Христианский социализм
Исторически легко понять неприязнь церкви к любым формам экономической свободы и политического либерализма. Либерализм есть цветок того рационалистического просвещения, которое нанесло смертельный удар по старому положению церкви, которое дало начало современной исторической критике. Именно либерализм подорвал могущество классов, которые веками были тесно связаны с церковью. Он преобразил мир сильнее, чем когда-либо это сделало христианство. Он вернул человечность миру и жизни. Он разбудил силы, которые пошатнули основы инертного традиционализма, на котором покоились церковь и вера. Новое видение мира доставило церкви немало тревог, и она все еще не приспособилась даже к внешним проявлениям современности. Конечно, священники в католических странах спрыскивают святой водой вновь уложенные железнодорожные пути и турбины новых электростанций, но верующий христианин все еще внутренне содрогается перед работой цивилизации, которую его вера не может охватить. Церковь противостоит духу современности и самой современности. Нет ничего удивительного в том, что церковь стала союзником тех самых сил, которых гнев побуждает разрушить этот чудесный новый мир, что она лихорадочно обследовала весь свой богатый арсенал в поисках средств для отрицания труда и богатства. Религия, которая называет себя религией любви, стала религией ненависти в мире, который кажется созревшим для счастливой жизни. Возможные разрушители современного общественного строя могут рассчитывать на содействие христианства.
Трагично, что как раз величайшие умы церкви, понявшие значение христианской любви и действовавшие по любви, приняли участие в этой работе разрушения. Действовавшие с истинно христианским милосердием священники и монахи, которые несли службу, и учили в госпиталях и тюрьмах, и знали все, что можно знать о страдающем и грешном человечестве, первыми попались на приманку нового евангелия разрушения общества. Только «прямая прививка» либеральной философии могла бы сделать их невосприимчивыми к заразе гнева, который обуревал их подопечных и к тому же находил оправдание в Евангелиях. Они превратились в опасных врагов общества. Из труда милосердия возникла ненависть к обществу.
Многие из этих эмоциональных оппонентов либерального экономического порядка быстро остановились в своем противостоянии. Многие, однако, стали социалистами — конечно, не атеистическими социалистами, как пролетарские социал-демократы, а христианскими социалистами. Но христианский социализм есть все тот же самый социализм.
Социализм заблуждался, когда искал предтеч в общинах первохристиан. Даже «потребительский коммунизм» этих общин исчез, когда ожидания прихода Царства Божия начали отступать на задний план. И социалистические методы производства не пришли ему на смену. То, что производил христианин, было произведено индивидуумом в его собственном хозяйстве. Пожертвования в пользу бедных и на общие нужды, добровольные или принудительные, делались членами церковной общины, которые трудились самостоятельно и с помощью собственных средств производства. Отдельные случаи социалистического производства в христианских общинах первых столетий могли иметь место, но документальных подтверждений тому нет. Нам не известен ни один учитель христианства, который бы советовал поступать так. У апостолов и отцов церкви мы часто встречаем призывы вернуться к коммунизму первых церковных общин, но речь идет всегда о потребительском коммунизме. Они никогда не советовали организовать производство по-социалистически [415*].
Лучшие из проповедей коммунизма принадлежат Иоанну Златоусту. [353] В одиннадцатой проповеди, посвященной деяниям апостолов, святой прославляет потребительский коммунизм первых христианских общин и со всем жаром красноречия призывает вернуться к нему. Он превозносит эту форму коммунизма не только с помощью ссылок на апостолов и их современников, но пытается и рационально обосновать преимущества коммунизма, как он их понимал. Если бы все христиане Константинополя передали свою собственность в общее пользование, тогда всего стало бы так много, что каждый бедный христианин был бы накормлен, и никто не страдал бы от нужды, потому что расходы на совместную жизнь намного меньше, чем расходы на семейное хозяйство. Здесь святой Иоанн обращается к аргументам вроде тех, которыми сегодня доказывают преимущество домов с одной кухней или с коммунальными кухнями, приводя расчеты, насколько экономно совместное ведение домашнего хозяйства и приготовление пищи. Расходы, говорит отец церкви, не будут велики, а обильные запасы, полученные от объединения семейных кладовых, окажутся неисчерпаемыми, особенно если милость Господня к верующим от этого возрастет. Более того, каждый вновь пришедший добавит еще что-то к общим запасам [416*]. Как раз эти трезвые детальные подсчеты показывают, что Златоуст имел в виду только потребительский коммунизм. Его замечания об экономических преимуществах объединения, вершиной которых является утверждение, что разделение на части ведет к умалению, а объединение и сотрудничество — к возрастанию благосостояния, делают честь экономической интуиции автора. Но в целом его предложения демонстрируют полное непонимание проблем производства. Его мысли направлены исключительно на потребление. Он никогда и не задумывался над тем, что производство предшествует потреблению. Все блага следовало передать в общину. Возможно, по примеру Евангелий и Деяний апостолов Иоанн Златоуст предполагал их продажу, после чего община приступает к совместному потреблению. [354] Он не сообразил, что так не может продолжаться вечно. Он полагал, что собранные воедино миллионы — по его оценкам, величина совокупного богатства должна была составить от одного до трех миллионов фунтов золота — не могут быть исчерпаны. Похоже, что экономические прозрения святого шли не дальше, чем мудрость наших политиков, когда они пытаются перестроить всю национальную экономику по образцу системы благотворительной помощи.
Святой Иоанн Златоуст поясняет, что миряне боятся предлагаемого им перехода к коммунизму больше, чем прыжка в море. Но и церковь вскоре отбросила коммунистические идеи. Монастырское хозяйство нельзя рассматривать как образец коммунизма. Монастыри, которым не хватало частных даяний, обычно жили за счет десятины и арендных платежей, а также других доходов от собственности. Очень редко работали сами монахи как члены чего-то вроде производственного кооператива. В целом монастырская жизнь есть идеал, доступный для очень немногих, а монастырское производство не может рассматриваться как образец для всего народного хозяйства. Социализм же есть всеохватывающая система хозяйства.
Христианский социализм своими корнями не связан ни с первоначальной, ни со средневековой церковью. Только в XVI веке христианство, обновленное войнами за веру, начало воспринимать идеи социализма, хотя очень медленно и не без сильной оппозиции.
Современная церковь отличается от средневековой тем, что должна непрерывно вести борьбу за существование. Господства средневековой церкви никто не оспаривал; все, что человек думал, писал или учил, имело своим источником церковь и, в конце концов, к ней же и возвращалось. Духовное наследие классической античности не смогло пошатнуть ее господства, поскольку поколение, воспитанное на феодальных концепциях и идеях, не способно было понять полное значение этого наследия. Но по мере того как развитие общества продвигалось к большей рациональности мышления и действия, попытки людей стряхнуть оковы традиционного понимания последней истины бытия становились все более успешными. Возрождение нанесло удар по корням христианства. Опиравшееся на античную мысль и античное искусство, оно прокладывало для людей пути от церкви или, по крайней мере, мимо нее. Вовсе не намереваясь идти против течения, церковники оказались самыми ревностными протагонистами нового духа. В начале XVI века никто в Европе не был более далек от христианства, чем сама церковь. Казалось, что уже пробил последний час старой веры.
Но началось великое попятное движение, христианское контрнаступление. Оно шло не сверху, не от князей церкви и не из монастырей, на деле оно вообще не имело своим источником церковь. Оно надвинулось на церковь извне, из глуби народной, где христианство еще оставалось движущей силой. Нападение на умирающую церковь с целью ее реформирования шло снизу и извне. Реформация и контрреформация — два великих воплощения церковного возрождения. Они различаются по своим началам и путям, по формам богослужения и доктринам, и прежде всего по государственным и политическим предпосылкам и достижениям, но они едины в своих конечных целях: еще раз утвердить мировой порядок на Евангелиях, восстановить веру как силу, контролирующую умы и сердца людей. Это величайшее из известных в истории восстание веры против мысли, традиции против философии. Его успехи были велики, и оно создало то христианство, которое мы знаем сегодня, нашедшее место в сердце индивидуума, контролирующее совесть и успокаивающее душу. Но полной победы не получилось. Удалось избежать поражения — падения христианства, но противник не был уничтожен. С XVI века эта борьба идей идет, почти не прекращаясь.
Церковь знает, что не может победить, пока не перекроет тот источник, из которого ее противники черпают вдохновение. До тех пор, пока рационализм и духовная свобода продолжают существовать в экономической жизни, церкви никогда не удастся стреножить мысль и направить интеллект в желаемом направлении. Чтобы преуспеть в этом, ей следовало бы сначала достичь господства во всех видах человеческой деятельности. Значит, она не может удовлетвориться положением свободной церкви в свободном государстве; она должна стремиться к господству над государством. И римское папство, и национальные церкви протестантизма сражаются за такое господство, которое позволило бы им управлять всеми мирскими делами в соответствии со своими идеалами. Церковь не может терпеть рядом с собой другой духовной власти. Каждая независимая духовная власть является вызовом ей, угрозой, которая усиливается одновременно с растущей рационализацией жизни.
В условиях анархического способа производства людские души также не признают никакого господства над собой. В наши дни господство над душами может быть достигнуто лишь путем установления господства над производством. Все церкви достаточно давно смутно понимали это, но ясное осознание пришло только тогда, когда социалистическая идея, возникшая из других источников, дала о себе знать как о могущественной и быстро растущей силе. Только тогда до церкви дошло, что теократия возможна лишь в социалистическом обществе.
В одном случае эта идея уже была реализована. Общество Иисуса создало замечательное государство в Парагвае, которое прелестно оживило схематические идеалы республики Платона. Это уникальное государство процветало более столетия и было насильственно разрушено внешними силами. [355] Совершенно ясно, что иезуиты не ставили на этом обществе социальный эксперимент и что они не имели в виду создать образец для других обществ мира. В конечном счете, в Парагвае они осуществили то самое, к чему безуспешно (из-за сильного сопротивления) стремились везде. Они пытались поставить мирян, как больших детей, нуждающихся в опеке, под благодетельный контроль церкви и ее ордена. Ни орден иезуитов, ни какая-либо другая церковная организация с тех пор и не пытались повторить ничего похожего на парагвайский эксперимент. Но вполне ясно, что не только римская католическая церковь, но и все западные церкви стремятся к той же цели. Уберите препятствия, которые церковь встречает сегодня на своем пути, — и ничто не предотвратит повторения парагвайских достижений повсюду.
То, что церковь, вообще говоря, относится к социалистическим идеям отрицательно, не опровергает истинности этих аргументов. Она противостоит любому социалистическому проекту, если он не имеет своей основой церковь. Церковь против социализма, если он будет осуществлен атеистами, потому что тогда будут уничтожены основы ее существования. Но она не имеет ничего против социалистических идеалов, если устранена угроза атеизма. Прусская церковь возглавляет прусский государственный социализм, а Римская католическая церковь повсюду преследует свои особые идеалы христианского социализма.
Перед лицом всех этих несомненных фактов может показаться, что на заданный прежде вопрос должен быть дан только отрицательный ответ: невозможно примирить христианство со свободным экономическим порядком, основанным на частной собственности на средства производства. Кажется, что живое христианство не способно ужиться с капитализмом. Христианство, как это уже было с восточными религиями, должно либо уйти само, либо преодолеть капитализм. А в битве против капитализма сегодня нет более эффективного боевого клича, чем социализм, — ведь идея возвращения к средневековому общественному порядку мало популярна.
Но возможно и другое развитие. Нельзя с определенностью предсказать, как изменятся в будущем церковь и христианство. Папство и католицизм сегодня сталкиваются с проблемами несравненно более трудными, чем те, которые они решали тысячелетия. Самому существованию вселенской церкви угрожает шовинистический национализм. Благодаря утонченному политическому искусству католицизм смог сохранить свои принципы во всех бурях национальных войн, но нынче он должен с каждым днем все яснее сознавать, что его выживание несовместимо с идеями национализма. Если только он не готов исчезнуть и уступить место национальным церквам, католицизм должен вытеснить национализм с помощью идеологии, которая позволит народам совместно жить и мирно трудиться. На этом пути церковь неизбежно должна стать союзницей либерализма. Никакая другая доктрина здесь не поможет.
Если римской церкви суждено найти выход из кризиса, в который ее вверг национализм, она должна быть основательно перестроена. Вполне возможно, что эта трансформация и реформация церкви приведут ее к безусловному признанию незаменимости частной собственности на средства производства. В настоящее время она все еще далека от этого, как свидетельствует недавняя энциклика «Quadragesimo anno». [356]
Глава XXX. Этический социализм и новая критическая философия
1. Категорический императив как основание социализма
Энгельс назвал немецкое рабочее движение наследником немецкой классической философии [417*]. Было бы правильнее сказать, что немецкий (не только марксистский) социализм представляет собой результат упадка идеалистической философии. В Германии умы подчинило социализму истолкование общества, данное великими немецкими мыслителями. От кантовской мистики долга и гегелевского обожествления государства легко проследить линию к социалистической мысли; уже Фихте — чистый социалист. [357]
Оживление кантианского критицизма в недавние десятилетия — это хваленое достижение немецкой философии — пошло на пользу и социализму. Неокантианцы, особенно Фридрих Альберт Ланге и Герман Коген, провозгласили себя социалистами. [358] Одновременно марксисты попытались найти способ примирения с новой критической школой. С тех пор как философские основания марксизма начали рушиться, умножились стремления найти в критической философии подпорку для социалистических идей. [359]
Этика — слабейшая часть системы Канта. Хотя ее наполняет жизнью могучий интеллект Канта, величие отдельных концепций не должно закрывать нам глаза на тот факт, что исходная точка его учения об этике выбрана неудачно, а фундаментальные идеи в этой области ошибочны. Отчаянные попытки подорвать корни эвдемонизма оказались безуспешными. Этические системы Бентама, Милля и Фейербаха возобладали над построениями Канта. Социальная философия его современников — Фергюсона и Адама Смита — прошла мимо него. [360] Экономическая теория так и осталась для него чуждой. Эти недостатки сказались на всех его представлениях о социальных проблемах.
В этом отношении неокантианцы добились не большего успеха, чем их учитель. Им также недостает понимания основного общественного закона — закона разделения труда. Они видят лишь то, что распределение дохода не соответствует их идеалу, что наибольшие доходы достаются вовсе не тем, кого они считают самыми достойными, но презираемым им людям. Они видят бедных и нуждающихся, но не пытаются выяснить, связано ли это с самим институтом частной собственности или же это результат ограничения системы частной собственности. И они сходу проклинают сам по себе институт частной собственности, к которому, другие далеки от деловых забот, никогда не питали симпатий. В познании общества они остаются на уровне поверхностных и внешних явлений. К другим проблемам они подходят спокойно, но здесь их сковывает робость. И это замешательство выдает их тайную склонность. При столкновении с общественными вопросами даже людям с независимым мышлением трудно сохранять беспристрастность. Они начинают вспоминать всех, у кого дела идут лучше; они сравнивают собственную ценность и пустоту других, свою бедность и чужое богатство — и в конечном итоге не разум, а зависть и гнев водят их пером.
Это одно объясняет, почему такие острые умы, как неокантианцы, не разработали те проблемы социальной философии, к которым они одни сумели подойти. В их работах не найти даже подступа к созданию всеохватывающей философии общества. Для них не редкость безосновательная критика некоторых аспектов жизни общества, но при этом они избегают критического сопоставления важнейших систем социологии. Они выносят суждения, даже не познакомившись с достижениями экономической науки.
Исходной точкой их социализма обычно является высказывание: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству». [361] В этих словах, говорит Коген, «выражен сам глубокий и могущественный смысл категорического императива; они заключают в себе нравственную программу современности и всей будущей мировой истории» [418*]. [362] Похоже, что для него от этой мудрости до социализма не столь уж далеко. «Идея выбора гуманизма как цели преобразуется в идею социализма в силу определения каждого индивидуума как конечной цели, как цели в себе» [419*].
Очевидно, что судьба этого этического аргумента в пользу социализма зависит от истинности предположения, что при экономическом строе, основанном на частной собственности на средства производства, все люди или часть их являются средствами, но не целью. Коген считает это совершенно доказанным. Он убежден, что в таком обществе существуют два класса людей — владельцы и неимущие, что только первые ведут существование, достойное человека, а вторые просто играют служебную роль. Легко понять, откуда пришла эта идея. Она покоится на популярных представлениях о взаимоотношениях богатых и бедных и поддерживается марксистской философией общества, к которой Коген питает немалую симпатию, хотя прямо об этом и не говорит. [420*] Коген просто игнорирует либеральную теорию общества. Он считает ее заведомо неосновательной и не желает тратить время на критику. Только отбросив либералистское понимание природы общества и функций частной собственности, можно дойти до утверждения, что в обществе, основанном на частной собственности на средства производства, человек выступает не как цель, а как средство. Ведь либералистская теория общества доказывает, что каждый отдельный человек видит во всех других прежде всего только средство достижения своих целей, но и сам он для всех других есть лишь средство достижения их целей; и наконец, в результате таких взаимных действий, в которых каждый выступает одновременно как цель и как средство, достигается высшая цель общественной жизни — лучшее существование для каждого. Общество возможно, только если каждый, живя своей собственной жизнью, в то же время помогает жить другим, если каждый отдельный человек выступает сразу и как цель и как средство. Когда благополучие каждого является одновременно необходимым условием благополучия других, тогда противоположность между Я и Ты, между средством и целью автоматически устранена. В конце концов, именно на это должно указывать сходство общества с биологическим организмом. В органической структуре никакие части нельзя рассматривать только как средство или как цель. Согласно Канту, «понятие организма уже предполагает, что существует материя, в которой все взаимно связано как цель и средство» [421*]. Кант хорошо понимал природу органической жизни, но не видел — и в этом он далеко отставал от великих социологов, бывших его современниками, — что человеческое общество устроено по тому же принципу.
Телеологический подход, при котором проводят различие между целью и средством, позволителен лишь, когда мы делаем предметом исследования волю и действия отдельного человека или сообщества людей. Как только мы совершаем следующий шаг и обращаем внимание на результаты этого действия для общества, такой подход становится бессмысленным. Для каждого действующего человека существует конечная цель, которую можно понять с помощью концепции эвдемонизма; в этом смысле можно сказать, что каждый человек есть цель для самого себя и цель в себе. Но применительно к обществу это высказывание не имеет никакой познавательной ценности. Здесь понятие цели столь же мало правомерно, как и применительно к другим природным явлениям. Когда мы спрашиваем, что же в обществе является целью или средством, мы в уме подменяем общество, т. е. структуру сотрудничества людей, которых сплачивает превосходство разделения труда над изолированным трудом, структурой, скованной одной волей, а потом уж спрашиваем: какова же цель этой воли? Это мышление никоим образом не социологическое, не научное, а анимистическое.
Любимый аргумент Когена в пользу уничтожения частной собственности показывает полное непонимание им основной проблемы общественной жизни. Вещи, говорит он, имеют стоимость. У личности, однако, нет стоимости — у нее есть достоинство. Рыночная цена, рыночная оценка стоимости труда несовместима с достоинством личности [422*]. Здесь мы сталкиваемся с марксистской фразеологией — с утверждением о непригодности учения о труде как товаре. Эта фраза пробралась в тексты Версальского и Сен-Жерменского договоров в форме требования осуществить основной принцип: «Труд не должен рассматриваться как товар или как предмет торговли» [423*]. [363] Однако довольно об этих схоластических тривиальностях.
После этого нас не должно удивлять повторение Когеном всех тех лозунгов, которые тысячелетиями выдвигали против частной собственности. Он отрицает собственность, потому что собственник, установив контроль над отдельным действием, становится фактически собственником личности [424*]. Он отрицает собственность, потому что с ее помощью у рабочего отнимают продукт его труда [425*].
Очевидно, что предъявляемые кантовской школой аргументы в пользу социализма всегда возвращают нас к экономическим теориям различных социалистических авторов, и прежде всего к Марксу и следовавшим за ним «академическим» социалистам. У них нет других аргументов, кроме экономических и социологических, а эти совершенно несостоятельны.
2. Трудовой долг как основание социализма
«Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь», говорится во Втором послании к фессалоникийцам, приписываемом апостолу Павлу. [426*] Это увещевание о необходимости трудиться обращено к тем, кто желал жить своим христианством за счет трудящихся членов церковной общины: они должны обеспечивать себя сами, не обременяя своих ближних. [427*] Вырванное из контекста, это изречение давно уже истолковывается как отрицание нетрудового дохода. [428*] Здесь дано в самой краткой форме издавна превозносимое правило морали.
Ход мыслей, который привел людей к этому принципу, можно проследить по высказыванию Канта: «Человек может быть сколь угодно изобретателен, но он не может навязать природе другие законы. Либо он должен работать для себя, либо за него будут работать другие, и тогда его досуг отнимет у других столько же довольства, сколько нужно, чтобы его собственное было выше среднего» [429*].
Важно отметить, что Канту приходится обосновывать косвенное отрицание частной собственности, скрытое в этих словах, с помощью утилитаристского или эвдемонистического подхода. Фактически он утверждает, что в результате существования частной собственности некоторым приходится работать больше, а другие бездельничают. Я не опровергаю утверждение, что частная собственность и имущественное неравенство отнимают у одних в пользу других, но повторяю, что при общественном строе, где такое не позволено, выпуск продукции сократится настолько, что производство на душу окажется меньшим, чем доход неимущего работника при строе частной собственности на средства производства. Кантовская логика разваливается, как только опровергается утверждение, что досуг имущих оплачен дополнительным трудом неимущих. Такой направленный против частной собственности этический аргумент отчетливо демонстрирует, что все моральные оценки экономических отношений покоятся в конечном счете на политико-экономическом суждении об эффективности — и ни на чем другом. Отрицать только на «моральном основании» институт, который не был рассмотрен с утилитарной точки зрения, — это, если быть добросовестным, далеко неэтично. В действительности во всех случаях, когда мы имеем дело с предосудительной оценкой, оказывается, что на деле она связана с воззрениями на экономические причинные взаимосвязи.
Этого не заметили только потому, что частную собственность защищали от морализаторской критики с помощью неадекватных аргументов. Вместо доказательства общественной эффективности частной собственности взывали к праву собственности или доказывали, что собственник также не тунеядец, поскольку приобретает собственность трудом и работает для ее сохранения, и т. п. Неубедительность этих аргументов очевидна. Абсурдно ссылаться на существующие законы, когда вопрос стоит — каким должен быть закон. Нелепо указывать на нынешний или прошлый труд собственника, когда речь идет не о том, оплачивать эту работу или нет, а о том, существовать ли вообще частной собственности на средства производства, и если да, то может ли быть терпимо неравенство собственности.
Обсуждение, справедлива или нет такая-то цена с этической точки зрения, совершенно невозможно. Этическое суждение должно сделать выбор между общественным устройством, основанным на частной собственности на средства производства, и таким, которое основано на общественной собственности. Когда этот выбор сделан, — а в рамках эвдемонистической этики он может основываться только на оценке достижений каждого вида общественного устройства, — становится невозможной оценка тех или иных сторон выбранного порядка как аморальных. То, что необходимо для существования общественного строя, и является моральным, а все остальное — аморально.
3. Равенство доходов как этический постулат
Мало что существенное может быть сказано как в поддержку, так и в отрицание требования о равенстве доходов. Этот этический постулат допускает только субъективную оценку. Наука может только показать, во что обойдется выполнение этого требования, какими целями нам придется пренебречь ради достижения одной этой.
Большинство людей не осознают, что требуемое ими равенство доходов может быть достигнуто только за счет отказа от других целей. Они воображают, что сумма доходов останется неизменной, и все, что нужно, — это более равномерное, чем при господстве частной собственности, распределение. Богатые откажутся от излишков, а бедные получат недостающее, и все доходы сравняются со средними по величине. А сам средний доход при этом не изменится. Нужно ясно понимать, что в основе этой идеи лежит ошибочное предположение. Было ясно показано, что каким бы путем ни двигаться к равенству доходов, результатом всегда и везде будет очень существенное сокращение национального дохода, а значит, и среднего дохода. Доказанность этого факта изменяет всю постановку вопроса. Ведь теперь нам нужно сделать выбор: принимаем ли мы равное распределение доходов при сокращении среднего дохода или мы выбираем неравенство при более высоком среднем доходе.
Решение, конечно, будет зависеть от оценки сокращения среднего дохода в результате перераспределения. Если мы придем к выводу, что средний доход станет меньше, чем сегодня получают беднейшие, наше отношение будет, наверное, иным, чем отношение большинства социалистов сентиментального типа. Если для нас убедительно то, о чем говорилось во второй части этой книги:
очень низкая производительность социалистического труда и особенно невозможность экономического расчета при социализме, тогда этот аргумент этического социализма также рассыпается.
Неправда, что бедность существует из-за богатых. [430*] Если на смену капитализму придет строй равенства доходов, все станут беднее. Хоть это и звучит парадоксально, бедные получают то, что имеют, только благодаря богатым.
Если мы отвергаем аргумент в пользу трудовой повинности, в пользу равенства имущества и доходов, аргумент, основанный на утверждении, что досуг и богатство некоторых существуют за счет дополнительного труда и бедности остальных, тогда исчезают все основания у этих этических постулатов, кроме, пожалуй, одного морального негодования. Никто не должен бездельничать, когда я вынужден работать; никто не должен быть богатым, если я беден. Вот так вновь и вновь мы убеждаемся, что в основе всех социалистических идей лежит возмущение.
4. Этико-эстетическое осуждение мотива прибыли
Другой упрек, который философы бросают капитализму состоит в том, что он поощряет разрастание приобретательского инстинкта. Человек, говорят они, перестает быть господином экономического процесса и становится его рабом. Забытым оказывается, что хозяйственная деятельность нужна только для удовлетворения нужд и является средством, а не самоценной целью. Жизнь изнашивает себя в постоянной спешке и погоне за богатством, и у человека не остается времени для внутреннего сосредоточения и настоящих наслаждений. Свои лучшие силы он истощает в ежедневной борьбе на арене свободной конкуренции. Эти идеологи мысленно всегда в отдаленном, романтически преображенном прошлом. Они видят дивные картинки, рождающие глубокую нежность к прошлому: римского патриция в его загородном поместье, мирно размышляющего над проблемами стоицизма [365]; средневекового монаха, который делит свое время между молитвами и чтением античных авторов; князя времен Возрождения, при дворе которого собираются художники и ученые; знатную даму периода Рококо, в салоне которой энциклопедисты развивают свои идеи. [366] Отвращение к настоящему только углубляется, когда мы от этих видений обращаемся к малокультурной жизни наших современников.
Слабость этого аргумента, обращенного скорее к чувствам, чем к уму, не только в том, что сравниваются лучшие цветы былого и сорняки современной жизни. Ведь ясно, что непозволительно сопоставлять жизнь Перикла или Мецената с жизнью обычного человека улицы. [367] Но так же неверно и то, что суета современной деловой жизни убила в человеке чувство прекрасного и возвышенного.
Богатство «буржуазной» цивилизации не растрачено на одни чувственные удовольствия. И если нужны этому доказательства, достаточно напомнить, как в последние десятилетия стала популярной серьезная музыка, особенно в тех классах населения, которые захвачены вихрем деловой жизни. Никогда прежде искусство не затрагивало сердца столь большого круга людей. То, что грубые и вульгарные развлечения больше привлекают массы, чем благородные формы досуга, вовсе не исключительная особенность современности. Так было во все времена. Мы можем быть уверены, что и в социалистическом обществе далеко не всегда будет господствовать хороший вкус.
У современного человека перед глазами возможность разбогатеть трудом и предприимчивостью. В более косной экономике прошлого это было не так легко. Люди были богаты или бедны от рождения и сохраняли свое положение до конца жизни, если только не случалось что-то неожиданное, чего нельзя было изменить собственным трудом и предприимчивостью. На вершинах жизни пребывали богачи, на дне — бедняки. В капиталистическом обществе все не так. Богатым стало легче обеднеть, а бедным — обогатиться. А поскольку судьба индивидуума или его семьи не предопределена от рождения, как прежде, он старается изо всех сил подняться вверх. Он никогда не будет достаточно богат, поскольку в капиталистическом обществе никакое богатства не вечно. В прошлом феодальному владыке ничто не могло повредить. Когда его земли теряли плодородие, его доходы сокращались, но, пока он не влезал в долги, собственность оставалась при нем. Капиталист, отдающий капитал в ссуду, и производящий предприниматель испытываются рынком. Кто неразумно вкладывает деньги или производит слишком дорого, разоряется. Даже вложенному в землю богатству не избежать влияния рынка; аграрий также должен производить по-капиталистически. Сегодня человек должен приобретать или становиться бедным.
Те, кто желает устранить это принуждение к труду и предприимчивости, должны понимать, что вместе с тем буду! похоронены основы нашего благосостояния. В 1914 г. земля кормила гораздо больше обитателей, чем когда-либо прежде, и они все жили гораздо лучше своих предков только в силу господства стремления к приобретательству. Если деловую активность современности сменить на созерцательную жизнь прошлого, бесчисленные миллионы будут обречены на голодную смерть.
В социалистическом обществе напряженная деятельность современных учреждений и заводов сменится господской праздностью правительственных канцелярий. Место энергичного предпринимателя займет государственный чиновник. Выиграет ли от этого цивилизация? Действительно ли бюрократ представляет собой лучший образец человека, и следует ли нам любой ценой стремиться к тому, чтобы люди его типа заселили землю?
Многие социалисты с восторгом описывают преимущества общества, созданного бюрократами, над обществом, в котором господствует погоня за прибылью [431*]. В обществе второго типа (Acquisitive Society) [368] каждый гонится только за собственной выгодой; в обществе служащих (Functional Society) [369] каждый выполняет свой долг на службе общему. Повышенная оценка чиновного мира, если только она не основывается на ложном понимании системы частной собственности, есть просто новая форма презрения к усердному труду, которое всегда было свойственно феодальным владыкам, воякам, литераторам и богеме.
5. Культурные достижения капитализма
Внутренняя неясность и неистинность этического социализма, его логическая непоследовательность и недостаток научной критики характеризуют его как философию периода упадка. Это духовное выражение упадка европейской цивилизации на рубеже XIX и XX столетий. В результате немецкий народ, а с ним и все человечество были стянуты с высот расцвета к глубочайшему унижению. Упадок создал интеллектуальные и духовные предпосылки для мировой войны и большевизма. Теории насилия торжествовали в великой резне 1914–1918 гг., завершившей период высочайшего расцвета культуры, который только знала мировая история.
В этическом социализме соединяются дурное понимание механизма общественного сотрудничества с негодованием тех, кому не повезло. Неспособность разобраться в трудных проблемах общественной жизни придает его сторонникам самоуверенность и беззаботность, с которыми они рассчитывают играючи решить любые вопросы. Гнев придает силы их возмущению, которое всегда уверено в поддержке единомышленников. Пламенность риторики возникает из-за романтического восторга перед необузданностью. В каждом человеке живет глубоко укорененное желание освободиться от социальных уз; это желание слито с тоской по жизни, в которой возможно полное удовлетворение всех вообразимых нужд и потребностей. Разум учит не давать воли страсти к необузданности, если мы не хотим впасть в тягчайшую нищету, и напоминает нам, что полное удовлетворение желаний недостижимо. Там, где разум не справляется со своим делом, открывается дорога романтизму. Антиобщественное в человеке празднует победу над разумом.
Романтическое движение, обращающееся прежде всего к воображению, богато словами. Цветистая прелесть его мечтаний не сравнима ни с чем. Его восторги порождают бесконечные страстные желания, его проклятия возбуждают омерзение и презрение. Оно устремлено к преображенному мечтой прошлому, которое воспринимается без должной трезвости, и к сверкающему всеми красками будущему. Мир между прошлым и будущим романтики рассматривают трезво — как трудовую повседневность буржуазного общества, к которому они испытывают только ненависть и отвращение. В буржуазии они видят воплощение всего постыдного и мелочного. Скитаясь по миру, романтики славят все времена и страны, но никогда не проявляют понимания и уважения к своему времени и к своей стране.
Великие творческие умы, кого мы почитаем как классиков, понимали глубокое значение буржуазного строя жизни. У романтиков отсутствовало это понимание. Они слишком дети, чтобы петь песни буржуазного общества. Они высмеивают буржуа, презирают «мораль лавочников», свысока относятся к законам. Их исключительно острое зрение замечает все недостатки повседневной жизни, и они проворно объясняют их пороками общественных установлении. Ни один романтик не почувствовал величия капиталистической культуры. Сравните достижения этой «морали лавочников» с достижениями христианства! Христианство мирилось с рабством и полигамией, практически канонизировало войну, во имя Божие сжигало еретиков и опустошало целые страны. Многократно осмеянные «лавочники» уничтожили рабство и крепостничество, дали женщинам равные с мужчиной права, провозгласили равенство перед законом, свободу мысли и слова, объявили войну войне, искоренили пытки и смягчили жестокость наказаний. Какая другая культурная сила может гордиться подобными достижениями? Буржуазная цивилизация создала и распространила благосостояние, по сравнению с которым придворная жизнь прошлых веков кажется убогой. Перед войной даже необеспеченные классы городского населения были способны достойно кормить и одевать себя, имели возможность приобщения к подлинному искусству, могли совершать путешествия. Романтики, однако, видели только самых обездоленных, дела которых шли нехорошо потому, что буржуазная цивилизация еще не создала достаточного богатства, чтобы обеспечить благосостояние всех. Романтики и видеть не желали тех, чье положение было уже благополучным. [432*] У них перед глазами неизменно стояли только грязь и убожество, унаследованные капиталистической цивилизацией у прошлых веков, но не то ценное, чего уже удалось достичь.
Глава XXXI. Экономическая демократия
1. Лозунг «экономическая демократия»
Один из важнейших аргументов в пользу социализма выражен лозунгом «самоуправление в промышленности». Как в политической сфере королевский абсолютизм был сломлен правом народа на участие в принятии решений, а затем и всевластием народа, так и абсолютизм собственников средств производства и предпринимателей должен быть устранен натиском рабочих и потребителей. Демократия неполна, пока каждый должен подчиняться диктатуре собственников. Худшая черта капитализма, конечно, не разница в доходах; еще менее терпима та власть над согражданами, которую неравенство доходов дает капиталисту. Пока сохраняется такое положение дел, не может быть и речи о свободе личности. Народ должен взять управление хозяйством в свои руки так же, как он взял в свои руки управление государством. [433*]
В этой аргументации есть двойная ошибка. Неверно освещаются, с одной стороны, природа и функции политической демократии, а с другой — природа общественного строя, основанного на частной собственности на средства производства.
Мы уже показали, что существо демократии не в избирательной системе, не в спорах и резолюциях национальных советов, не в любого сорта комитетах, назначаемых этими советами. Это всего лишь технические вспомогательные средства политической демократии. Ее реальная функция — миротворчество. Демократические институты делают волю народа действенной в политических вопросах тем, что администраторы и руководители избираются людьми. Таким образом устраняется та опасность для мирного развития общества, которая может возникнуть из столкновения воли руководителей и общественного мнения. Гражданская война предотвращается деятельностью институтов, которые облегчают мирную смену лиц, стоящих у руководства. В условиях частной собственности на средства производства успешное хозяйствование обходится без особых установлении, подобных созданным политической демократией для достижения успеха. Свободная конкуренция делает все, что нужно. Все производство направляется волей потребителя. Как только оно перестает удовлетворять запросам потребителей, оно становится нерентабельным. Свободная конкуренция делает производителя послушным воле потребителей, а также в случае необходимости передает средства производства из рук тех, кто не желает или не способен удовлетворить спрос, в руки тех, кто может лучше управлять производством. Потребитель — господин производства. С этой точки зрения капиталистическое общество является демократией, в которой каждый грош является бюллетенем для голосования. Это демократия с постоянно действенным безусловным мандатом на отзыв своих депутатов. [434*]
Это потребительская демократия. Производители сами по себе не имеют возможности выбирать направление производства. Для предпринимателя это столь же верно, как и для рабочего; оба должны покориться в конечном итоге желаниям потребителя. Иначе это и быть не может. Люди производят не ради производства, но ради тех благ, которые пригодны для потребления. В экономике с разделением труда производитель есть простой агент общества, и как таковой он должен ему покорствовать. Только потребителю дана власть командовать.
Предприниматель, таким образом, является не более чем надсмотрщиком на производстве. У него, конечно, есть власть над работниками. Но он не может использовать ее произвольно. Он должен употреблять ее в соответствии с требованиями той производственной деятельности, которая отвечает желаниям потребителей. Отдельному наемному работнику, чье понимание замкнуто узким горизонтом ежедневной работы, решения предпринимателя могут показаться произволом, капризом. С близкого расстояния нельзя охватить общую картину и план всей деятельности. Если распоряжения предпринимателя ущемляют сиюминутные интересы рабочего, ему эти решения представляются, конечно, необоснованными и произвольными. Он не понимает, что предприниматель работает в строгих рамках закона. Конечно, предприниматель волен дать полную свободу своим причудам: по капризу выгонять рабочих, тупо держаться за устаревшие процессы, сознательно выбирать неподходящие методы производства и позволять себе действовать вопреки запросам потребителей. Но ему приходится платить за это, и если он вовремя не остановится, то будет перемещен в результате утраты собственности на такую позицию, где больше не сможет вредить. Нет нужды в особых методах контроля за его поведением. Рынок следит за ним строже и точней, чем могло бы это делать любое правительство или другой общественный орган. [435*]
Любая попытка заменить это правление потребителей господством производителей абсурдна. Это бы противоречило всем целям производства. Мы уже рассматривали детально пример такого рода, причем самый важный для современных условий, — пример синдикалистской экономики. Что верно для нее, справедливо и для всякой политики производителей. Бессмысленность стремлений достичь «экономической демократии» через создание институтов синдикалистской экономики становится ясной, если мы вообразим, что эти институты перенесены в область политики. Например, было бы демократичным, если бы от судьи зависело, как и какой закон применить? Если бы солдаты решали, кому и как командовать армией? Нет, судьи и солдаты должны подчиняться закону, чтобы государство не выродилось в произвольную деспотию. Лозунг «промышленное самоуправление» есть чудовищнейшее извращение природы демократии.
И в социалистическом обществе не рабочие отдельных отраслей решают, что следует делать в их области хозяйствования, но высшее государственное руководство. Если бы это было не так, мы бы имели не социализм, а синдикализм, а между этими двумя никакой компромисс невозможен.
2. Потребитель как решающий фактор производства
Людям стараются внушить, что ради собственных интересов предприниматели ведут производство вопреки интересам потребителей. Предприниматели, не колеблясь, могут «создать или усилить потребность публики в вещах, дающих простое чувственное удовольствие, но при этом вредных для физического или духовного здоровья». Говорят, например, что борьба с пьянством, этой ужасной угрозой национальному здоровью и благополучию, затруднена противодействием «сплоченных интересов алкогольного капитала всем попыткам сократить алкоголизм». Привычка к курению не «расширялась бы так быстро среди молодежи, если бы не было экономической заинтересованности в ее распространении». «Предметы роскоши, всякого рода мишура и побрякушки, дрянные и непристойные публикации» сегодня «навязываются публике ради прибыли производителей или надежд на нее» [436*]. Все знают, что широкомасштабное вооружение государств, да и сами войны приписываются махинациям «военно-промышленного капитала».
Предприниматели и капиталисты в поисках возможностей капиталовложений обращаются к тем отраслям производства, где рассчитывают получить наибольшую прибыль. Они стремятся оценить будущие потребности потребителей, чтобы иметь общее представление о спросе. Поскольку капитализм постоянно создает новое богатство для всех и при этом расширяет круг удовлетворяемых желаний, потребители часто получают возможность насытить прежде не замечавшиеся потребности. Поэтому особой задачей капиталистического предпринимателя становится выявление новых желаний. Вот что имеют в виду, когда говорят, что капитализм создает потребности, чтобы потом удовлетворять их.
Природа того, что желанно потребителю, не заботит предпринимателя и капиталиста. Они просто его послушные слуги, и не их дело предписывать, чем ему услаждать себя. Если он хочет, ему дадут яд и смертельное оружие. Но ничто не может быть ошибочнее предположения, что товары, служащие дурным или опасным целям, приносят дохода больше, чем те, которые служат благим целям. Наивысшую прибыль приносит то, что пользуется наивысшим спросом. Охотник за прибылью производит те товары, по которым существует наибольшая диспропорция между спросом и предложением. Конечно, раз уж он вложил свой капитал, он заинтересован в возрастании спроса. Он пытается расширить. продажу. Но он не может сколько-нибудь долго противодействовать изменению потребностей потребителя. Точно так же не может он долго получать слишком большую выгоду от роста спроса на его продукт, поскольку другие предприниматели устремляются в его отрасль и в результате снижают прибыль до средней величины.
Человечество потребляет алкоголь не потому, что существуют пивоварни и заводы по производству водки и вин; люди варят пиво, гонят спирт и изготовляют вина ради спроса на алкогольные напитки. «Алкогольный капитал» виноват в пьянстве не больше, чем в сочинении пьяных песен. Капиталист, имеющий долю в пивном и спиртоперегонном заводах, предпочел бы долю в издательской фирме, выпускающей религиозную литературу, если бы спрос на «спиритуальное» был больше, чем на спиртное. Не «военно-промышленный капитал» создал войны -- это войны породили «военно-промышленный капитал». Не Крупп и не Шнейдер подстрекают народы к войне, а империалистически настроенные писатели и политики. [370]
Если кто-то считает алкоголь и никотин вредными, пусть воздерживается. Пусть попытается, если хочет, обратить к воздержанию своих ближних. Ясно одно, в капиталистическом обществе, основным принципом которого является самоопределение и ответственность каждого индивидуума, он не может никого против воли принудить к отказу от никотина и алкоголя. Если невозможность подчинить других своим желаниям вызывает у него сожаление, пусть утешится хотя бы той мыслью, что и сам он защищен от командования других.
Некоторые социалисты упрекают капитализм в первую очередь в непомерном разнообразии благ. Вместо изготовления однообразной продукции с громадной экономией на масштабах производства идет выпуск сотен и тысяч разновидностей каждого товара, что сильно удорожает изделия. Социализм будет выпускать в оборот только однообразные товары; он унифицирует производство и тем самым увеличит производительность народного труда. Одновременно социализм уничтожит изолированные домашние хозяйства и вместо них заведет коммунальные кухни и меблированные комнаты, как в отелях. Это также увеличит общественное богатство, устранив растрату труда в крошечных кухнях, которые обслуживают всего нескольких потребителей. Во многих социалистических писаниях, особенно у Вальтера Ратенау, эти идеи разработаны очень детально [437*]. [371]
При капитализме каждый покупатель должен решать, предпочитает ли он дешевые товары однообразного массового производства или более дорогие вещи, произведенные специально на вкус отдельных людей или небольших групп. Конечно, существует тенденция к постепенной унификации и стандартизации производства и потребления. Исходные материалы производственных процессов с каждым днем становятся более стандартизированными. Разумный предприниматель быстро обнаруживает преимущества стандартного сырья: меньше издержки на приобретение, большие возможности замены, а приспособляемость к другим производственным процессам выше, чем у нестандартизованных продуктов. Стандартизация орудий производства сегодня затрудняется прямой или косвенной социализацией многих предприятий. Поскольку они лишены рационального управления, нет упора на преимущества стандартизации. Армейское начальство, администрация отделов муниципального строительства, сотрудники управления государственными железными дорогами и другие чиновники с бюрократическим упрямством сопротивляются внедрению типовых материалов и оборудования. Унификация машин, фабричного оборудования и полуфабрикатов не требует перехода к социализму. Напротив, капитализм для своих нужд делает все это быстрее.
Иначе обстоит дело с потребительскими благами. Если человек потворствует своему особому, личному вкусу вместо того, чтобы использовать однообразные продукты массовой промышленности, и готов за это платить дополнительно, нельзя счесть его неправым. Если мой друг предпочитает одеваться, содержать квартиру и питаться по-своему, а не как все остальные, кто может его в этом упрекнуть? Ведь его довольство определяется удовлетворением его желаний; он желает жить как ему нравится, а не как я или другие жили бы на его месте. Имеют значение здесь его ценности и предпочтения, а не мои и не других людей. Может быть я сумею доказать ему, что суждения, на которых он основывает свою шкалу ценностей, ложны. Например, я смогу продемонстрировать, что выбранная им пища имеет меньшую питательную ценность, чем он думает. Но если в основе его ценностей лежат не ложные представления о соотношении причин и следствий, а чувства и переживания, мои аргументы ни к чему. Если при всех преимуществах коммунальных кухонь и жизни в отелях он все-таки предпочитает отдельное жилище, если такие сантименты как «собственный дом» и «собственный очаг» значат для него больше, чем доказательства пользы единства и однообразия, тогда больше не о чем говорить. Если он намерен меблировать жилище по собственному вкусу, а не в соответствии с общественным мнением, направляемым фабрикантом мебели, тогда нечем опровергнуть его выбор. Если, зная о действии алкоголя, он продолжает пить, поскольку готов платить еще дороже за получаемое удовольствие, я могу со всей определенностью с точки зрения моих ценностей назвать его неразумным, но здесь его воля и его ценности решают дело. Если я как единоличный диктатор или как член деспотически правящего большинства запрещу употребление алкоголя, я этим не увеличу производительность общественного производства. Кто не одобряет алкоголь, тот и без всякого запрета не станет его употреблять. Для всех других запрет того, что ценится ими превыше всего, означает ухудшение их обеспечения.
Противопоставление производительности и прибыльности, которое, как мы показали в предыдущей главе, совершенно бесполезно для понимания функционирования производства, направленного к заданным целям, должно непременно привести к ложным заключениям, если его применить к целям экономических действий [438*]. Имея ряд средств для достижения заданной цели, можно сказать, что тот или иной процесс более практичен, т. е. способен принести больший доход. Но если мы задаемся вопросом, какое именно средство даст больший непосредственный рост благосостояния индивидуума, то в нашем распоряжении нет объективных способов оценки. Здесь решает субъективная воля человека. Воду, молоко или вино выбирают не ради их физиологического действия, а оценивая ощущения от этого действия. Если кто-то пьет вино, а не воду, нельзя сказать, что он действует иррационально. Единственное, что я мог бы сказать, — что на его месте пил бы иное. Но его стремление к счастью есть его дело, а не мое.
Если социалистическое общество снабжает товарищей не тем, чего им хочется, а тем, что выбрал для их радости правитель, сумма удовлетворения не растет, а уменьшается. Конечно же, такое притеснение индивидуальной воли никак нельзя назвать «экономической демократией».
Существенное различие между капиталистическим и социалистическим производством в том, что при капитализме человек заботится о себе сам, а при социализме это делают за него другие. Социалисты хотели бы кормить и одевать человечество и предоставлять ему кров. Но человек предпочитает есть, пить, одеваться, жить и искать счастье на собственный манер.
3. Социализм как выражение воли большинства
Число наших современников, которые выбрали социализм потому, что его уже выбрало большинство, довольно велико. Постоянно приходится слышать:
«Большинство людей хотят социализма, массы больше не поддерживают капиталистический общественный строй, значит, мы должны провести обобществление». Но в глазах противников социализма этот аргумент неубедителен. Конечно, если большинство хочет социализма, мы получим социализм. Никто не показал яснее, чем либеральные философы, что нет преград общественному мнению и что решения принимает большинство, даже если оно заблуждается. Если большинство совершает ошибку, меньшинство также страдает от последствий и не может жаловаться. Разве они также не повинны в ошибке, поскольку не сумели просветить большинство?
Но при обсуждении того, что же делать, аргумент, что большинство энергично требует социализма, будет весомым, только если социализма будут желать ради него самого, видя в нем конечную цель. Но это ведь совсем не так. Подобно всем другим формам организации общества социализм есть только средство, а не цель в себе. Стремящиеся к социализму подобно отвергающим его хотят благосостояния и счастья, и они стали социалистами лишь потому, что верят в социализм как в надежнейший путь достичь всего этого. Если бы они были убеждены, что либеральный строй общественной жизни лучше поможет удовлетворению их желаний, они стали бы либералами. Утверждение, что надо быть социалистом, поскольку массы требуют социализма, есть наихудший из возможных аргументов против врагов социализма. Воля народа -- высший закон для его представителей, которые должны его исполнять. Но желающий быть властителем мысли не должен связывать себя этой волей. Он — пионер, первопроходец, пытающийся переманить граждан на свою точку зрения. Утверждение, что нужно покориться массам, есть не что иное, как требование ко всем тем, кто еще противопоставляет социализму данные критического мышления, отречься от разума. Сама возможность выдвижения такого аргумента показывает, сколь далеко зашла социализация интеллектуальной жизни. В самые темные эпохи ранней истории такие аргументы не использовались. Тем, кто не соглашался с предрассудками подавляющего большинства, никогда не говорили, что их мнение ошибочно только потому, что большинство думает иначе.
Если социализм не может быть построен по внутренним причинам, никакое стремление большинства народа к социализму не поможет ему реализоваться.
Глава XXXII. Капиталистическая этика
1. Капиталистическая этика и нереализуемость социализма
В изложениях доктрин этического социализма постоянно встречается утверждение, что он предполагает нравственное очищение человека. Пока нам не удастся поднять нравственный уровень массы, нельзя будет реализовать социалистические идеи на практике. Трудности построения социализма исключительно или большей частью связываются с нравственным несовершенством человека. Некоторые писатели сомневаются, чтобы когда-либо удалось преодолеть это препятствие; другие ограничиваются утверждением, что социализм невозможен ни сегодня, ни в ближайшем будущем.
Мы сумели показать, где следует искать причины невозможности социалистической экономики: они не в нравственном несовершенстве человека, а в интеллектуальной неразрешимости проблем, порождаемых социалистическим общественным порядком. Нереализуемость социализма обосновывается доказательствами, взятыми не из нравственной, а из интеллектуальной сферы. Поскольку в социалистическом обществе невозможно проведение экономических расчетов, в нем невозможно ведение общественного хозяйства. Даже ангелы, будучи наделены только человеческим разумом, не смогли бы построить социализм.
Если бы социалистическое общество могло осуществлять экономические расчеты, социализм стал бы реален безо всяких изменений в нравственной природе человека. В социалистическом обществе господствовали бы иные нравственные нормы, чем в обществе с частной собственностью на средства производства. Общество требовало бы от индивидуума других временных жертв. Но при возможности осуществлять в социалистическом хозяйстве проверку тех или иных процессов объективным расчетом, внедрить в жизнь кодекс социалистической морали было бы не сложнее, чем кодекс морали капиталистической. Если бы социалистическое общество смогло для каждого устанавливать результат его труда, можно было бы рассчитать его долю в общественном продукте и определить ему вознаграждение пропорционально вкладу в производство. При таких условиях социализм мог бы не бояться, что товарищ не проявит наибольшего усердия из-за отсутствия каких бы то ни было стимулов, услащающих тяготы труда. Именно из-за невозможности всего этого социализму придется для своей утопии создать новый тип человека, для которого, в отличие от ныне населяющего землю труд не тягость и мука, а радость и удовольствие. Из-за невозможности социалистического экономического расчета утопический социалист предъявляет спрос на человека со свойствами, противоположными существующим. Неадекватность человеческой природе как причина краха социализма кажется чем-то относящимся к нравственной сфере, но при более пристальном внимании выясняется, что это проблема интеллектуальная.
2. Предполагаемые недостатки капиталистической этики
Действовать разумно — значит жертвовать менее важным в пользу более важного. Мы приносим временные жертвы, когда отказываемся от меньшего ради большего, когда воздерживаемся от удовольствия выпить, чтобы не мучиться с похмелья. Человек принимает на себя тяготы труда, чтобы избежать голода.
Нравственным поведением мы называем временные жертвы в интересах общественного сотрудничества, которое является основным средством удовлетворения человеческих нужд и поддержания жизни. Все этические нормы являются этическими нормами общественной жизни. (Мы не станем оспаривать утверждений, что рациональное поведение, направленное исключительно к собственному благу, также следует считать этичным и что можно говорить об индивидуальной этике и долге перед самими собой; может быть, такой способ выражения лучше, чем наш, подчеркивает фундаментальную однородность норм индивидуального здоровья и общественной этики.) Действовать нравственно — значит жертвовать менее важным для более важного, делая тем самым возможным общественное сотрудничество.
Фундаментальный дефект большинства антиутилитаристских систем этики лежит в неверном понимании смысла требуемых моралью временных жертв. Они не думают о целях, ради которых приносятся жертвы, а в результате приходят к абсурдному предположению, что жертвы и самоотречение имеют нравственную ценность сами по себе. Они объявляют абсолютными нравственными ценностями неэгоистичность и самопожертвование и направляющие их любовь и сострадание. Наделить нравственным смыслом страдание, сопровождающее самопожертвование, просто в силу того, что оно болезненно, — почти то же самое, что объявить моральным всякое действие, приносящее действующему боль.
В этой путанице понятий — причина того, что разнообразные чувства и действия, нейтральные или даже вредные в социальном плане, оцениваются порой как нравственные. И все же при такого рода размышлениях нельзя хоть украдкой не вернуться к идеям утилитаризма. Если мы не желаем восславить сострадание врача, который не делает спасительную для жизни операцию, чтобы не лишить пациента возможности пострадать, и, таким образом, вводим различение между истинным и ложным состраданием, мы все-таки возвращаемся к тому, чего хотели избежать, — к оценке целесообразности действия. Восхваление неэгоистичных поступков вовсе не исключает целевой установки людей на благосостояние. Возникает утилитаризм с обратным знаком: нравственным должно считаться то, что приносит выгоду не самому действующему лицу, а другим. Так возникает этический идеал, несовместимый с миром, в котором мы живем. Осудив общество, построенное на «собственном интересе», моралист изобретает другое, в котором человек будет соответствовать требованиям идеала. Он начинает с отрицания существующего мира и его законов; он желает создать мир, соответствующий его ложным теориям, и все это он называет утверждением нравственного идеала.
Человек не делается чудовищем просто потому, что хочет получать удовольствия и избегать боли, -- другими словами, хочет жить. Отказ, самопожертвование и воздержание сами по себе не являются чем-то хорошим. Осуждение этических норм, требуемых общественной жизнью капиталистического общества, и установление вместо них норм нравственного поведения, которые кажутся необходимыми и полезными при социализме, -- это просто чистый произвол.
ЧАСТЬ V. ДЕСТРУКЦИОНИЗМ
Глава XXXIII. Побудительные мотивы деструкционизма
1. Природа деструкционизма
Для социалиста утверждение социалистического строя представляется переходом от иррациональной экономики к рациональной. При социализме анархия производства сменяется плановым управлением хозяйством; на месте общества конфликтующих, неразумных и стремящихся лишь к собственной выгоде индивидов возникает общество, олицетворяющее разум. Вместо несправедливого распределения благ устанавливается справедливость. Вместо нужды и нищеты воцаряется всеобщее благосостояние. Перед нами картинка райской жизни, которую в соответствии с законами исторического развития обретем если не мы, то наши потомки. Ведь вся история вела к этой земле обетованной, и все прошлое было только подготовкой путей нашего спасения.
Так представляют себе социализм наши современники, и они верят в него. Неправильно полагать, что социалистическая идеология господствует только в тех партиях, которые называют себя социалистическими, или, что обычно означает то же самое, «социальными». Все современные политические партии насыщены главными идеями социализма. Даже самые стойкие оппоненты социализма оказались под его обаянием. Они также убеждены, что социалистическая экономика более рациональна, чем капиталистическая, что она гарантирует более справедливое распределение дохода, что историческое развитие неизменно толкает человека в этом направлении. Они противостоят социализму с чувством, что защищают при этом эгоистические частные интересы, что победа их противника желательна с точки зрения общественного благосостояния, что социализм строится на единственно приемлемых этических принципах. И в глубине своих сердец они убеждены, что сопротивление безнадежно.
При всем при этом социалистическая идеология есть не что иное, как грандиозная рационализация мелких обид. Ни одна из этих теорий не выдерживает научной критики, и все их выводы необоснованны и пусты. Социалистические концепции капиталистической экономики давно уже обнаружили свою ложность; планы будущего социалистического устройства неизменно внутренне противоречивы и потому нереализуемы. Социализм не только не внесет рациональность в хозяйственную жизнь, но, напротив, вовсе разрушит общественное сотрудничество. Утверждения о будущей справедливости произвольны и вырастают, как легко показать, из чувства обиды и ложного истолкования капиталистической действительности. Утверждение, что историческое развитие не имеет других альтернатив, кроме социализма, оказывается всего лишь пророчеством, которое отличается от хилиастических фантазий раннего христианства только претензией на научность.
На деле социализм ни в малейшей степени не является тем, на что претендует. Это не открыватель нового и лучшего мира, но грабитель и разрушитель того, что накопили тысячелетия цивилизации. Он не строит, а разрушает. По результатам его действий он должен быть назван деструкционизмом. [372] Разрушение — его сущность. Он не производит ничего, а только расточает то, что создал общественный строй, основанный на частной собственности на средства производства. Поскольку социалистическое устройство общества неосуществимо (разве что в виде фрагментов в экономике, в остальном строящейся на частной собственности на средства производства), каждый шаг, который должен вести к социализму, исчерпывается разрушением существующего.
Такая деструкционистская политика означает проедание капитала. Очень немногие осознают этот факт. Проедание капитала может быть установлено статистически и воспринято интеллектуально, но оно не очевидно каждому. Чтобы понять порочность политики, которая увеличивает потребление масс за счет существующего капитала и тем самым приносит будущее в жертву настоящему, нужна проницательность большая, чем отпущено государственным деятелям и политикам, а также массам, которые привели их к власти. Пока стены фабрики стоят, а поезда ходят, принято думать, что все в мире в порядке. Растущие трудности поддержания высокого уровня жизни приписываются разным обстоятельствам, но никогда — политике проедания капитала.
Проблема проедания капитала деструкционистским обществом — одна из ключевых проблем экономической политики социализма. В социалистическом обществе опасность проедания капитала будет особенно велика, так как и там демагогам будет тем легче добиваться успеха, чем больше будет обещанное ими увеличение доли, идущей на потребление, за счет доли, идущей на формирование дополнительного и поддержание уже существующего капитала.
Постоянное образование нового капитала — в природе капиталистического общества. Чем больше фонд капитала, тем выше предельная производительность труда, а значит, и заработная плата — абсолютная и относительная. Неуклонное наращивание капитала есть единственный путь к росту количества благ, которые общество может потреблять ежегодно, не подрывая будущего производства. Это единственный способ устойчивого увеличения потребления рабочих без ущерба для их будущих поколений. Потому-то либерализм издавна утверждает, что неуклонное наращивание капитала есть единственное средство постоянного улучшения положения масс. Социализм и деструкционизм стремятся к этой же цели иным путем. Их предложения сводятся к росту сегодняшнего благосостояния за счет будущего. Политика либерализма — это политика предусмотрительного отца, который сберегает и строит для себя и для наследников. Политика деструкционизма есть политика расточителя, который проматывает наследство без оглядки на будущее.
2. Демагогия
Для марксистов главным достижением Карла Маркса является пробуждение классового сознания у пролетариев. До его работ идеи социализма существовали вдали от практической жизни, в писаниях утопистов и в узком кругу их учеников. Связав эти идеи с революционным рабочим движением, которое до того преследовало только мелкобуржуазные цели, Маркс создал, говорят марксисты, основания пролетарского движения. Это движение, полагают они, будет жить, пока не выполнит своей исторической миссии — установить социалистический строй общества.
Утверждают, что Маркс открыл движущие законы капиталистического общества и определил цели современного социального движения как обусловленные всем историческим развитием. Говорят, что он показал, что пролетариат может освободить себя как класс, только вообще ликвидировав классовые противоречия и тем самым создав предпосылки общества, в котором «свободное развитие каждого является условием свободного развития всех» [373].
Восторженные энтузиасты видят в Марксе одну из героических фигур мировой истории и числят его среди великих экономистов и социологов, даже среди самых прославленных философов. Непредубежденный наблюдатель видит Карла Маркса иными глазами. У Маркса-экономиста совершенно отсутствовала оригинальность. Он был последователем классической политэкономии, но ему недоставало способности подходить к важнейшим экономическим проблемам без политических предубеждений. Он смотрел на все через очки агитатора, для которого главное — произвести впечатление на толпу. Но даже здесь он не был по-настоящему оригинален, поскольку английские социалисты, защитники «права на полный продукт труда», памфлеты которых в 30–40-х годах XIX века подготовили путь для чартизма, опередили его во всех существенных моментах. [374] Более того, он оказался совершенно неосведомленным о революции в экономической теории, которая происходила как раз в те годы, когда он разрабатывал свою систему. Историческое невезение: новая теория, перевернувшая всю экономическую науку, явилась на свет почти вслед за публикацией первого тома «Капитала». [375] В результате последние тома «Капитала» уже в день публикации представляли собой зады передовой науки. Это невезение особенно тяжко ударило по его восторженным последователям. С самого начала им пришлось удовлетворяться бесплодным воспроизведением работ мастера. Они застенчиво избегали каких-либо контактов с новой теорией ценности. Как социолог и философ истории, Маркс никогда не поднимался выше уровня способного агитатора, обслуживающего повседневные нужды своей партии. Научная ценность материалистической концепции истории равна нулю; более того, Маркс так и не довел ее разработку до конца, выдвигая раз за разом новые несовместимые версии. Его философская позиция являлась простым гегельянством. Он принадлежал к множеству давно забытых авторов того времени, когда было модно использовать по всякому поводу диалектический метод. Прошли десятилетия, прежде чем его стали называть философом и причислили к сонму великих мыслителей.
Стиль его научных работ — сухой и тяжелый педантизм. Ему не было даровано способности вразумительно излагать свои мысли. Только в политических текстах он был эффектен, и то благодаря звучным противопоставлениям и легко запоминаемым фразам, в которых игра словами скрывала полную пустоту. В полемике он, не колеблясь, извращал высказывания оппонентов. Вместо опровержения он использовал брань и оскорбления. [439*] И его ученики (школа Маркса на деле сложилась только в Германии и Восточной Европе, особенно в России), в точности повторяя стиль учителя, обливали оппонентов грязью, но никогда не пытались их опровергнуть.
Об оригинальности и историческом значении Маркса можно говорить только применительно к области политической техники. Он осознает, какую громадную силу в современном обществе могут представлять собой массы, сконцентрированные на фабриках и заводах, если их удастся политически сплотить. Он ищет и находит лозунги для объединения этих масс в согласованное движение. Он бросает призывы, которые поднимают людей, в целом безразличных к политике, в атаку на частную собственность. Он проповедует доктрину спасения, которая рационализирует их обиды и преобразует зависть и желание мести в «историческую миссию». Он воодушевляет их сознанием этой великой миссии: в них — будущее рода человеческого. Быстрое распространение социализма сравнивали с распространением христианства. Более подходящим, возможно, было бы сравнение с исламом, который вдохновил детей пустыни на то, чтобы опустошить обширные культурные страны, возжег их разрушительную ярость моралистической идеологией и пришпорил их отвагу идеей фатализма. [440*]
В сердцевине марксизма лежит учение о единстве пролетарских интересов. Однако отдельный рабочий пребывает в состоянии постоянной острой конкуренции с другими рабочими, всегда готовыми занять его рабочее место; вместе с товарищами по заводу он конкурирует с рабочими других отраслей и с потребителями товаров, в выпуске которых он принимает участие. Довести рабочего до того, чтобы он вопреки фактам и опыту искал спасения в союзе с другими рабочими, можно, только разжигая его страсти. Это оказалось не столь уж трудным; дурные чувства в человеческой душе возбуждаются легко. Но Маркс сделал и нечто большее: он окружил обиды простого человека нимбом науки и этим привлек духовно и нравственно отзывчивых людей. В этом отношении все другие социалистические течения подражали Марксу, слегка переиначивая его доктрину для своих особых целей.
Маркс был гением в технике демагогии; здесь его достижения нельзя преувеличить. Он нашел благоприятный исторический момент для объединения масс в их собственное политическое движение и был готов сам его возглавить. Для него вся политика была продолжением войны, только другими средствами [376]; его политическое искусство — всегда политическая тактика. Социалистические партии, ведущие свое начало от Маркса, сохранили эти черты, так же как и те партии, для которых марксистские были моделью. Они выработали технику агитации, уловления голосов и душ, предвыборной работы, уличных сборищ и терроризма. Чтобы обучиться всему этому, нужна многолетняя школа. На партийных съездах и в партийной литературе марксисты уделяют больше внимания вопросам организации и тактики, чем важнейшим, фундаментальным проблемам политики. Фактически, если мы хотим быть точными, следует признать, что их вообще никогда ничего не интересовало, кроме партийной тактики.
Милитаристские установки по отношению к политике, роднящие марксизм с прусским и русским этатизмом, быстро нашли приверженцев. Новые партии континентальной Европы насквозь пронизаны марксистской идеологией. У марксизма учились все партии, провозглашающие особые интересы различных социальных групп. Они используют для своих целей марксистское учение о классовой борьбе, чтобы сплотить крестьянство, промышленный средний класс и слой служащих.
Тут следовало ожидать, что либеральная идеология быстро будет побеждена. Либерализм боязливо избегал всяких политических трюков. Он полагался исключительно на внутреннюю силу и убедительность своих идей, презирая все другие средства политической борьбы. Он никогда не имел определенной политической тактики, не унижался до демагогии. Старый либерализм был благороден и верен своим принципам. Его противники называли это свойство доктринерством.
Сегодня старые либеральные принципы должны быть тщательно перепроверены. Наука полностью преобразилась за последнюю сотню лет, и нынче социологические и политико-экономические основания либерального учения должны быть пересмотрены. По многим вопросам либерализм не до конца продуман. Многое нужно наверстать [441*]. Но применяемые либерализмом методы политической борьбы не могут быть изменены. Либерализм рассматривает все виды общественного сотрудничества как эманацию разумно понимаемой пользы, когда всякая власть базируется на общественном мнении, а потому невозможны действия, способные помешать свободному принятию решений мыслящим человеком. Либерализм знает, что общество может продвинуться на более высокую стадию развитию только через человека, осознающего полезность общественного сотрудничества; ни Бог, ни тайно действующая судьба не определяют будущее человеческого рода — только сам человек. Когда народы слепо устремляются к разрушению, либерализм должен стараться их просветить. Но даже если люди не слышат — из-за глухоты или потому, что убеждающий голос слишком слаб, не следует возвращать их к разумному поведению с помощью тактических и демагогических уловок. Демагогией, пожалуй, можно разрушить общество. Но его никогда не построить такими средствами.
3. Деструкционизм образованных людей
Романтизм и социальное искусство XIX века подготовили почву для социалистического деструкционизма. Без их помощи социализм никогда бы не сумел так угнездиться в умах людей.
Романтизм — это восстание человека против разума, так же как и против условий, в которых природой ему предписано жить. Романтик видит сны наяву; в мечте он не связан законами логики и природы. Мыслящий и разумно действующий человек пытается избавиться от давления неосуществленных желаний с помощью хозяйственной деятельности и труда; он производит, чтобы улучшить свое положение. Романтик слишком слаб, слишком неврастеничен, чтобы работать; он мечтает об успехе, но ничего не делает для его достижения. Он устраняет препятствия не на деле, а только в воображении. У него зуб против реальности, потому что она не похожа на созданный им воображаемый мир. Он ненавидит труд, хозяйствование и разум.
Романтик принимает как данность все дары цивилизации и желает, вдобавок, всего изящного и красивого, что, как он думает, могут или могли предложить отдаленные времена и страны. Окруженный комфортом европейской городской жизни, он хотел бы быть индийским раджой, бедуином, корсаром или трубадуром. Но в жизни этих персонажей он видит только приятные стороны и никогда не думает об отсутствии у них того, что сам имеет в изобилии. Его всадники галопируют по равнинам на огненных скакунах, корсар берет в плен красавиц, рыцарь сокрушает врагов в промежутке между песнями и любовью. Опасности их образа жизни, сравнительная ее бедность, убожество и тяжкий труд — все это его воображение тактично обходит: все залито розовым светом. По сравнению с надуманным идеалом реальность кажется сухой и пресной. Везде препятствия, которых нет в мечте, и нужно решать множество задач. Нет красавиц, которых можно спасти от грабителей, нет потерянных сокровищ, которые можно найти, нет драконов, которых можно убить. Есть зато труд, который нужно исполнять неустанно, усердно, день за днем, год за годом. Здесь, если хочешь собирать урожай, надо пахать и сеять. Романтик не хочет смириться с этим. Упрямый, как ребенок, он отказывается признать это. Он издевается и иронизирует, он презирает и ненавидит буржуев.
Распространение капиталистической мысли создало неблагосклонное отношение к романтизму. Поэтические фигуры рыцарей и пиратов стали объектом насмешек. Когда жизнь бедуинов, пиратов, махараджей и других романтических героев была показана со всех сторон, какое бы то ни было желание подражать им исчезло. Достижения капиталистического общества сделали жизнь хорошим делом; возникло растущее чувство, что свободы и безопасности, мирного благосостояния и многообразного утоления нужд и желаний можно ожидать только при капитализме. Романтическое презрение к буржуазному вышло из моды.
Но духовные и интеллектуальные установки, давшие жизнь романтизму, уничтожить было не так-то легко. Неврастенический протест против жизни искал другие формы выражения. Он нашел их в «социальном» искусстве XIX века.
Действительно великие поэты и романисты этого периода не были социально-политическими пропагандистами. Флобер, Мопассан, Якобсен, Стриндберг, Конрад Фердинанд Мейер — назовем только немногих — далеко не были последователями модной литературы. [377] Формулировкой социальных и политических проблем мы обязаны не тем писателям, работы которых обеспечили XIX веку его прочное место в истории литературы. Эту задачу взяли на себя второсортные и третьесортные литераторы. Они создали образы кровожадного капиталистического предпринимателя и благородного пролетария. Для них богатый плох потому, что богат, а бедный хорош потому, что беден [442*]. «Но это ведь так, как если бы богатство было преступлением», — восклицает фрау Дрейссигер в «Ткачах» Герхарта Гауптмана. [378] Литература этого периода полна осуждениями собственности.
Здесь не место для эстетического анализа такой литературы; наша задача — исследовать ее политическое воздействие. Она вела к победе социализма, вербуя на его сторону образованные классы. С этими книгами социализм проникал в состоятельные семьи, увлекая жен и дочерей, заставляя сыновей бросать семейное дело, пока, наконец, сам капиталистический предприниматель не начинал верить в низменность своей деятельности. Банкиры, руководители промышленности и торговцы заполнили ложи театров, в которых пьесы социалистического толка исполнялись перед восторженной публикой.
Социальное искусство тенденциозно; каждое произведение защищает какой-то тезис. [443*] И утверждается всегда одно и то же: капитализм есть зло, в социализме — спасение. Бесконечное повторение не приелось раньше читателю только потому, что у каждого писателя на уме была своя форма социализма. Все они подобно Марксу избегали детального изображения воспеваемой социалистической жизни и, как правило, просто ограничивались ссылкой на желательность социализма. Неадекватность их логики, обращение в первую очередь не к разуму, а к эмоциям — все это неудивительно, особенно учитывая, что таким же был метод soidisant [379] научных авторитетов по социализму. Беллетристика предоставляет здесь наиболее благоприятные возможности, поскольку можно не бояться, что аргументы будут подвергнуты детальному логическому анализу. Точность отдельных замечаний в романах и пьесах не принято анализировать. Навязываемые логикой характеров и сюжета выводы не подлежат логическому обоснованию. Даже если «собственник» всегда изображается как носитель зла, нельзя предъявить претензий автору -- это ведь всего лишь частный пример. Ни один отдельный писатель не может быть признан ответственным за общее воздействие литературы своего времени.
Диккенс в «Тяжелых временах» вкладывает в уста Сесси Джуп, брошенной маленькой дочери циркового клоуна и танцора, шпильку в адрес утилитаризма и либерализма. Он заставляет мистера М'Чокумчайлда, учителя в образцовой школе последователя Бентама капиталиста Грэдгройнда, задать вопрос: каков процент жертв, если из 100 тысяч мореплавателей утонут 500 человек. Славное дитя отвечает, что для родственников и друзей погибших нет никаких процентов, — и с большой простотой осуждает тем самым самодовольство манчестерства. [380] Все это, отвлекаясь от полной неправдоподобности сцены, очень мило и трогательно, но все же не может умалить удовлетворенности граждан капиталистического общества значительным сокращением опасности морских путешествий. И если капитализм сумел добиться, что на миллион жителей от голода ежегодно погибают только 25, тогда как прежде число голодающих было гораздо выше, нашу оценку достижений не изменят изрекаемые Сесси пошлости, что для каждого из голодающих все равно — голодает ли вместе с ним еще миллион или миллион миллионов людей. При этом нам не предлагают никаких доказательств того, что при социализме голодающих будет меньше. Третье наблюдение, вложенное Диккенсом в уста Сесси, должно показать, что нельзя судить об экономическом процветании народа по суммарной величине богатства, но следует учитывать еще и распределение этого богатства. Диккенс был плохо знаком с работами утилитаристов и не знал, что это утверждение не противоречит старым утилитаристским идеям. Как раз Бентам подчеркивал, что порождаемое богатством довольство бывает тем сильнее, чем равномернее оно распределено [444*].
Противоположностью Сесси является образцовый мальчик Битцер. Он помещает свою мать в работный дом и потом утешает свою совесть тем, что раз в год посылает ей полфунта чаю. Даже это, говорит Диккенс, было проявлением слабости у замечательного юноши, которого он называет превосходным молодым экономистом, и только потому, что подаяние ведет к обнищанию получающего. Единственным рациональным действием Битцера является покупка самого дешевого чая и продажа его по наиболее дорогой цене. Разве философы не доказали, что в этом и состоит весь долг человека (именно весь, а не часть долга)? Миллионы читателей диккенсовского текста пережили внушенное автором чувство отвращения к низости утилитарной философии. И все-таки они неправы. Либеральные политики на самом деле выступали против поощрения нищенства безоглядно и безотчетно раздаваемой милостыней и доказывали безнадежность всех попыток улучшить положение бедных, если они не ведут к повышению производительности труда. Они показали, сколь неблагоприятны будут для самих пролетариев результаты предложений, нацеленных на повышение рождаемости у недостаточно состоятельных молодых людей, не имеющих возможности позаботиться о своих детях. Но они никогда не были против поддержки нетрудоспособных в рамках закона о бедных. Никогда они не подвергали сомнению и нравственный долг помощи престарелым родителям. Социальная философия либерализма никогда не утверждала, что «долгом», началом и концом всей нравственности является правило: купить как можно дешевле, а продать как можно дороже. Она показала только, что такое поведение рационально для того, кто стремится к косвенному удовлетворению желаний (через покупку и продажу). Но либерализм никогда не считал иррациональным делом послать старой матери чай в подарок — во всяком случае не более иррациональным, чем самому пить чай.
Одного взгляда на работы авторов-утилитаристов довольно, чтобы разоблачить софистические искажения, которые допускает Диккенс. Но среди сотен тысяч читателей диккенсовских романов едва ли один прочитал хоть строчку утилитаристов. Вместе с другими, менее одаренными рассказчиками романтического направления Диккенс привил миллионам людей ненависть к утилитаризму и капитализму. При этом Диккенс — а в равной степени это относится и к Вильяму Моррису, Шоу, Уэллсу, Золя, Анатолю Франсу, Герхарту Гауптману, Эдмондо де Амичису и многим другим — вовсе не был открытым и непосредственным проповедником деструкционизма. [381] Они все отрицали капиталистический строй жизни и частную собственность на средства производства, порой, видимо, и не сознавая этого. Между строк внушалась картинка лучшего экономического и социального устройства. Они работали просто как вербовщики социализма, а поскольку социализм ведет к разрушению общества, мы можем назвать их проповедниками деструкционизма. Но как политический социализм в большевизме дошел до открытого деструкционизма, так же было и с литературным социализмом. Толстой был великим проповедником деструкционизма, идеи которого он черпал в словах Евангелий. Он делает учение Христа, основанное на вере в близость Царства Божия, благовествованием для всех времен и народов. Подобно коммунистическим сектам времен Средневековья и Реформации, он мечтал об устройстве общества на правилах Нагорной проповеди. [382] Он, конечно, не заходил столь далеко, чтобы буквально следовать примеру полевых лилий, которые не трудятся. [383] Но ему была любезна модель общества, которое состоит только из самодостаточных земледельцев, обрабатывающих небольшие наделы земли, и он вполне логичен, требуя разрушения всего остального.
Сегодня люди, которые с превеликим восторгом приветствовали эту литературу и радостно отзывались на призыв разрушить все культурные ценности, стоят на пороге великой социальной катастрофы.
Глава XXXIV. Пути и методы деструкционизма
1. Средства деструкционизма
Социалистическая политика для достижения своих целей использует два подхода: первый прямо направлен на обращение общества в социалистическое; второй — только косвенно, через разрушение общества, основанного на принципе частной собственности. Реформистские партии социальной ориентации, так же как и реформистские группы в социалистических партиях, предпочитают первый подход; второй есть оружие революционных социалистов, которые начинают с расчистки почвы для строительства новой цивилизации. Одни используют как средства муниципализацию и национализацию, другие — саботаж и революцию.
Значимость этой классификации снижает то, что результаты обоего рода политик не так уж и различаются. Как мы показали, даже прямой метод, направленный на формирование нового общества, может только разрушать. Созидание ему заказано. Оправдан вывод, что разрушение — начало и конец всякой социалистической политики, которая десятилетиями преобладала в этом мире. В политике коммунистов воля к разрушению выражена настолько явно, что ее нельзя не заметить. Но хотя деструкционизм легче всего осознать на примере большевистской политики, он, в сущности, так же силен и в других социалистических движениях. Именуемое «экономической политикой» государственное вмешательство в экономическую жизнь добилось только ее развала. Запреты и разные меры регулирования уже в силу присущего им ограничительного духа стимулировали расточительность. С начала войны сфера этой политики так расширилась, что практически каждое действие предпринимателя стало подпадать под рубрику «нарушение закона». И если производство все еще продолжается, пусть хоть наполовину рационально, то это можно объяснить только тем, что деструкционистские законы и меры до сих пор еще не проведены полностью в жизнь. Если бы они оказались более эффективными, голод и массовая гибель уже стали бы уделом большинства цивилизованных народов.
Вся наша жизнь с такой полнотой подпала уже под власть разрушительных сил, что трудно найти область, где бы они не господствовали. Их воспевает «социальное» искусство, их пропагандирует школа, благоговение к ним внушает церковь. В последние десятилетия законодательство цивилизованных стран едва ли создало хоть один закон, в котором не было бы уступок деструкционизму; в некоторых законах он полностью господствует. Чтобы дать полное представление о деструкционизме, следовало бы написать историю тех лет, когда были подготовлены и начались катастрофы мировой войной и большевистской революции. Здесь этого сделать нельзя, и мы вынуждены ограничиться несколькими замечаниями, которые могут помочь пониманию того, как нарастала готовность разрушить общество.
2. Рабочее законодательство
Среди средств разрушения общества законодательная защита труда является по ее прямому воздействию наиболее вредоносной. К тому же этот аспект социальной политики особенно важен как показатель достижений социалистической мысли.
Апологеты политики защиты труда любят проводить аналогию с той ситуацией, которая в XVIII и первой половине XIX века привела к принятию мер по защите крепостных. Нам говорят: как в то время вмешательство государства, шедшего шаг за шагом к освобождению крепостных, постоянно уменьшало повинности крестьян, так и сегодня рабочее законодательство пытается вырвать пролетариат из рабства наемного труда, поднять его к существованию, достойному человека. Но это сравнение вовсе неосновательно. Ограничение крепостных повинностей крестьян привело не к сокращению, а к увеличению количества труда в стране. Принудительный труд, недобросовестный и скудный, был сокращен, так что крестьянин получил свободу улучшать собственную землю или работать по найму. Большинство мер, предпринятых ради освобождения крестьянства, имело целью, с одной стороны, увеличить интенсивность сельскохозяйственных работ, а с другой — освободить рабочую силу для нужд промышленного производства. Когда крестьянская политика наконец-то ликвидировала принудительный труд сельскохозяйственных работников, она не уничтожила сам труд, а увеличила возможности приложения труда. Результат прямо противоположный тому, чего достигает современная социальная политика, когда «регулирует» рабочее время, ограничивая продолжительность рабочего дня десятью, девятью и восемью часами или, как у различных категорий чиновников, шестью часами и менее. Ведь это сокращает количество производимой работы, а значит, и объем производства.
Влияние таких мер на сокращение труда было слишком очевидным, чтобы его проглядеть. Вот почему все попытки расширить законодательную защиту труда и радикально изменить условия труда встречали сильнейшее сопротивление. Этатистские авторы обычно представляют дело так, как если бы общее сокращение рабочего времени, постепенное вытеснение женского и детского труда, сокращение ночных работ объяснялись только вмешательством закона и активностью профсоюзов [445*]. Это показывает, что они находятся под влиянием представлений о характере промышленного наемного труда, сформировавшихся в кругах, враждебных современному капиталистическому производству. Согласно этим взглядам фабричная промышленность питает особое отвращение к применению полноценной рабочей силы. Предполагается, что она предпочитает необученных работников, слабых женщин и хрупких детей, а не всесторонне подготовленных специалистов. Ведь, с одной стороны, она стремится выпускать только низкокачественные товары массового потребления, для чего нет нужды в квалифицированных наемных работниках; с другой стороны, простота и легкость движений, требуемых механизированным производством, позволяют использовать неразвитых и физически слабых. Поскольку, как считается, фабрики бывают прибыльными только за счет недоплаты своим рабочим, естественно, что они предпочитают нанимать неквалифицированных рабочих, женщин и детей и при этом пытаются продлить рабочий день до возможного предела. Утверждают, что это представление подтверждается историей развития крупной промышленности. Но при своем зарождении крупная промышленность вынуждена была удовлетворяться таким трудом потому, что в то время она могла нанимать людей только за пределами ремесленных гильдий. Ей приходилось привлекать необученных, женщин и детей, потому что только они были доступны для найма, а в результате производственный процесс вынужденно строился так, чтобы эти работники с ним справлялись. Фабричная заработная плата была ниже заработка цеховых подмастерьев, потому что производительность труда была ниже. По той же причине продолжительность рабочего дня была выше, чем у ремесленников. Только когда эти отношения со временем изменились, крупная промышленность смогла преобразовать условия труда. Вначале у фабрик не было иного выбора, как нанимать женщин и детей, поскольку полные сил мужчины были для них недоступны. Когда в результате конкуренции фабрики смогли вытеснить прежнюю систему работы и перетянуть к себе тех, кто прежде был занят в ремесле, были изменены и производственные процессы, так что главным стал труд квалифицированных мужчин, а труд женщин и детей постепенно отошел на задний план. Заработная плата возросла, поскольку производительность полноценного рабочего была выше, чем производительность фабричной девчонки или ребенка. И вместе с этим рабочая семья обнаружила, что больше не нуждается в заработке жены и детей. Продолжительность рабочего дня уменьшилась, потому что более интенсивный труд подготовленного рабочего сделал возможным более эффективное использование машин, чем небрежный и неловкий труд малоценной рабочей силы. [446*]
Более короткий рабочий день и ограничение детского и женского труда в тех размерах, которые были достигнуты в Германии накануне мировой войны, никоим образом не были результатом победы законов об охране труда над эгоистичными предпринимателями. Это следствие развития крупной промышленности, которая, избавившись от нужды искать себе работников на задворках хозяйственной жизни, должна была преобразовать условия труда так, чтобы они соответствовали лучшему качеству рабочей силы. В общем и целом законодательство просто санкционировало перемены подготовленные, предвосхищаемые или уже совершившиеся. Конечно, оно всегда пыталось пойти дальше, чем позволяло состояние промышленности, но сделать это не удавалось. Препятствием служило не столько сопротивление предпринимателей, сколько сопротивление самих рабочих, не выражаемое и не выступающее открыто, но от того не менее эффективное. Ведь самим рабочим за каждый акт защищающего регулирования приходится платить как прямо, так и косвенно. Ограничение или запрещение женского и детского труда обременило бюджет рабочего столь же сильно, как и ограничение занятости взрослых рабочих. Эти меры, конечно, уменьшают предложение труда, что ведет к росту предельной производительности труда, а значит, и заработной платы в расчете на единицу продукции. Но еще вопрос, компенсирует ли для рабочего этот рост бремя растущих цен. Прежде чем выносить какое бы то ни было заключение по этому вопросу, следовало бы изучить данные для каждого отдельного случая. Вполне возможно, что сокращение производства не может обернуться абсолютным ростом реального дохода рабочих. Но нам нет нужды вдаваться здесь в эти детали. Уверенно говорить о значительном сокращении предложения труда в результате принятия рабочего законодательства можно, только если действие этих законов не ограничивается отдельной страной. Пока это не так, поскольку каждое государство шло своим путем, и страны, где недавно развившаяся промышленность использовала все возможности вытеснить с рынков продукцию старых промышленных государств, отставали с введением рабочего законодательства, и законодательная защита труда не могла улучшить положение рабочих на рынке. Помочь здесь пытались путем заключения международных соглашений о защите труда. Но про международную защиту труда еще с большим основанием, чем про национальные меры, можно сказать, что она никогда не достигала большего, чем это допускало естественное развитие индустриальных отношений.
Деструктивные элементы более выражены в теории, чем в практике защиты труда, поскольку связанная с этими мерами непосредственная угроза промышленному развитию до известной степени сдерживала внедрение теории в жизнь. То, что теория эксплуатации наемных работников столь быстро распространилась и стала общепринятой, есть прежде всего заслуга деструкционизма, который без колебаний прибегал к исключительно эмоциональному описанию условий труда. В практику законодательства были внедрены популярные образы жестокосердого предпринимателя и своекорыстного капиталиста, которым противостоит бедный, благородный эксплуатируемый народ. Законодателей приучили видеть в каждом крушении планов предпринимателей победу общего блага над эгоистичными интересами паразитов. Рабочему внушили, что его усердие служит только росту прибылей, что его долг перед собственным классом и историей — трудиться сколь можно более вяло.
Сторонники законодательной защиты труда исходят из неудовлетворительной теории заработной платы. Они с негодованием отвергают аргументы Сениора против законодательного регулирования продолжительности рабочего времени, но не в силах противопоставить ничего значимого тем выводам, к которым он пришел для стационарных условий. [385] Неспособность школы катедер-социалистов разобраться в экономических проблемах особенно явно демонстрирует Брентано. О том, до какой степени он не в состоянии постичь связь размера заработной платы и эффективности труда, видно из сформулированного им собственного «закона»: высокая заработная плата увеличивает продукт труда, а низкая заработная плата уменьшает его. Но ведь ясно, что хорошая работа просто оплачивается лучше, чем плохая [447*]. Эта ошибка делается еще более очевидной, когда он заявляет, что сокращение рабочего времени есть причина, а не результат роста производительности труда.
Маркс и Энгельс, отцы немецкого социализма, хорошо понимали, насколько важна для распространения разрушительных идей борьба за рабочее законодательство. В «Учредительном манифесте Международного товарищества рабочих» говорится, что билль о 10-часовом рабочем дне в Англии «был не только важным практическим успехом, но и победой принципа; впервые политическая экономия буржуазии открыто капитулировала перед политической экономией рабочего класса» [448*]. За двадцать лет с лишком до этого Энгельс в еще более чистосердечных выражениях признал деструкционистский характер билля о 10-часовом рабочем дне. [386] Он не смог не согласиться, что контраргументы предпринимателей были наполовину верны. Этот закон, полагал Энгельс, приведет к сокращению заработной платы и сделает английскую промышленность неконкурентоспособной. Но это его не беспокоило. «Разумеется, — добавлял он, — если бы дело не пошло дальше десятичасового билля, Англии грозило бы разорение; но поскольку он неизбежно влечет за собой другие мероприятия, которые должны направить Англию на совершенно иной путь, чем тот, по которому она до сих пор шла, этот билль означает шаг вперед» [449*]. Если английская промышленность уступит иностранным конкурентам, революция станет неизбежной [450*]. В более поздней статье он говорит о билле о 10-часовом рабочем дне:
«Это уже не отдельная попытка парализовать промышленное развитие, это одно из звеньев в длинной цепи мероприятий, которые должны совершенно преобразовать современный строй общества и постепенно уничтожить существующие до сих пор классовые противоречия, это уже не реакционное, а революционное мероприятие» [451*].
Фундаментальную важность борьбы за рабочее законодательство нельзя недооценивать. Но Маркс и Энгельс, как и их либеральные оппоненты, переоценили непосредственный деструктивный потенциал отдельных мероприятий. Главные успехи в деле разрушения общества были достигнуты на других направлениях.
3. Принудительное социальное страхование
Существом программы германского этатизма было социальное страхование. Но народы за пределами Германской империи также начали видеть в социальном страховании высшее достижение политической проницательности и мудрости государственных деятелей. И если некоторые ограничиваются простым восхвалением волшебных результатов, которых удалось достичь с помощью этих институтов, то другие укоряют их за половинчатость, за то, что ими охвачены не все слои народа и что имеющие преимущества получают не все то, что, по их мнению, должны бы. Говорилось, что социальное страхование нацелено, в конечном счете, на то, чтобы дать каждому гражданину должный уход и лучшее медицинское обслуживание во время болезни, нужную помощь в случае нетрудоспособности от несчастного случая, болезни, старости или при невозможности найти работу на должных условиях.
Никакое упорядоченное общество не было столь бессердечно, чтобы позволить бедным и беспомощным умирать с голоду. Всегда были некие установления, нацеленные на спасение от нищеты тех, кто не способен самостоятельно содержать себя. По мере того как вместе с развитием капитализма увеличивалась обеспеченность общества, улучшалась система помощи беднякам. Одновременно изменялась и правовая основа этой помощи. Что прежде было актом милосердия, которого бедняки не могли требовать, теперь стало долгом общины. Были приняты меры по обеспечению помощи бедным. Но в первое время остерегались узаконения притязаний бедняков на поддержку и содержание. Мало думали и о том, чтобы снять клеймо постыдности с тех, кто жил на средства общины. Это не было проявлением бессердечия. Дискуссии по поводу английского закона о бедных показывают, что люди отлично сознавали немалые опасности для общества от расширения программ помощи бедным. [387]
Германское социальное страхование очень отличается от подобных установлений других государств. [388] Средства к существованию — это иск, на удовлетворении которого можно настаивать по закону. Предъявитель иска тем самым не роняет своей репутации. Он — государственный пенсионер подобно королю или его министрам, или получатель страховых платежей, такой же, как любой другой, заключивший контракт о страховании. Несомненно, что он может смотреть на выплаты как на эквивалент своего собственного вклада. Ведь страховые взносы всегда идут за счет заработной платы независимо от того, платит их предприниматель или сами рабочие. То, что уплачивает предприниматель в страховые фонды, — это всего лишь налог на предельную производительность труда, а значит, и средство сокращения денежной заработной платы. Когда страховые выплаты осуществляются из налоговых поступлений, их оплачивает, конечно же, сам рабочий — прямо или косвенно.
Для проповедников социального страхования, как и для политиков и государственных деятелей, проводивших его в жизнь, здоровье и болезнь представлялись двумя состояниями человеческого тела, резко отделенными друг от друга, так что всегда без трудностей и сомнений можно распознать — что же перед тобой. «Здоровье» — это состояние, признаки которого твердо установлены и которое может быть диагностировано любым врачом. «Болезнь» — это телесное явление, не зависящее от человеческой воли и не поддающееся ее воздействию. Всегда есть люди, которые по тем или иным причинам симулируют болезнь, но доктор благодаря знаниям и имеющимся в его распоряжении средствам может разоблачить подделку. Только здоровый человек является вполне работоспособным. Работоспособность больного понижается в соответствии с тяжестью и характером болезни, и предполагается, что доктор может по объективно контролируемым физиологическим изменениям установить степень снижения работоспособности.
Сегодня ясно, что каждое утверждение этой теории ложно. Не существует отчетливой границы между здоровьем и болезнью. Болезнь неким образом зависит от сознательной воли и подсознательно действующих психических сил. Работоспособность человека не связана однозначно и просто с его физическим состоянием; в большой степени это функция его сознания и воли. Так вся идея о возможности отделить с помощью медицинских обследований больных от здоровых и симулянтов, а трудоспособных от инвалидов оказалась несостоятельной. Тот, кто верил, что страхование от несчастных случаев и по болезни сможет опереться на объективные методы диагностики, очень заблуждался. Разрушительные свойства системы страхования по болезни и от несчастных случаев заключались, прежде всего, в том, что система поощряла несчастные случаи и болезни, замедляла выздоровление и зачастую создавала (или, по крайней мере, усиливала и растягивала во времени) функциональные нарушения, которые следуют обычно за болезнью или несчастным случаем.
Такие редкие болезни, как травматические неврозы, которые стали плодиться уже в результате законодательного регулирования исков о компенсации по несчастным случаям, под воздействием принудительного социального страхования обратились в общенациональные эпидемии. Сейчас уже нельзя отрицать, что травматические неврозы есть результат социального законодательства. Статистика показывает, что застрахованные пациенты преодолевают последствия травм дольше, а осложнениям и постоянным функциональным расстройствам подвержены сильнее, чем незастрахованные. Страхование против болезней плодит болезни. Как индивидуальные наблюдения врачей, так и статистика показывают, что чиновники, штатные работники и принудительно застрахованные граждане оправляются от травм и болезней медленнее, чем незастрахованные и лица свободных профессий. Желание побыстрее выздороветь и нужда в скорейшем восстановлении работоспособности помогают выздоровлению столь сильно, что это делается доступным для наблюдения [452*].
Чувствовать себя здоровым — совсем не то же самое, что быть здоровым с точки зрения медицины, а работоспособность во многом не зависит от физиологически проверяемой и измеримой деятельности внутренних органов. Тот, кто не жаждет быть здоровым, не является просто симулянтом. Это — больная личность. Если ослаблено желание быть здоровым и работоспособным, болезнь и все остальное — придут. Ослабляя или полностью разрушая волю к благополучию и трудоспособности, социальное страхование плодит болезни и инвалидность; оно порождает привычку жаловаться, что само по себе является неврозом, и другие формы неврозов. Короче говоря, это установление, которое множит болезни и травмы и существенно ухудшает их психофизиологические последствия. Институт страхования делает людей больными телесно и психически или, по крайней мере, удлиняет и утяжеляет течение болезней.
Психические силы, действующие в человеке, как и в каждом живом существе (в смысле желания и стремления быть здоровым и трудоспособным), так или иначе зависят от социальной ситуации, в которой человек находится. Некоторые ситуации усиливают их, другие ослабляют. Социальная атмосфера африканского племени, живущего охотой, определенно настроена на стимулирование этих сил. То же самое верно для совершенно отличной ситуации, в которой находятся граждане капиталистического общества, основанного на разделении труда и частной собственности. Напротив, общественный строй ослабляет эти силы, если он обещает, что в случае травмы или болезни индивидуум будет жить, не работая или работая мало, и при этом не претерпит существенного сокращения доходов. Дело обстоит не столь просто, как это представляется наивным экспертам по патологии — тюремным и армейским врачам.
Социальное страхование превратило неврозы застрахованных граждан в опасную болезнь народа. При распространении и развитии страхования эта болезнь также будет распространяться. И никакие реформы тут не помогут: мы не можем подрывать волю к здоровью, не порождая болезни.
4. Профсоюзы
При оценке экономических и социальных последствий профсоюзного движения фундаментальное значение имеет вопрос: может ли рабочее движение, развивающееся в среде рыночной экономики, с помощью механизма коллективных переговоров и создания ассоциаций преуспеть в обеспечении постоянно высокой заработной платы для всех рабочих? На этот вопрос экономическая теория, как классическая (включая ее марксистское крыло), так и современная (включая ее социалистическое крыло), отвечает категорическим нет. Общественное мнение убеждено, что факты доказали эффективность профсоюзного движения, потому что уровень жизни масс неуклонно возрастал в последние столетия. Но экономисты совершенно иначе объясняют этот факт. Согласно их подходу улучшение обязано прогрессу капитализма, неустанному накоплению капитала и как результат — росту предельной производительности труда. Нет сомнения, что верить следует скорее взглядам экономистов, подтверждаемым действительным ходом развития, чем наивным представлениям людей, которые убеждены, что post hoc ergo propter hoc [390] Конечно, этого совершенно не понимали ни тысячи достойнейших лидеров рабочего движения, которые посвятили свою жизнь организации профсоюзов, ни многие знаменитые филантропы, защищавшие профсоюзное движение как краеугольный камень будущего общества. Истинной трагедией капиталистической эпохи стало то, что эти взгляды оказались ложными и что профсоюзное движение превратилось в самое важное оружие разрушения общества. Социалистическая идеология настолько успешно затуманила природу и особенности профсоюзов, что стало сложно понять, что же такое профсоюзы и чем они занимаются. Публика все еще склонна истолковывать проблему рабочих союзов так, как если бы речь шла о свободе объединений и о праве на забастовку. Но уже десятилетия нет вопроса о том, следует ли предоставлять рабочим свободу создавать ассоциации или право прерывать работу — даже в нарушение трудового соглашения. Ни одно законодательство не отрицает этих прав, поскольку законные наказания за приостановку работы в нарушение соглашения на практике малодейственны. Так что даже самые яростные адвокаты деструкционизма едва вспоминают о праве рабочих на нарушение трудовых соглашений. Когда не так давно некоторые страны, и среди них Великобритания, колыбель современных профсоюзов, попытались ограничить власть профсоюзов, они и в мыслях не имели урезать то, что принято считать неполитической активностью профсоюзов. Закон 1927 г. попытался запретить общенациональные забастовки и забастовки в поддержку других профсоюзов, но ни в какой форме не касался свободы ассоциаций или права на забастовку ради повышения заработной платы. [391]
Общенациональная забастовка и сторонниками, и противниками всегда рассматривалась как дело революционное или в сущности как сама революция. Жизненно важным элементом такой забастовки является более или менее полный паралич всей экономической жизни общества для достижения некоторых желаемых целей. Насколько успешной может быть всеобщая стачка, показал капповский путч, поддержанный как армией Германии, так и незаконными вооруженными формированиями, сумевший изгнать из столицы правительство страны, но в несколько дней сломленный общей стачкой. [392] В этом случае всеобщая стачка была использована как оружие защиты демократии. Но ведь не имеет значения, согласны вы или нет с целями профсоюзов. Факт тот, что в стране, где профсоюзы достаточно сильны, чтобы организовать всеобщую стачку, высшая власть принадлежит не парламенту и зависящему от него правительству, но профсоюзам. Именно понимание реального значения профсоюзного движения подсказало французским синдикалистам их основную идею, что для прихода к власти политические партии должны использовать насилие. Нельзя забывать, что философия насилия, которая пришла на смену миротворческому учению либерализма и демократии, началась как философия профсоюзов. Прославление насилия, столь характерное для политики русских советов, итальянского фашизма и германского нацизма, которое сегодня серьезно угрожает всем демократическим правительствам, имело источником учение революционного синдикализма. Проблемой профсоюзной жизни является принуждение к совместным действиям и забастовкам. Профсоюзы претендуют на право изгонять с работы всех, кто не хочет действовать вместе с ними и кому они отказали в приеме в профсоюз. Они претендуют на право прерывать работу по своему решению, а также на то, чтобы не давать никому занять рабочие места бастующих. Они претендуют на право предотвращать противодействие своим действиям и применять насилие к несогласным, а также любое насилие для достижения успеха.
Каждое объединение становится более бюрократизированным и осторожным в поведении, когда его лидеры стареют. Боевые союзы утрачивают желание нападать и теряют способность стремительными действиями одолевать врагов. Армии милитаристских государств, прежде всего армии Австрии и Пруссии, опять и опять получали урок того, что с престарелыми вождями побеждать трудно. Профсоюзы не исключение из этого правила. Вполне может оказаться, что некоторые из старейших и наиболее развитых отрядов профсоюзного движения временно утратили разрушительную страсть к агрессии и готовность к сражениям. Так что когда пожилые лидеры сопротивляются разрушительной политике пылкой молодежи, инструмент деструкции на какое-то время становится инструментом поддержания status quo [393] Как раз по этой причине радикалы постоянно срамили профсоюзы, а профсоюзы обращались к помощи несоциалистических классов общества, когда они нуждались в поддержке для принудительной юнионизации. Но эти передышки в разрушительной борьбе профсоюзов всегда были короткими. Опять и опять верх одерживали те, кто призывал к непрерывному сражению против капиталистического устройства общества. Сторонники насилия либо вытесняли старых лидеров профсоюзов, либо создавали вместо старых организаций новые. Иначе и быть не могло. Ведь в соответствии с основной идеей профсоюзного движения профессиональные союзы рабочих мыслимы только как орудия разрушения. Как было показано, солидарность членов профсоюзов может опираться только на идею борьбы за уничтожение общественного строя, основанного на частной собственности на средства производства. Не только практическая деятельность профсоюзов, но и их теоретическая основа — деструкционизм.
Краеугольный камень юнионизма — принудительное членство. Рабочие отказываются работать с теми, кто принадлежит к не признаваемой ими организации. Они добиваются увольнения нечленов профсоюза угрозой забастовки, а если это окажется недостаточным, то забастовкой. Уклоняющихся от вступления иногда принуждают с помощью грубого обращения. Нет нужды распространяться, что это насильственное нарушение свободы личности. Все софизмы защитников профсоюзного деструкционизма не смогли изменить в данном отношении общественного мнения. Когда время от времени особенно тяжкие примеры насилия против нечленов профсоюзов делаются известными, даже те газеты, которые всегда более или менее поддерживают деструкционистские партии, вынуждены протестовать.
Оружие профсоюзов — забастовка. Следует ясно представлять, что каждая стачка есть акт насилия, форма вымогательства, средство принуждения по отношению к тем, кто может помешать намерениям бастующих. Ведь забастовка окончится проигрышем, если предприниматель сможет заменить забастовщиков другими рабочими или если забастует только часть рабочих. Альфа и омега профсоюзных прав — возможность применения против штрейкбрехеров самого примитивного насилия. Нас здесь не интересует, как именно профсоюзы в разных странах добыли это право. Достаточно сказать, что в последние десятилетия им это удалось повсеместно, и не столько в результате явных законодательных решений, сколько в силу молчаливой терпимости к такой практике со стороны властей и суда. В Европе годами было невозможно сломить забастовку с помощью найма штрейкбрехеров. Длительное время удавалось по крайней мере избегать забастовок на железных дорогах, в электроэнергетике, водоснабжении и на важнейших предприятиях городского жизнеобеспечения. Но и здесь идеология разрушения, наконец, одержала верх.
Если это понадобится профсоюзам, они угрозой обречь на голод и жажду, холод и тьму смогут принудить к покорности города и страны. Они могут отлучить от типографских машин не нравящиеся им газеты; они могут прекратить доставку по почте нежелательных им изданий и писем. Если они захотят, рабочие будут беспрепятственно саботировать, повреждать орудия и предметы труда, работать так медленно и плохо, что их труд потеряет всякую ценность.
Никто еще не доказал полезности профсоюзов. Нет теории заработной платы, из которой следовало бы, что профсоюзы обеспечивают непрерывный рост реального дохода рабочих. Сам Маркс был далек от предположения, что профсоюзы могут как-либо повлиять на заработную плату. Выступая в 1865 г. перед Генеральным Советом Интернационала [453*], Маркс пытался привлечь своих товарищей к совместным действиям с профсоюзами. Эта цель сквозит в первых словах его выступления. Представление, что стачками нельзя добиться увеличения заработной платы, — популярное во Франции среди прудонистов и в Германии среди лассальянцев — вызывало, по его словам, «возмущение рабочего класса». Но его великолепные тактические способности, которые за год до этого позволили ему в «Учредительном манифесте Международного товарищества рабочих» соединить в одной программе самые различные взгляды на природу, цели и задачи рабочего движения, были брошены в игру ради соединения профсоюзного движения с Интернационалом. Это и побудило его высказать все, что можно в пользу профсоюзов. Тем не менее, ему достало осторожности не связывать себя утверждением, что профсоюзы могут обеспечить непосредственное экономическое улучшение положения рабочих. Он считал, что профсоюзы должны возглавить борьбу с капитализмом. Судя по тому, чего он ожидал от выступления профсоюзов, не приходится сомневаться в отведенной им роли. «Вместо консервативного девиза «Справедливая заработная плата за справедливый рабочий день» рабочие должны написать на своем знамени революционный лозунг: «Уничтожение системы наемного труда!» Они терпят неудачу, поскольку ограничиваются партизанской борьбой против следствий существующей системы, вместо того чтобы одновременно стремиться изменить ее, вместо того чтобы использовать свои организованные силы в качестве рычага для окончательного освобождения рабочего класса, т. е. окончательного уничтожения наемного труда» [454*]. Маркс едва ли мог яснее сказать, что для него профсоюзы не более чем орудие разрушения капиталистического общества. Эмпирически-реалистическим политэкономам и ревизионистам марксизма остается утверждать, что профсоюзам удавалось постоянно удерживать заработную плату выше того уровня, который существовал бы без профсоюзов. Эту идею не нужно даже оспаривать, потому что никто и не пытался теоретически ее обосновать. Она остается совершенно бездоказательным утверждением, которое вовсе не принимает в расчет взаимосвязь экономических факторов.
Профсоюзная политика забастовок, насилия и саботажа не может претендовать ни на какие заслуги в улучшении положения рабочих [455*]. Она только расшатывает до основания искусно выстроенное здание капиталистической экономики, в которой день ото дня повышается жизненный уровень всех, вплоть до беднейших рабочих. Да и действует эта политика не в интересах социализма, а в интересах синдикализма.
Если бы рабочие отраслей, не имеющих, так сказать, жизненно важного значения, сумели добиться заработной платы большей, чем диктуется ситуацией на рынке, это привело бы в движение силы по восстановлению нарушенного рыночного равновесия. Если, однако, рабочие жизненно важных отраслей смогли бы с помощью забастовки или угрозы забастовки добиться для себя выполнения требований о более высокой заработной плате, а также удовлетворения иных претензий, выдвигающихся рабочими других отраслей, положение стало бы совсем иным. Мало сказать, что эти рабочие стали бы действительными монополистами, поскольку то, о чем идет речь, лежит за пределами понятия рыночной монополии. Если забастуют работники всех транспортных предприятий и при этом еще сумеют заранее расстроить все попытки им помешать, они станут абсолютными тиранами на соответствующих территориях. Могут сказать, что они будут пользоваться своей властью сдержанно, но это не изменяет того факта, что они обладают властью. При таком раскладе в стране будут только два сословия: члены профсоюзов жизненно важных отраслей и все остальные, которые станут бесправными рабами. Так мы придем к обществу, в котором «незаменимые рабочие с помощью насилия господствуют над остальными классами» [456*].
И возвращаясь еще раз к вопросу о власти, хорошо бы внимательно посмотреть, на чем держится эта власть, да и любая другая. Власть организованных в профсоюзы рабочих, перед которой сейчас трепещет весь мир, держится на той же самой основе, что и власть всех других тиранов во все времена; это не что иное, как продукт идеологии. Десятилетиями людям вдалбливали: профсоюзы полезны и необходимы отдельным людям, так же как и обществу; только болезненный эгоизм эксплуататоров может мечтать о поражении профсоюзов; забастовщики всегда борются за правое дело, и нет худшего позора, чем штрейкбрехерство; попытки защитить желающих работать, когда все бастуют, безнравственны. Поколение, получившее воспитание в последние десятилетия, с детства усвоило, что важнейший общественный долг рабочего — быть членом профсоюза. Стачка стала означать своего рода святое действо, социальное таинство. На этой идеологии и базируется власть рабочих союзов. Она непременно рухнет, когда эту идеологию сменят другие взгляды на значение и достижения профсоюзного движения. Именно поэтому самые сильные профсоюзы вынуждены использовать свою власть особенно осторожно. Ведь слишком давя на общество, они заставят людей размышлять о природе и результатах профсоюзной деятельности, что приведет к пересмотру и отвержению господствующего сегодня учения. Так обстоит дело со всеми носителями власти, и профсоюзы здесь не исключение.
Одно совершенно ясно: если бы когда-либо состоялось тщательное рассмотрение права на забастовку рабочих жизненно важных отраслей, доктрина профсоюзных организаций об обязательном участии всех рабочих в забастовке лопнула бы, а такие штрейкбрехерские организации, как «Technische Nothilfe», сорвали бы все аплодисменты, которые сегодня расточаются забастовщикам. [394] Возможно, что в сражениях, которые могут произойти вследствие этого, общество будет разрушено. Но нет никаких сомнений, что общество, поощряющее деятельность профсоюзов в соответствии с ныне господствующими воззрениями, стоит на верном пути к саморазрушению в самое ближайшее время.
5. Страхование по безработице
Помощь безработным проявила себя как одно из действеннейших орудий деструкционизма.
Система страхования по безработице создавалась на основании той же логики, что и система страхования по болезни и от несчастных случаев. Безработицу рассматривали как неудачу, обрушивающуюся на человека подобно лавине, накрывающей долину. Никому не пришло в голову, что правильнее говорить о страховании заработной платы. Ведь то, о чем сожалеет безработный, — не работа, а вознаграждение за работу. Не понимают, что дело вовсе не в том, что «безработные» вообще не могут найти какую-либо работу, а в том, что они не желают работать за ту заработную плату, которая предлагается на рынке труда за то, что они могут и хотят делать.
Ценность системы страхования по болезни и от несчастных случаев потому проблематична, что застрахованный может быть заинтересован в создании или обострении ситуации, с которой связана выплата страховки. В случае страхования по безработице страхуемая ситуация наверняка не может возникнуть, если застрахованный сам этого не захочет. Если бы он не вел себя как член профсоюза, а снизил бы требования, изменил место жительства или профессию в согласии с требованиями рынка труда, то тогда смог бы найти работу. Пока мы живем в реальном мире, а не в стране беспредельной мечты, труд остается редким благом. Иными словами, спрос на труд будет всегда. Безработица — проблема заработной платы, а не работы. От безработицы так же нельзя застраховать, как, например, от затруднений со сбытом товаров.
Это, конечно, неправильный термин — страхование от безработицы. Статистически обосновать такой вид страхования невозможно. Многие страны осознали это и отбросили слово «страхование» или, по крайней мере, игнорируют выводы из него. Теперь речь идет о незамаскированной «помощи». Она позволяет профсоюзам поднимать заработную плату до такого уровня, что только часть желающих работать может найти рабочее место. Помощь безработным и есть то самое, что порождает безработицу как постоянное явление. В настоящее время многие европейские страны отпускают для этой цели суммы, существенно превосходящие бюджетные возможности.
Тот факт, что почти в каждой стране существует постоянная массовая безработица, рассматривается общественным мнением как твердое доказательство, что капитализм не способен решать экономические проблемы, а значит, необходимы правительственное вмешательство, тоталитарное планирование и социализм. Этот аргумент делается неотразимым, когда люди вспоминают, что единственная большая страна, которая не страдает от безработицы, — это коммунистическая Россия. Логическая сила этого аргумента, однако, очень слаба. Безработица в капиталистических странах существует потому, что политика правительств и профсоюзов направлена на поддержание такого уровня заработной платы, который не соответствует существующей производительности труда. Действительно, сколько можно видеть, в России нет широкомасштабной безработицы. Но уровень жизни русского рабочего много ниже, чем получателя пособия по безработице в капиталистических странах Запада. Если бы британские или другие европейские рабочие согласились на заработную плату более низкую, чем в настоящее время, но все-таки в несколько раз превышающую зарплату русского рабочего, безработица исчезла бы и в этих странах. Безработица в капиталистических странах не доказывает неэффективности капиталистической экономики, так же как отсутствие безработицы в России не доказывает эффективности коммунистической системы. Но тот факт, что массовая безработица существует почти в каждой капиталистической стране, есть самая значительная угроза сохранению капиталистической системы. Постоянная массовая безработица разрушает моральные основы общественного порядка. Молодые люди, завершившие обучение и обреченные на досуг, представляют собой «закваску» для большинства радикальных политических движений. Из них рекрутируются солдаты грядущей революции.
В этом трагизм нашей ситуации. Друзья профсоюзов и политики пособий по безработице честно верят, что нет другого способа поддерживать приличные условия жизни масс, чем политика профсоюзов. Они не видят, что в длительной перспективе все усилия удержать заработную плату на более высоком уровне, чем диктуемый предельной производительностью труда, ведут к безработице, а пособия по безработице только увековечивают ту же безработицу. Они не видят, что помощь жертвам — пособия по безработице и общественные работы — ведет только к проеданию капитала, а оно со временем отзовется дальнейшим снижением уровня заработной платы. Ясно, что при настоящих условиях нет возможности уничтожить одним ударом пособия по безработице и другие, менее важные способы помощи безработным, например общественные работы. Одна из неприятнейших черт государственного вмешательства та, что очень трудно повернуть процесс в обратную сторону: отказ от вмешательства создает проблемы, которые почти невозможно разрешить удовлетворительным образом. Сейчас величайшая проблема интервенционизма — как найти выход из лабиринта интервенционистской политики. Ведь то, что делалось в последние годы, есть лишь попытка замаскировать результаты экономической политики, которая привела к снижению производительности труда. Теперь необходим в первую очередь возврат к политике, которая бы обеспечивала рост производительности труда. Это предполагает, конечно, полный отказ от протекционизма, от налогов на импорт и импортных квот. Нужно восстановить условия, при которых труд мог бы свободно перетекать из отрасли в отрасль, из страны в страну.
Не капитализм несет ответственность за зло постоянной массовой безработицы, а политика, которая парализует работу капитализма.
6. Обобществление
Либерализм устранил государственное производство товаров и государственную собственность в народном хозяйстве. Почтовая служба была едва ли не единственным исключением из общего правила, что средства производства должны находиться в частных руках, а все виды хозяйственной деятельности должны вестись исключительно частными лицами. Защитники этатизма преодолели массу трудностей, чтобы обосновать целесообразность национализации почтовой и тесно с ней связанной телеграфной службы. На первое место они выдвигали политические аргументы. Но при обсуждении всех за и против государственного контроля почты и телеграфа обычно смешивают две вещи, которые следовало бы рассмотреть раздельно: вопрос о единстве сети услуг и о передаче этой сети государству. Никто не отрицает, что почта и телеграф являют превосходные возможности для объединения, и даже при полной свободе неизбежно образование трестов, что приведет фактически к монополиям, охватывающим по меньшей мере определенные края. Ни в каких других предприятиях преимущества концентрации не видны так ясно. Но из признания этого никак не следует, что именно государство должно получить законную монополию на предоставление таких услуг. Легко показать, что государственное управление неэкономично, что оно медлительно в деле расширения сети распространения писем и посылок и что нужно преодолеть немалые трудности, чтобы понудить его к улучшению деятельности. Но и в этой сфере огромный прогресс был достигнут по инициативе частных предпринимателей. В основном частным предприятиям мы обязаны развитию широкомасштабной системы телеграфа: в Англии телеграфная сеть была национализирована только в 1869 г., а в США она до сих пор в руках акционерных компаний. Подводные кабели большей частью принадлежат частным предприятиям. Даже немецкий этатизм колебался, не «освободить» ли государство от сотрудничества с частными предприятиями при прокладке подводного кабеля. Либералы того времени также защищали принцип полной свободы в оказании почтовых и телеграфных услуг и с немалым успехом вскрывали недостатки государственных предприятий [457*]. То, что, в конце концов, эти отрасли не были денационализированы, следует приписать только тому обстоятельству, что обладатели политической власти нуждались в почте и телеграфе для господства над общественным мнением.
Армейские власти, которые повсюду достаточно неприязненны к предпринимателям, признали их превосходство, передав им заказы на изготовление оружия и снаряжения. Значительный прогресс военной техники начался с момента, когда, частные предприятия взялись за производство вооружений. Государство не могло отрицать, что предприниматели производят лучшее оружие, чем государственные служащие; доказательство этого на полях сражений было столь убедительным, что просветило даже самых упрямых сторонников государственной промышленности. В XIX столетии государственные арсеналы и верфи почти полностью исчезли либо были преобразованы в простые склады, а их место заняли частные предприятия. Защитники этатизма в парламенте и в литературе, требовавшие национализации оружейной промышленности, мало преуспели даже в период расцвета этатистской идеологии перед первой мировой войной. Генеральные штабы хорошо понимали преимущество частных предприятий.
Некоторые доходные монополии, существовавшие с давних времен, не были уничтожены даже в эпоху либерализма — ради интересов казны. Они сохранились, потому что на них смотрели как на удобный способ сбора налога на потребление. При этом ни у кого не было иллюзий относительно неэкономичности государственного предпринимательства, например, в управлении табачной монополией. Но прежде, чем либерализм смог совершить прорыв для внедрения своих принципов в эти отрасли, социализм повернул движение вспять.
Первая в современный период волна национализации и муниципализации имела мало общего с современным социализмом. Большую роль в истоках движения сыграли старые идеи полицейского государства, а также чисто военные и политические соображения. Но скоро в этом движении начала доминировать социалистическая идеология. Оно превратилось в сознательную социализацию, которую проводили государства и муниципалитеты. Лозунгом было: долой неэкономичные частные предприятия, долой предпринимательство.
Сначала на процесс национализации и муниципализации никак не влияла низкая эффективность социалистического производства. Предостерегающих голосов никто не слышал. Их перекрывали шумные настоятельные требования этатистов, социалистов и всех других заинтересованных элементов. Люди предпочитали не видеть недостатков правительственных предприятий, а потому и не видели их. Лишь одно обстоятельство ограничивало чрезмерную прыть врагов частного предпринимательства — финансовые трудности большинства общественных предприятий. Политические причины мешали правительствам полностью перенести на потребителей высокие издержки государственного управления производством, в силу чего убытки эксплуатации были частым делом. Приходилось утешаться тем, что общие экономические и социально-политические преимущества государственных и муниципальных предприятий стоят жертв. Тем не менее, дальнейшую этатизацию стали проводить осторожнее. Замешательство правительственных экономистов сделало явным то, что они начали маскировать причины экономических провалов обобществленных предприятий. Убытки объяснялись особыми обстоятельствами вроде личных ошибок управляющих и неверных методов организации. Вновь и вновь приводили как образец хорошего управления прусские государственные железные дороги. Действительно, эти дороги приносили хорошую прибыль, но тут были особые причины. Пруссия построила самую важную часть сети государственных железных дорог в первой половине 80-х годов, в период чрезвычайно низких цен. Оборудование и расширение этой сети проведены в общем и целом до мощного подъема немецкой промышленности, который начался во второй половине 90-х годов. Так что не было ничего удивительного в том, что эти железные дороги приносили хорошую прибыль: загрузка сама по себе росла год от года, уголь был на каждом шагу, условия эксплуатации были благоприятными. Ситуация сложилась так, что они приносили прибыль, несмотря на то, что принадлежали государству. То же самое было с газом, водой и электроснабжением, с трамвайной сетью нескольких больших городов. Но выводы, которые из всего этого делались, были совершенно неверными.
Вообще говоря, в результате национализации и муниципализации издержки эксплуатации пришлось возмещать за счет налогов. Так что можно смело сказать, что никакой другой лозунг не выдвигался в менее подходящий момент, чем требование Гольдшейда о «преодолении налогового государства». [395] Гольдшейд полагал, что финансовые сложности государства, вызванные мировой войной и ее последствиями, нельзя устранить старыми методами финансирования государственных расходов. Доход от налогообложения частных предприятий сокращается. Значит, нужно сделать государство собственником путем отчуждения капиталистических предприятий, чтобы государство смогло покрывать расходы из прибылей собственных предприятий [458*]. Здесь телега поставлена впереди лошади. Финансовые трудности возникли как раз потому, что налоги стали недостаточными для предоставления необходимых дотаций обобществленным предприятиям. Дальнейшая национализация предприятий не устранила бы зло, но усилила бы его. Бесприбыльность общественных предприятий и в самом деле перестала бы быть различимой в общей сумме бюджетного дефицита, но положение населения при этом ухудшилось бы. Бедность и нищета возросли бы, а не сократились. Чтобы справиться с финансовыми затруднениями государства, Гольдшейд предлагает довести социализацию до последнего конца. Но ведь финансовые неприятности наступили как раз вследствие того, что социализация уже зашла слишком далеко. Они исчезнут только с возвращением социалистических предприятий в частную собственность. Пришло время, когда невозможность двигаться дальше в том же направлении стала очевидной для всех, когда даже слепые «увидели», что социализм несет упадок всей цивилизации. Усилия центрально-европейских стран одним ударом социализировать все, были сорваны не сопротивлением буржуазии, а тем фактом, что дальнейшее обобществление стало невозможным по финансовым причинам. Систематическая, холодно обдуманная социализация, которая проводилась государствами и общинами перед войной, забуксовала из-за того, что результаты оказались очень уж наглядными. Продолжить ее под другим именем, как это пытались сделать комиссии по социализации в Германии и в Австрии, не удалось. Успех был невозможен, по крайней мере с использованием старых методов. Голос разума, убеждавший людей не делать ни шага дальше в этом направлении, нужно было заставить замолчать, критику — устранить хмелем энтузиазма и фанатизма, оппонентов — убить, поскольку другого способа переубедить их не было. Большевизм и спартакизм были последним оружием социализма. [396] В этом смысле они являются неизбежным результатом политики деструкционизма.
7. Налогообложение
Для классического либерализма XIX века, который считал нужным оставить государству только вопросы безопасности личности и собственности граждан, проблема финансирования общественных услуг имела небольшое значение. Администрация либерального общества стоит так мало по сравнению с национальным доходом, что не столь уж важно, как именно собирать средства для ее содержания. Если либеральные авторы того периода все-таки занимались поиском лучшей системы налогообложения, то только из стремления наиболее рационально организовать общественную жизнь во всех ее деталях, а вовсе не потому, что видели здесь одну из главных проблем общества. Приходилось, конечно, принимать во внимание, что нигде в мире либеральные идеалы не были реализованы и что надежды на их полную реализацию в ближайшем будущем невелики. Но так как признаки либерализации были повсеместно очевидны, была надежда, что отдаленное будущее принадлежит либерализму. Силы прошлого были еще достаточно велики, чтобы замедлить процесс, но имелась уверенность, что они уже не смогут полностью остановить его или повернуть вспять. Либералы признавали, что еще существуют механизмы завоевания и насилия, еще есть армии, тайные дипломатические соглашения, войны, тарифы, государственное вмешательство в дела промышленности и торговли — короче говоря, интервенционизм различного рода во внутренней и внешней политике, и потому народы должны быть готовы к тому, чтобы еще немалое время предоставлять значительные суммы на правительственные расходы. Вопросы налогообложения были малосущественны в чисто либеральном государстве, но в авторитарных государствах они приковывали растущее внимание. Либералы того времени, рекомендовали сокращение государственных расходов. Но раз уж этого добиться не удавалось, следовало найти такие способы сбора нужных средств, чтобы они причиняли ущерба не больше, чем абсолютно неизбежно.
Чтобы правильно понять налоговые идеи либерализма, нужно иметь в виду, что для либеральных политиков всякий налог есть зло (хотя до известной степени и необходимое), а государственные расходы следует удерживать на возможно более низком уровне. Когда они рекомендовали использовать тот или иной налог, точнее говоря, когда они признавали его менее вредоносным, чем другие формы налогов, они всегда имели в виду сравнительно небольшие потребности казны. Низкий уровень налогообложения есть составная часть всех либеральных налоговых программ. Только это объясняет их отношение к подоходному налогу, который они первые сделали предметом обсуждения в контексте финансирования государственных расходов. Отсюда же идет готовность либералов освободить от налога доходы на уровне прожиточного минимума и понизить налоговые ставки на небольшие доходы [459*].
Социалистическая финансовая политика также представляет собой только временную конструкцию, рассчитанную исключительно на условия переходного периода. Для социалистического государства, где все средства производства принадлежат обществу, и все доходы попадают сначала в государственные сундуки, вопросы финансов и налогообложения вообще не существуют в том смысле, в каком с ними приходится иметь дело в обществе, основанном на частной собственности. Те формы социализма, которые подобно государственному социализму намерены сохранить видимость частной собственности, на деле также не будут нуждаться в налоговом механизме, хотя они, может быть, и захотят сохранить имя и легальные формы налогообложения. Они будут просто декретировать, какую часть общественного дохода, полученного на частных предприятиях, могут оставить себе номинальные собственники, а сколько следует отдавать государству. Здесь и речи не будет о налоговой системе, которая налагает определенные тяготы на индивидуальное предприятие, но предоставляет рынку выявить ее воздействие на цены и заработную плату, на уровень процента и ренты. Проблемы финансирования государственных расходов и налоговой политики существуют только там, где существует частная собственность на средства производства.
Но и для социалистов финансирование государственных расходов делается все более важной проблемой по мере того, как переходный период от капитализма к новому обществу затягивается. И это неизбежно, поскольку они постоянно расширяют область, относящуюся к ведению государства, что ведет соответственно к росту расходов. В результате им приходится брать на себя ответственность за увеличение доходов государства. Социалистическая политика стала решающим фактором роста государственных расходов, социалистические требования определяют налоговую политику, и в социалистических программах проблема финансирования публичных расходов все больше выдвигается на первый план.
Классическая экономическая школа, несмотря на все ошибки в теории ценности, серьезно продвинула теорию налогообложения. Когда либеральные политики критиковали существовавшее положение и предлагали реформы, они опирались на осуществленное Рикардо блистательное исследование предмета. [397] Социалистические политики подошли к делу много проще. У них не было собственного мнения по этому вопросу, а у классических авторов они выбирали то, что требовалось текущей политикой, — изолированные замечания, вырванные из контекста и посвященные преимущественно частным особенностям налога на потребление. Они сымпровизировали варварскую систему, которая нигде и близко не подходила к решению основных проблем, но зато была так проста и понятна толпе. Налоги должны платить богатые: предприниматели, капиталисты, словом, — другие; рабочие, т. е. избиратели, голоса которых были так ценны в тот момент, освобождались от уплаты налогов. Все налоги на потребительские товары массового спроса, даже на алкогольные напитки, предлагалось отменить, поскольку они обременяют людей. Прямые налоги можно поднимать сколь угодно высоко в зависимости от нужд правительства, лишь бы доходы и собственность рабочих оставались неприкосновенными. Защитникам этой популярной налоговой политики ни на миг не приходило в голову, что прямые налоги и налоги на торговлю могут запустить цепочку таких реакций, что в результате понизится уровень жизни тех самых классов, особые интересы которых предполагалось защитить. Люди нечасто задаются вопросом: не может ли ограничение капиталообразования в результате налогообложения собственности нанести ущерб и неимущим классам общества? Налоговая политика все больше вырождается в политику конфискаций. Ее цель — изъять подчистую с помощью налогов все виды богатства и дохода от собственности. В этом походе на богатых к собственности, представленной в виде торговых и промышленных предприятий, акций и облигаций, относятся безжалостней, чем к земельной собственности. Налогообложение становится излюбленным орудием интервенционизма. Налоговые законы теперь не направлены в первую очередь или исключительно на увеличение государственных доходов; они больше служат не фискальным, а другим целям. Иногда их связь с финансовой политикой становится просто обратной по отношению к норме. Некоторые налоги начинают выглядеть как форма наказания за поведение, признанное вредным: налог на большие магазины должен затруднить универмагам конкуренцию с малыми лавками; налог на биржевые сделки задуман для ограничения спекуляций. Налоги делаются настолько многочисленными и разнообразными, что при всякой сделке следует прежде всего поразмыслить, как она скажется на величине налогов. Бессчетное множество деловых проектов пылится в столах, поскольку налоговый пресс сделал бы их неприбыльными. Во многих странах высокие пошлины на создание, поддержание, слияние и ликвидацию акционерных обществ серьезно стесняют развитие системы.
Лучший путь к популярности для всяких демагогов — постоянно требовать высоких налогов на богачей. Высокие налоги на капитал и на большие доходы чрезвычайно популярны в народе, который не должен их платить. Сборщики и налоговые инспектора выполняют свою работу с энтузиазмом; они склонны увеличивать величину налогов, используя разные хитрости толкования статей налоговых кодексов.
Деструкционистская налоговая политика достигает кульминации при обложении капитала. Имущество сначала экспроприируется, а затем проедается. Капитал преобразуется в потребительские блага. Результаты всего этого понять несложно. И несмотря на это, вся популярная налоговая политика наших дней ведет сегодня именно к таким «достижениям».
Конфискация капитала с помощью налоговой системы не является ни социалистической политикой, ни средством построения социализма. Она ведет не к обобществлению средств производства, а к их проеданию. Только когда конфискационное налогообложение осуществляется в социалистическом обществе, которое сохраняет имя и формы частной собственности, оно становится частью социалистической политики. Во времена «военного социализма» такие налоги дополняли меры экономического принуждения и помогали подталкивать развитие всей системы в сторону социализма [460*]. [398] В социалистической системе, где средства производства целиком и полностью обобществлены, исчезает сама возможность сохранения налогов на собственность или на доходы от собственности. Когда социалистическое общество облагает налогом своих членов, это никак не затрагивает распределения собственности на средства производства.
Маркс неодобрительно отзывался о стремлениях изменить общественный строй с помощью налоговой политики. Он упорно настаивал на том, что налоговая реформа не может создать социализма [461*]. Его понимание роли налогов в капиталистическом обществе отличалось также и от представлений вульгарных социалистов. По одному поводу он сказал, что утверждение, «будто подоходный налог не затронет рабочих это явный абсурд: при существующей у нас в настоящее время социальной системе предпринимателей и наемных рабочих буржуазия в случае дополнительного обложения всегда компенсирует себя понижением заработной платы или повышением цен» [462*]. Но уже «Коммунистический манифест» требовал «высокого прогрессивного налога», а социал-демократические партии всегда настаивали на самой радикальной налоговой политике. [399] И в этой области они развивались в направлении деструкционизма.
8. Инфляция
Инфляция — последнее слово деструкционизма. Большевики, — с их неподражаемым даром рационализации чувства обиды и толкования поражений как побед — представили свою финансовую политику как попытку уничтожить капитализм развалом денежной системы. Но инфляция, хоть и разоряет капитализм, не уничтожает частной собственности. Она может сильно изменить распределение богатств и доходов, разрушить тонко настроенный механизм производства, основанного на разделении труда, она может возродить натуральную экономику, если только не удастся использовать металлические деньги или хотя бы бартер. Но она не может ничего создать, в том числе и социалистический способ производства.
Разрушая базу исчисления ценности — возможность расчетов с использованием общего знаменателя цен, который бы не слишком колебался, по крайней мере в короткие промежутки времени, инфляция ломает систему денежного исчисления — самое важное изо всех необходимых экономике изобретений. Пока она держится в некоторых границах, инфляция является отличной психологической опорой политики проедания капитала. При обычном, а, по сути, единственно возможном, методе капиталистического счетоводства инфляция создает иллюзию прибыли, когда на деле одни убытки. Предприниматели отталкиваются от прежней номинальной денежной цены и в результате слишком мало отчисляют на амортизацию основного капитала, а поскольку они учитывают номинальное возрастание стоимости оборотного капитала так, как если бы оно отражало реальное возрастание ценности, то в балансе возникают прибыли там, где при исчислении в стабильной валюте были бы убытки [463*]. Конечно же, инфляция не устраняет последствий дурной этатистской политики, войны и революции, но она позволяет скрыть их от глаз большинства. Люди говорят о прибыли, они полагают, что живут в период экономического процветания, и они даже приветствуют мудрую политику, которая явно делает каждого богаче.
Но когда инфляция пересекает определенную точку, картина изменяется. Она начинает стимулировать деструкционизм не только косвенно, скрывая результаты деструкционистской политики; инфляция сама по себе становится одним из важнейших орудий разрушения общества. Она ведет всех к проеданию богатства; она отвращает от бережливости, а значит, останавливает процесс образования новых капиталов. Она стимулирует конфискационную налоговую политику. Обесценение денег поднимает номинальные цены товаров и как следствие — номинальную денежную оценку капитала, что налоговое ведомство толкует как возрастание дохода и капитала. Номинально выросшие доходы и капитал подпадают в свою очередь под очередную налоговую конфискацию. Ссылка на кажущиеся высокими прибыли предпринимателей, отражаемые в бухгалтерских балансах, которая не учитывает процесс изменения стоимости денег, представляет собой отличный метод стимулирования массовой ярости. Это дает возможность представить всю предпринимательскую деятельность как спекуляцию, жульничество и паразитизм. Следующий за этим хаос, коллапс денежной системы под натиском несдерживаемого лавинообразного выпуска дополнительных денежных бумажек создают благоприятную ситуацию для завершения дела разрухи.
Разрушительность политики интервенционизма и социализма ввергла мир в великие бедствия. Политики бессильны перед лицом вызванного ими кризиса. Они не могут посоветовать никакого другого выхода, кроме новой инфляции, или, как они это теперь называют, рефляции. Экономическую жизнь нужно «еще раз пришпорить» с помощью новых банковских кредитов (т. е. с помощью дополнительных «оборотных» кредитов), как советуют умеренные, или с помощью новых выпусков бумажных денег, как требуют более радикальные программы.
Но увеличение количества денег и fiduciary media в обращении не сделают мир богаче, не восстановят то, что уже разрушено. [400] Кредитная экспансия ведет сначала к буму, но рано или поздно этот бум оканчивается крахом и новой депрессией. Трюки с банковскими кредитами и деньгами приносят только временное и кажущееся облегчение. В конце концов, они ввергают страну в глубокую катастрофу. Эти методы наносят тем больший урон благосостоянию общества, чем дольше люди умудряются дурачить себя иллюзией процветания, которую порождает постоянная кредитная экспансия [464*].
9. Марксизм и деструкционизм
Социализм не желал сознательного разрушения общества. Он думал создать более высокую форму общественной жизни. Но поскольку существование социалистического общества невозможно, каждый шаг в этом направлении вредоносен.
История марксистского социализма очень хорошо показывает, что любая социалистическая политика непременно оборачивается разрушением. Марксизм характеризовал капитализм как необходимую предварительную ступень к социализму и ждал прихода нового общества как следствия зрелого капитализма. Если стоять на почве этой части учения Маркса (правда, он выдвигал и другие теории, совершенно несовместимые с этой), тогда политика всех партий, признающих авторитет Маркса, есть политика немарксистская. Марксисты должны были всячески бороться со всем, что препятствует развитию капитализма. Им бы следовало выступать против профсоюзов с их методами, против законов о защите труда, против принудительного социального страхования, против налогов на собственность. Марксисты должны были бы сражаться с законами, препятствующими работе бирж и затрудняющими обмен, с установлением фиксированных цен, с преследованием картелей и трестов. Марксистам нужно было бы противодействовать инфляционной политике. Но они во всем поступали как раз наоборот. Они удовлетворялись повторением проклятий Маркса в адрес «мелкобуржуазной» политики, не делая из этого никаких выводов. Марксисты, которые вначале хотели определенно отмежеваться от политики партий, исповедовавших докапиталистические идеалы, скатились к этой точке зрения.
Вражда между марксистами и партиями, которые гордо именуют себя антимарксистскими, с обеих сторон ведется в таких грубых выражениях, что легко сделать предположение об их полной непримиримости. Но это никоим образом не так. И марксизм, и национал-социализм согласны друг с другом в отрицании либерализма и капиталистического общественного порядка. Оба стремятся к социалистическому переустройству общества. Их программы рознятся только небольшими и, как легко показать, малосущественными отличиями в представлениях о будущем социалистическом государстве. Агитационные требования национал-социализма отличаются от марксистских. Марксисты говорят об уничтожении товарного характера труда, национал-социалисты — о разрушении процентного рабства. У марксистов в ответе за все зло капиталисты, национал-социалисты предпочитают выражаться более конкретно: «Juda verrecke» [401] [465*].
Что на самом деле разделяет марксизм, национал-социализм и другие антикапиталистические партии, так это не только борьба клик, размолвки и личные обиды, слова и формы, но и вопросы философии и жизненного поведения. И все же они согласны между собой в решающем вопросе переустройства общественной жизни: они отрицают частную собственность на средства производства и жаждут построения общества на началах социализации собственности. Действительно, их пути к общей цели совпадают только на коротких отрезках, но даже когда они расходятся, они пролегают по смежным территориям.
Неудивительно, что при всей этой взаимной близости они отчаянно враждуют между собой. В социалистическом обществе судьба политических меньшинств должна быть невыносимой. Как смогут национал-социалисты жить при большевистском правлении или как смогут жить большевики под национал-социалистами?
На результаты деструкционистской политики не влияет, под какими лозунгами и знаменами выступают ее проводники. Придут ли к власти «левые» или «правые», «завтра» все равно будет без колебаний принесено в жертву «сегодняшнему дню», и чтобы как-то поддержать систему, капитал будет проедаться, пока еще остаются хоть крохи. [466*]
Глава XXXV. Преодоление деструкционизма
1. «Интерес» как помеха на пути деструкционизма
Согласно Марксу, политические убеждения индивидуума определяются его классовой принадлежностью; политические верования его класса определяются классовыми интересами. Буржуазия обречена на приверженность к капитализму. В то же время пролетариат может достичь своих целей, только освободившись от капиталистической эксплуатации, расчищая путь к социализму. Таким образом, взаимные позиции пролетариата и буржуазии заранее определены. Возможно, никакая другая часть учения Маркса не оказала более глубокого или более продолжительного влияния на политическую теорию, чем эта. Она оказалась принятой далеко за пределами марксизма. Либерализм начали рассматривать как выражение классовых интересов буржуазии и большого бизнеса. На либералов стали смотреть как на более или менее благонамеренных выразителей частных интересов, стоящих на позициях, враждебных общему благу. Экономисты, отрицающие учение Маркса, характеризуются как «духовные телохранители капитала, а порой и земельной ренты» [467*], — замечательно удобная теория, избавляющая марксистов от необходимости вступать в дискуссии.
Ничто так не свидетельствует о широчайшем признании этой доктрины Маркса, как тот факт, что ее приняли даже противники социализма. Когда предполагают, что отражение социалистических атак есть исключительно или большей частью задача собственнических классов, когда для противодействия социализму пытаются создать «объединенный фронт» всех буржуазных партий, тем самым признают, что сохранение частной собственности на средства производства есть частный интерес определенных классов и эта задача противоречит целям общественного благосостояния. Странно близорукие противники социализма не сознают, что любые попытки со стороны сравнительно малочисленного класса защитить свои особые интересы тщетны; они не понимают, что частная собственность обречена, если она не более чем привилегия собственников. Еще менее они способны постичь, что их предпосылки решительно противоречат опыту образования действенных политических партий.
Либерализм не является доктриной, которая служит классовым интересам собственников. Тот, кто воспринимает дело иначе, уже подпал под влияние ведущего тезиса социализма, и он — не либерал. Либерализм поддерживает частную собственность не ради интересов собственников, но ради общих интересов;
он верит, что капитализм служит не только интересам капиталистов, но интересам каждого члена общества. Либерализм признает, что в социалистическом обществе, по всей вероятности, не будет неравенства доходов. Но при этом утверждает, что из-за малого объема производства при социализме сумма подлежащих дележу благ и соответственно доля каждого окажутся меньше, чем получает беднейший член капиталистического общества. Другой вопрос — принимается или отвергается этот тезис. Как раз по этому вопросу и конфликтуют между собой либерализм и социализм. Отвергающий этот тезис отвергает тем самым и либерализм. Но было бы неразумно отвергнуть его без дотошного рассмотрения проблем и аргументов каждой стороны.
На деле нет ничего более далекого от классовых или индивидуальных интересов предпринимателей, чем защита принципов частной собственности или борьба с принципами социализма. Те, кто верит, что социализм означает всеобщую нужду и бедствия, непременно будут верить в то, что социализм больно поразит в первую очередь предпринимателей и капиталистов или, по крайней мере, их детей. Таким образом подчеркивается заинтересованность собственников в противодействии социализму. Но они заинтересованы не больше, чем любые другие члены общества, и этот интерес вовсе не связан с их положением собственников. Если предположить, что социализм может быть введен полностью за одну ночь, тогда можно утверждать, что предприниматели и капиталисты имеют особенный интерес в поддержании капитализма. Им есть что терять. Даже если бы страдания от перемен были одинаковы для всех, все-таки падать с большой высоты больнее. Но нельзя ведь представить себе стремительный переход к социализму, а значит, можно предположить, что предприниматели благодаря опыту и умению принимать на себя ответственность займут, по крайней мере на время, привилегированное положение и в социалистическом обществе.
Предприниматель не может материально обеспечить своих внуков и правнуков, поскольку характернейшим свойством частной собственности на средства производства при капитализме является то, что она не образует вечного фонда, приносящего ренту, а постоянно должна заново завоевываться. Когда феодальный властитель стоял горой за феодальную собственность, он защищал не только свое владение, но и наследство своих внуков и правнуков. В капиталистической системе предприниматель знает, что его дети и внуки выживут в борьбе с новыми конкурентами, только если сумеют утвердить свое положение руководителей прибыльных предприятий. Если он озабочен судьбой наследников и желает вопреки общим интересам гарантировать их собственность, ему придется стать врагом капиталистического устройства и требовать всяческого ограничения конкуренции. При этом даже социализм для такого предпринимателя может показаться хорошим средством. Поскольку переход не будет внезапным, и он получит компенсацию за экспроприированное, то может более или менее длительное время наслаждаться стабильным доходом, вместо того чтобы испытывать судьбу собственника предприятия, уделом которого являются неопределенность и риск. Таким образом, забота о собственности своей и наследников может скорее привлечь предпринимателя к поддержке социализма, чем к противостоянию с ним. Он должен бы приветствовать все меры, которые направлены на подавление возникающих или растущих состояний, и особенно меры, ограничивающие всемерно экономическую свободу, поскольку только они, устраняя конкурентов, создают надежную защиту для уже заработанного дохода, который в противном случае пришлось бы отстаивать в ежедневной борьбе с новыми претендентами. [468*]
Предприниматели заинтересованы в объединении для успеха переговоров об уровне заработной платы с работниками, объединенными в профсоюзы [469*]. Они также заинтересованы в объединении для пробивания таможенных и других ограничений, противоречащих сущности и принципам либерализма либо для противостояния интервенционистским поползновениям правительства, которые могут им повредить. Но у них совершенно нет никакой особой заинтересованности в том, чтобы противостоять социализму или социализации как таковой, а следовательно, и бороться с деструкционизмом. Сущность предпринимателя — приспособление к экономическим обстоятельствам момента. Его цель вовсе не в борьбе с социализмом, а в приспособлении к условиям, которые возникают при проведении политики, направленной к социализации. Не следует ожидать, что предприниматели или какая-либо другая определенная группа, повинуясь собственным интересам, сделают общие принципы благосостояния основой своего поведения. Жизненная необходимость понуждает их приспосабливаться к обстоятельствам и в каждой ситуации добиваться, что только возможно. Не дело предпринимателя вести политическую борьбу с социализмом; его дело приноровиться самому и приспособить свое предприятие к ситуации, которую создает движение к обобществлению, чтобы получить при существующих условиях наибольшую возможную прибыль.
Отсюда следует, что ни союзы, ни другие организации, поддерживаемые предпринимателями, не склонны к принципиальному противостоянию социализму. Предприниматель, т. е. человек, ловящий момент, мало заинтересован в ведении столетней войны. Ему важно приспособиться к отношениям, существующим в данный момент. Целью организации предпринимателей является непосредственный отпор отдельным нападкам со стороны профсоюзов или некоторым законодательным мерам, например проектам налогового обложения. Она выполняет задачи, возложенные на нее парламентами и правительствами в случаях, когда желательно сотрудничество организованных предпринимателей и профсоюзов для отпора разрушительным элементам в национальной экономике. Она далека от того, чтобы вести борьбу за общее сохранение хозяйственного порядка, основывающегося на принципе частной собственности. Она относится к либерализму с безразличием или, как, например, в вопросах таможенной политики, враждебно.
Организованные интересы, как их изображают социалисты, свойственны не союзам предпринимателей, а объединениям помещиков, которые требуют защитных пошлин на сельскохозяйственные продукты, или союзам мелких производителей, которые, и прежде всего в Австрии, борются за устранение конкуренции. Уж, конечно, эти усилия не соответствуют целям либерализма.
Таким образом, не существует ни индивидуумов, ни классов, которые в силу своих особенных интересов были бы заинтересованы в поддержке капитализма как такового. Политика либерализма есть политика общего блага, политика подчинения частных выгод интересам общего благосостояния, что требует от индивидуума не принесения в жертву собственных интересов, а только благоразумной гармонизации всех индивидуальных интересов. Следовательно, не существует групп или индивидуумов, интересы которых удовлетворил бы социализм лучше, чем общество, основанное на частной собственности на средства производства. Но хотя, в конечном счете, никто на деле не выигрывает от перехода к социализму, есть множество людей, частные интересы которых в данный момент больше согласуются с политикой социализации, чем с политикой либерализма. Либерализм борется со всякого рода привилегиями и стремится свести к минимуму число государственных чиновников. Интервенционистская политика обеспечивает за счет всего общества тысячи и тысячи устойчивой, безмятежной и не слишком напряженной работой. Каждый акт национализации или муниципализации связывает частные интересы многих с движением против частной собственности. Сегодня социализм и деструкционизм находят сильнейшую поддержку у миллионов людей, непосредственные интересы которых пострадают (хотя бы и на краткий срок) от возврата к либерализму.
2. Насилие и власть
Понимание частной собственности как привилегии владельцев есть наследие прежних периодов истории собственности. Всякая собственность основывается на изначальном захвате бесхозных благ. История собственности прошла через период, когда правилом было насильственное изгнание старых собственников. Можно с уверенностью утверждать, что всякая земельная собственность имеет источником насильственное присвоение. Но все это, конечно, уже никак не характерно для капиталистического общественного порядка, где собственность переходит из рук в руки только в процессе рыночной конкуренции. Поскольку либеральные принципы нигде, по крайней мере в Европе, не были проведены в жизнь во всей полноте, и везде, особенно в области земельной собственности, осталось немало следов отношений насилия, то все еще держится традиция феодальных владык: «Ich Lieg und besitze» [403]. Критика в адрес прав собственности насильственно подавляется. Такую политику немецкие юнкера ведут против социал-демократии — известно, с каким успехом. [470*]
Приверженцы этого направления не могут в оправдание частной собственности на средства производства сказать ничего, кроме того, что она будет поддерживаться силой. Право сильного есть единственное право, которое они могут реализовать. Они горды своими потенциями физического насилия, полагаются на вооружение и считают, что вправе пренебрегать любыми другими аргументами. Только когда земля начинает дрожать под их ногами, они обращаются к другому аргументу, ссылаются на установленные права собственности. Ущемление их собственности становится беззаконием, которого нельзя допустить. Не стоит тратить слов, чтобы показать слабость такой позиции в борьбе с движением, которое хочет создать новое право. Нельзя изменить общественное мнение, если оно осуждает собственность. С ужасом осознают это землевладельцы и в горе обращаются к церкви с поразительным требованием: пусть церковь поддерживает в misera plebs [404] дух скромности и покорности, сражается с завистливостью и обращает взгляд неимущих от земных благ к благам небесным. [471*] Христианство следует сохранять, чтобы люди не стали завистливыми. Но ведь это обращенное к церкви требование чудовищно. От нее требуют, чтобы она обслуживала интересы немногих привилегированных лиц, интересы которых признаны вредными для общества. Легко понять, почему истинные слуги церкви восстали против этого наглого требования, а ее враги использовали этот взгляд на функции церкви как оружие в освободительной войне против религии. Удивительно, что церковные противники либерализма, силясь представить социализм как дитя либерализма, свободной школы и атеизма, использовали тот же подход, что и при защите существующих отношений собственности. Иезуит Катрейн [405] говорит: «Если предположить, что все заканчивается этой земной жизнью, что судьба человека не отличается от судьбы других валяющихся в грязи млекопитающих, кто тогда сможет потребовать от бедных и униженных, вся жизнь которых представляет собой постоянную борьбу за существование, чтобы они несли свою тяжкую судьбу терпеливо и смиренно, тогда как другие наряжаются в шелка и бархат, имеют сытную и изобильную пищу? Разве в сердце рабочего не живет стремление к полному счастью? Если у него отнята вся надежда на лучший потусторонний мир, как можно отвратить его от поисков счастья на земле, от настоятельного требования своей доли в земном богатстве? Разве он не такой же человек, как наниматель? Почему некоторые обречены на бедность и нужду, при том, что другие живут в изобилии, когда нет причин, по которым блага этого мира должны принадлежать одним, а не другим? Если атеистическо-натуралистическая точка зрения оправдана, тогда оправданы и утверждения социализма: земные блага и счастье должны быть распределены как можно более поровну; неверно, когда одни ведут праздную жизнь в дворцах, а другие бедствуют в жалких клетушках и на чердаках и при всех отчаянных усилиях едва могут обеспечить себя хлебом насущным» [472*]. Если предположить, что все так и есть, как воображает Катрейн, — что частная собственность есть привилегия собственников, что бедность одних пропорциональна богатству других, что одни беднеют по мере того, как другие богатеют, что одни голодают, поскольку другие пируют, что одни прозябают в жалких комнатушках потому, что другие роскошествуют во дворцах, — то, как же можно верить, что дело церкви поддерживать такие условия? Как ни толкуй социальное учение церкви, нельзя предположить, чтобы ее создатель или его ученики одобрили бы использование ее для сохранения несправедливых общественных установлении, которые столь явно неблагоприятны для большей части человечества. Христианство давно исчезло бы с лица земли, если бы оно было именно таким, каким его ошибочно представляют вместе со злейшими его врагами Бисмарк и Катрейн: охранителем социальных установлений, наносящих ущерб массам.
Социалистическую идею нельзя победить ни насилием, ни авторитетом, поскольку, и то, и другое на стороне социализма, а не его противников. Если сегодня пустить в ход пушки и пулеметы, они окажутся на стороне социализма и синдикализма, а не против него. Ведь большая часть наших современников захвачены духом социализма или синдикализма. Массы не верят в капитализм.
3. Битва идей
Ошибочно думать, что неудача уже осуществившихся социалистических экспериментов может помочь в преодолении социализма. Факты сами по себе ничего не доказывают и не опровергают. Все определяется истолкованием и объяснением фактов, идеями и теориями.
Человек, тяготеющий к социализму, будет по-прежнему объяснять все зло мира частной собственностью и искать спасения в социализме. Неудачи русского большевизма социалисты объясняют чем угодно, только не свойствами самой системы. С социалистической точки зрения один капитализм ответствен за то, что нищета этого мира оказалась столь устойчивой. Социалисты видят только то, что хотят видеть, и слепы ко всему, что противоречит их теории.
Только идеи могут одолеть другие идеи, и только идеи капитализма и либерализма могут одолеть идеи социализма. Решение может быть найдено только в битве идей.
Либерализм и капитализм обращаются к холодному, уравновешенному уму. Они пользуются строгой логикой, избегая эмоций. Социализм, напротив, работает на эмоциях, пытается разрушить логические построения призывом к личной заинтересованности и заглушить голос разума апелляцией к примитивным инстинктам.
Даже по отношению к тем немногим, кто интеллектуально развит, кто способен к независимому рассуждению, это дает социализму преимущества. Для других же, для массы тех, кто не способен мыслить, позиция социалистов кажется несокрушимой. Оратор, раздувающий страсти толпы, считается более умелым, чем тот, кто обращается к ее разуму. Потому-то перспективы либерализма в этом противостоянии кажутся очень скверными.
Такой пессимистический взгляд на мир совершенно ошибочен. Он неверно оценивает влияние, которое может оказать на массы разумное и спокойное рассуждение. Он также сильно преувеличивает роль самих масс и соответственно элементов массовой психологии в создании и утверждении господствующих идей эпохи.
Массы действительно не способны мыслить. Но по этой причине они следуют за теми, кто мыслить способен. Интеллектуальное руководство принадлежит тем немногим, кто мыслит. Сначала их влияние распространяется на малый круг тех, кто способен понять и воспринять мысль других; через этих посредников идеи достигают масс и здесь кристаллизуются в общественное мнение своего времени. Социализм стал господствующей идеей эпохи не потому, что сначала массы продумали мысль о социализации средств производства, а затем передали ее интеллектуально более развитым классам. Такого не утверждает даже исторический материализм, это обиталище призраков в выдуманной романтизмом «народной душе», и историческая правовая школа. Психика масс сама по себе никогда не порождала ничего, кроме массовых преступлений, разрушений и погромов [473*]. По своим результатам идея социализма, конечно, есть не что иное, как разрушение, но все-таки это идея. Она должна быть додумана до конца, а на это способны только самостоятельные мыслители. Подобно любой другой крупной идее она пришла к массам только через посредничество интеллектуалов среднего класса. Народные массы не были изначально социалистичными — даже сегодня они склонны скорее к аграрному социализму и синдикализму. [406] Первыми социалистами были интеллектуалы; они, а не массы, являются носителями социализма. [474*] Власть социализма подобно всякой другой власти имеет духовную природу, и она находит поддержку в идеях, которые интеллектуальные лидеры несут в массы. Если интеллигенция отшатнется от социализма, его власти придет конец. Массы не могут долго противостоять идеям лидеров. Разумеется, отдельные демагоги могут ради карьеры и вопреки собственным убеждениям внушать людям идеи, возбуждающие их низменные инстинкты, рассчитывая тем самым на успех. Но, в конечном счете, пророк, знающий про себя, что он лжив, не в силах одолеть того, кто наделен силой искреннего убеждения. Нельзя коррумпировать идеи. Ни за деньги, ни за другое вознаграждение не завербовать борцов против идей.
Человеческое общество есть произведение разума. Общественное сотрудничество сначала следовало изобрести, затем — возжелать, а уж потом осуществить в деятельности. Историю делают идеи, а не «материальные производительные силы», эти туманные и мистические построения исторического материализма. Если мы сможем преодолеть идеи социализма, если человечество сможет осознать общественную необходимость частной собственности на средства производства, тогда социализму придется уйти со сцены. Это единственное, что имеет значение.
Победа социалистических идей над либеральными есть результат того, что на место целостного подхода, который учитывает общественные функции отдельных институтов и общее действие всего социального механизма, пришел абстрактный подход, при котором отдельные части общественного организма выступают как изолированные образования. Социализм видит отдельные группы людей — голодных, безработных, богатых — и обрушивается на мир с критикой; либерализм видит общественный процесс в его целостности и соподчиненности взаимосвязанных явлений. Он хорошо знает, что и частная собственность на средства производства не способна обратить землю в рай небесный; он никогда не пытался утверждать ничего, кроме того простого факта, что социалистическое устройство общества нереализуемо, а значит, не может обеспечить более высокое благосостояние, чем капитализм.
Никто не понимал либерализм меньше, чем те, кто присоединился к нему в последние десятилетия. Они верили, что должны бороться с «уродствами» капитализма, тем самым без раздумий принимая характерную для социалистов антиобщественную установку. У общественного строя не бывает «уродств», которые можно было бы произвольно отсечь. Если явление возникает как закономерный результат системы частной собственности на средства производства, его нельзя осуждать исходя из этических или эстетических установок. Спекуляция, например, которая связана с самой сущностью хозяйствования, в том числе и при социализме, в ее капиталистической форме не может быть осуждена из-за того, что моральные цензоры не понимают ее общественных функций. Эпигоны либерализма были не более удачливы в своей критике социалистической системы. Они постоянно утверждали, что социализм есть благороднейшая и прекраснейшая идея, к осуществлению которой следовало бы стремиться, если бы ее можно было осуществить, но, увы, это не так, поскольку люди нравственно несовершенны. Трудно понять, почему кто-либо может утверждать, что социализм лучше капитализма, если он не в силах доказать, что социалистическая система функционирует лучше капиталистической. Столь же оправданным было бы заявление, что механизм, построенный на принципах вечного двигателя, был бы лучше подчиненного законам механики, если бы только первый удалось заставить работать. Если концепция социалистической общественной системы содержит ошибку, из-за которой система не может функционировать, тогда социализм нельзя даже и сравнивать с капитализмом, поскольку последний вполне работоспособен. Точно так же нельзя нежизнеспособную систему считать более благородной, более прекрасной или справедливой.
Социализм действительно невоплотим, но вовсе не оттого, что он требует возвышенных и альтруистических характеров. Одной из целей этой книги было доказать, что у социализма отсутствует качество, необходимое всякой экономической системе, которой приходится иметь дело с опосредованными процессами производства жизненных благ, а не просто собирать булки с дерева: это способность рассчитывать, а значит, рационально действовать. Как только понимание этого станет всеобщим, социалистические идеи должны исчезнуть из сознания разумных людей.
В предыдущих частях книги было показано, насколько безосновательно утверждение, что социализм должен наступить, поскольку к этому неизбежно ведет развитие общества. Мир склоняется к социализму потому, что большинство хочет его. Люди хотят социализма, так как верят, что именно он принесет им процветание и более высокий уровень жизни. Утрата этой веры будет означать конец социализма.
Заключение. Историческое значение современного социализма
1. Социализм в истории
Нет ничего труднее, чем отчетливо увидеть исторические перспективы современных движений. Близость явления искажает истинные пропорции. Историческое суждение прежде всего требует дистанции.
Всюду, где живут европейцы или потомки европейских эмигрантов, мы видим работу социализма; в Азии он стал знаменем, вокруг которого собираются враги европейской цивилизации. Если интеллектуальное господство социализма останется непоколебленным, тогда через короткое время вся основанная на сотрудничестве культура, которую Европа пестовала тысячелетиями, будет разбита вдребезги. Ведь социалистическое устройство невозможно. Все порывы к социализму ведут только к разрушению общества. Заводы, рудники и железные дороги остановятся, города опустеют. Население промышленных районов вымрет или разбредется. Крестьянин вернется к натуральному замкнутому домашнему хозяйству. Без частной собственности на средства производства не останется в конечном итоге ничего, кроме производства для своих непосредственных нужд.
Нет нужды в деталях описывать культурные и политические последствия такого преобразования. Конные набеги и грабежи кочующих степных племен опять станут опустошать Европу. Кто сможет противостоять им на скудно населенной земле после того, как износится оружие, оставшееся от высокой техники капитализма?
Это одна возможность. Но есть и другие. Может так случиться, что некоторые народы останутся социалистическими и после того, как остальные вернутся к капитализму. Тогда только социалистические страны будут двигаться к упадку. Капиталистические страны продолжат путь к более высокой стадии разделения труда, пока в силу фундаментальных законов общества, которое втягивает людские массы в систему персонального разделения труда, а земли — в систему территориального разделения труда, они не цивилизуют отсталые народы или не уничтожат их в случае сопротивления. Такой всегда была историческая судьба народов, которые не вступили на путь капиталистического развития или преждевременно останавливали движение по нему.
Может быть, однако, что мы чудовищно преувеличиваем важность современного социалистического движения. Возможно, что оно имеет не большее значение, чем вспышки гнева против частной собственности, проявившиеся в средневековых еврейских погромах, в движении францисканцев или во времена Реформации. Возможно, что большевизм Ленина и Троцкого не более значим для современного капитализма, чем господство в Мюнстере анабаптистов Книппер-доллинга и Бокельзона для капитализма XVI столетия. [407] Как тогда цивилизация преодолела эти атаки, так и теперь она может восстать из бурь нашего времени еще более сильной и очищенной.
2. Кризис цивилизации
Общество есть продукт воли и действия. Только человек способен желать и действовать. Мистика и символизм коллективистской философии не могут скрыть того факта, что все разговоры о мышлении, желании и действиях общества есть всего лишь образные высказывания и что концепция чувствующего, мыслящего, водящего и действующего общества есть просто антропоморфизм. Общество и индивидуум взаимно предполагают друг друга. Те предшествовавшие выделению индивидуумов первобытные совокупности, существование которых можно предположить на основании логических и исторических соображений, могли представлять собой стадо или стаю, но они не были обществом, т. е. союзом, возникшим и существующим в силу сотрудничества мыслящих субъектов. Люди построили общество, превратив свое поведение во взаимообусловленную кооперацию.
Основа и исходная точка общественной кооперации заключается в поддержании мира, сущность которого образует обоюдное признание «наличной собственности». Из владения de facto, [408], поддерживаемого силой, возникает правовой институт собственности и одновременно правовой порядок и аппарат принуждения для поддержания его. Все это есть результат сознательного, понимающего свои цели воления. Но это воление направлено только на получение самых непосредственных и прямых результатов. Об отдаленных последствиях оно не может знать и не знает ничего. Люди, созидающие мир и правила поведения, озабочены только нуждами текущего часа, дня, года; они и не задумываются, что одновременно трудятся над созиданием громадного и хорошо структурированного образования — человеческого общества. Отдельные институты, в своей совокупности поддерживающие существование общественного организма, созданы только для пользы текущего момента. Они представляются своим создателям обособленно полезными и необходимыми; их общественная функция остается для них чуждой.
Ум человека медленно созревает до признания социальной взаимозависимости. Сначала общество представляется для индивидуума настолько таинственным и непостижимым образованием, что, уже отказавшись от идеи Бога при объяснении явлений природы, он все еще предполагает божественную волю, которая владычествует над судьбой человека. Кантовская Природа, которая ведет человечество к особой цели, Гегелевский Мировой дух и Дарвиновский Естественный отбор есть последние великие проявления такого подхода. На долю либеральной философии общества досталось объяснить общество через действия человека, не прибегая к метафизическим приемам. Только либерализм преуспел в истолковании общественной функции частной собственности. Он не удовлетворился идеей «справедливости», которая принимается как данность, не подлежащая дальнейшему анализу, или обусловливается неуяснимой склонностью к праведному поведению. Либерализм основывает свои выводы на учете и оценке последствий поступков.
В старину собственность была священной. Либерализм разрушил этот ореол святости, как и все другие. Он «низвел» собственность до уровня полезных земных отношений. Собственность уже не воспринимается как абсолютная ценность — она получает признание как полезное средство. В области философии такое изменение представлений происходит без особых затруднений: на смену неудовлетворительной доктрине приходит удовлетворительная. Но в жизни и в сознании масс фундаментальные революции представлений не проходят гладко. Это не пустяк, когда идол, в страхе, перед которым человечество жило тысячелетиями, оказывается разрушенным и трепещущий раб внезапно делается свободным. То, что было законом в силу веления Бога, становится законом в силу человеческого волеизъявления. Прежде определенное делается неопределенным; добро и зло, справедливость и несправедливость — все это колеблется, шатается. Старые скрижали закона разбиты, и человек должен сам создать для себя заповеди. Этого нельзя достичь путем парламентских дебатов или мирным голосованием. Пересмотр нравственного кодекса не может быть произведен без глубокого потрясения умов и взрыва страстей. Чтобы признать общественную полезность системы частной собственности, нужно прежде убедиться в пагубности всех других систем.
Что именно в этом существо великой борьбы между капитализмом и социализмом, становится очевидным, когда мы сознаем, что тот же процесс разыгрывается и в других сферах нравственной жизни. Не одна проблема собственности служит сегодня предметом дискуссий. То же самое с проблемой кровопролития, которая будоражит весь мир в различных обличьях, особенно в форме проблемы войны и мира. Но предельно очевидной становится принципиальная однородность процессов, происходящих в нравственной сфере, когда мы обращаемся к сексуальной морали. И здесь вековые предписания трансформируются. То, что было табу, священным установлением, теперь соблюдается, лишь поскольку признается благом для человека. Этот пересмотр основ нравственных предписаний побуждает поставить под сомнение все нормы поведения, господствовавшие до сих пор. Люди спрашивают: действительно ли они необходимы или же без них можно обойтись.
Во внутренней жизни индивидуума отсутствие морального равновесия порождает тяжкие психологические шоки, известные в медицине как неврозы [475*]. Это характерная болезнь нашего времени, времени меняющейся нравственности и духовного созревания народов. В общественной жизни разлад изживается в конфликтах и ошибках, которые мы переживаем с содроганием. Так же как для жизни отдельного человека чрезвычайно важно, сумеет ли он выйти здоровым и полным сил из страхов и волнений периода созревания, или же на всю жизнь покроется рубцами, которые постоянно будут мешать развитию его способностей, так и для общества не менее важно, как выдержит оно битвы вокруг проблемы организации. Либо подъем к более тесной общественной взаимосвязи индивидуумов, а значит, и к более высокому уровню благосостояния, либо упадок кооперации и потому упадок общественного богатства — такой выбор стоит перед нами. Третьего не дано.
Великое общественное противоборство идет через мысль, волю и поведение отдельных людей. Общество живет и действует только в отдельных людях; оно есть не что иное, как определенная совокупность индивидуумов. Каждый несет на своих плечах часть общества; никто не может сбросить свою долю ответственности на других. И никто не найдет спасения для себя лично, если общество как целое устремляется к закату. Потому каждый в собственных интересах должен отважно бросить все свои силы в битву душ. Никто не может безучастно остаться в стороне; усилия каждого сказываются на общем выборе. Каждый человек, хочет он того или нет, участвует в грандиозной исторической схватке, в решительном сражении, которое нам навязала наша эпоха.
Общество создано не Богом и не мистическими «силами природы» — оно создано Человечеством. Сохранит ли общество способность к развитию или оно обречено на упадок, зависит от человека (в том смысле, в каком причинная обусловленность всех событий позволяет нам говорить о свободной воле). Хорошо ли общество или дурно — об этом можно спорить. Но тот, кто предпочитает жизнь смерти, счастье страданию, благосостояние нищете, тот должен поддерживать существование общества. А тот, кто желает, чтобы общество существовало и развивалось, должен также принимать без каких бы то ни было ограничений и оговорок частную собственность на средства производства.
Приложение. К критике попыток сконструировать систему экономического расчета для социалистического общества
Мы можем разделить системы, изобретенные для того, чтобы сделать возможным экономический расчет при социализме, на две основные группы. При этом мы оставляем в стороне работы, основанные на трудовой теории ценности, как изначально ошибочные. В первую группу войдут те, которые соскальзывают к синдикалистским построениям, во вторую — те, которые пытаются обойти неразрешимость проблемы, принимая, что экономические данные неизменны. Ошибочность предложений обеих групп ясна из сказанного нами выше (см. главы 5–6 (часть II) в настоящем издании). Для лучшего понимания приведем следующие критические замечания о двух типичных конструкциях такого рода [476*].
В статье «Социалистическое счетоводство» [477*] Карл Поланьи попытался разрешить «общепризнанную ключевую проблему социалистической экономики». [409] Сначала Поланьи однозначно признает, что проблема экономического расчета неразрешима в «централизованной административно управляемой экономике» [478*]. Его попытка решения проблемы имеет в виду только «функционально организованную социалистическую переходную экономику». Так он называет тип общества, примерно соответствующий идеалу английских гильдейских социалистов. Его представления о природе и возможностях предлагаемой системы, к сожалению, не менее туманны и смутны, чем представления гильдейских социалистов. Политическое общество рассматривается как собственник средств производства, но «собственность не дает прямого права распоряжения производством». Это право принадлежит ассоциациям производителей, выбираемым работниками различных отраслей производства. Отраслевые ассоциации производителей объединяются в Конгресс ассоциаций производителей, который «представляет все производство в целом». Ему противостоит «Коммуна» как вторая «главная функциональная ассоциация общества». Коммуна является не только политическим органом, но также «реальным носителем высших целей общества». Каждая из этих двух функциональных ассоциаций выполняет «в своей собственной области законодательные и исполнительные функции». Соглашение между этими двумя главными функциональными ассоциациями образует высшую власть в обществе [479*].
Дефектом этой конструкции является неясность относительно коренного вопроса: что это — социализм или синдикализм? Как и гильдейские социалисты, Поланьи явно приписывает собственность на средства производства обществу, коммуне. Он полагает, что таким образом устраняет упрек в синдикализме. Но в следующем предложении он отрицает то, что говорил в предыдущем. Собственность — это право распоряжения. Если право распоряжения принадлежит не коммуне, а ассоциациям производителей, то они и являются собственниками, и перед нами — синдикалистское общество. Дано либо одно, либо другое, так как между социализмом и синдикализмом не может быть ни соглашения, ни чего-то среднего. Поланьи не видит этого. Он говорит: «Функциональные представители (ассоциации) одного и того же человека не могут быть в непримиримом конфликте между собой; это фундаментальная идея всякой функциональной конституции. Для разрешения каждого возникающего конфликта создаются либо совместные комитеты Коммуны и ассоциаций производителей, либо своего рода Высший конституционный суд (координирующие органы), которые, однако, не имеют законодательных полномочий и только ограниченные исполнительные полномочия (охрана закона и порядка и пр.)» [480*]. Эта фундаментальная идея функциональной формы конституции, однако, ложна. Если политический парламент избирается всеми гражданами, имеющими равное право голоса, — а это молчаливо предполагается как у Поланьи, так и в других родственных конструкциях, — то вполне возможны конфликты между ним и парламентом ассоциаций производителей, создаваемым на основе совершенно иной избирательной системы. Эти конфликты не могут быть разрешены совместными комитетами или конституционным судом. Такие комитеты способны прекратить раздор, только если в них одна из главных ассоциаций имеет перевес. Если они равномощны, может случиться так, что комитет не примет никакого решения. Суд не может разрешать конфликты в сфере политической или хозяйственной деятельности. Суды принимают решения только на основе уже существующих норм, применяя их к конкретному случаю. Если им приходится рассматривать вопросы целесообразности, тогда на деле они представляют собой не суды, но высшую политическую инстанцию, и все, что было сказано о комитетах, приложимо к ним.
Если окончательное решение не принадлежит ни Коммуне, ни Конгрессу производительных ассоциаций, система оказывается вообще нежизнеспособной. Если окончательное решение принадлежит Коммуне, то мы имеем дело с «централизованной административной экономикой», а в ней, как признает сам Поланьи, невозможен экономический расчет. Если решение принадлежит ассоциациям производителей, мы имеем дело с синдикалистским обществом.
Отсутствие у Поланьи ясности по этому фундаментальному вопросу позволяет ему принять вместо действительного, работоспособного решения чисто кажущееся решение проблемы. Его ассоциации и субассоциации поддерживают отношения взаимного обмена; они получают и дают, как если бы были действительными собственниками. Таким образом создаются рынок и рыночные цены. Но поскольку он уверен, что сумел преодолеть неустранимый разрыв между социализмом и синдикализмом, Поланьи не замечает, что это решение несовместимо с социализмом. Можно сказать намного больше о других ошибках в системе Поланьи. Но с учетом его фундаментальной ошибки это все имеет небольшой интерес, поскольку характеризует только ход мыслей Поланьи. Основная же, фундаментальная ошибка свойственна не только системе Поланьи, поскольку она присутствует во всех системах гильдейского социализма. Заслуга Поланьи в том, что он разработал эту систему намного отчетливей, чем большинство других авторов. Ему следует воздать должное и за то, что он ясно осознал невозможность экономических вычислений в централизованной административной экономике, которой свойственно отсутствие рынка.
Вклад в нашу проблему сделал и Эдуард Хейман [481*]. [410] Хейман — последователь этического или религиозно мотивированного социализма, но его политические убеждения не закрывают ему глаза на проблему экономического расчета. В подходе к этой проблеме он использует аргументы Макса Вебера. Макс Вебер видел, что для социализма это «абсолютно центральная» проблема; детально рассмотрев аргументы за и против, он опроверг любимую идею Отто Нейрата о «натуральном исчислении» и показал, что рациональное хозяйствование невозможно без применения денег и денежного расчета [482*]. Хейман соответственно пытается доказать, что расчеты возможны и в социалистической экономике.
Тогда как Поланьи конструирует систему, родственную английскому гильдийскому социализму, построения Хеймана примыкают к немецким идеям плановой экономики. Характерно, что при этом его аргументы близки к аргументам Поланьи во всем, кроме одного существенного пункта: они огорчительно туманны как раз там, где нужна особенная ясность, — в вопросе об отношении отдельных групп производителей, из которых состоит планово организованное общество, к обществу в целом. Поэтому он позволяет себе говорить о рыночном обороте [483*], не замечая того, что последовательно и до конца реализованное плановое хозяйство не знает торговли и то, что обозначается здесь как продажа и покупка, должно в соответствии с сущностью этой системы характеризоваться иначе. Хейман делает эту ошибку потому, что считает первейшей характерной чертой плановой экономики монополистическое слияние отдельных отраслей производства, а не зависимость производства от единой воли центрального органа. Эта ошибка тем более удивительна, что уже само наименование «плановая экономика» и все аргументы в ее пользу особенно подчеркивают единство экономического управления. Хейман вполне понимает пустопорожность пропаганды, обыгрывающей мотив «анархия производства» [484*]. Но как раз это должно было бы напоминать ему, что именно здесь, как нигде больше, лежит резкое различие между капитализмом и социализмом.
Подобно большинству тех, кто писал о плановой экономике, Хейман не замечает, что строго проводимое плановое хозяйство есть не что иное, как чистый социализм, и отличается оно от сугубо централизованного социалистического общества только второстепенными деталями. То, что руководство отдельными отраслями доверено кажущимся независимыми ведомствам, не изменяет того факта, что власть на самом деле принадлежит только центральному органу управления. Отношения между ведомствами устанавливаются не на рынке в ходе конкуренции продавцов и покупателей, а по приказам властей. Проблема в следующем: нет меры для оценки и расчета эффекта от этого вмешательства власти, поскольку центральная власть не может руководствоваться формируемыми на рынке пропорциями обмена. Власти могут, в общем-то, основывать свои расчеты на пропорциях замещения одних продуктов другими, которые они же и устанавливают. Но эти пропорции произвольны; они не основаны в отличие от рыночных цен на субъективных оценках индивидуумов; они не вменены производимым благам совместным действием факторов, участвующих в производстве и обращении. Они не могут составить основу экономических расчетов.
Хейман приходит к кажущемуся решению проблемы, обращаясь к теории издержек. Экономические расчеты должны ориентироваться на издержки. Цены следует исчислять на основе средних «издержек производства», в том числе заработной платы, по тем работам, по которым ведется единый учет определенной бухгалтерией [485*]. Этим решением можно было бы довольствоваться два или три поколения назад. Сегодня его недостаточно. Если мы считаем издержками ту потерю полезности, которой можно было бы избежать при другом использовании данных факторов производства, то сразу видно, что хеймановские рассуждения движутся по порочному кругу. В социалистическом обществе только приказ центральной власти может разрешить промышленности изменить место применения факторов производства, и проблема как раз в том и состоит, могут ли власти провести расчеты, обосновывающие такой приказ. Конкуренция предпринимателей, которые при капитализме стараются использовать блага и услуги самым выгодным образом, в плановой экономике, да и в любой другой мыслимой форме социалистического общества, замещается планомерными действиями центральной власти. Только в силу конкуренции предпринимателей, старающихся отбить друг у друга материальные средства производства и рабочую силу, формируются цены на факторы производства. Там же, где хозяйство должно вестись «планомерно», т. е. в соответствии с волей центральной власти, которой все подчинено, исчезает основа для исчисления рентабельности и остается только натуральный учет. Хейман утверждает: «Пока на рынке потребительских товаров существует действенная конкуренция, формируемые здесь ценовые отношения распространяются на все стадии производства, если, конечно, правила ценообразования используются разумно; и это происходит независимо от состава участников на рынках производственных благ» [486*]. Это верно, но только в случае подлинной конкуренции. Хейман рассматривает общество как ассоциацию ряда «монополистов», т. е. государственных ведомств, каждому из которых доверена деятельность в определенной сфере производства. Если они выступают как покупатели производительных благ на «рынке», то здесь нет никакой конкуренции, потому что центральные власти заранее предписали им определенную сферу деятельности, которую они не могут оставить. Конкуренция существует, когда каждый производит то, что обещает принести наивысшую прибыль. Я пытался показать, что этому соответствуют только условия частной собственности на средства производства.
Рисуемая Хейманом картина социалистического общества учитывает только текущую переработку сырых материалов в потребительские блага; таким образом создается впечатление, что отдельные ведомства могут работать независимо друг от друга. Гораздо важнее этой части производственного процесса обновление основного и инвестирование новообразованного капитала. Именно в этом, а не в том, как использовать оборотный капитал, что уже в значительной степени предопределено, существо хозяйствования. Решения такого рода, рассчитанные на годы и десятилетия, нельзя ставить в зависимость от существующего на данный момент спроса на потребительские блага. Следует ориентироваться на будущее, т. е. быть «спекулятивным». Схема Хеймана, которая предполагает механическое расширение или свертывание производства в соответствии с текущим спросом на потребительские блага, совершенно несостоятельна. Решать проблему ценности путем сведения ее к издержкам можно только применительно к состоянию равновесия, представимому теоретически, но практически недостижимому. Только в таком воображаемом состоянии равновесия цены и издержки совпадают. В вечно изменчивой экономической жизни этого не бывает.
По этой причине безуспешна попытка Хеймана разрешить проблему, которая, как я показал, в принципе неразрешима.
Эпилог
[487*]
Вводные замечания
Антикапитализм — характерная черта эпохи диктаторов, войн и революций. Большинство правительств и политических партий склонно к ограничению сферы частной инициативы и свободного предпринимательства. Убеждение, что капитализм отжил свое и что грядущая всесторонняя регламентация экономической активности одновременно и желательна, и неизбежна, стало почти неоспариваемой догмой.
При всем при этом капитализм еще очень силен в Западном полушарии. Прогресс капиталистической промышленности даже в последние несколько лет поразителен. Методы производства очень усовершенствовались. Потребители получают более дешевые и лучшего качества товары, в том числе много новинок, которые были невообразимы еще пару лет назад. Во многих странах объем производства расширялся, а качество товаров совершенствовалось. Несмотря на антикапиталистическую политику всех правительств и почти всех политических партий, капиталистический сектор хозяйства все еще выполняет свою социальную функцию по предоставлению потребителям большего количества все более дешевых и более качественных товаров.
Улучшение качества жизни в странах, приверженных принципу частной собственности на средства производства, конечно же, ни в какой степени не является заслугой правительственных и профсоюзных чиновников, равно как и функционеров политических партий. Не канцелярии и бюрократы, но большой бизнес заслуживает похвалы за то, что основная часть семей в США владеет автомобилем или приемником. Рост душевого потребления в Америке по сравнению с тем, что было четверть века назад, не является результатом деятельности законов или администрации. Это достижение бизнесменов, которые расширяли свои предприятия или создавали новые.
Этот момент следует подчеркивать, поскольку современники склонны его игнорировать. Замороченные предрассудками этатизма и иллюзиями всемогущества правительства, они во всем склонны видеть только эффект правительственных мероприятий. Они ожидают всего от предприимчивости властей и почти ничего не ждут от инициативы граждан. И при всем этом единственный путь к росту благосостояния — рост объема Производства. К этому и стремится деловой мир.
Абсурдность нашего времени в том, что гораздо больше внимания уделяется достижениям правительственного Управления по развитию долины Теннеси, чем несравненным и беспрецедентным достижениям управляемой частными собственниками американской промышленности. Однако именно последние позволили Объединенным нациям выиграть войну, а сегодня позволяют Соединенным Штатам помогать другим странам по плану Маршалла.
Предрассудок, согласно которому государство или правительство воплощают почти все благое и благотворное, а индивидуумы — жалкие ничтожества, склонные постоянно вредить друг другу и нуждающиеся в опекунстве, почти никем не оспаривается. Даже малейшее сомнение в нем запрещено. Тот, кто провозглашает божественность государства и непогрешимость его священников, бюрократов, есть беспристрастный служитель социальных наук. Все пытающиеся возражать клеймятся как предубежденные и узколобые. Адепты нового культа государства еще более фанатичны и менее терпимы, чем были магометанские завоеватели Африки и Испании.
История назовет наше время эпохой диктаторов и тиранов. В последние годы мы были свидетелями крушения двух из этих раздувшихся сверхчеловеков [411]. Но дух, который вознес этих прохвостов к самодержавной власти, сохранился. Он пронизывает учебники и газеты, он звучит из уст учителей и политиков, он воплощается в партийных программах, в романах и пьесах. Пока этот дух преобладает, не может быть надежды на длительный мир, на демократию, на сохранение свободы или на подъем национальных экономик. [488*]
1. Провал интервенционизма
Нет ничего менее популярного ныне, чем экономика свободного рынка, т.е. капитализм. Все, что считается неудовлетворительным в современных условиях, приписывается действию капитализма. Атеисты возлагают на капитализм ответственность за возрождение христианства. Но папские энциклики клеймят капитализм за распространение равнодушия к религии и за грехи современного человечества, а протестантские церкви и секты не менее горячо обличают капиталистическую алчность. Пацифисты видят в войнах проявление капиталистического империализма. Но несгибаемые националисты в Германии и Италии ставят в вину капитализму «буржуазный» пацифизм, враждебный человеческой природе и неизбежным законам истории. Моралисты клеймят капитализм за разрушение семьи и насаждение распущенности. Но «прогрессисты» ставят ему в счет сохранение устарелых сексуальных ограничений. Почти все согласны в том, что нищета есть результат капитализма. С другой стороны, многие склонны изобличать капитализм за то, что, потворствуя тяге людей к удобствам и зажиточности, он насаждает грубый материализм. Эти противоречивые обвинения капитализма взаимно уничтожаются. Но остается фактом, что очень немногие сейчас избегают обвинять капитализм хоть в чем-нибудь.
Хотя капитализм является экономической базой современной Западной цивилизации, политика всех западных стран направляется явно антикапиталистическими идеями. Цель всех разновидностей интервенционизма не в сохранении капитализма, а в замещении его смешанной экономикой. Предполагается, что такая смешанная экономика не является ни капитализмом, ни социализмом. Она описывается как третий путь, равно далекий и от капитализма, и от социализма. Предполагается, что, пребывая посередине, третий путь сохраняет все достоинства и капитализма, и социализма, не имея в то же время недостатков того и другого.
Более полувека назад выдающийся деятель английского социалистического движения Сидней Вэбб провозгласил, что социалистическая философия представляет собой «сознательное и явное провозглашение принципов организации общества, которые уже были освоены, и большей частью бессознательно». И он добавлял, что экономическая история XIX века была «почти непрерывным свидетельством прогресса социализма» [489*]. Несколькими годами позже почтенный государственный деятель Британии сэр Уильям Харкурт констатировал: «Мы все социалисты теперь» [490*]. [412] Когда в 1913 г. американец Элмер Робертс [413] опубликовал книгу об экономической политике имперского правительства в Германии с конца 70-х годов, он назвал ее политикой «монархического социализма» [491*].
Было бы, однако, неверным просто отождествлять интервенционизм и социализм. Немало таких, кто поддерживает политику государственного регулирования экономики как самый подходящий способ прийти — шаг за шагом — к полному социализму. Но немало и таких интервенционистов, которые не являются отъявленными социалистами; их цель — создание смешанной экономики как долговременной системы управления хозяйством. Они стремятся к ограничению, регулированию и «совершенствованию» капитализма посредством правительственного вмешательства в деловую активность и организацией рабочих в профсоюзы.
Чтобы понять существо смешанной экономики и природу правительственного вмешательства в хозяйственные процессы, нужно прояснить два момента.
Во-первых, если в рамках частнособственнической экономики некоторые средства производства оказываются в собственности правительства или муниципалитетов, это еще не означает, что мы имеем дело со смешанной экономикой, соединяющей черты социализма и частной собственности. Пока только некоторые предприятия контролируются государством, свойства рыночной экономики как основы хозяйственной жизни остаются незатронутыми. Государственные предприятия как покупатели сырья, полуфабрикатов и труда, так же как и в роли продавцов товаров и услуг, вынуждены подлаживаться к механизмам рыночной экономики. Они подчинены закону рынка; они вынуждены стремиться к прибылям или, по крайней мере, избегать убытков. Когда они пытаются ослабить или вовсе устранить эту зависимость, покрывая убытки таких предприятий казенными субсидиями, единственным результатом оказывается сдвиг зависимости куда-либо еще. Это происходит просто потому, что средства для субсидий нужно где-то брать. Их можно получить из налогов. Но налоговые тяготы ложатся на публику, а не на правительство, налоги собирающее. Рынок, а не налоговое управление, определяет, на кого падает бремя налогов и как оно влияет на производство и потребление. Рынок и его неизбежный закон сохраняют верховенство.
Во-вторых, есть два способа строительства социализма. Один — мы можем называть его марксистским или русским — есть путь чисто бюрократический. Все предприятия становятся подразделениями государственного механизма, так же как управление армией и флотом или почтовой службой. Каждый отдельный завод, магазин или ферма занимают такое же положение по отношению к вышестоящему центру, как и почтовое отделение к управлению почт. Весь народ преобразуется в единую трудовую армию, служба в которой обязательна; командующий этой армией является главой государства.
Второй путь к социализму — мы можем назвать его германским или системой Zwangswirtschqft — отличается от первого тем, что иллюзорно и номинально сохраняет частную собственность на средства производства, предпринимательство и рыночную торговлю. [414] Так называемые предприниматели продают и покупают, платят работникам, берут кредиты и платят проценты. Но они на самом деле больше не предприниматели. В нацистской Германии их называли управляющими предприятиями или Betriebsfuhrer. [415] Правительство диктовало этим мнимым предпринимателям, что и как производить, по какой цене и у кого покупать, по какой цене и кому продавать. Правительство назначало тарифы и оклады, а также кому и на каких условиях капиталисты должны доверять свое имущество. Рыночный обмен в этих условиях был чистой фикцией. Когда цены, заработная плата и процентные ставки назначаются правительством, они только формально остаются ценами, заработной платой и процентными ставками. В действительности они превращаются в числовые коэффициенты, с помощью которых авторитарный порядок определяет доход, потребление и уровень жизни каждого гражданина. Правительство, а не потребитель, направляет производство. Властвует центральный совет управления производством, а все граждане становятся просто служащими государства. Это социализм, имеющий свойства видимости капитализма. Некоторые черты капиталистической рыночной экономики при этом сохраняются, но они означают здесь нечто совершенно иное, чем в системе рыночной экономики.
Этот факт необходимо выделить, чтобы не путать социализм с интервенционизмом. Система ограниченной рыночной экономики, или интервенционизм, отличается от социализма именно тем, что это все еще рыночная экономика. Власти стремятся влиять на рынок с помощью административного воздействия, но не стремятся к устранению рынка вообще. Они хотят, чтобы производство и потребление изменялись иначе, чем этого требует нестесненный рынок, и стремятся достичь этого за счет приказов, команд и ограничений, действенность которых обеспечивается всегда готовым к услугам аппаратом насилия и принуждения. Но это изолированные воздействия; власти пока еще не планируют соединить регулирующие меры в полностью интегрированную систему, которая бы полностью контролировала все цены, доходы и процентные ставки и которая, таким образом, сделала бы контроль над производством и потреблением делом государственной власти.
Однако все методы интервенционизма обречены на провал. Это означает: интервенционистская политика необходимо ведет к результатам, которые, с точки зрения собственных сторонников, менее удовлетворительны, чем положение дел до вмешательства. Следовательно, эта политика ведет к результатам, противоположным намечаемым.
Закон о минимальной заработной плате, декретируемой правительственным указом или определяемой под давлением профсоюзов, бесполезен, если он устанавливает минимальную заработную плату на рыночном уровне. Но если он установит минимальную заработную плату на уровне более высоком, чем это сделал бы неограниченный рынок, то результатом будет постоянная безработица значительной части потенциальной рабочей силы.
Правительственные расходы не способны создавать дополнительные рабочие места. Если правительство финансирует соответствующие расходы за счет налогов или за счет займов, оно тем самым уничтожает столько же рабочих мест, сколько и создает. Если правительственные расходы финансируются за счет займов у коммерческих банков, это ведет к кредитной экспансии и инфляции. Если в результате этой инфляции цены на сырье и материалы будут расти быстрее, чем номинальная заработная плата, безработица сократится. Но сокращение безработицы означает всего лишь, что реальная заработная плата уменьшается.
Врожденные свойства капиталистической эволюции определяют постепенный рост реальной заработной платы. Причиной является последовательное накопление капитала и совершенствование технологии производства. Нет иного способа поднять уровень заработной платы для всех желающих, чем увеличить инвестированный капитал в расчете на душу. Как только прекращается накопление дополнительного капитала, исчезает и тенденция к росту реальной заработной платы. Если вместо приращения капитала начинается проедание капитала, реальная заработная плата начинает неизбежно падать, и так до тех пор, пока не будут устранены препятствия к дальнейшему приращению капитала. Правительственные меры, которые замедляют накопление или ведут к проеданию капитала, как, например, конфискационное налогообложение, пагубны для жизненных интересов рабочих.
Кредитная экспансия может вызвать временный бум. Но такое кажущееся процветание неизбежно кончается общим упадком торговли, кризисом.
Едва ли можно утверждать, что экономическая история последних десятилетий не оправдала пессимистических прогнозов экономистов. Наше время обречено на великие экономические потрясения. Но дело не в кризисе капитализма. Это кризис интервенционизма, кризис политики, созданной для совершенствования капитализма.
Ни один экономист никогда не рискнул утверждать, что интервенционизм может привести к чему-нибудь, кроме несчастья и хаоса. Защитники интервенционизма, и в первую очередь последователи прусской исторической школы и американские институционалисты, не были экономистами. Напротив. Для реализации своих замыслов они всегда отрицали, что на свете есть такие вещи, как законы экономики. По их мнению, правительства вольны стремиться к любым целям, не связывая себя знанием о закономерности экономических явлений. Подобно германскому экономисту Фердинанду Лассалю они полагали, что государство и есть Бог. [416]
Интервенционистам не свойственно подходить к анализу экономических вопросов с научной беспристрастностью. Большей частью ими руководит завистливое недоброжелательство к тем, кто их богаче. Такая предубежденность делает для них невозможным видеть вещи, как они есть. Для них главное не улучшение жизненных условий населения, а борьба с предпринимателями и капиталистами, даже если эта политика пагубна для большинства населения.
В глазах интервенционистов простое существование прибыли есть беззаконие. Они, рассуждая о прибыли, не учитывают ее противоположности — убытков. Они не сознают, что прибыль и убыток — это инструменты, посредством которых потребитель держит под жестким контролем всю активность предпринимателей. Именно прибыль и убыток делают потребителя высшей властью в хозяйстве. Абсурдно противопоставлять производство для прибыли и производство для потребления. На нестесненном рынке прибыль можно получать, только снабжая потребителей требуемыми товарами и услугами, и причем самым лучшим и дешевым способом. Прибыль и убыток перемещают материальные факторы производства из рук неэффективных в пользу более эффективных производителей. Такова их социальная функция: делать в хозяйственной жизни более влиятельным того, кто наилучшим образом производит желаемое людьми. Потребители страдают, когда законы страны не позволяют наиболее эффективным предпринимателям расширять свое дело. Именно успешное удовлетворение массового спроса сделало некоторые предприятия «большим бизнесом».
Антикапиталистическая политика саботирует деятельность капиталистической системы рыночной экономики. Провал интервенционизма вовсе не свидетельствует о необходимости перехода к социализму. Он просто говорит о тщете интервенционизма. Все те беды, которые самодельные «прогрессисты» толкуют как свидетельство краха капитализма, есть результат предположительно благотворного вмешательства в работу рынка. Только невежды, ошибочно отождествляющие интервенционизм и капитализм, могут полагать, что в социализме спасение от этих бед.
2. Диктаторский, антидемократический и социалистический характер интервенционизма
Многие защитники интервенционизма шалеют, когда им говоришь, что их позиция усиливает антидемократические и диктаторские силы, играет на руку тоталитарному социализму. Они защищаются, заявляя о себе как об искренних поклонниках демократии и врагах тирании и социализма. Они стремятся только к улучшению положения бедняков. Ими движут только любовь к социальной справедливости и стремление к более справедливому распределению дохода. И все это только ради сохранения капитализма и его политической надстройки, или суперструктуры, а именно демократического правительства.
Эти люди не способны осознать, что предлагаемые ими меры не способны привести к желаемым благим результатам. Напротив, они порождают такое состояние дел, какое, с точки зрения их защитников, много хуже изначального, которое пытались улучшить. Если правительство, столкнувшись с крахом первого вмешательства, не готово вернуться к свободной экономике и позволить рынку выправить ситуацию, оно должно будет наращивать цепь ограничений и регулирования. По этому пути шаг за шагом оно дойдет до того, что все экономические свободы индивидуума исчезнут. При этом и возникнет социализм на германский манер, Zwangswirtschaft нацистов.
Мы уже упоминали случай с минимальной заработной платой. Пойдем дальше и проанализируем типичный случай контроля цен.
Если правительство стремится обеспечить бедных детей молоком, оно должно купить молоко по рыночной цене и затем продать его подешевле; убытки можно покрыть за счет налогов. Но если правительство просто установит цену молока на уровне ниже рыночного, результаты окажутся противоположными целям правительства. Слабейшие производители, чтобы избежать убытков прекратят производство и торговлю молоком. Молока на рынке станет меньше, а не больше. Это совсем не то, к чему стремилось правительство. Оно ведь вмешалось потому, что считало молоко жизненной необходимостью. Оно не хотело ограничивать его производство.
Теперь правительство оказывается перед выбором: либо отказаться от каких-либо намерений контролировать цены, либо добавить к первому декрету второй — зафиксировать цены факторов производства, необходимых для производства молока. Тогда эта же история повторится. Правительству придется зафиксировать цены тех факторов производства, которые необходимы для производства молока. Так правительству придется идти все дальше, фиксируя цены всех факторов производства (цены труда и материалов) и принуждая каждого предпринимателя и каждого рабочего продолжать трудиться при этих ценах и заработной плате. Ни одна ветвь производства не сможет избежать всеохватывающего определения цен и заработной платы. Если исключить из этого круга какие-либо производства, они начнут стягивать к себе труд и капитал, а в результате сократится производство тех товаров, для которых цены установлены правительством. Это и будут те самые производства, которые правительство сочло особенно важными для удовлетворения потребностей населения.
Но когда достигнуто состояние всестороннего контроля хозяйственной жизни, рыночная экономика оказывается вытесненной системой плановой экономики, социализмом. Конечно, это не социализм, при котором непосредственное управление каждым предприятием осуществляет правительство, как в России, это — социализм на германский или нацистский манер.
Многие были восхищены предполагаемым успехом политики контроля цен в Германии. При этом говорилось: достаточно быть столь же безжалостным и грубым, как нацисты, — и политика контроля цен станет вполне осуществимой. Эти люди, готовые в борьбе с нацизмом использовать его же методы, не поняли того, что нацисты осуществляли контроль цен не в рыночной системе, а в полноценном социалистическом обществе, в тоталитарной республике.
Если контроль цен ограничен только некоторыми сырьевыми товарами, то получатся результаты, обратные намеченным. Он не может работать удовлетворительно в рамках рыночной экономики. Если правительство из провала ограниченных попыток контроля цен не сделает вывода о необходимости оставить вовсе эти эксперименты, то ему придется идти все дальше и дальше, замещая рыночные отношения всесторонним социалистическим планированием.
Производство может направляться либо рыночными ценами, которые устанавливаются в результате того, что кто-то купил, а кто-то воздержался от покупки, либо центральным правительственным советом по управлению производством. Третьего решения не существует. Невозможна третья социальная система, которая была бы ни социалистической, ни капиталистической. Правительственный контроль только части цен должен привести к положению, которое всегда и везде будет предельно нелепым и несовместимым ни с какими разумными целями. Такая политика ведет к хаосу и социальным беспорядкам.
Именно это имеют в виду экономисты, говоря об экономическом законе в том смысле, что интервенционизм противоречит закону экономики.
В рыночной экономике верховным авторитетом являются потребители. Решения купить или не покупать определяют, что производится предприятиями, в каком количестве и какого качества. Покупки непосредственно, напрямую, определяют цены потребительских товаров, а косвенно и цены всех инвестиционных товаров, т. е. цены трудовых ресурсов и материальных факторов производства. Покупательская активность влияет на формирование прибылей и убытков, определяет ставки кредитов. В конечном счете, потребитель определяет каждый индивидуальный доход. Центральным пунктом рыночной экономики является сам рынок, т. е. процесс образования цен на товары массового спроса, ставок заработной платы, величины процента и их производных — прибылей и убытков. Эта зависимость носит непосредственный, прямой Характер для предпринимателей, фермеров, капиталистов и лиц свободных профессий и косвенный характер для всех остальных — работающих за жалованье или заработную плату. Рынок устанавливает согласование между усилиями тех, кто производит товары для нужд потребителей, и желаниями самих потребителей. Он подчиняет производство нуждам потребления.
Рынок — это демократический строй, в котором каждый грош дает право голоса. Конечно, у разных людей далеко не одинаковые возможности голосовать. Богачи имеют больше бюллетеней, чем бедняки. Но в рыночной экономике богатство и большие доходы — это результат прошлых выборов. В рыночной экономике, не развращенной правительственными привилегиями и ограничениями, единственный путь к приобретению и сохранению богатства — услужение потребителю самым лучшим и дешевым способом. Капиталисты и землевладельцы, которые не могут преуспеть в этом, несут убытки. Если они не способны изменить своего поведения, то разоряются и становятся бедняками. Потребители — та инстанция, которая превращает бедняков в богачей, и наоборот. Это решением потребителей доходы кинозвезды и оперной дивы настолько больше доходов бухгалтера или сварщика.
Каждый волен не соглашаться с результатами выборной кампании или рыночного процесса. Но в демократическом обществе у него нет иного способа изменить что-либо, кроме убеждения. Того, кто говорит: «Мне не по душе выбранный мэр. Попрошу-ка я правительство заменить его другим человеком», вряд ли кто-либо сочтет демократом. Но если нечто в том же роде произносится по поводу рыночных дел, то большинству людей просто не хватит воображения, чтобы увидеть в этом притязания на диктатуру.
Потребители сделали свой выбор, чем и определили доходы фабриканта обуви, кинозвезды и сварщика. Кто такой профессор X, что берет на себя привилегию менять их решения? Если бы он не был потенциальным диктатором, то не попросил бы правительство о вмешательстве. Он бы попытался убедить сограждан в том, что нужно увеличить спрос на услуги сварщика и сократить спрос на обувь и кинофильмы.
Потребители не желают платить за хлопок такую цену, чтобы даже маржинальные фермы, т. е. те, которые производят хлопок при самых неблагоприятных условиях, стали прибыльными. Конечно, это скверно для многих фермеров, которым теперь нужно бросить выращивание хлопка и найти иной способ включиться в круговорот производства.
Но что нам думать о государственном деятеле, который административными мерами поднимает цены хлопка над уровнем свободных рыночных цен? Целью вмешательства является замена воли потребителей силой полицейского давления. Все разговоры о том, что государство должно сделать то или это, означают в конечном итоге лишь одно: администрация должна принудить потребителей вести себя иначе, чем хочется им самим. Все предложения типа: поднимем сельскохозяйственные цены, поднимем заработную плату, понизим прибыли, урежем доходы менеджеров — в конечном счете, предполагают в качестве слушателя полицию. Однако авторы такого рода проектов претендуют на то, что они стремятся к свободе и демократии.
Во всех несоциалистических странах профсоюзам дарованы особые права. Им позволено не допускать к работе тех, кто не является членом союза. Они могут призывать к стачкам, а во время стачек они вольны применять силу к тем, кто готов работать, т.е. к штрейкбрехерам. Неограниченные привилегии даны работникам ключевых отраслей промышленности. Те, от кого зависит снабжение населения водой, светом, пищей и другими насущными благами, могут в результате забастовки вырвать у общества все, что заблагорассудится, за счет остального населения. В Соединенных Штатах до сих пор соответствующие профсоюзы использовали такие возможности с похвальной умеренностью. Другие профсоюзы, в том числе европейские, были менее сдержанны. Они склонны при случае вынудить прирост заработной платы любыми средствами, не заботясь о страданиях других.
Интервенционистам просто не хватает мозгов, чтобы осознать, что давление и принуждение со стороны профсоюзов абсолютно несовместимы ни с какой системой организации общества. Эта проблема никак не соотносится с правом граждан создавать союзы и ассоциации: во всех демократических странах граждане имеют эти права. Никто не оспаривает и право человека отказаться от работы, забастовать. Сомнение вызывает только привилегия профсоюзов на безнаказанное обращение к насилию. Эта привилегия столь же несовместима с социализмом, как и с капитализмом. Никакое социальное сотрудничество и разделение труда невозможны, если некоторые люди или союзы имеют право насилием или угрозой насилия не допускать других к работе. Подкрепленная насилием стачка в жизненно важных отраслях производства, равно как и всеобщая стачка, равносильна революционному разрушению общества.
Правительство фактически складывает свои полномочия, если оно позволяет кому-либо еще осуществлять насилие. Результатом отказа правительства от монопольного права на насилие и принуждение является общественная анархия. Если бы было верным, что демократическое правление не способно, безусловно, оградить право на труд от посягательства профсоюзов, демократия была бы обречена. Тогда диктатура оказалась бы единственным способом сохранить систему разделения труда и избежать анархии. Диктатура в России и Германии стала результатом того, что там не нашли демократических способов обуздать насилие профсоюзов — просто в силу особенностей менталитета обеих стран. Диктатура запретила стачки и тем самым сломала хребет профсоюзов. В Советской империи и вопроса о забастовках не возникает.
Вера в то, что арбитраж способен ввести профсоюзы в рамки рыночной экономики и сделать их безвредными для сохранения внутреннего мира, иллюзорна. Судебное разрешение противоречий возможно при наличии ряда правил, приложимых к каждому отдельному случаю. Но если бы такой кодекс существовал и на его основе можно было бы разрешать конфликты о величине заработной платы, то тогда уже не рынок, а этот кодекс определял бы величину заработной платы. Тогда бы стало всевластным правительство, а не потребитель, продающий и покупающий на рынке. Если же такого кодекса не существует, то нет и инструмента для разрешения конфликта между работниками и хозяевами. Тогда тщетны все разговоры о «справедливой» заработной плате. Идея справедливости лишена смысла, если не соотносится с общепринятым стандартом. На практике, если предприниматели не пасуют перед угрозами профсоюзов, обращение к третейскому суду означает лишь, что конфликт разрешает назначенный правительством посредник. В установлении цены роль рынка вытесняет произвольное решение государственной власти. И вопрос всегда один и тот же: правительство или рынок. Третьего решения не существует.
Метафоры зачастую полезны для уяснения сложных проблем, для того, чтобы сделать их доступными не очень подготовленным людям. Но они же могут завести в тупик и абсурд, если забыть, что всякое сравнение несовершенно. Просто глупо относиться к метафорам всерьез и строить на них серьезные выводы. Не было ничего дурного в том, что экономисты описывали рыночные операции как автоматические и при этом привычно подчеркивали анонимность рыночных сил. Нельзя было предугадать, что кто-либо окажется настолько тупым, чтобы воспринимать эти метафоры буквально.
Не автоматические и не анонимные силы приводят в действие механизм рынка. Единственным фактором, который направляет работу рынков и определяет цены, являются целенаправленные действия человека. В этом нет автоматизма;
есть только человек, сознательно стремящийся к избранным им целям, использующий при этом определенные средства для достижения этих целей. Не существует таинственных механических сил; есть только воля каждого индивидуума насытить свои желания разных благ. На рынке нет анонимности; есть вы и я, Билл и Джо и все остальные. Каждый из нас участвует, одновременно и в производстве, и в потреблении. Каждый вносит свой вклад в определение цен.
Перед нами не стоит выбор между автоматическими силами и плановыми действиями. Мы выбираем между демократическим процессом рынка, в котором каждый имеет свою долю, и абсолютистской властью диктаторского правительства. Что бы ни делали люди в рамках рыночной экономики, они всегда реализуют свои собственные планы. В этом смысле каждое действие человека предполагает планирование. Защитники идеи планирования призывают вовсе не к тому, чтобы заместить хаос порядком планирования. Они стремятся сделать так, чтобы вместо планов всех и каждого реализовался план самого планировщика. Планировщик — это потенциальный диктатор, который стремится к тому, чтобы лишить всех остальных власти планировать и затем действовать в соответствии со своими собственными планами. Он стремится только к одному: к исключительному и абсолютному господству своего собственного плана.
Не менее ошибочно высказывание, что у несоциалистического правительства не может быть планов. Чтобы ни делало правительство, это всего лишь выполнение тех или иных планов, замыслов. Можно не соглашаться с каким-либо планом. Но нельзя сказать, что это вовсе не план, а что-то иное. Профессор Уэсли К. Митчелл [417] утверждал, что либеральное правительство Британии «планировало не иметь вовсе никаких планов» [492*]. В его планы входили поддержание частной собственности на средства производства, защита свободной инициативы и рыночной экономики. Великобритания была процветающей страной в период этих планов, которые, согласно профессору Митчеллу, вовсе не были «планами».
Планировщики претендуют на то, что их планы научны и что благонамеренные и достойные люди не могут их не одобрить. Однако наука не может нам сказать ничего о должном. Наука может говорить только о том, что есть. Она не может диктовать, что должно быть и к каким целям следует стремиться. Фактом является то, что люди расходятся в своих ценностных суждениях. Претензия на право отменять планы других и понуждать их к выполнению планов самого планировщика — наглая самонадеянность. Чей план следует исполнять? План CIO или каких-либо других групп? [418] План Троцкого или Сталина? План Гитлера или Штрассера? [419]
Когда люди были привержены идее, что в области религии следует придерживаться только одного плана, гремели кровавые войны. С распространением принципов религиозной свободы эти войны утихли. Рыночная экономика обеспечивает мирное экономическое сотрудничество, поскольку она не затрагивает экономические планы своих граждан. Попытка заменить планы каждого гражданина общим Суперпланом должна привести к бесконечной войне. У тех, кто несогласен с планом диктатора, не остается другого выхода, как сразить деспота силой оружия.
Вера в то, что система планового социализма может быть совмещена с демократическим правлением, иллюзорна. Демократия неразрывно связана с капитализмом. Она не может существовать там, где существует единое планирование. Припомним слова известнейшего из современных защитников социализма, профессора Гарольда Ласки. [420] Он заявлял, что победа британских лейбористов на выборах должна привести к радикальному изменению парламентской системы. Социалистическая администрация нуждается в «гарантиях», что ее труды по перестройке общества не будут «разрушены» в случае поражения на следующих выборах. Значит, неизбежной оказывается приостановка действия Конституции [493*]. Как рады были бы Карл I и Георг III, доводись им ознакомиться с книгами профессора Ласки! [421]
Сидней и Беатриса Вебб (лорд и леди Пассфилд) говорят нам, что «в любом совместном деле единство мысли настолько важно для успеха, что, если мы хотим чего-то достичь, публичные дискуссии следует отложить на время от обнародования решения до выполнения задачи». В то время, когда «дело делается», всякое выражение сомнения или даже страха, что план окажется неуспешным, «является актом неверности или даже предательства» [494*]. А поскольку процесс производства непрерывен и всегда какое-то дело делается и всегда чего-то предстоит достичь, социалистическое правительство вправе никогда не предоставлять какой-либо свободы слова и печати. «Единство мысли» — какая возвышенная формулировка идей Филиппа II и инквизиции! [422] Об этом же другой славный обожатель Советов г-н Д. Г. Кроутер говорит без всяких экивоков. [423] Он прямо провозглашает, что инквизиция «благотворна для науки, если она защищает восходящий класс» [495*], т. е. когда к ней прибегают друзья г-на Кроутера. Сотни подобных высказываний можно было бы процитировать.
В Викторианскую эпоху, когда Джон Стюарт Милль писал свое эссе «О свободе», взгляды, созвучные идеям проф. Ласки, г-на Кроутера и супругов Вебб, именовались реакционными. [424] Сегодня их называют «прогрессивными» и «либеральными». С другой стороны, людей, которые противостоят идеям отмены парламентского правления, упразднения свободы слова и печати и учреждения инквизиции, клеймят «реакционерами», «экономическими монархистами» и «фашистами».
Те интервенционисты, которые видят в государственном регулировании экономики метод постепенного перехода к полному социализму, по крайней мере последовательны. Если принятые меры не приводят к ожидавшимся благим целям, а кончаются, напротив, полным провалом, они требуют еще большего правительственного вмешательства, и так до тех пор, пока правительство не будет направлять всю хозяйственную деятельность. Но те, кто смотрит на правительственное регулирование как на способ совершенствования и, следовательно, спасения капитализма, — те совершенно запутались.
С точки зрения этих людей, все нежеланные и нежелательные последствия правительственного вмешательства в экономическую жизнь порождены самим капитализмом. Для них тот факт, что правительственное воздействие породило нетерпимое положение дел, есть оправдание дальнейшего вмешательства. Они, например, не способны осознать, что рост монополистических структур в наше время обязан таким правительственным инициативам, как законы о патентах и таможенных пошлинах. Они оправдывают правительственное вмешательство с целью предотвращения монополизации. Сложно придумать более иррациональную идею. Ибо правительство, от которого они ждут борьбы с монополизмом, есть то самое правительство, которое преданно служит принципу монополии. Так американское правительство времен «Нового курса» стремилось к тотальной монополизации всех отраслей американского хозяйства через программы NRA и попыталось организовать сельское хозяйство США как супермонополию, ограничить сельскохозяйственное производство, чтобы заменить низкие рыночные цены на высокие монопольные. [425] Это правительство участвовало в различных международных соглашениях по сырью, нескрываемой целью которых было учреждение международных монополий по разным видам сырья. То же самое верно и для других правительств. Союз Советских Социалистических Республик также участвовал в ряде межправительственных монополистических соглашений [496*]. Его отвращение к сотрудничеству с капиталистами было не столь сильным, чтобы отказаться от возможности расширить сферу монополизации.
Программой этого внутренне противоречивого интервенционизма является диктатура, предположительно нацеленная на освобождение людей. Но свободу эти деятели понимают, как свободу поступать «правильно», т. е. делать то, что замыслено планировщиками. Мало того, что они не осознают неизбежных при этом экономических проблем и трудностей. У них к тому же отсутствует способность к логическому мышлению.
Самое нелепое оправдание интервенционизма предлагают те, кто рассматривает конфликт между капитализмом и социализмом в терминах борьбы за распределение дохода. Почему бы собственническим классам не быть более уступчивыми? Почему бы им не предоставить избыток своих доходов в пользу бедных рабочих? Почему они сопротивляются намерениям правительства поднять долю обездоленных за счет установления минимальной заработной платы и потолка для роста цен? Почему бы им не урезать свои прибыли и процент до более «справедливого» уровня? Уступчивость в данных вопросах, говорят эти люди, ослабит позиции радикальных революционеров и сохранит капитализм. Худшими врагами капитализма, с их точки зрения, являются те непреклонные доктринеры, которые своей избыточной заботой о сохранении экономической свободы, системы laissez-faire и манчестерства срывают все попытки достижения компромисса с требованиями труда. Только несгибаемые реакционеры виновны в горечи современных партийных распрей и в порождаемой ими неумолимой ненависти. Что нужно на самом деле -- так это принять конструктивную программу вместо чисто негативистских принципов экономических монархистов. И, конечно же, с их точки зрения, «конструктивно» только государственное вмешательство.
Однако такой способ рассуждения совершенно порочен. Предполагается, что вмешательство правительства в хозяйственную жизнь приведет к ожидаемым благим результатам. При этом постыднейше игнорируются все заявления экономистов о тщетности целей государственного регулирования и о его неизбежных и нежелательных последствиях. Вопрос не в том, справедливы или нет ставки минимальной заработной платы, но — не приведут ли они к появлению безработицы среди тех, кто готов работать. Называя эти меры справедливыми, интервенционисты не опровергают возражения экономистов. Они просто демонстрируют свое полное невежество в этом вопросе.
Конфликт между капитализмом и социализмом вовсе не является борьбой двух групп за то, как разделить между собой данный объем благ. Это спор о том, какой тип организации общества наилучшим образом служит благосостоянию человечества. Противники социализма отрицают его не потому, что завидуют благам, которые рабочие предположительно извлекут из социалистической организации производства. Они сражаются с социализмом именно из убеждения, что он будет пагубен для масс, которые обречены на то, чтобы превратиться в нищих рабов, полностью зависимых от безответственных диктаторов.
В этой борьбе идей каждый должен сделать определенный выбор. Необходимо либо встать на сторону защитников экономической свободы, либо примкнуть к адвокатам тоталитарного социализма. Этого выбора нельзя избежать на путях интервенционизма как предположительно срединной позиции. Ибо интервенционизм не является ни срединным путем, ни компромиссом между капитализмом и социализмом. Это третья система. Система, нелепость и тщетность которой признаются не только всеми экономистами, но даже марксистами.
Не может быть «чрезмерной» защита экономической свободы. С одной стороны, производство может направляться усилиями каждого индивидуума приспособить свое поведение так, чтобы удовлетворять наиболее настоятельные потребности потребителей и самым подходящим способом. С другой стороны, производство может направляться правительственными указами. Если эти указы будут затрагивать только отдельные детали экономического механизма, они не достигнут цели и даже их сторонникам будет не по душе результат. Если же они приведут к всесторонней регламентации, это и будет тоталитарный социализм.
Человек должен выбрать между рыночной экономикой и социализмом. Государство может поддерживать рыночную экономику, защищая жизнь, здоровье и частную собственность от насилия и мошенничества. Либо оно может взять на себя контроль за всей хозяйственной деятельностью. Кто-то должен определять цели производства. Если это не будут делать потребители посредством спроса и предложения, это придется делать правительству методами принуждения.
3. Социализм и коммунизм
В работах Маркса и Энгельса термины «коммунизм» и «социализм» являются синонимами. Они используются поочередно, и между ними не делается различия. Так это и сохранялось в практике всех марксистских групп и сект вплоть до 1917 г. Марксистские политические партии, которые относились к Коммунистическому манифесту как к непременному евангелию своей веры, называли себя партиями социалистическими. Наиболее влиятельная и многочисленная из этих партий — германская — приняла имя социал-демократической партии. В Италии, во Франции и во всех других странах, где марксистские партии уже играли некую политическую роль до 1917 г., термин «социалистический» был взаимозаменим с термином «коммунистический». Ни одному марксисту до 1917 г. и в голову не приходило отделять коммунизм от социализма.
В 1875 г. в своей критике Готской программы германской социал-демократической партии Маркс ввел различие между низшей (начальной) и высшей (зрелой) фазами будущего коммунистического общества. Но он не выделил «коммунизм» как имя исключительно высшей фазы и не назвал низшую фазу «социализмом».
Одной из фундаментальных догм Маркса был тезис, что социализм настанет «с неотвратимостью закона природы». Капиталистическое производство отрицает самое себя и создает социалистическую систему общественной собственности на средства производства. «Капиталистическое производство порождает с необходимостью естественного процесса свое собственное отрицание» [497*]. Оно не зависит от воли людей [498*]. Человек не может ни ускорить его, ни замедлить, ни отменить, ибо «ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, а новые, более высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования в недрах самого старого общества» [499*].
Эта доктрина, конечно же, не согласуется с политической активностью самого Маркса и с идеями, которыми он оправдывал эту свою активность. Маркс пытался создать политическую партию, которая бы с помощью революции и гражданской войны завершила переход от капитализма к социализму. В глазах Маркса и всех марксистских доктринеров характерной чертой их партий была их революционность, бескомпромиссная преданность идее насилия. Целью было поднять восстание, установить диктатуру пролетариата и безжалостно уничтожить всех буржуа. Действия Парижской коммуны в 1871 г. рассматривались как превосходная модель такой гражданской войны. Парижское восстание, конечно, огорчительно провалилось. Но ожидалось, что последующие бунты будут успешными [500*].
Однако тактика марксистских партий в различных европейских странах безнадежно не совпадала ни с одним из этих противоречивых направлений в учении Карла Маркса. Они не верили в неизбежность прихода социализма. Не верили они и в успех революционного восстания. Они приняли методы парламентаризма. Они набирали голоса на выборах и посылали депутатов в парламент. Они «выродились» в демократические партии. В парламентах они вели себя подобно другим партиям оппозиции. В некоторых странах они заключали временные союзы с другими партиями, и порой социалисты попадали в кабинет министров. Позже, после конца первой мировой войны, социалистические партии во многих парламентах заняли господствующее положение. В некоторых странах им одним принадлежала власть, в других — они правили в коалиции с буржуазными партиями.
Конечно, эти одомашненные социалисты до 1917 г. не прекращали лицемерного восхваления принципов ортодоксального марксизма. Опять и опять они повторяли, что приход социализма неизбежен. Они подчеркивали традиционную революционность своих партий. Нельзя было оскорбить их сильнее, чем сомнением в неумолимой революционности их духа. Однако фактически они были парламентскими партиями, подобными всем другим партиям.
С истинно марксистской точки зрения, выраженной в поздних писаниях Маркса и Энгельса (появившихся после «Коммунистического манифеста»), все меры по ограничению, регулированию или улучшению капитализма суть просто «мелкобуржуазная» чепуха, порождаемая непониманием законов эволюции капитализма. Только полная зрелость капитализма ведет за собой социализм. Не только тщета, но и пагуба для интересов пролетариев в попытке такой политики. Даже тред-юнионизм — не адекватный способ улучшения положения рабочих [501*]. [426] Маркс не верил, что правительственное вмешательство может оказаться полезным массам. Он яростно отрицал, что такие меры, как минимальная заработная плата, установление предельных цен, ограничение величины процента, социальное страхование и т. п., являются подступами к социализму. Он стремился к радикальному устранению системы заработной платы, что может быть достигнуто только в высшей фазе коммунизма. Он бы саркастически высмеял идею, что труд может перестать быть товаром в рамках капиталистического общества благодаря совершенным законам.
Но социалистические партии Европы были не меньше преданы идеям интервенционизма, чем Sozialpolitik кайзеровской Германии или американский «Новый курс». [427] Именно эту политику атаковали Жорж Сорель и синдикалисты. [428] Сорель, застенчивый интеллектуал из буржуазной семьи, обличал «вырождение» социалистических партий, виной чему он считал проникновение в них буржуазных интеллигентов. Он мечтал о возрождении традиционного для масс духа безжалостной агрессии, об очищении его от сдерживающего влияния интеллектуальных трусов. Для Сореля имел значение только бунт. Он призывал к прямому действию, т. е. к саботажу и общей стачке как начальным шагам к последней Великой революции.
Сорель имел успех большей частью у снобистских и праздных интеллектуалов и не менее снобистских и праздных наследников богатых предпринимателей. Он не оказал заметного воздействия на массы. Для марксистских партий его страстная критика была не более чем досадной помехой. Его историческая роль определяется большей частью воздействием его идей на эволюцию русского большевизма и итальянского фашизма.
Чтобы понять ментальность большевизма, следует вернуться еще раз к догмам Карла Маркса. Маркс был совершенно убежден, что капитализм является стадией всеобщей экономической истории, которая не ограничена только несколькими развитыми странами. Капитализм нацелен на обращение всех частей мира в капиталистические страны. Буржуазия принуждает все страны превратиться в капиталистические. Когда пробьет последний час капитализма, весь мир однообразно будет находиться на стадии зрелого капитализма, созревший для перехода к социализму. Социализм возникнет одновременно во всех частях мира.
Это утверждение Маркса оказалось ошибочным ничуть не менее чем все остальные его утверждения. Нынче даже марксисты не могут отрицать и не отрицают, что черты капитализма в разных странах поразительно разнообразны. Они осознают, что многие страны с точки зрения Марксового понимания истории должны быть описаны как докапиталистические. В этих странах буржуазия еще не занимает господствующих позиций и еще не утвердила ту историческую стадию капитализма, которая является необходимой предпосылкой появления социализма. Этим странам надлежит еще завершить «буржуазные революции», а затем пройти все стадии капитализма, прежде чем можно будет поставить вопрос об их превращении в социалистические страны. Единственная политика, которую марксисты могут одобрить по отношению к таким странам, — это безусловная поддержка буржуазии, во-первых, в ее стремлении к власти, а во-вторых, в ее капиталистических начинаниях. В течение долгого времени марксистская партия может не иметь других задач, кроме как быть подручной буржуазного либерализма. Только эту миссию последовательный исторический материализм мог предписать русским марксистам. Им следовало бы тихохонько ждать, пока капитализм не подготовит страну к приятию социализма.
Но русские марксисты не желали ждать. Они обратились к новой модификации марксизма, согласно которой нации могут перескакивать через стадии исторической эволюции. Они закрыли глаза на тот факт, что эта новая доктрина была не модификацией марксизма, а скорее отрицанием всего того, что еще от него оставалось. Это был нескрываемый возврат к домарксистским и антимарксистским социалистическим учениям, согласно которым человечество вольно утвердить социализм в любое время, как только сочтет, что эта система благоприятней капитализма. Тем самым был практически взорван весь мистицизм, присущий диалектическому материализму и Марксовым непреложным законам экономической эволюции человечества.
Освободившись от марксистского детерминизма, русские марксисты получили возможность выбрать наиболее подходящую тактику для построения социализма в своей стране. Их больше не беспокоили экономические проблемы. Они отбросили заботу о том, пришло ли время или нет. Перед ними осталась лишь одна задача — захватить власть.
Одна группа утверждала, что устойчивый успех возможен только при массовой поддержке, хотя завоевывать большинство и не обязательно. Другая группа не одобрила такой длительной процедуры. Они предлагали решить дело смелым натиском. Малую группу фанатиков нужно организовать как авангард революции. Строгая дисциплина и безусловное подчинение вождю сделают эту группу пригодной для внезапной атаки. Они опрокинут царское правительство, а затем станут править страной традиционными методами царской полиции.
Имена этих двух групп — меньшевики и большевики -- были даны по результатам голосования в 1903 г. при обсуждении тактических вопросов. Отношение к тактическим приемам было единственным различием между двумя группами. Обе они были согласны относительно конечной цели — социализма.
Обе секты пытались оправдать свои подходы обильным цитированием писаний Маркса и Энгельса. Это, конечно, марксистский обычай. И каждая секта находила в этих священных книгах высказывания, подтверждающие ее собственные позиции.
Ленин, глава большевиков, знал своих соотечественников куда лучше, чем его противники и их вождь Плеханов. В отличие от Плеханова он не стал ошибочно приписывать русским качества западных народов. Он помнил, как дважды иностранки просто захватывали престол и затем спокойно царили до конца дней своих. [429] Он хорошо осознавал, что террористические методы царской тайной полиции весьма успешны и верил, что способен существенно улучшить эти методы. Он был безжалостным диктатором и знал, что у русских не хватит мужества сопротивляться силе. Подобно Кромвелю, Робеспьеру и Наполеону он был честолюбивым узурпатором и совершено верил в отсутствие революционного духа у большинства населения. [430] Династия Романовых была обречена из-за слабоволия незадачливого Николая II. Социалистический законник Керенский проиграл из-за приверженности принципам парламентаризма. Ленин преуспел, потому что никогда не стремился ни к чему, кроме личной диктатуры. А русские томились по диктатору — наследнику Ивана Грозного.
Вовсе не революционное восстание прервало правление Николая II. Оно испустило дух на полях сражений. С наставшим безвластием Керенский не смог совладать. Уличные волнения в Санкт-Петербурге смели Керенского. [431] Спустя недолгое время наступило 18-е брюмера Ленина. [432] Несмотря на большевистский террор, в Учредительном собрании, избранном на основе всеобщего прямого голосования, большевиков было не более 20 процентов. [433] Ленин силой оружия разогнал Учредительное собрание. Краткосрочная либеральная интерлюдия закончилась. Из рук неспособных Романовых Россия перешла под власть настоящих авторитаристов.
Ленину было мало завоевания России. Он был вполне убежден, что ему суждено принести благодать социализма не только России, но и всем другим народам. Официальное название, которое он выбрал для своего правления, — Союз Советских Социалистических Республик — не содержало никаких намеков на Россию. Оно было создано как зародыш мирового правительства. Предполагалось, что все иностранные товарищи обязаны повиноваться этому правительству, а вся иностранная буржуазия в случае сопротивления виновна в измене и подлежит казни. Ленин ни в малейшей степени не сомневался, что все страны Запада — на грани великой последней революции. Он со дня на день ожидал ее.
По мнению Ленина, только одна группа в Европе могла — хотя и без надежды на победу — попытаться предотвратить революционный взрыв: развращенные интеллигенты, захватившие руководство социалистическими партиями. Ленин издавна ненавидел этих людей за приверженность парламентским процедурам и за то, что они стояли на пути его диктаторских поползновений. Он ненавидел их, поскольку только на них взваливал вину за то, что социалистические партии поддержали военные усилия своих стран. Уже во времена швейцарской эмиграции, которая закончилась в 1917 г., Ленин начал раскалывать социалистические партии Европы. Теперь он основал новый. Третий Интернационал, который им контролировался столь же своевластно, как и большевистская партия. Для этой новой партии Ленин выбрал имя коммунистическая партия. Коммунистам предстояло сокрушить социалистические партии Европы, этих «социал-предателей», и тем самым подготовить немедленное уничтожение буржуазии и захват власти вооруженными рабочими. Ленин не делал различия между социализмом и коммунизмом как социальными системами. Его целью не был коммунизм как противоположность социализма. Официальное имя страны было Союз Советских Социалистических (не коммунистических) Республик. В этом плане он не собирался менять традиционную терминологию, в которой оба термина были синонимами. Он назвал своих последователей, единственных искренних и надежных защитников революционных принципов ортодоксального марксизма, коммунистами, а их тактику коммунистической, дабы отличить их от «вероломных выкормышей капиталистических эксплуататоров», продажных лидеров социал-демократии вроде Каутского и Альбера Тома. [434] Эти предатели, подчеркивал он, стремились к сохранению капитализма. Они не были истинными социалистами. Единственными подлинными марксистами оказались те, кто отверг имя социалистов, ставшее навеки позорным.
Так возникло различие между коммунистами и социалистами. Те марксисты, которые не подчинились московскому диктату, называли себя социал-демократами, или социалистами. Для них было характерно убеждение, что наилучшим способом перехода к социализму — конечной цели, роднившей их с коммунистами, — было завоевание поддержки большинства населения. Они отбросили революционную риторику и обратились к демократическим методам борьбы за власть. Их не заботила проблема, совместим ли социализм с демократией. Но ради перехода к социализму они были готовы ограничить себя демократическими методами.
Коммунисты, напротив, в первые годы Коминтерна были твердыми приверженцами принципа революции и гражданской войны. Послушные только своему русскому вождю, они выбрасывали из своих рядов каждого заподозренного в том, что для него законы страны важнее, чем приказы партии. Кровавые мятежи и заговоры — такова была их жизнь.
Ленин не мог понять, почему коммунисты потерпели неудачу всюду, кроме России. Он не ожидал многого от американских рабочих. Коммунисты понимали, что в США рабочим недоставало революционного духа, поскольку их развратило благополучие и испортила погоня за деньгами. Но Ленин не сомневался в классовой сознательности и приверженности революционным идеалам европейских масс. Единственной причиной провала революций были, по его мнению, трусость и ошибки коммунистических руководителей. Вновь и вновь он менял своих наместников. Но дела лучше не стали.
В демократических странах коммунисты мало-помалу «выродились» в парламентские партии. Подобно старым социалистическим партиям до 1914 г., они продолжали ханжески славословить революционные идеалы. Но революционный дух могущественнее проявляет себя в салонах наследников больших состояний, чем в скромных домишках рабочих. В англосаксонских и латиноамериканских странах социалистические избиратели верили в демократические методы. Здесь число искренних приверженцев коммунистической революции было очень небольшим. Большинство тех, кто публично клянется в верности идеалам коммунизма, почувствовали бы себя крайне неуютно в случае, если бы революционный взрыв поставил под угрозу их жизнь и собственность. В случае вторжения русских армий или успешного восстания местных коммунистов они бы присоединились к победителям в надежде на то, что верность марксистской ортодоксии будет вознаграждена. Но сами по себе они не гнались за революционными лаврами.
Ведь это факт, что за все тридцать лет страстной просоветской агитации ни одна страна за пределами России не стала коммунистической с согласия собственных граждан. Восточная Европа стала коммунистической, только когда дипломаты сговорились обратить эти страны в зону исключительного влияния и гегемонии России. Крайне маловероятно, что Западная Германия, Франция, Италия и Испания подпадут под коммунизм, если только США и Британия не примут политику абсолютного дипломатического desinteressement [435]. В этих и ряде других стран некоторую силу коммунистическим движениям дает только вера в безудержный «динамизм» России, контрастный безразличию и апатии англосаксонских стран.
Маркс и марксисты прискорбно ошибались, предполагая, что массы стремятся к революционному перевороту «буржуазных» основ общества. Воинственные коммунисты обретаются только среди тех, для кого коммунизм уже сейчас служит источником средств к жизни и кто ожидает от революции удовлетворения своих честолюбивых притязаний. Разрушительная возня этих профессиональных заговорщиков опасна как раз в меру наивности тех, кто просто флиртует с революционной идеей. Эти заблуждающиеся и запутавшиеся доброжелатели, которые называют себя «либералами» и которых коммунисты зовут «полезные простаки», попутчики и даже большинство зарегистрированных членов партии были бы жутко испуганы, узнав однажды, что их вожди всерьез и буквально зовут к мятежу. Но тогда отвратить беду будет поздно.
В данный момент коммунистические партии Запада опасны прежде всего своими позициями во внешней политике. Отличительной чертой всех современных компартий является их поддержка агрессивной иностранной политики Советов. В чем бы им не приходилось выбирать между интересами России и собственной страны, они без колебаний предпочитают интересы России. Их принцип: права или нет, это моя Россия. Они строго выполняют все приказы Москвы. Когда Россия была союзницей Гитлера, французские коммунисты саботировали оборонные усилия собственной страны, а коммунисты Америки страстно противостояли планам поддержки демократии в борьбе против нацистов, выдвинутым президентом Рузвельтом. Коммунисты всего мира заклеймили тех, кто защищался от гитлеровского вторжения, как «империалистических поджигателей войны». Но как только Гитлер напал на Россию, империалистическая война капиталистов в одну ночь превратилась в справедливую оборонительную войну. Какую бы страну ни захватывал Сталин, коммунисты оправдывали эту агрессию необходимостью обороны от «фашизма» [502*].
В своем слепом обожании всего русского коммунисты Западной Европы и Соединенных Штатов далеко превзошли худшие выходки шовинистов. Они исходят восторгом от русской музыки, русских фильмов и предполагаемых достижений русской науки. Они с упоением говорят об экономических достижениях Советов. Они приписывают все победы союзников доблести русского оружия. Россия, утверждают они, спасла мир от фашистской угрозы. Россия — единственная свободная страна, в то время как все остальные томятся под диктатом капиталистов. Только русские счастливы и могут наслаждаться полнотой жизни, а в капиталистических странах большинство населения страдает от подавленности и неисполнимости желаний. Как благочестивый мусульманин стремится совершить путешествие к могиле пророка в Мекку, так коммунисты-интеллектуалы полагают путешествие к святыням Москвы основным событием своей жизни.
Однако различное употребление слов коммунисты и социалисты никак не влияет на содержание терминов коммунизм и социализм в значении общей для этих движений конечной цели. Только в 1928 г. конгресс Коминтерна в Москве принял программу, в которой различались коммунизм и социализм (а не просто коммунисты и социалисты).
Согласно этой новой доктрине в экономической эволюции человечества между стадиями капитализма и коммунизма возникла третья стадия -- социализм. Социализм — это общественная система, основанная на общественной собственности на средства производства и управлении всеми процессами производства и распределения со стороны центральных плановых органов. В этом отношении эта система неотличима от коммунизма. Но она отличается от коммунизма в том отношении, что еще не достигнуто полное равенство в потреблении. Товарищи все еще получают заработную плату, и ставки заработной платы различаются согласно экономической значимости труда, как ее определяют центральные власти ради достижения наивысшей производительности труда. То, что Сталин назвал социализмом, в целом соответствует Марксовой концепции «начальной стадии» коммунизма. Сталин сохранил название «коммунизм» только для того, что Маркс называл «высшей стадией» коммунизма. В том смысле, как Сталин использовал этот термин, социализм движется к коммунизму, но еще не является им. Социализм обернется коммунизмом, как только прирост благосостояния, ожидаемый от действия социалистических методов производства, поднимет беднейшие слои России до уровня, которым уже сейчас наслаждаются выдающиеся обладатели важнейших должностей [503*].
Апологетический характер этой новой терминологии очевиден. Сталин счел необходимым объяснить большинству сограждан, почему их жизнь все еще так скудна, намного хуже, чем на Западе, и даже беднее, чем жили русские рабочие во времена царизма. Он хотел оправдать неравенство доходов: то, что малая группа руководителей наслаждается всеми благами современного комфорта, что другая группа — более многочисленная, чем первая, но менее обширная, чем средний класс в императорской России, — живет в «буржуазном» стиле, тогда как массы, нагие и босые, влачат полуголодную жизнь в трущобах. Он был просто вынужден к такому идеологическому маневру.
Трудности Сталина были тем острее, что русские коммунисты в начале своего правления провозгласили, что равенство доходов должно быть обеспечено с первого мига пролетарской власти. Более того, в капиталистических странах подкармливаемые Россией компартии использовали очень действенный демагогический трюк — возбуждали зависть к группам с высокими доходами. Основной аргумент коммунистов в доказательство того, что гитлеровский национал-социализм не настоящий социализм, а, напротив, худшая разновидность капитализма, состоял в том, что в нацистской Германии сохраняется неравенство в уровне жизни.
Введенное Сталиным различие между социализмом и коммунизмом открыто противоречило не только политике Ленина, но и принципам коммунистической пропаганды за пределами России. Но такие противоречия легко не замечаются в царстве Советов. Слово диктатора — высший авторитет, и нет таких дураков, чтобы изображать оппозицию.
Важно осознать, что семантические новации Сталина касались только терминов социализм и коммунизм. Он не затронул значения понятий социалист и коммунист. Большевистская партия, как и прежде, именуется коммунистической. Русофильские партии в других странах называют себя коммунистическими и яростно борются с социалистическими партиями, которые в их глазах являются просто социал-предателями. При этом официальное название Союза Советских Социалистических Республик остается неизменным.
4. Агрессивность России
Германские, итальянские и японские националисты оправдывали агрессивность своей политики недостатком Lebensraum. Их страны сравнительно перенаселены. Они бедны природными ресурсами и зависят от импорта продовольствия и сырья из-за рубежа. Они должны экспортировать продукты перерабатывающей промышленности, чтобы оплатить жизненно необходимый импорт. Но протекционистская политика стран, в избытке производящих продовольствие и сырье, закрывает границы перед ввозом готовых товаров. Мир явно стремится к состоянию полной экономической автаркии каждой из стран. Какова в таком мире судьба стран, которые не в силах ни накормить, ни одеть своих граждан на основе только внутренних ресурсов?
Доктрина Lebensraum, созданная «обделенными» народами, подчеркивает, что в Америке и Австралии пустуют миллионы акров земли, более плодородной, чем истощенные земли, которые вынуждены обрабатывать крестьяне обездоленных стран. [436] Природные условия для добычи и переработки сырьевых ресурсов здесь также намного благоприятней, чем в обездоленных странах. Но крестьяне и рабочие Германии, Италии или Японии не имеют доступа к этим благословенным ресурсам. Иммиграционные законы сравнительно малонаселенных стран препятствуют иммиграции. Эти законы увеличивают предельную производительность труда, а следовательно, увеличивают заработную плату в малонаселенных странах и понижают их же в перенаселенных странах. [437] Высокий уровень жизни в Соединенных Штатах и Британских Доминионах оплачен, понижением уровня жизни в перенаселенных странах Европы и Азии.
Настоящие агрессоры, говорят, националисты Германии, Италии и Японии, — это те страны, которые посредством торговых и иммиграционных барьеров присвоили себе львиную долю природных богатств земли. Разве сам Папа Римский [438] не провозгласил, что коренной причиной мировых войн является «этот холодный и расчетливый эгоизм, который норовит завладеть экономическими ресурсами и материалами, предназначенными для общего блага, в такой степени, что страны, менее взысканные природой, вовсе не получают доступа к ним»? [504*] Война, начатая Гитлером, Муссолини и Хирохито, является с этой точки зрения справедливой войной, ибо ее единственной целью было дать обделенным нациям то, что в силу природной щедрости и божественной справедливости и так принадлежит им.
Русские не могут оправдывать свою агрессивную политику такими аргументами. Россия является сравнительно малонаселенной страной. Ее почвы от природы много лучше, чем в других странах. В ней существуют наилучшие условия для возделывания всех видов зерна, фруктов и овощей. России принадлежат гигантские пастбища и почти неистощимые леса. Ей принадлежат богатейшие залежи золотых, серебряных, платиновых, медных, железных, никелевых и всех прочих руд, а также громадные запасы нефти и угля. Если бы не деспотизм царей и не плачевная неадекватность коммунистической системы, ее население давно могло бы наслаждаться самым высоким уровнем жизни. Безусловно, вовсе не нужда в естественных ресурсах толкает Россию к завоеваниям.
Агрессивность Ленина была порождена его убежденностью, что он является вождем окончательной мировой революции. Он видел себя законным наследником Первого Интернационала, которому суждено выполнить задачу, не удавшуюся Марксу и Энгельсу. [439] Он полагал, что для ускорения прихода революции ему ничего делать не нужно. Над капитализмом уже прозвучал похоронный колокол, и никакие махинации не могут отдалить момента экспроприации экспроприаторов. Нужен только диктатор для нового мирового порядка. Ленин был готов взвалить это бремя на свои плечи.
Со времен монгольского нашествия человечество не сталкивалось с таким неумолимым и бескомпромиссным притязанием на неограниченное мировое первенство. В каждой стране русские эмиссары и коммунистическая пятая колонна фанатично трудились во имя Anschluss к России. [440] Но у Ленина не было первых четырех колонн. Военные силы России были в тот момент ничтожны. Когда они вышли за границы России, то были остановлены поляками. Дальше на Запад идти они не могли. Великая кампания по завоеванию мира захлебнулась.
Обсуждение того, возможен или желателен коммунизм в одной стране, было пустым делом. Коммунисты потерпели поражение везде за пределами России. Они были вынуждены оставаться дома.
Сталин посвятил всю свою энергию организации постоянной армии невиданного миром размера. Но он был не более удачлив, чем Ленин и Троцкий. Нацисты легко разбили эту армию и оккупировали важнейшие части территории России. Россию спасли британские и в первую очередь американские силы. Американские поставки позволили русским преследовать немцев по пятам, когда скудость вооружений и угроза американского вторжения вынудили их отступить из России. Они смогли даже громить арьергарды отступающих нацистов. Они смогли захватить Берлин и Вену, когда американская авиация разрушила немецкую оборону. Когда американцы сокрушили японцев, русские смогли спокойно нанести им удар в спину.
Конечно, коммунисты внутри и за пределами России, так же как и попутчики, страстно доказывали, что именно Россия нанесла поражение нацистам и освободила Европу. Они обходят молчанием тот факт, что единственной причиной, которая не дала немцам взять Сталинград, был недостаток снаряжения, самолетов и бензина. Блокада не позволила нацистам снабдить армию должным образом и соорудить в оккупированной России транспортную сеть для доставки снаряжения на отдаленные фронты. Решающим сражением войны была битва за Атлантику. Великими стратегическими событиями войны с Германией были и завоевание Африки и Сицилии, и победа в Нормандии. Сталинград, если мерить гигантскими масштабами этой войны, был едва ли больше, чем тактическим успехом. В сражениях с итальянцами и японцами участие России было нулевым.
Но все плоды победы достались одной России. В то время как другие союзники не стремились к территориальным приращениям, русские развернулись во всю. Они аннексировали три Балтийские республики, Бессарабию, Карпатскую Русь — область Чехословакии, часть Финляндии, большую часть Польши и значительные территории на Дальнем Востоке. [505*] Они претендуют на то, что остальная часть Польши, Румыния, Венгрия, Югославия, Болгария, Корея и Китай являются исключительной сферой их влияния. Они лихорадочно создают в этих странах «дружественные», т. е. марионеточные, правительства. Если бы не противодействие Соединенных Штатов и Великобритании, они бы господствовали сегодня во всей Континентальной Европе, Континентальной Азии и Северной Африке. Только американские и британские гарнизоны в Германии отрезали русским путь к берегам Атлантики.
Сегодня, как и после первой мировой войны, реальной угрозой для Запада является вовсе не военная мощь России. Великобритания может легко отразить атаку русских, а начать войну против Соединенных Штатов было бы для русских чистым безумием. Не русские армии, а коммунистическая идеология угрожает Западу. Русские хорошо это знают и делают ставку не на собственную армию, а на своих иностранных сподвижников. Они хотят опрокинуть демократии изнутри, а не извне. Их основное оружие — прорусские махинации пятых колонн. Вот первоклассные дивизии большевизма.
Коммунистические писатели и политики в России и в других странах объясняют агрессивную политику России необходимостью в самозащите. Не Россия планирует нападение, говорят они, но, напротив, загнивающие капиталистические демократии. Россия хочет просто оградить свою собственную независимость. Это старый, испытанный метод оправдания агрессии. Людовик XIV и Наполеон I, Вильгельм II и Гитлер были самыми горячими сторонниками мира. Если они вторгались в другие страны, то только для справедливой самозащиты. Эстония или Литва угрожали России не меньше, чем Люксембург или Дания — Германии.
Порождением этой басни о самозащите является легенда о cordon sanitaire. [442] Политическая независимость малых соседей России, утверждает эта легенда, — это просто временная капиталистическая уловка, чтобы защитить европейские демократии от заражения ростками коммунизма. Следовательно, делается вывод, эти малые страны утратили свое право на независимость. Ибо Россия имеет неотъемлемое право требовать, чтобы ее соседи (а также и соседи ее соседей) управлялись только «дружественными», т. е. непосредственно коммунистическими, правительствами. Что случилось бы с миром, если бы все великие державы имели подобные претензии?
Истина в том, что вовсе не правительства демократических стран стремятся низвергнуть существующую в России систему. Они не вскармливают продемократическую пятую колонну в России, и они не подстрекают население России против их правителей. Это русские неустанно, день и ночь, возбуждают недовольство во всех странах. Их Третий Интернационал открыто пытался возбудить коммунистические революции по всему миру.
Весьма слабое и неуверенное вмешательство союзников в гражданскую войну в России не было прокапиталистическим и антикоммунистическим походом. Для союзников, сражавшихся не на жизнь, а на смерть с Германией, Ленин был тогда просто орудием их заклятого врага. Людендорф отправил Ленина в Россию, чтобы сбросить режим Керенского и обеспечить выход России из войны. [443] Силой оружия большевики задавили всех тех русских, кто желал сохранения союза с Францией, Великобританией, Соединенными Штатами и другими демократическими странами. С военной точки зрения Запад просто не мог оставаться нейтральным, когда их русские союзники отчаянно оборонялись от большевиков. Для союзников ставкой был Восточный фронт. «Белыми» генералами двигали внутренние проблемы страны.
Как только в 1918 г. война с Германией закончилась, союзники утратили интерес к русским делам. Нужды в Восточном фронте больше не было. Они ни в малейшей степени не заботились о внутренних проблемах самой России. Они стремились к миру и спешили выйти из схватки. Конечно, они были встревожены, поскольку не знали, как выпутаться пристойно. Их генералам было стыдно бросать своих товарищей по оружию, которые сделали все, что могли во имя общей цели. Оставить этих людей в беде было бы не чем иным, как трусостью и дезертирством. Такого рода соображения воинской чести заставили отложить на некоторое время вывод незначительных союзнических отрядов и прекращение снабжения «белых» частей. Когда все было выполнено, государственные деятели союзников почувствовали облегчение. Отныне они приняли политику строгого нейтралитета по отношению к русским делам.
Крайняя незадача, конечно, что союзников волей-неволей затянуло в события русской гражданской войны. Было бы много лучше, если бы военная ситуация 1917–1918 г. не принудила их вмешаться. Но не следует упускать из виду того, что отказ от интервенции в России был равнозначен провалу политики президента Вильсона. [444] Соединенные Штаты вступили в войну, чтобы сделать «мир обителью демократии». В результате победы союзников в Германии на смену сравнительно мягкому и умеренно авторитарному императорскому режиму пришло республиканское правительство. С другой стороны, в России возникла диктатура, в сравнении с которой царский деспотизм мог быть назван либеральным. Но союзники не стремились сделать Россию обителью демократии, как в случае с Германией. И это при том, что императорская Германия имела парламент, министров, ответственных перед парламентом, суд присяжных, свободу мысли, религии и печати, ограниченные не многим более чем в других странах Запада, и иные демократические установления. А в Советской России утвердился неприкрытый деспотизм.
Американцы, французы и британцы не догадались взглянуть на события под этим углом (в отличие от антидемократических сил в Германии, Италии, Польше, Венгрии и на Балканах). Националисты этих стран поняли невмешательство союзников в русские дела как доказательство того, что их преданность демократии — чистая показуха. Союзники — по их логике — воевали с Германией потому, что завидовали ее экономическому процветанию, а в России деспотизм допустили потому, что не боялись ее экономической мощи. Демократия, приходили к выводу националисты, — не что иное, как ширма для простаков. Распространился страх, что эмоциональная привлекательность этого лозунга однажды будет использована против их собственной независимости.
После прекращения интервенции у России не осталось никаких причин для страха перед странами Запада. Не боялись Советы и нацистской агрессии. Противоположные утверждения, очень популярные в Западной Европе и Америке, имели причиной полное непонимание того, что происходило в Германии. Но Русские знали и Германию, и нацистов. Они прочитали «Mein Kampf». [445] Они усвоили из этой книги не только то, что Гитлер зарится на Украину, но также и то, что его основная стратегическая идея состоит в том, чтобы приступить к покорению России только после окончательного разгрома Франции. Русские были уверены, что выраженные в «Mein Kampf» расчеты Гитлера на нейтралитет Великобритании и США при разгроме Франции — чепуха. Для них было очевидным, что новая мировая война, при которой они сами рассчитывали остаться в нейтралитете, приведет к новому поражению Германии. А это поражение, легко понять, сделает Германию, если не всю Европу, — открытой для большевизма. Руководствуясь таким пониманием, Сталин уже в период Веймарской республики помогал тогда еще тайному перевооружению Германии. [446] Немецкие коммунисты как могли помогали нацистам подорвать Веймарский режим. Наконец в 1939 г. Сталин стал прямым союзником Гитлера, чтобы развязать ему руки на Западе.
Чего Сталин, как и все остальные, не предвидел, — так это потрясающий успех армий Германии в 1940 г. Гитлер напал на Россию в 1941 году, поскольку был совершенно убежден, что не только Франция, но и Великобритания выведены из строя и что Соединенные Штаты, которым с тыла угрожает Япония, не смогут оказать большого воздействия на европейские дела.
Распад Габсбургской империи в 1918 г. и поражение нацистов в 1945 г. распахнули перед Россией ворота в Европу. [447] Сегодня Россия является единственной военной силой в Европе. Но почему русские так ориентированы на завоевания и присоединения? Они не нуждаются ни в каких дополнительных ресурсах. Вряд ли Сталин стремится с помощью завоеваний увеличить свою популярность в народе. Его не заботит воинская слава.
Агрессивная политика Сталина рассчитана не на массы, а на интеллектуалов. Ибо на кону — их марксистская ортодоксальность, действительная основа мощи Советов.
Эти русские интеллектуалы оказались достаточно недалекими, чтобы принять модификации марксизма и тем самым фактически отвергнуть сущность диалектического материализма, предупреждавшего, что эти модификации спровоцируют вспышку русского шовинизма. Они приняли доктрину, согласно которой их святая Русь может перескочить через одну из описанных Марксом непременных ступеней экономической эволюции. Они гордились тем, что являются авангардом пролетариата и мировой революции, которая, позволив построить социализм в одной отдельно взятой стране, создала славный пример для всего мира. Но невозможно объяснить им, почему остальные народы в конце концов не идут за Россией. В работах Маркса и Энгельса, которые уже нельзя изъять из обращения, можно прочесть, что основатели марксизма считали Великобританию, Францию и даже Германию странами наиболее развитой цивилизации и капитализма. Студенты марксистских университетов могли быть туповаты, чтобы разобраться в философских и экономических основах Марксова завета. Но они были вполне сообразительны, чтобы понять, что Маркс считал Россию страной менее развитой, чем страны Запада.
Неизбежен у изучающих экономическую политику и статистику вопрос: почему в капиталистических странах уровень жизни народа намного выше? Как это возможно? Почему жизненные условия намного благоприятней в США, которые хотя и самая развитая из капиталистических стран, но такая отсталая страна в деле пробуждения классового сознания пролетариата?
Выводы из этих фактов кажутся неизбежными. Если наиболее развитые страны не приемлют коммунизма и вполне процветают при капитализме, если распространение коммунизма ограничено странами, которые Маркс считал отсталыми и которые с тех пор не разбогатели, не следует ли это понимать так, что коммунизм сопутствует отсталости и ведет к общей нищете? Не следует ли патриоту России устыдиться того факта, что его страна принадлежит к этой системе?
Такие мысли очень опасны в деспотической стране. Тот, кто позволил бы себе высказать их, был бы безжалостно ликвидирован ГПУ. [448] Но даже невысказанные, они крутятся на кончике языка каждого интеллигента. Они тревожат сон высокопоставленных чиновников и, может быть, даже самого великого диктатора. У него, конечно, достанет власти сокрушить каждого противника. Но ведь неразумно уничтожить всех рассудительных людей и оставить у власти в стране только тупых болванов.
Таков реальный кризис русского марксизма. Каждый прошедший день, в который не случилось мировой революции, углубляет его. Советы обязаны завоевать мир либо им в собственной стране угрожает измена интеллигенции. Обеспокоенность идеологическим состоянием лучших мозгов России толкает сталинскую Россию к неуклонной агрессии.
5. Троцкистская ересь
Принятая русскими большевиками, итальянскими фашистами и германскими нацистами концепция диктаторской власти неявно предполагает, что не может быть споров о том, кто именно будет диктатором. Мистические силы, определяющие ход исторических событий, выделяют провиденциального лидера. Все достойные люди не могут не склониться перед несомненным выбором истории и преклонят колени перед троном избранника судьбы. Кто поступит иначе — еретик и презренный негодяй, подлежащий «ликвидации».
На самом деле диктаторская власть достается тому из кандидатов, кто сумел вовремя устранить всех своих соперников и их людей. Диктатор, прокладывая путь к верховной власти, вырезает всех конкурентов. Он защищает свои позиции власти, вырубая всех тех, кто способен оспорить ее. История восточных деспотий свидетельствует об этом так же, как и современная история.
Когда в 1924 г. умер Ленин, Сталин вытеснил наиболее опасного из своих соперников — Троцкого. Троцкий покинул страну, провел несколько лет в скитаниях по разным странам Европы, Азии и Америки и был наконец убит в Мексике. Сталин стал абсолютным властителем России.
Троцкий был ортодоксальным марксистским интеллектуалом. В силу этого он пытался представить свою личную вражду со Сталиным как результат принципиального расхождения. Он клеймил политику Сталина как измену святым заветам Маркса и Ленина. Сталин отвечал в том же духе. Фактически, однако, этот конфликт представлял собой соперничество двух лиц, а не конфликт антагонистических идей и принципов. Были небольшие разногласия в вопросах тактики. Но во всех основных вопросах Сталин и Троцкий занимали общие позиции.
До 1917 г. Троцкий жил в эмиграции и был в той или иной степени знаком с основными языками Запада. Он держался как эксперт по международным вопросам. На самом деле он ничего не знал о цивилизации Запада, о политических идеях и политических условиях. В качестве странствующего изгнанника он общался исключительно с другими изгнанниками. Единственными иностранцами, с которыми он порой встречался в кафе и клубах Западной и Центральной Европы, были радикальные доктринеры, которые сами по себе — в силу одержимости марксизмом — были отделены от реальности. Его единственным чтением были марксистские книги и периодика. Все другое он презирал как «буржуазную» литературу. Он был абсолютно неспособен видеть мир иначе, чем с точки зрения марксизма. Подобно Марксу он был всегда готов истолковать любую крупную стачку или маленькую заварушку как знак начала последней великой революции.
Сталин — плохо образованный грузин, ни в малейшей степени не знакомый ни с одним иностранным языком. Он не знал ни Европы, ни Америки. Даже его достижения как марксистского литератора сомнительны. Но именно тот факт, что он не был марксистским начетчиком, хотя и был при этом несгибаемым борцом за коммунизм, обеспечил ему превосходство над Троцким. Сталин мог видеть вещи как они есть на самом деле, не обманываясь хитросплетениями диалектического материализма. При столкновении с проблемой он не искал истолкований в писаниях Маркса и Энгельса. Он доверял своему здравому смыслу. Ему хватило здравомыслия, чтобы признать, что политика мировой революции, начатая Лениным и Троцким в 1917 г., полностью провалилась за пределами России.
В Германии коммунисты, возглавлявшиеся Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург, потерпели поражение от регулярных армейских частей и националистических отрядов в кровавой схватке на улицах Берлина в январе 1919 г. Коммунистический насильственный захват власти в Мюнхене весной 1919 г., бунт Гельца в марте 1921 г. точно так же окончились поражением. [449] В Венгрии в 1919 г. коммунисты были разбиты частями румынской армии, а также отрядами Хорти и Гембеша. [450] В Австрии многочисленные коммунистические заговоры провалились в 1918 и 1919 г.; свирепый бунт в июле 1927 г. был легко усмирен венской полицией. [451] В Италии в 1920 г. захват предприятий окончился полной неудачей. [452]
Во Франции и в Швейцарии коммунистическая пропаганда казалась очень влиятельной в первое время после окончания войны в 1918 г., но очень скоро истощилась. В Великобритании в 1926 г. общая стачка окончилась полным поражением. [453]
Троцкий был настолько ослеплен собственной ортодоксальностью, что отказался признать провал большевистских методов. Но Сталин сделал это очень скоро. Он не оставил идею подготовки революционных взрывов во всех странах мира и установления повсеместной советской власти. Но при этом хорошо сознавал, что агрессию нужно отложить на несколько лет и что нужны новые методы ее осуществления. Троцкий был неправ, приписывая Сталину удушение коммунистического движения за пределами России. Сталин просто использовал другие методы для достижения все тех же целей, общих для всех марксистов.
Как истолкователь марксистских догм, Сталин, конечно же, уступал Троцкому. Но он превосходил своего соперника как политик. Тактические успехи большевизма на мировой арене — заслуга Сталина, а не Троцкого.
В области внутренней политики Троцкий прибегал к испытанным традиционным трюкам, которые марксисты всегда использовали для развенчания социалистической политики других партий. Что бы Сталин ни делал, это не были истинные социализм и коммунизм, но, напротив, чудовищное извращение благородных принципов Маркса и Ленина. Все катастрофические результаты общественного контроля над производством и распределением, проявлявшиеся в России, толковались Троцким как результат мелкобуржуазности политики. Они не были неизбежными следствиями коммунистических методов. Они были печальными порождениями сталинизма, а не коммунизма. Исключительной виной Сталина было объяснено все: что в стране правила совершенно безответственная бюрократиями привилегированные олигархические группы купались в роскоши, в то время как массы жили на грани голода; что террористический режим уничтожил старую гвардию революционеров и обрек миллионы на рабский труд в концлагерях; что тайная полиция была всевластной; что профсоюзы были бессильными; что массы были лишены всех прав и свобод. Сталин не был лидером эгалитарного бесклассового общества. Он возглавил отход к худшим методам классового господства и эксплуатации. Новый правящий класс, втянувший примерно 10 процентов населения, безжалостно подавлял и эксплуатировал громадное большинство пролетарских тружеников.
Троцкий не мог объяснить, как всего этого сумел достичь один-единственный человек со своими прислужниками. Где же были «материальные производительные силы», столь много обсуждавшиеся в Марксовом историческом материализме, которые «независимо от воли индивидуумов» определяют ход человеческой истории «с неотвратимостью законов природы»? Как могло случиться, что один человек изменил «правовую и политическую надстройку», которую единственным и неизменным образом определяет экономическая структура общества? Даже Троцкий был согласен, что в России больше не существует частной собственности на средства производства. В империи Сталина производство и распределение безраздельно контролируются «обществом». Согласно основным положениям марксизма в такой системе надстройка должна быть подобием земного рая. В марксистской доктрине не предусмотрена возможность, чтобы индивидуальными усилиями можно было извратить благодать общественного контроля над хозяйством и обратить жизнь в ад. Последовательный марксист — если бы последовательность была совместима с марксизмом -- должен бы признать, что политическая система сталинизма есть необходимая форма коммунистической надстройки.
Программа Троцкого разрешала все существенные вопросы в точности так же, как это делала и реальная политика Сталина. Троцкий оправдывал индустриализацию России. Именно к этому стремился пятилетний план Сталина. Троцкий оправдывал коллективизацию сельского хозяйства. Сталин создал колхозы и ликвидировал кулаков. Троцкий считал нужным создание большой армии. Сталин создал такую армию. Пока Троцкий сохранял власть, он не был демократом. Напротив, он фанатично требовал диктаторского подавления всех «саботажников». Верно, конечно, что он не предвидел, что диктатор отнесется к нему — Троцкому, автору марксистских трактатов и ветерану славной революции, — как к худшему из саботажников. Подобно другим адвокатам диктатуры он предполагал, что либо он сам, либо кто-нибудь из его близких друзей будет диктатором.
Троцкий был критиком бюрократизма. Но он не предлагал никакого другого способа ведения дел в социалистическом обществе. Нет другой альтернативы ориентированному на прибыль частному бизнесу, кроме бюрократического управления [506*].
Истина в том, что Троцкий нашел у Сталина только одну ошибку: тот стал диктатором вместо Троцкого. Оба были правы в своей взаимной вражде. Сталин был прав в том, что его режим был воплощением истинных коммунистических принципов. Троцкий был прав в том, что сталинский режим обратил российскую жизнь в ад.
Троцкизм не исчез полностью со смертью Троцкого. Буланжизм во Франции также на какое-то время пережил генерала Буланже. [454] В Испании до сих пор есть карлисты, хотя линия Дон Карлоса вымерла. [455] Такие посмертные движения, конечно, обречены.
Но во всех странах есть люди, которые — при собственной беззаветной преданности идеям всестороннего планирования, т. е. общественной собственности на средства производства, — приходят в ужас при столкновении с реалиями коммунизма. Эти люди разочарованы. Они мечтают о райском саде. Для них коммунизм или социализм означает легкую жизнь — в достатке и полном наслаждении всеми свободами и удовольствиями. Они не в силах осознать противоречивость собственного представления о коммунистическом обществе. Они некритично восприняли все лунатические фантазии Шарля Фурье и все нелепости Веблена. [456] Они простодушно верят утверждению Энгельса, что социализм будет царством неограниченной свободы. Они винят капитализм во всем том, что вызывает их неудовольствие, и полностью убеждены, что социализм избавит их от всех неприятностей. Собственные неудачи и поражения они приписывают бесчестности этой «безумной» системы конкуренции и надеются, что социализм обеспечит им достойное положение в обществе и высокий доход, которые им положены по праву. Это просто Спящие Красавицы, ждущие принца-спасителя, который сумеет по достоинству оценить их добродетели и заслуги. Для них утешение — проклинать капитализм и восхвалять коммунизм. Так можно скрыть от себя собственную неполноценность и взвалить на «систему» собственные неудачи.
Призывая диктатуру, такие люди всегда надеются на диктатуру собственной клики. Требуя планирования, они всегда подразумевают собственные планы, а не планы других. Они никогда не признают, что социалистический или коммунистический режим представляет собой истинный социализм или коммунизм, если только им не обеспечены высшие статус и доход. Для них основной чертой настоящего и истинного коммунизма является то, что все происходит согласно их собственной воле, а все несогласные принуждаются к повиновению.
Это факт, что большинство наших современников поражены идеями коммунизма и социализма. Однако это не означает, что они единодушны в планах национализации средств производства и общественного контроля над производством и распределением. Напротив. Каждая социалистическая ячейка фанатически враждебна планам всех других социалистических групп. С наибольшим ожесточением социалистические секты воюют именно друг с другом.
Если бы случай с Троцким — как и аналогичная история с Грегором Штрассером в нацистской Германии — были только единичными примерами, их не следовало бы и рассматривать. Но это не случайные явления. Они типичны. Их изучение открывает психологические причины и популярности социализма, и его нереализуемости.
6. Высвобождение демонов
История человечества — это история идей. Именно идеи, теории и доктрины направляют действия людей, определяют конечные цели человека и выбор средств для достижения этих целей. Сенсационные события, возбуждающие страсти и приковывающие к себе внимание поверхностных наблюдателей, — в сущности лишь завершение идеологических изменений. Не бывает резкого и внезапного преобразования всей жизни. То, что называют (вполне запутывающим образом) «поворотной точкой истории», — есть просто момент выхода на сцену сил, которые уже давно работали подспудно. Новые идеологии, которые уже задолго до этого скрытно вытесняли старые, сбрасывают последнюю оболочку, и даже самые непроницательные оказываются лицом к лицу с новизной, прежде ими не замечавшейся.
В этом смысле захват Лениным власти в октябре 1917 г. был, конечно, поворотной точкой. Но ее значение вовсе не то, какое обычно приписывают коммунисты.
Эта победа сыграла не столь значительную роль в движении к социализму. Просоциалистическая политика промышленных стран Центральной и Западной Европы в этом плане имела куда большие последствия. Введенная Бисмарком система социального страхования играла куда большую роль в этом движении к социализму, чем экспроприация отсталых заводов России. Государственные железные дороги Пруссии дали единственный пример государственного предприятия, которое, по крайней мере временно, не стало жертвой финансового краха. Британия уже до 1914 г. воспроизвела основные элементы германской системы социального страхования. Во всех промышленных странах правительства являли преданность идеям государственного вмешательства в экономику, идеям, ведущим напрямую к социализму. В ходе войны большинство правительств вело политику, названную военным социализмом. Программа Гинденбурга (Германия), которая, разумеется, не могла быть выполнена полностью из-за поражения в войне, была не менее радикальна и к тому же лучше составлена, чем широко известные пятилетние планы России. [457]
Для социалистов сильно индустриализованных стран Запада русские методы были вполне бесполезны. Для этих стран производство на экспорт было непременным условием выживания. Они не могли принять русскую систему экономической автаркии. Россия никогда не экспортировала промышленные товары в сколь нибудь заметных количествах. В советский период они почти совсем исчезли с мировых рынков зерна и сырых материалов. Даже фанатичные социалисты не могли не признать, что Западу нечему учиться у России. Очевидно, что превозносимый большевиками технологический прогресс есть просто топорная имитация того, что производилось на Западе. Ленин определил коммунизм так «Советская власть плюс электрификация». Что ж, электрификация — это западная идея, и страны Запада обогнали Россию в области электрификации не меньше, чем во всех других.
Реальное значение ленинской революции следует видеть в том, что она явила миру пафос неограниченного насилия и принуждения. Она несла с собой отрицание всех политической идеалов, в течение трех тысячелетий направлявших развитие Запада.
Государство и правительство есть не что иное, как общественный аппарат жестокого насилия и принуждения. Такой аппарат, власть полиции необходимы для того, чтобы антиобщественно настроенные индивидуумы и группы не разрушили систему общественного сотрудничества. Жестокое предотвращение и подавление антиобщественной активности благотворны для всего общества и для каждого из его членов. Но жестокость и насилие сами по себе есть зло и коррумпируют тех, кто их осуществляет. Необходимо ограничивать власть тех, кто находится при должности, чтобы они не стали совершенными деспотами. Общество не может существовать без аппарата насилия и принуждения. Но точно так же оно не может существовать, если власть имущие становятся безответственными тиранами и вольны расправляться со всеми неугодными.
Социальная функция законов в том, чтобы ограничивать произвол полиции. Законы ограничивают со всей возможной тщательностью произвол полицейских чиновников. Они строго ограничивают их возможности действовать по собственному разумению и, таким образом, очерчивают сферу жизни, в которой граждане вольны делать что угодно, не опасаясь правительственного вмешательства.
Свобода и вольность — это всегда свобода от полицейского вмешательства. В природе нет таких вещей, как свобода и вольность. Там есть только неуклонность законов природы, которым человек должен безусловно подчиняться, если желает достичь хоть чего-нибудь. Не было свободы и в воображаемом райском существовании, которое согласно фантазии многих писателей предшествовало установлению общественных отношений. Где нет правительства, каждый оказывается в зависимости от более сильного соседа. Свобода возможна только в рамках государства, способного помешать бандиту убивать и грабить тех, кто слабее его. Но только господство закона не позволяет власть имущему самому превратиться в худшего из бандитов.
Законы определяют нормы легитимных действий. Они устанавливают процедуры, необходимые для изменения или отмены существующих законов и принятия новых. Подобным же образом они устанавливают процедуры применения законов в определенных случаях, должный процесс правосудия. На законах держатся суды и трибуналы. Таким образом, они нацелены на то, чтобы не возникало ситуаций, в которых индивидуум оказался бы во власти произвола администрации.
Смертный человек склонен к ошибкам, а судьи и законодатели смертны. Вновь и вновь может повторяться ситуация, когда достойные законы или их толкование судами не позволяют исполнительным властям прибегнуть к предположительно благим мерам. Это, впрочем, не большая беда. Если законодатели осознают недостатки достойных законов, они могут изменить их. Скверно, конечно, что преступник может порой избежать наказания из-за дыры в законах или оттого, что прокурор пренебрег какими-либо формальностями. Но это меньшее зло, если сравнить его с последствиями неограниченной произвольной власти «доброжелательного» деспота.
Именно этого и не могут понять антиобщественные индивидуумы. Такие люди проклинают формализм должного правового процесса. Почему закон препятствует правительству использовать благотворные меры? Разве это не фетишизм — подчинить все верховенству закона, а не целесообразности? Они требуют перехода от правового государства (Rechtsstaat) к государству благосостояния (Wohlfahrtsstaat). В этом правовом государстве патерналистское правительство должно иметь возможность сделать вое необходимое для блага населения. Никакой бумажный хлам не должен мешать просвещенному правителю в его стремлении к общему благу. Все противники должны быть безжалостно сокрушены, чтобы не мешали благотворной политике правительства. Никакие пустые формальности не должны их больше защищать от заслуженного наказания.
Точку зрения защитников государства благосостояния принято называть «социальной» в отличие от «индивидуалистической» и «эгоистической» точек зрения тех, кто стоит за верховенство законов. На деле, однако, сторонники государства благосостояния не кто иной, как антисоциальные и нетерпимые фанатики. Их идеология неявно предполагает, что правительство будет исполнять как раз то, что они считают правильным и благотворным. Они совершенно не задумываются о возможности возникновения разногласий в том, что считать правильным и благим, а что — наоборот. Они восхваляют просвещенный деспотизм, но убеждены, что просвещенный деспот во всех случаях будет согласен с ними в вопросе о нужных мерах. Они одобряют планирование, но всегда предполагают, что это будет их собственный план, а не планы других сограждан. Они хотят устранения всех оппонентов, т. е. всех, кто несогласен с ними. Они совершенно нетерпимы и не склонны допускать какое-либо разномыслие. Каждый сторонник государства благосостояния и планирования — потенциальный диктатор. Он планирует всегда одно -- как ограничить права других людей и присвоить себе и своим друзьям неограниченные полномочия. Он отказывается убеждать своих сограждан. Он предпочитает «ликвидировать» их. Он презирает «буржуазное» общество, которое боготворит закон и правовые процедуры. Сам-то он боготворит насилие и кровь.
Несовместимость этих двух доктрин — правового государства и государства благосостояния — была в центре всех сражений за свободу. Это была долгая тяжкая эволюция. Вновь и вновь торжествовали вожди абсолютизма. Но в конце концов правовое государство стало преобладающим в западном мире. Верховенство закона или правительства, ограниченные конституциями и биллями о правах, — характерные меты этой цивилизации. Именно верховенство закона сделало возможным замечательные достижения современного капитализма и его, как сказали бы последовательные марксисты, «надстройки» — демократии. Именно это обеспечило постоянно умножающемуся населению беспрецедентное благосостояние. Широкие массы в капиталистических странах наслаждаются сегодня уровнем жизни более высоким, чем у зажиточных слоев населения в предыдущие эпохи.
Все эти достижения не останавливают адвокатов деспотизма и планирования. Правда, для апологетов тоталитаризма было бы крайней неосторожностью раскрывать неизбежные последствия своих планов. В XIX веке идеи свободы и верховенства законов обрели такой престиж, что открытая атака на них казалась бы безумием. Общественное мнение было совершенно убеждено, что деспотизм потерпел поражение и возврата к старому быть не может. Даже царь варварской России разве не был вынужден уничтожить рабство, дать своей стране суд присяжных, даровать ограниченные свободы печати и уважать закон?
Социалисты прибегли к трюку. В своих замкнутых кружках они продолжали обсуждать грядущую диктатуру пролетариата, т. е. диктатуру идей каждого из социалистических авторов. Но на широкую публику они выступали иначе. Социализм, заклинали они, принесет истинные и подлинные свободу и демократию. Он устранит все формы принуждения и насилия. Государство «отомрет». В процветающем мире социализма не станет со временем ни судей, ни полиции, ни тюрем, ни казней.
Большевики первые сорвали маску. Они были совершенно уверены, что настал день их окончательной и несокрушимой победы. Дальнейшее притворство стало и ненужным, и невозможным. Стало возможным открыто служить кровавую мессу. И это вызвало энтузиазм у всех опустившихся журналистов и салонных интеллектуалов, которые годами бредили идеями Сореля и Ницше. [458] Интеллигенты предали разум, и плоды этого предательства созрели. Молодежь, вскормленная идеями Карлейля и Рескина, была готова взять власть в свои руки [507*]. [459]
Ленин был не первым узурпатором. Многие тираны предшествовали ему. Но его предшественники были в конфликте с идеями своих великих современников. Они была в разладе с общественным мнением, поскольку принципы их правления не совпадали с общепринятыми принципами права и закона. Их презирали и ненавидели как узурпаторов. Но ленинскую узурпацию воспринимали иначе. Он был жестокий сверхчеловек, о пришествии которого возвещали псевдо-философы. Он был фальшивым мессией, которого история выбрала для спасения через кровопускание. Не был ли он самым правоверным из адептов марксова «научного» социализма? Не был ли он предназначен судьбой для воплощения планов социализма — дела, непосильного для слабых государственных деятелей разлагающейся демократии? Все благонамеренные люди алкали социализма; наука устами непогрешимых своих профессоров рекомендовала его; церкви проповедовали христианский социализм; рабочие мечтали об устранении системы заработной платы. Он был достаточно рассудителен, чтобы понимать: нельзя сделать омлет, не разбив яиц.
За полвека до того все цивилизованные люди осудили Бисмарка, когда он заявил, что великие исторические проблемы следует решать железом и кровью. Теперь громадное большинство квазицивилизованных преклонились перед диктатором, который изготовился пролить крови во много раз больше, чем Бисмарк.
Таково было истинное значение ленинской революции. Все традиционные представления о праве и законности были отринуты. На смену верховенству законов пришли неограниченное насилие и произвол. «Узкие границы буржуазной законности», как говаривал Маркс, были отброшены. Не стало каких-либо законов, которые могли бы ограничить власть имущих. Они стали вольны убивать ad libitum [460]. Врожденное побуждение силой устранять неугодных -- импульс, усмиренный долгой и тягостной эволюцией, — было раскрепощено. Демонов выпустили на волю. Настала новая эпоха незаконных захватов. Бандитов призвали к делу, и они повиновались гласу.
Конечно, Ленин не хотел всего этого. Он не желал делиться с другими людьми правами, на которые претендовал сам. Он не намеревался делить с другими привилегию устранять неугодных. Его одного избрала история, и ему она доверила диктаторские полномочия. Он, и только он, был «законным» диктатором — так говорил ему внутренний голос. Ленин не был достаточно догадлив, чтобы понять, что другие люди, обуреваемые другими убеждениями, осмелятся действовать от имени собственного внутреннего голоса. Но в ближайшие несколько лет началось возвышение двух подобных ему — Муссолини и Гитлера.
Важно иметь в виду, что и фашизм, и нацизм являлась разновидностями социалистической диктатуры. И члены коммунистических партий, и многочисленные попутчики заклеймили фашизм, как и нацизм, как высшую, последнюю и самую угнетательскую стадию капитализма. Это отлично согласуется с их манерой честить любую партию последышем капитализма, если она не проявляет безусловного подчинения Москве. Эта судьба не миновала даже социал-демократию Германии, классическую марксистскую партию.
Гораздо важнее, что коммунисты сумели изменить семантическое значение термина фашизм. Фашизм, как будет показано ниже, был ветвью итальянского социализма. Он приспособился к особенностям положения масс в перенаселенной Италии. Фашизм не был изобретением Муссолини и пережил его падение. [461] С самого начала иностранная политика фашизма и нацизма резко различались. Тот факт, что нацисты и фашисты тесно сотрудничали после войны в Эфиопии и были союзниками по второй мировой войне, не устраняет различий между двумя доктринами (так же как союз СССР и США не снял различий между советской и американской экономическими системами). [462] Фашизм и нацизм в равной степени были привержены советскому принципу диктатуры и насилия над несогласными. Если пожелать найти общее в этих режимах, то оба следует отнести к диктаторским режимам, так же как и Советы.
В последние годы семантические новации коммунистов пошли еще дальше. Они называют всех, кто им несимпатичен, даже агитаторов свободного предпринимательства, фашистами. Большевизм, говорят они, есть единственная действительно демократическая система. Все некоммунистические страны и партии в сущности своей недемократичны, а значит, — фашисты.
Примечательно, что порой даже несоциалисты, например последние отпрыски старой аристократии, заигрывают с идеей аристократической революции, моделируемой по образцу диктатуры Советов. Какими же мы были простаками, стенают они. Мы позволили одурачить себя фальшивыми идеями либеральной буржуазии. Мы верили, что недопустимо отступать от законности и уничтожать безжалостно всех, кто оспаривает наши права. Какими глупцами были эти Романовы, давшие своим смертельным врагам блага справедливого суда! Всякий, возбуждавший подозрение Ленина, погибал сразу. Ленин не колебался уничтожить — и безо всякого процесса — не только каждого подозреваемого, но и всех его родственников и друзей. Но цари из предрассудка боялись нарушить правила, записанные на этих клочках бумаги, — законы. Когда Александр Ульянов злоумышлял против жизни царя, он один был казнен; его брата Владимира не тронули. Таким образом, Александр III лично сохранил жизнь Ульянову-Ленину, человеку, который позже безжалостно уничтожил его сына, невестку, их детей и всех остальных членов семьи, до которых он смог добраться.
Однако от фантазий этих старых тори ничего в мире сдвинуться не может. Они представляли собой малую группу бессильных ворчунов. [463] За ними не стояли никакие идеологические силы, и у них не было последователей.
Идея такой аристократической революции вдохновляла германский Stahlhelm и французский Cagoulards. [464] «Стальной шлем» был просто разогнан приказом Гитлера. У французского правительства всегда была легкая возможность пересажать кагуляров прежде, чем они сумели бы что-либо сделать.
Хорти не был диктатором. [465] Он был регентом при парламентском правительстве. Венгерский парламент поставил коммунизм вне закона и при этом ревностно охранял свои конституционные прерогативы против регента и его кабинета.
Ближайшим воплощением аристократической диктатуры является режим Франко. Но Франко был просто марионеткой Муссолини и Гитлера, которые хотели заручиться помощью или хотя бы «дружеским» нейтралитетом Испании на случай войны с Францией. После того как его защитники исчезли, дни Франко также сочтены. [466]
Диктатура и жестокое подавление несогласных нынче являются исключительно социалистическим обыкновением. Это становится ясно, когда мы пристальнее вглядываемся в фашизм и нацизм.
7. Фашизм
Отношение к войне 1914 г. разделило итальянских социалистов на две группы.
Одна группа держалась твердых марксистских принципов. Эта война, утверждали они, — война капиталистов. Пролетариям не к лицу соединяться с любой из партий. Пролетарии должны ждать великой революции, гражданской войны всех социалистов против всех эксплуататоров. До тех пор следует выступать за нейтралитет Италии.
Вторая группа была сильно возбуждена традиционной ненавистью к Австрии. По их мнению, первой задачей итальянцев должно быть освобождение своих собратьев. [467] Только потом пусть приходит день социалистической революции.
В этом конфликте Бенито Муссолини, выдающийся человек итальянского социализма, выбрал сначала правоверную марксистскую позицию. Никто не мог превзойти Муссолини в ревностности к марксизму. Он был непримиримым борцом за чистоту веры, непоколебимым защитником прав эксплуатируемого пролетариата, красноречивым пророком грядущего социалистического блаженства. Он был неумолимым обличителем патриотизма, национализма, империализма, монархического правления и всех религиозных предрассудков. Когда в 1911 г. Италия начала великую серию войн коварным нападением на Турцию, Муссолини организовывал яростные демонстрации против отправки войск в Ливию. [468] Теперь, в 1914 г. он отверг войну против Германии и Австрии как войну империалистическую. Тогда он был еще под влиянием Анжелики Балабановой, дочери богатого русского землевладельца. [469] Госпожа Балабанова посвятила его в тонкости марксизма. Для нее поражение Романовых значило куда больше, чем поражение Габсбургов. [470] Она не симпатизировала идеалам Рисорджименто. [471]
Но итальянские интеллектуалы были в первую очередь националистами. Как и во всех других европейских странах, большинство марксистов тянулись к войне и завоеваниям. Муссолини не был готов расстаться с популярностью. Больше всего он ненавидел возможность оказаться в стороне от победителей. Он изменил свой подход и стал фанатичнейшим из сторонников нападения на Австрию. С помощью французских денег он основал газету для военной агитации.
Антифашисты ставят в укор Муссолини этот отход от истинного марксизма. Он был подкуплен французами, говорят они. Пора бы уж и этим людям знать, что издание газеты требует средств. Никто ведь не говорит о подкупе, когда богатый американец дает деньги для публикации путеводителей или когда средства таинственно собираются в кассы коммунистических издательств. Фактом является лишь то, что Муссолини появился на сцене мировой политики как сторонник демократии, а Ленин — как союзник императорской Германии.
Более чем кто-либо другой, Муссолини способствовал вступлению Италии в войну. Его пропаганда позволила правительству объявить войну Австрии. Только те немногие, кто понимает, что именно дезинтеграция Австро-Венгерской империи изменила судьбу Европы, могут осуждать его позицию в войне 1914–1918 г. Только те итальянцы имеют право обвинять Муссолини, которые начали понимать, что единственным средством защиты итало-язычных меньшинств в прибрежных районах Австрии от поглощения их славянским большинством было сохранение единства Австрийского государства, конституция которого гарантировала равные права всем лингвистическим группам. [472] Муссолини был одной из самых жалких фигур истории, ничтожный хвастун и щеголь. Но остается фактом, что его первое значительное историческое достижение по-прежнему одобряется его соотечественниками и подавляющим большинством его зарубежных хулителей.
С окончанием войны популярность Муссолини упала. Популярность русских событий вывела вперед коммунистов. Но грандиозная коммунистическая авантюра — захват предприятий в 1920 г. — окончилась полным провалом, и разочарованные массы вспомнили прежнего лидера социалистической партии. Они ринулись в новую партию Муссолини, к фашистам. Молодежь с клокочущим энтузиазмом приветствовала самозваного наследника цезарей. Позднее Муссолини хвастал, что он спас Италию от коммунизма. Его враги страстно оспаривают это утверждение. Коммунизм, говорят они, уже не был реальной угрозой в Италии, когда Муссолини захватил власть. Истина в том, что провал коммунистов стимулировал приток сил в ряды фашистов, что и дало им возможность разгромить все остальные партии. Сокрушительная победа фашистов была не причиной, но следствием поражения коммунистов.
Программа фашистов, составленная в 1919 г., была резко антикапиталистической. [508*] Ее могли бы одобрить не только самые радикальные сторонники «Нового Курса», но и коммунисты. Когда фашисты пришли к власти, они позабыли о тех пунктах программы, которые относились к свободе печати, мысли и права на создание организаций. В этом отношении они оказались добросовестными учениками Бухарина и Ленина. Более того, они не уничтожили, как было обещано, промышленные и финансовые корпорации. Италия чрезвычайно нуждалась в иностранных займах для развития промышленности. Основной проблемой фашистов в первые годы правления было завоевать доверие иностранных банкиров. Для них было бы самоубийственным разрушение итальянских корпораций.
Экономическая политика фашистов вначале ничем существенным не отличалась от политики всех других стран Запада. Это была политика интервенционизма. С годами она все сильнее сближалась с социализмом нацистского образца. Когда Италия после поражения Франции вступила во вторую мировую войну, ее экономика уже во всех деталях походила на экономику нацистского типа. Основным отличием было то, что фашисты оказались еще менее эффективными и еще более коррумпированными, чем нацисты.
Но Муссолини не мог долго прожить, не имея собственной экономической философии. Фашизм возник как новая философия, неслыханная прежде и неизвестная другим народам. Он заявил о себе как о благовествовании, которое восставший дух Древнего Рима несет угасающим демократическим народам, варварские предки которых некогда разрушили империю. Это было единовременным и полным завершением Ринашименто [473] и Рисорджименто, конечное освобождение латинского гения от ярма иностранных идеологий. Его блистательный вождь, несравненный Дуче, был призван, чтобы найти окончательное решение жгучих проблем экономической организации общества и социальной справедливости
Из пыльной груды забытых социальных утопий фашистские ученые извлекли схемы гильдейского социализма. Гильдейский социализм был очень популярен среди британских социалистов перед первой мировой войной и в первые годы после ее окончания. Идея была настолько непрактичной, что очень быстро исчезла из социалистической литературы. Ни один серьезный государственный деятель ни мгновения не посвятил противоречивым и путаным построениям гильдейского социализма. Он был почти забыт уже, когда фашисты дали ему новое имя и торжествующе провозгласили, что корпоративизм -- новый универсальный путь спасения общества. Публика в Италии и в других странах была очарована. Бесчисленные книги, памфлеты и статьи были написаны во славу stato corporativo [474]. Правительства Австрии и Португалии очень скоро провозгласили, что они привержены благородным принципам корпоративизма. Папская энциклика «Quadragesimo anno» (1931) содержала несколько параграфов, которые могут быть истолкованы (но не обязательно так) как утверждение корпоративизма. Во Франции эти идеи нашли многих красноречивых сторонников.
Но все это были пустые слова. Никогда фашисты не сделали ни малейшей попытки реализовать корпоративистскую программу — промышленное самоуправление. Они сменили имя торговой палаты на корпоративный совет. Они назвали corporazione принудительную ассоциацию различных отраслей промышленности, которые стали административными центрами реализации нацистского социализма. Но не возникало и вопроса о самоуправлении corporazione. Фашистское правительство не терпело ни малейшего вмешательства в свои абсолютно авторитарные методы контроля производства. Все планы по созданию корпоративной системы остались на бумаге.
Основная проблема Италии — относительное перенаселение. В эту эпоху барьеров на пути торговли и миграции итальянцы были обречены жить на более низком уровне, чем жители других стран, более взысканных природой. Фашисты видели единственный способ выхода из этой неприятной ситуации: завоевание. Они были слишком недалеки, чтобы осознавать, что предлагаемое решение хуже и опаснее самой болезни. Более того, они были настолько ослеплены самонадеянностью и тщеславием, что не замечали даже, насколько смешны их провокационные выступления. Иностранцы, которых столь настойчиво вызывали на битву, отлично знали, сколь ничтожны военные силы Италии.
Что бы ни говорили его сторонники, фашизм не был порождением итальянского ума. Начало ему положил раскол марксистского социализма — учения бесспорно импортного. Экономическая программа фашизма была заимствована у немарксистского германского социализма, а агрессивность — также в Германии, у Alldeutsche, или пангерманских предтеч нацизма. [475] Ведение правительственной политики было заимствованием ленинского стиля диктатуры. Корпоративизм, столь превознесенное идеологическое украшение, был британского происхождения. Единственным доморощенным ингредиентом фашизма был театральный стиль процессий, представлений и праздников.
Краткосрочный фашистский эпизод окончился в крови, убожестве и позоре. Но силы, породившие фашизм, не умерли. Фанатический национализм есть черта, общая для всех современных итальянцев. Коммунисты, конечно же, не готовы отказаться от своих принципов диктаторского подавления всех несогласных. Да и католические партии не стали защитниками свободы мысли, печати или религии. В Италии до сих пор очень немногие понимают, что незаменимой предпосылкой демократии и свободы человека является экономическая свобода.
Может случиться, что фашизм вскоре воскреснет — с новым именем, под иными лозунгами и символами. Но если это случится, последствия будут незавидными. Ибо фашизм не является «новым путем жизни» [509*], как провозглашали фашисты, — скорее это старый путь к смерти и разрушению.
8. Нацизм
Философия нацистов Национал-социалистской рабочей партии Германии — есть чистейшее и самое последовательное проявление антикапиталистического и социалистического духа нашей эпохи. По происхождению основные идеи фашизма вовсе не германские и не «арийские». Точно так же они не специфичны для современных немцев. В генеалогическом древе нацизма такие латиняне, как Сисмонди и Жорж Сорель, такие англосаксы, как Карлейль, Рескин и Хаустон Стюарт Чемберлен, много важнее, чем любой германец. [476] Даже самое знаменитое идеологическое украшение нацизма — басня о превосходстве арийской расы господ — была выдумана не в Германии: ее автор француз Гобино. [477] Немцы иудейского происхождения вроде Лассаля, Лассона, Шталя и Вальтера Ратенау внесли больше в основные принципы нацизма, чем такие люди, как Зомбарт, Шпанн и Фердинанд Фрид. [478] Лозунг, который выражал экономическую философию нацистов, а именно «Gemeinnutz geht vor Eigennutz» (т. е. общая польза превыше частной пользы), в равной степени выражает философию американского «Нового курса» и советской экономической политики. Этот лозунг предполагает, что ориентация на прибыль вредит интересам большинства населения и что священный долг народного правительства предотвращать извлечение прибыли методами общественного контроля над производством и распределением.
Единственным специфически германским составляющим нацизма было стремление к завоеванию Lebensraum. И это тоже было результатом согласия этой партии с идеями, формировавшими политику наиболее влиятельных политических партий всех других стран. Эти партии провозглашали равенство доходов как основную цель. Нацисты делали то же. Единственным отличием нацистов является то, что они не были готовы смириться с перспективой, при которой немцы обречены быть навечно «заключенными» в сравнительно небольшом и перенаселенном пространстве, в котором производительность труда всегда будет ниже, чем в сравнительно малонаселенных, лучше обеспеченных природными ресурсами странах. Они стремятся к более справедливому распределению естественных ресурсов земли. В качестве «обездоленного» народа они смотрят на богатство других народов с тем же чувством, с каким многие граждане западных стран взирают на своих богатых соседей. «Прогрессисты» в англосаксонских странах утверждают, что «свободу не стоит иметь» тем, кто обижен сравнительной малостью своего дохода. Нацисты утверждают то же самое в сфере международных отношений. По их мнению, единственная свобода, которая имеет значение, — это Nahrungsfreiheit (т. е., свобода от импорта продовольствия). Они стремятся к приобретению территории, настолько большой и богатой природными ресурсами, чтобы они могли быть совершенно самодостаточными и при этом иметь уровень жизни не ниже, чем у других народов. Они считают себя революционерами, которые сражаются за неотчуждаемые естественные права против корыстных интересов чужих реакционных народов.
Экономисту легко вскрыть все нелепости нацистской доктрины. Но те, кто третирует экономику как «ортодоксальную и реакционную» и фанатично выпячивает никчемные верования социализма и экономического национализма, были здесь бессильны, ибо нацизм был не чем иным, как логическим следствием приложения их собственных принципов к условиям относительно перенаселенной Германии.
Более 70 лет немецкие профессора политических наук, истории, права, географии и философии неистово заряжали своих учеников истерической ненавистью к капитализму и восхваляли «освободительную» войну против капиталистического Запада. Германские катедер-социалисты, столь уважаемые в других странах, были вдохновителями двух мировых войн. [479] Уже в начале столетия подавляющее большинство немцев были радикальными сторонниками социализма и агрессивного национализма. Уже тогда они были верными и последовательными нацистами. Недоставало только названия доктрины, и оно прибавилось позже.
Когда советская политика безжалостного насилия и массового устранения всех несогласных отменила запрет на массовое убийство, который все еще довлел над некоторыми немцами, ничто больше не задерживало возвышения нацизма. Нациста быстро освоили советские методы. Они заимствовали в России: однопартийную систему и господство этой партии в политической жизни; ключевую роль тайной полиции в интеграции общества; концентрационные лагеря; семей подозреваемых и ссыльных; методы пропаганды; организацию братских партий за рубежом и использование их для подрыва местных правительств, для шпионажа и саботажа; использование дипломатических консульских служб для подготовки революции и многое другое. Нигде и никогда Ленин, Троцкий Сталин не имели более понятливых и толковых учеников, чем нацисты.
Гитлер не был создателем нацизма — он был только лишь его порождение Подобно большинству его соратников он был садистическим бандитом. Необразованный и невежественный, он не совладал даже со средним образованием. У него никогда не было пристойной работы. Россказни о том, что он однажды работал обойщиком, — басня. Его армейские успехи во время первой мировой были весьма посредственны. Железный крест первого класса был выдан ему уже после войны в награду за агентурные услуги. Он был психопатом, страдающим от мегаломании. Но почтенные профессора напитали его самомнение. Вернер Зомбарт, который некогда говорил, что его жизнь посвящена борьбе за победу идей Маркса [510*], Зомбарт, которого Американская экономическая ассоциация почтила званием Почетного члена, которому многие иностранные университеты подносили почетные титулы и звания, чистосердечно провозгласил, что Fuhrertum [480] означает непрерывное откровение и что Fuhrer (вождь) получает приказы непосредственно от Бога, высшего Fuhrer'a Вселенной [511*].
Нацистский план был более всеобъемлющим и, следовательно, более всеобъемлющим, чем марксистский. Он поставил целью устранить свободу не только в сфере производства материальных благ, но и в «производстве» человека. Фюрер был не только верховным распорядителем всех производств. Он был также верховным управляющим фермы, выводящей высшую породу человека и уничтожающей негодные породы людей. Грандиозный план улучшения человеческой породы должен был выполняться в согласии с принципами «науки евгеники».
Теоретикам улучшения человеческой породы не стоит и пытаться открестится от того, что натворили в этом деле нацисты. Идея была в том, чтобы дать неким людям, наделенным административной властью, полный контроль над процессом воспроизводства человека. Предполагается, что методы, используемые при разведении домашнего скота, вполне приложимы и к самому человеку. Как раз это и попытались исполнить нацисты. Единственное, что может возразить последовательный теоретик улучшения человечества, это что его план отличается от нацистского и что он выводил бы иной тип человека, чем нацистские ученые. Так же как каждый сторонник экономического планирования стремится к выполнению только своих собственных планов, так и каждый сторонник биологического планирования склонен следовать только собственным идеям о путях улучшения человеческой породы.
Сторонники евгеники заявляют, что они стремятся избавить человечество от врожденных преступников. Но понятие о преступлении зависит от существующих законов и изменяется со сменой социальных и политических идей. Жанна д'Арк, Ян Гус, Джордано Бруно и Галилео Галилей были преступниками по законам своих судей. [481] Когда Сталин ограбил Русский государственный банк на несколько миллионов рублей, он совершил преступление. [482] Сегодня в России не соглашаться со Сталиным — преступление. В нацистской Германии половая связь «арийца» с представителями «низших» рас была преступлением. От кого евгеники хотели бы избавить человечество — от Брута или от Цезаря? [483] Оба нарушили законы своей страны. Если бы улучшатели породы в XVIII веке запретили алкоголикам рождать детей, результатом планирования стало бы нерождение Бетховена.
Следует еще раз подчеркнуть: наука ничего не знает о том, что должно быть. Кто из людей кого достойней, и наоборот, — может быть только предметом личного ценностного суждения, и это суждение не подлежит верификации. [484] Теоретики улучшения человеческой породы дурачат сами себя, когда предполагают, что именно им доверят определять, какие именно качества следует культивировать в человечьем стаде. Им не хватает ума, чтобы учесть, что другие люди могут проводить отбор в соответствии с другими ценностными суждениями [512*]. В глазах нацистов жестокий убийца — «белокурая бестия» — был наиболее ценным представителем человечества.
Массовые убийства в нацистских лагерях смерти слишком чудовищны, чтобы описать их словами. Но они были логичным и последовательным приложением доктрин и политики, претендовавших на звание научных. Эти доктрины и эта политика были одобрены некоторыми людьми, которые в области естественных наук при проведении лабораторных исследований проявляли немало сообразительности и технического искусства.
9. Уроки советского опыта
Множество людей по всему миру уверены, что советский «эксперимент» дал решающие доказательства в пользу социализма и устранил все или по крайней мере большинство возражений против него. Факты, утверждают они, говорят сами за себя. Бессмысленно и дальше обращать внимание на ложные априорные возражения профессоров, критикующих социалистические планы. Критический эксперимент опроверг все их заблуждения.
На все это следует возразить, во-первых, то, что в области целенаправленного человеческого поведения и в сфере социальных отношений никакие эксперименты невозможны и никаких экспериментов никто никогда не проводил. Экспериментальный метод, составивший всю славу и достижения естественных наук, неприложим к общественным наукам. Ученые-естественники могут в лабораторных условиях наблюдать за последствиями изолированного изменения одного из элементов при неизменности всех остальных. Экспериментальные наблюдения можно определенно соотнести с влиянием некоторых изолируемых элементов. Данными естественных наук как раз и являются взаимосвязи, выявляемые в таких экспериментах. Теории и гипотезы должны согласовываться с такими данными, фактами.
Но общественные науки имеют дело совсем с другой реальностью. Это исторический опыт. Это реальность сложных явлений, реальность совместного действия множества элементов. Никогда общественные науки не бывают в состоянии проконтролировать условия изменений и изолировать изменения так, как это обычно делает экспериментатор. В общественных явлениях никогда не удается наблюдать последствия изменения только одного элемента при неизменности всех остальных. Они никогда не имеют в своем распоряжении данных и фактов того же рода, как естествоиспытатели. Каждый факт и каждое наблюдение в естественных науках открыты множеству толкований. Исторические факты и исторический опыт не в силах доказать или опровергнуть утверждение так, как оно может быть подтверждено или опровергнуто в эксперименте.
Исторический опыт никогда не поясняет сам себя. Он должен быть истолкован с точки зрения теории, созданной без опоры на экспериментальные наблюдения. Нет нужды проводить эпистемологический анализ сопутствующих логических и философских проблем. [485] Достаточно подчеркнуть тот факт, что каждый — будь это профессиональный исследователь социальных проблем или любитель — вынужден идти таким путем при анализе исторических явлений. Любое обсуждение значимости и смысла исторических фактов очень быстро сводится к обсуждению абстрактных общих принципов, которые логически предшествуют фактам, подлежащим пониманию и разъяснению. Ссылка на исторический опыт никогда не может разрешить ни одной проблемы, не может ответить ни на один вопрос. Одни и те же исторические события или же статистические данные приводятся как подтверждения взаимно не согласующихся теорий.
Если история и может что-либо доказать и чему-либо нас научить, то только лишь тому, что частная собственность на средства производства есть необходимая предпосылка цивилизации и материального благополучия. Все известные цивилизации были основаны на принципе частной собственности. Только народы, приверженные принципу частной собственности, вырвались из нищеты, создали науки, искусство и литературу. Не существует свидетельств того, что любое другое устройство общества могло бы одарить человечество плодами цивилизации. Тем не менее очень немногие считают это достаточным и неоспоримым опровержением социалистических программ.
Напротив, есть немало людей, доказывающих прямо противоположное. Нередки утверждения, что система частной собственности непригодна именно потому, что существовала прежде. Как бы благотворна ни была система организации общества в прошлом, она не может быть пригодна и в будущем. Новое время требует нового способа организации общества. Человечество достигло зрелости. Было бы вредно держаться за те принципы, которыми управлялись ранние стадии эволюции человечества. Это, конечно, самое радикальное отрицание экспериментализма. Экспериментальный метод может утверждать такое, например: поскольку а в прошлом имело результатом б, этого следует ожидать и впредь. Но невозможно утверждение такого типа: поскольку а в прошлом имело результатом б, в будущем такого быть уже не может.
Несмотря на тот факт, что в прошлом человечество не имело опыта социалистического способа производства, социалистические литераторы наконструировали, отталкиваясь от априорных рассуждений, различные образцы социалистических систем. Но как только кто-нибудь пытается проанализировать эти проекты, исследовать их выполнимость и способность повысить благосостояние человечества, социалисты страстно протестуют. Такой анализ, утверждают они, может быть только тщетной априорной спекуляцией. Подобным способом нельзя опровергнуть правильность наших утверждений и целесообразность наших планов. Следует испытать социализм — и тогда результаты скажут сами за себя.
Требование социалистов абсурдно. Доведенная до логических пределов, эта идея предполагает, что разум человека не может отклонить заранее никакой план реформ, сколь бы бессмысленным, внутренне противоречивым и непрактичным он ни был. Согласно такому пониманию единственный законный способ отвержения неизбежно абстрактных и априорных планов — испытать их на практике, пересоздав в соответствии с ними все общество. И до тех пор, пока люди сочиняют планы наилучшего устройства общества, народы вынуждены будут испытывать их, чтобы увидеть результат.
Даже самые упрямые социалисты не могут отрицать, что многие варианты утопий несовместимы друг с другом. Существует советская схема всеобщей национализации предприятий и полной бюрократизации управления хозяйством; есть германская схема Zwangswirtschaft, к полному принятию которой движется англосаксонский мир; есть гильдейский социализм, который под именем корпоративизма все еще очень популярен в некоторых католических странах. Есть множество иных вариантов. Сторонники большинства конкурирующих учений утверждают, что благие результаты могут быть получены, когда все народы примут их учение: в одной отдельно взятой стране социализм не может проявить весь свой чудотворный потенциал. Марксисты заявляют, что благотворность социализма проявится только в «высшей фазе», которая настанет согласно имеющимся указаниям только после того, как рабочему классу «придется выдержать продолжительную борьбу, пережить целый ряд исторических процессов, которые совершенно изменят и обстоятельства, и людей» [513*]. Из всего этого следует, что сначала нужно построить социализм, а потом долго и тихо ждать, пока не наступит обещанная благодать. Ни страшный опыт переходного периода, ни бесконечное ожидание не в силах опровергнуть, утверждение, что социализм есть лучший из способов организации общества. Верующий будет спасен.
Но какую из многочисленных социалистических схем, противоречащих одна другой, следует воплощать? Каждая социалистическая секта страстно утверждает, что только ее марка социализма — подлинная, а все другие секты рекламируют фальшивые, пагубные заблуждения. В борьбе друг с другом социалистические секты прибегают к тем же методам абстрактного рассуждения, которые они отрицают как тщетный априоризм в случае, если их используют для верификации практичности и пригодности их собственных построений. Других методов, впрочем, и не существует. Недостатки в системе абстрактных построений — каков и есть социализм -- не могут быть вскрыты иначе, чем путем абстрактных же рассуждений.
Фундаментальное сомнение в реализуемости социализма порождается невозможностью экономических калькуляций. Было неоспоримо продемонстрировано, что в социалистическом хозяйстве экономические калькуляции неосуществимы. Когда не существует рыночных цен на факторы производства, поскольку они не продаются и не покупаются, нельзя прибегнуть к калькуляциям для определения результатов прошлых действий или для планирования будущего. Управляющие социалистическим производством просто не в состоянии знать, в какой степени выбранные ими средства и методы соответствуют желаемым целям. Они будут править в темноте, как оно и происходит. Неизбежна расточительность в обращении с редкими ресурсами производства, как материальными, так и людскими. Хаос и всеобщая нищета являются неизбежным результатом.
Все ранние социалисты по недомыслию не могли понять этого важнейшего момента. Впрочем, и экономисты прежде недооценивали его важности. Когда автор этих строк в 1920 г. продемонстрировал невозможность экономических расчетов при социализме, апологеты социализма нацелились на поиски методов калькуляции, пригодных для социалистического хозяйства. Их попытки оказались совершенно неудачными. Непригодность созданных ими способов легко показать. Те из коммунистов, кто не был полностью задавлен страхом перед Советскими карательными органами, например Троцкий, открыто признали, что экономический расчет невозможен в отсутствие рыночных цен [514*]. Интеллектуального банкротства социалистического учения больше не скрыть. При всей своей беспрецедентной популярности социализм кончен. Ни один экономист не может более сомневаться в его нереализуемости. Сегодня признание социалистических идей может означать только полное невежество в области экономики. Социалистические утверждения так же пусты и неосновательны, как высказывания магов и астрологов.
По отношению к этой основной проблеме социализма — к возможности экономического расчета — русский «эксперимент» не показателен. Советы действуют в рамках мировой экономики, большая часть которой все еще является рыночной. Калькуляции, на основе которых они принимают решения, выполняются ими на основании мировых цен. Без помощи этих цен их действия были бы совершенно бесцельными и непланируемыми. Только учет этой зарубежной системы цен позволяет им калькулировать, вести учет и составлять планы. В этом смысле нужно согласиться с утверждением различных коммунистических и социалистических авторов, что социализм в одной или нескольких странах — еще не настоящий социализм. Конечно, эти авторы имеют в виду нечто совсем иное. Они-то хотят сказать, что полностью блага социализма могут проявиться только в объемлющем весь мир социалистическом обществе. Знакомые с экономикой должны, напротив, признать, что к полному хаосу социализм приведет только, когда он охватит большую часть мира.
Второе существенное возражение против социализма заключается в том, что социализм есть менее совершенный способ организации производства, чем капитализм, и что он приведет к сокращению производительности труда. Соответственно в социалистическом обществе уровень жизни масс будет ниже, чем при капитализме. Нет сомнения, что этот аргумент не был опровергнут советским опытом. Единственный определенный факт относительно советской России, с которым согласны все, заключается в следующем: уровень жизни народа в России гораздо ниже, чем в стране, образцово представляющей капитализм, — в Соединенных Штатах. Если рассматривать социализм в терминах эксперимента, пришлось бы сказать, что эксперимент отчетливо продемонстрировал превосходство капитализма и второсортность социализма.
Конечно, защитники социализма склонны толковать отставание уровня жизни в России иначе. Для них причиной нищеты является не социализм, а совеем другие обстоятельства. Они ссылаются при этом на отсталость России еще при царях, на разрушительное воздействие войн, на предполагаемую враждебность капиталистических демократий, на предполагаемый саботаж остатков русского дворянства, буржуазии и кулаков. Нет нужды изучать все эти оправдания. Мы не считаем, что какой бы то ни было исторический опыт может доказать или опровергнуть теоретическое утверждение так же, как экспериментально можно верифицировать утверждения в естественных науках. Это не критики социализма, а его фанатичные сторонники утверждают, что советский «эксперимент» доказывает что-либо относительно социализма. На самом же деле они, имея дело с явными и бесспорными данными о русском опыте, просто отбрасывают эти факты с помощью всевозможных фокусов и фальшивых силлогизмов. Они отрицают очевидные факты, комментируя их так, что факты теряют всякий смысл и всякое отношение к рассматриваемым вопросам.
Давайте допустим, к примеру, что их толкования верны. Но все-таки было бы абсурдным утверждение, что советский эксперимент доказал превосходство социализма. Можно было бы утверждать разве что следующее: из того факта, что уровень жизни в России низок, нельзя сделать вывод о том, что капитализм превосходит социализм.
Сравнение с экспериментатором в области естественных наук может прояснить ситуацию. Биолог желает испытать новое патентованное питание. Он скармливает его нескольким морским свинкам. Они худеют и умирают. Экспериментатор уверен, что исхудание и смерть не были вызваны новым питанием, но случайной эпидемией пневмонии. Тем не менее он не мог бы заявить, что эксперимент подтвердил высокую пищевую ценность новой смеси. В лучшем случае он мог бы заявить, что данные эксперимента неокончательны, что они не дают оснований отрицать высокие достоинства нового питания. Положение таково, мог бы он заявить, как если бы никакого эксперимента и не проводилось.
Даже если бы уровень жизни народа в России было намного выше, чем в капиталистических странах, это все-таки не доказывало бы преимуществ социализма. Можно согласиться, что бесспорный факт, что уровень жизни в России ниже, чем на капиталистическом Западе, еще не доказывает окончательно превосходство капитализма. Но уж чистым идиотством является утверждение, что опыт России доказывает преимущества общественного контроля над средствами производства.
Точно так же не доказывает преимущества коммунизма и тот факт, что русские армии после многих поражений наконец — с помощью оружия, произведенного большими корпорациями Америки и подаренного им американскими налогоплательщиками, — смогли помочь американцам завоевать Германию. Когда британские войска были вынуждены временно отступить в Северной Африке, профессор Гарольд Ласки, этот самый радикальный защитник социализма, поспешил заявить об окончательном поражении капитализма. Он не был достаточно последователен, чтобы истолковать захват Украины немцами как окончательное поражение русского коммунизма. Впрочем, он не изменил своему осуждению британской системы и когда его страна вышла из войны победительницей. Если бы военные события можно было использовать как свидетельство превосходства какой-либо социальной системы, то в данном случае события говорили бы скорее в пользу Америки, а не России.
Ничто из случившегося в России после 1917 г. не противоречит ни одному из аргументов критиков социализма и коммунизма. Даже в тех случаях, когда все суждения основаны исключительно на писаниях самих коммунистов и попутчиков, невозможно обнаружить в русских условиях ничего, что свидетельствовало бы в пользу политической и социальной системы Советов. Все технологические усовершенствования последних десятилетий были созданы в капиталистических странах. Конечно, русские активно воспроизводили некоторые из этих новинок. Но точно так же поступали все отсталые восточные народы.
Некоторые коммунисты пытаются убедить нас, что безжалостное подавление несогласных и радикальное уничтожение свободы мысли, слова и печати не являются неотъемлемыми следствиями общественного контроля над производством. Они доказывают, что для коммунизма такие явления — случайность, результат того, что такая страна, как Россия, никогда не имела свободы мысли и совести. Однако эти апологеты тоталитарного деспотизма не в силах объяснить, как права человека могут быть гарантированы в условиях всевластия правительства.
Свобода мысли и совести в стране, где власти могут сослать каждого неугодного в Арктику или в пустыню и принудить его к пожизненному тяжкому труду, неизбежно фальшивы. Самодержец может попытаться оправдать такие произвольные действия тем, что они вызваны исключительно заботой об общественном благе и экономической целесообразности. Он сам себе высший судья во всех вопросах, относящихся к выполнению плана. Свобода печати иллюзорна, когда правительство владеет и управляет всеми бумажными фабриками, типографиями и издательствами и когда ему принадлежит окончательное право решать, что печатать, а что не печатать. Свобода собраний также невозможна, когда правительству принадлежат все залы. И точно так же со всеми другими свободами. В один из своих светлых периодов Троцкий — конечно, Троцкий-изгнанник, преследуемая жертва, а не безжалостный командир Красной Армии — увидел вещи, как они есть, и заявил: «В стране, где единственным работодателем является государство, оппозиция означает голодную смерть. Старый принцип: кто не работает, тот не ест, — был заменен новым: кто не повинуется, тот не ест» [515*]. Это признание исчерпывает суть дела.
Русский опыт демонстрирует нам очень низкий уровень жизни народа и неограниченный деспотизм власти. Апологеты коммунизма склонны объяснять эти неприятные факты всякими случайностями, тем, что это не вследствие коммунизма, а несмотря на коммунизм. Но если бы даже кто-либо принял эти аргументы всерьез, все равно не имело бы никакого смысла утверждение, что советский «эксперимент» свидетельствует хоть чем-либо в пользу коммунизма и социализма.
10. О неизбежности социализма
Многие люди верят, что приход тоталитаризма неизбежен. «Волна грядущего», говорят они, неотвратимо несет человечество к такому состоянию, когда все решения будет принимать всемогущий диктатор. Бесполезно сопротивляться неоспоримым велениям истории.
Истина в том, что многий недостает интеллектуальных способностей и отваги, чтобы противостоять массовым движениям, как бы они ни были пагубны и неразумны. Бисмарк однажды выразил сожаление о недостатке у своих сограждан того, что он назвал гражданским мужеством, т. е. отваги при столкновении с гражданскими проблемами. Но и граждане других стран не явили больше мужества и рассудительности при столкновении с давлением коммунистической диктатуры. Они либо молча уступали, либо выдвигали смехотворные возражения.
Не является битвой с социализмом и критика отдельных его сторон. Нельзя сокрушить социализм, критикуя подход социалистов к разводу и контролю над рождаемостью или их идеи в области искусства и литературы. Недостаточно опровергнуть марксистские утверждения, что теория относительности, или философия Бергсона, или психоанализ являются «буржуазными» фантазиями. [486] Те, кто единственным грехом большевизма и нацизма считает их антихристианскую направленность, тем самым неявно оправдывают все остальные кровавые свойства этих систем.
В то же время чистый кретинизм восхвалять тоталитарные режимы за предполагаемые достижения, которые не имеют ни малейшего отношения к их политическим и экономическим принципам. Не вполне достоверны наблюдения, что и на самом деле в фашистской Италии поезда на железных дорогах ходили строго по расписанию или что количество клопов во второсортных отелях уменьшилось, но в любом случае они не имеют ни малейшего отношения к проблеме фашизма. «Попутчики» очарованы русскими фильмами, русской музыкой и русской икрой. Но великие музыканты жили и в других странах, и при иных общественных системах; хорошие фильмы снимались не только в России; ну и, разумеется, нежность вкуса икры ни в какой степени не заслуга генералиссимуса Сталина. Примерно так же красота русских балерин и масштабы гидроэлектростанции на Днепре не оправдывают массового уничтожения кулаков.
Читатели иллюстрированных журналов и любители кино тянутся к выразительному. Оперные шествия фашистов и нацистов, так же как и парадные марши женских батальонов Красной Армии, обращены к ним. Гораздо занятней слушать по радио речи диктаторов, чем штудировать экономические трактаты. Предприниматели и инженеры, прокладывающие пути к росту экономики, работают уединенно. Их труд не очень киногеничен. Но диктаторы, склонные сеять смерть и разрушение, очень импонируют публике. В своих военных мундирах они в глазах поклонников кино совершенно затмевают бесцветно одетых буржуа.
Проблемы экономической организации общества — совсем не подходящая тема для легкой беседы за коктейлем. Не могут они быть адекватно рассмотрены и демагогами, разглагольствующими на массовых митингах. Это серьезные вещи. Они требуют усердных занятий. К ним нельзя относиться легкомысленно.
Социалистическая пропаганда никогда не сталкивалась с серьезной оппозицией. Сокрушительная критика, которой экономисты подвергли бессмысленность и нереализуемость социалистических построений и доктрин, не затрагивала творцов общественного мнения. В университетах большей частью господствовали социалистические или интервенционистские доктринеры. Причем так было не только в Континентальной Европе, где университеты принадлежат и управляются правительствами, но и в англосаксонских странах. Политики и государственные деятели, дрожащие за свою популярность, защищали свободу с прохладцей. Политика умиротворения, столько раз критиковавшаяся в связи с отношением к нацистам и фашистам, десятилетиями практиковалась по отношению к социалистам всех мастей. Именно это пораженчество привело молодое поколение к вере, что победа социализма неизбежна.
Это неверно, что массы страстно тянутся к социализму и что сопротивляться им невозможно. Массы благосклонны к социализму, потому что верят социалистической пропаганде интеллектуалов. Интеллектуалы, а не простой люд, формируют общественное мнение. Скверное извинение для интеллектуалов, что они вынуждены покоряться массам. Ведь они сами породили социалистические идеи и внедрили их в толпу. Ни один пролетарий или сын пролетария не внес вклада в разработку социалистических или интервенционистских программ. Все такого рода авторы были буржуазного происхождения. Эзотерические писания диалектического материализма [487], работы Гегеля, прародителя одновременно марксизма и агрессивного германского национализма, книги Жоржа Сореля, Джентиле и Шпенглера изучались далеко не средними людьми; они не воздействовали на массы непосредственно. [488] Интеллектуалы популяризовали их.
Интеллектуальные лидеры народов породили и распространили заблуждения, которые поставили на грань исчезновения свободу и саму цивилизацию Запада. Только интеллектуалы ответственны за массовые бойни, которые стали характерной чертой нашего столетия. Они одни способны обратить тенденцию и проложить путь к возрождению свободы.
Не мистические «материальные производительные силы», а разум и идеи определяют жизнь человека. Чтобы остановить сползание к деспотизму и социализму, необходимы здравый смысл и нравственное мужество.
Источники
[1*]
Ludwig von Mises, Die Gemeinwirtschaft: Untersuchungen über den Sozialismus, Jena, Verbag von Gustav Fischer, 1922
(обратно)[2*]
Ludwig von Mises, Socialism: An Economic and Sociological Analysis, London, ed. Jonathan Cape, 1936
(обратно)[3*]
Ludwig von Mises, Socialism: An Economic and Sociological Analysis, Indianapolis. Liberty Classics, 1981
(обратно)[4*]
Ludwig von Mises, Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, München und Leipzig: Duncker & Humblot, 1912
(обратно)[5*]
Ludwig von Mises, Nation, Staat und Wirtschaft: Beitrage zur Politik und Geschichte der Zeit, Wien: Manz'sche Verlags und Universitats-Buchhandlung, 1919
(обратно)[6*]
Ludwig von Mises, Die Gemeinwirtschaft: Untersuchungen über den Socialismus, Jena: Gustav Fisher, 1922
(обратно)[7*]
Ludwig von Mises, Die Entwicklung des gutsherrlichbauerlichen Verhältnisses in Galizien, 1772–1848, Wien und Leipzig: Franz Deuticke, 1902
(обратно)[8*]
Ludwig von Mises, Notes and Recollections, Foreword by Margit von Mises, trans. and postscript by Hans F. Sennholz, South Holland, III, Libertarian Press, 1978, p. 33
(обратно)[9*]
Menger, Grundsatze der Volkswirtschaftslehre, Wien, 1971
(обратно)[10*]
На немецком языке она вышла в Швейцарии, в Женеве, под названием «Nationalökonomie: Theorie des Handelns und Wirtschaftens» <«Национальная экономика. Теория торговли и хозяйствования»>. С первого американского издания (1949) она носит название «Human Action».
(обратно)[11*]
Herkner, Sozialpolitische Wandlungen in der wissenschaftlichen Nationalökonomie // Der Arbeitgeber, 13 Jahrgang, S. 35
(обратно)[12*]
Cassau, Die Sozialistische Ideenwdt vor und nach dem Kriege // Die Wirtschaftswissenschaft nach dem Kriege. Festgabe für Lujo Brentano zum 80. Geburtstag. München, 1925, I Bd., S. 149 ff.
(обратно)[13*]
«Сейчас можно фактически утверждать, что современная социалистическая философия является сознательным и явным выражением принципов организации общества, которые большей частью бессознательно уже приняты. Экономическая история этого века есть почта непрерывная сводка успехов социализма» (Sidney Webb, Fabian Essays, 1889, Р. 30).
(обратно)[14*]
Ферстер [28] в особенности отмечает, что рабочее движение достигло настоящей победы «в сердцах собственнических классов»; благодаря этому «нравственные силы сопротивления этих классов были подорваны» (Foerster, Christentum und Klassenkampf, Zurich, 1908, S. 111 ff.). В 1869 г. Принц-Смит [29] отметил, что социалистические идеи находят сторонников среди предпринимателей. Он указывает, что среди деловых людей, «как бы странно это ни звучало, есть такие, кто понимает свою собственную роль в национальной экономике со столь малой ясностью, что для них социалистические идеи выглядят как более или менее основательные. Отсюда у них ощущение нечистой совести, как если бы они признавали, что источником их прибыли служит доход наемных рабочих. Это делает их робкими и лишает проницательности. Это очень плохо. Нашей экономической цивилизации будет грозить серьезная беда, если ее активные деятели не смогут почерпнуть в чувстве полной своей правоты отвагу для решительной защиты ее основ» (Prince-Smith's, Gesammelte Schriften, Berlin, 1877, I Bd., S. 362). Принц-Смит, однако, не смог бы вести критическую дискуссию по вопросам социалистической теории.
(обратно)[15*]
Это отчетливо видно из программы современных английских либералов (Britain's Industrial Future, being the Report of the Liberal Industrial Inquiry, London, 1928).
(обратно)[16*]
«Дело в том, что всякий ученый невольно поддается способу мышления того класса, среди которого он живет, и всякий вносит кое-что из этого способа мышления в свои научные воззрения» (Kautsky, Die soziale Revolution, 3 Aufl., Berlin, 1911, II, S. 39) <Каутский К., Социальная революция, Женева, 1904, С. 13>.
(обратно)[17*]
Dietzgen, Briefe fiber Logik, speziell demokratisch-proletarische Logjk, Internationale Bibliotek, 22 Bd., 2 Aufl., Stuttgart, 1903, S. 112: «Наконец, пролетарская логика уже по одному тому заслуживает такого названия, что ее понимание требует преодоления всех предрассудков, в которых погряз буржуазный мир» <Дицген И., Аквизит философии и письма о логике, 3-е изд., М., 1913, С. 114>
(обратно)[18*]
Ibid., S. 112 <там же, С. 114>
(обратно)[19*]
Ирония истории в том, что и сам Маркс стал жертвой такого подхода. Унтерман [33] полагает, что «умственная жизнь даже типичных пролетарских мыслителей марксистской школы» содержит «остатки прошлых эпох мышления, хотя и в рудиментарной форме. Эти рудименты сказываются тем сильнее, чем большая часть жизни мыслителя прошла в буржуазном или феодальном кругу до момента, когда он присоединился к марксизму. Таковы печальные факты в случае с Марксом, Энгельсом, Плехановым, Каутским, Мерингом и другими видными марксистами» (Untermann, Die Logischen Mangel des engeren Marxismus München, 1910, S. 125). [34] Так же и Де Ман [35] считает, что для понимания «особенностей и различия теорий» нужно принимать во внимание не только общественное происхождение мыслителя, но также и стиль его экономической и социальной жизни — «буржуазной жизни ... в случае окончившего университет Маркса» (De Man, Zur Psychologie des Sozialismus, Neue Aufl., Jena, 1927, S. 17).
(обратно)[20*]
Cohen, Einleitung mit kritischem Nachtag zur neunten Auflage der Geschichte des Materialismmus von Friedrich Albert Lange, 3 Aufl., Leipzig, 1914, S. 115; см. также Natorp, Sozialpadagogik, 4 Aufl., Leipzig, 1920, S. 201 f. <Наторп П., Социальная педагогика: теория воспитания воли на основе общности, Спб, 1911, С. 169 и след.>
(обратно)[21*]
Anton Menger, Neue Sittenlehre, Jena, 1905, S. 45, 62
(обратно)[22*]
В 20-х годах Мизес все еще обозначал науку о деятельности человека как «социологию». Позднее он решил использовать термин «праксеология» (производное от греческого praxis, что значит действие, привычка или обычай). В «Предисловии» к Epistemological Problems of Economics (Princeton, Van Nostrand, I960; N. Y.: NYU Press, 1981) он следующим образом комментирует использование термина «социология» в статье 1929 г., включенной в эту книгу «... в 1929 году я еще верил, что нет нужды в новом термине для обозначения общей теоретической науки о деятельности человека в отличие от исторических исследований, изучающих прошлые действия. Я думал, что для этой цели можно использовать термин социология, который, по мнению некоторых авторов, и был создан для обозначения такой общей теоретической науки. Только позднее я осознал, что это нецелесообразно, и принял термин праксеология». — Прим. американского издателя
(обратно)[23*]
Мукле [39] даже ожидает от социализма, что он принесет с собой одновременно «высочайшую рационализацию хозяйственной жизни» и «освобождение от самого чудовищного варварства — капиталистического рационализма» (Muckle, Das Kulturideal des Sozialismus, München, 1918).
(обратно)[24*]
Böhm-Bawerk, Rechte und Verhältnisse vom Standpunkte der volkswirtschaftlichen Guteriehre, Innsbruck, 1881, S. 37
(обратно)[25*]
Fetter, The principles of Economics, 3 ed., N. Y., 1913, P. 408
(обратно)[26*]
См. стихи Горация [41]:
Si proprium est quod quis libra mercatus et acre est, quaedam, si credis consultis, mancipat usus: qui te pascit ager, tuus est; et vilicus Orbi cum segetes occat tibi mox frumenta daturas, te dominum sentit, das nummos: accippis uvam pullos ova, cadum temeti. (2. Epistol, 2, 158–163). <«Если же собственность — то, что купил ты на ферме за деньги, То ведь дает тебе то же (юристов спроси!) потребленье. Поле, что кормит тебя, ведь твое; ибо Орбий-крестьянин, Нивы свои бороня, чтобы хлеб тебе вскоре доставить, Чует, что ты господин. Получаешь за деньги ты гроздья. Яйца, цыплят и хмельного кувшин...» (лат.) (Квинт Гораций Флакк, Оды. Эподы. Сатиры. Послания, М., 1970, С. 377)>Внимание экономистов к этому отрывку впервые было привлечено в кн.: Effertz, Arbeit und Boden, Berlin, 1897, Band. 1, S. 72, 79 f.
(обратно)[27*]
Этатистская социальная философия [43], возводящая все эти установления к «государству», возвращается к старому теологическому объяснению. При этом государству приписывается тот же статус, который теологи приписывали Богу.
(обратно)[28*]
J. S. Mill, Principles of Political Economy, People's ed. London, 1867, P. 124 <Милль Д. С., Основания политической экономии, Спб, 1909, С. 167–168>
(обратно)[29*]
Dernburg, Pandekten, 6 Aufl., Berlin, 1900, 1 Band., 11 Abt., S. 12
(обратно)[30*]
Fichte, Der geschlossene Handelstaat, Hgb. Medicus, Leipzig, 1910, S. 12 <Фихте И. Г. Замкнутое торговое государство, М., 1923, С. 35>
(обратно)[31*]
Либерализм пытался расширить охрану приобретенных прав через развитие концепции прав человека и обеспечение правовой защиты их в суде. Этатизм и социализм, напротив, пытаются все основательнее ограничить сферу частного права в пользу публичного права.
(обратно)[32*]
Tacitus, Germania, 14 [48] <Тацит К., О происхождении германцев и местоположении Германии // Соч., Т. 1, Л., 1969, С.360>
(обратно)[33*]
Тонкой поэтической насмешкой над романтически-ностальгической сентенцией: «Там хорошо, где нас уж нет» — является опыт советника Кнапа из сказки Андерсена «Калоши счастья». [49]
(обратно)[34*]
Wiese, Der Liberalismus in Vergangenheit und Zukunft, Berlin, 1917, S. 58 ff.
(обратно)[35*]
Poehlmann, Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt, 2 Aufl., München, 1912, Bd. II, S. 577 ff.
(обратно)[36*]
Ipsaque tellus omnia liberius nullo poscente ferebat (Virgil, Georgica, I, 127 ff.) [51]
(обратно)[37*]
Laveleye, Das Ureigentum, Deutsch von Bucher, Leipzig, 1879, S. 514 ff. <Э. де Лавеле, Первобытная собственность, Спб., 1875, С. 364 и след.>
(обратно)[38*]
Below, Probleme der Wirtschaftsgeschichte, Tübingen, 1920, S 13 ff.
(обратно)[39*]
Germania, 26 <Тацит, Указ. соч., С. 364>
(обратно)[40*]
Термин «коммунизм» означает то же, что и «социализм». Использование этих двух слов в последние десятилетия неоднократно менялось, но всегда границей между социалистами и коммунистами оставались вопросы политической тактики. И те, и другие стремятся к обобществлению средств производства.
(обратно)[41*]
Anton Menger, Das Recht auf den vollen Arbeitsertag in geschichtlicher Darstellung, 4 Aufl., Stuttgart und Berlin, 1910, S. 6 <Менгер А., Завоевание рабочим его прав. Право на полный продукт труда в историческом изложении., Спб, 1906, С. 9>
(обратно)[42*]
Anton Menger, Das Recht auf den vollen Arbeitsertag in geschichtlicher Darstellung, 4 Aufl., Stuttgart und Berlin, 1910, S. 6 <Менгер А., Завоевание рабочим его прав. Право на полный продукт труда в историческом изложении., Спб, 1906, С. 9>, S. 9 <там же, С. 10>
(обратно)[43*]
Malthus, An Essay on the Principle of Population, 5th. ed., London, 1817, Vol. 3, P. 154 ff. <Мальтус Т., Опыт закона о народонаселении, М., 1895, С. 10 и след.>
(обратно)[44*]
Marx, Zur Kritik des Sozialdemokratischen Parteiprogramm von Gotha, heig. Kreibich, Peichenberg, 1920, S. 17 <Маркс К., Критика Готской программы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т.19, С.20>
(обратно)[45*]
Anton Menger, Op. cit., S.10 <Менгер А., Указ соч., С. 11>
(обратно)[46*]
Ibid., S. 10 f. <там же, С. 11–12>; см. также Singer-Sieghart, Das Recht auf arbeit in geschichtlicher Darstdlung, Jena, 1895. S. 1 f; Mutasoff, Zur Geschichte des Rechts auf Arbeit mit besonderer Rucksicht auf Charles Fourier, Bern, 1897. S. 4 f.
(обратно)[47*]
см. мои работы: (Mises L.) Kritik des Interventionismus, Jena, 1929, S. 12 ff.; Die Ursachen der Wirtschaltskrise, Tübingen, 1931, S. 15 ff.
(обратно)[48*]
Pribram, Die Entstehung der individualistischen Sozialphilosophie, Leipzig, 1912, S. 3 ff.
(обратно)[49*]
Так формулирует противоположность индивидуального и социального принципов Дитцель (см его статью Individualismus в Handwörterbuch der Staatwissenschaften, 3 Aufl, В. 5, S. 590). Похожий подход у Шпенглера (Spengler, Preussentun und Sozialismus, München, 1920, S. 14). [59]
(обратно)[50*]
Nietzche, Also Sprach Zarathustra, Werke, Krönersche Klassikerausgabe, VI Bd., S. 69 <Ницше Ф., Так говорил Заратустра // Соч.: В 2 т., Т. 2, М.: Мысль, 1980, С. 35>
(обратно)[51*]
L'Etat etant concu comme un etre ideal, on le pare de toutes les quualites que l'on reve et on le depouille de toutes les faiblesses que l'on halt <Государство, превознесенное как идеальное бытие, наделяют всеми совершенствами нашей мечты и освобождают от всего, что нам ненавистно> (P. Leroy-Beaulieu, L'Etat moderne et ses fonctions, 3d ed., Paris, 1900, P. 11); см. также Bamberger, Deutschland und der Sozialismus, Leipzig, 1878, S. 86 f.
(обратно)[52*]
Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltburgerlicher Absicht // Sämtliche Werke, Inselausgabe, Bd. I, Leipzig, 1912, S. 235 <Кант И., Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Собр. соч., Т.6, М., 1966, С. 18–19>
(обратно)[53*]
Herder, Ideen zu etner Philosophie der Geschichte der Menschheit // Sämtliche Werke, herg. Suphan, Bd. XIII, Berlin, 1887, S. 345 f. <Гердер И., Идеи к философии истории человечества, М., 1977, С. 229 и след.>
(обратно)[54*]
Kant, Rezension zum zweiten Teil von Herders Ideen zur Fhilosophic der Geschiche der Menschheit // Werke, I Bd., S. 267; см. также Cassirer, Freiheit und Form, Berlin, 1916, S. 504 ff.
(обратно)[55*]
Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte..., S. 228 <Кант И., Идея всеобщей истории..., С. 9>
(обратно)[56*]
Gierke, Des Wesen der menschlichen Verbande, Leipzig, 1902, S. 34 f.
(обратно)[57*]
«Ernst und Falk», Gesprache für Freimaurer // Werke, Bd. Stuttgart, 1873, S. 80
(обратно)[58*]
Huth, Soziale und Individualistische Auffassung im 18. Jahrhundert, vornehmlich bei Adam Smith und Adam Ferguson, Leipzig, 1907, S. 6
(обратно)[59*]
Как, например, утверждает Лассон (Lasson, Prinzip und Zukunftl des Volkerrechts, Berlin, 1871, S. 35) [71]
(обратно)[60*]
В усилиях записать все зло на счет капитализма социалисты попытались даже определить современный империализм и, следовательно, мировую войну как продукт капитализма. Возможно, нет нужды ближе заниматься этой теорией, выдвинутой на потребу не рассуждающих масс. Но нелишним будет припомнить, что Кант был прав, когда ожидал от растущего влияния «силы денег» постепенного уменьшения воинственности. «Дух торговли, — говорит он, — ...вот что несовместимо с войной» (Kant, Zum ewigen Frieden. Sämtliche Werke., Bd. V, S. 688) <Кант И., К вечному миру // Собр. соч., Т.6, М., 1966, С. 287>; см. также Sulzbach, Natlonales Gemeinschaftsgefuhl und wirtschaftliches Interesse, Leipzig, 1929, S. 80 ff.
(обратно)[61*]
Может быть, не вполне случайно в известном смысле, что писатель, который на пороге Ренессанса первым выдвинул демократическое требование о передаче законодательства народу, — Марсилий из Падуи [73] — назвал свою работу «Defensor Pads» [74] (Atger, Essai sur l'histoire des Doctrines du Contrat Social, Paris, 1906, P. 75; Scholz, Marsilius von Padua und die Idee der Demokratie // Zeitschrift für Politik, 1908, I Bd., S. 66 ff.).
(обратно)[62*]
см., с одной стороны, писания защитников прусского авторитарного государства, а с другой — прежде всего писания синдикалистов (Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie, 2 Aufl., Leipzig, 1925, S. 463 ff.)
(обратно)[63*]
Max Weber, Politik als Beruf, Munnchen und Leipzig, 1920, S. 17 ff. <Вебер М., Политика как профессия. // Избр. произв., М.. 1990, С. 651 и след.>
(обратно)[64*]
Естественно-правовые теории демократии, не способные оценить преимущества разделения труда, сохраняют верность идее «представительства» выборщиков выбранными. Нетрудно показать всю искусственность этой концепции. Член парламента, который для меня изготовляет законы и для меня контролирует администрацию, «представляет» меня не в большей степени, чем доктор, который меня лечит, или сапожник, который шьет мне обувь. Существенное отличие его от доктора и сапожника не в том, что он выполняет для меня услуги другого рода, но в том, что я, будучи недоволен им, не могу избавиться от его услуг с той же простотой, с какой я меняю доктора или сапожника. Чтобы влиять на правительство так же, как я влияю на врача и сапожника, я и хочу быть избирателем.
(обратно)[65*]
Здесь можно повторить за Прудоном [79]: «La democratie c'est l'envie» [80] (Poehlmann, Geschichte der sozialen Frage und des Socialismus in der antiken Welt, Bd. I, S 317, Anm. 4).
(обратно)[66*]
Ibid., Bd., S. 333
(обратно)[67*]
Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte, Ausg. von Lasson I Bd., Leipzig, 1917, S. 40 <Гегель Г. В. Ф., Философия истории. // Соч., Т. 8, М.-Л., 1935, С. 98>
(обратно)[68*]
Gervinus, Einleitung in die Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts, Leipzig, 1853, S. 13 <Гервинус Г., Введение в историю девятнадцатого века, Спб, 1864, С. 9>
(обратно)[69*]
Engels, Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, I Aufl., Stuttgart, 1910, S. 302 <Энгельс Ф., Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 20, С. 292>
(обратно)[70*]
Marx, Zur Kritik des Sozialdimokratischen Programms, von Iotha, S 23 <Маркс К., Критика Готской программы // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 19, С. 27>
(обратно)[71*]
Ibid., S. 17 <там же, С. 20>; см. также Lenin, Staat und Revolution, Berlin, 1918, S. 89 <Ленин В. И., Государство и революция. // Полн. собр. соч., Т. 33, С. 95>
(обратно)[72*]
Bukharin, Das Program der Kommunisten (Bolschewiki), Zurich, 1918, S. 24 ff. <Бухарин H., Программа коммунистов (большевиков), М., 1918, С. 21 и след.>
(обратно)[73*]
так считает Кельзен [92] (Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 47 Bd., S. 84; см. также Menzel, Demokratie und Weltanschauung // Zeitschrift für oflentliches Recht, II Bd., S. 701 ff.)
(обратно)[74*]
Marx, Op. cit., S. 17 <Маркс К., Указ. соч., С. 20>
(обратно)[75*]
Engels, Op. cit., S. 302 <Энгельс Ф., Указ. соч., С. 292>
(обратно)[76*]
Engels, Vorwort zu Marx «Der Burgerkrieg in Frankreich», Ausgabe der Politishen Aktions Bibliothek, Berlin, 1919, S. 16 <Энгельс Ф., Введение к работе К. Маркса «Гражданская война во Франции» // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 22, С. 201>
(обратно)[77*]
Marx, Der Burgerkrieg..., S.54 <Маркс К., Гражданская война во Франции // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 17, С. 347>
(обратно)[78*]
Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates, 20 Aufl., Stuttgart, 1921, S. 163 ff. <Энгельс Ф., Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 21, С. 169 и след.>
(обратно)[79*]
Metamorphoses, I, P. 89 f. <Овидий, Метаморфозы, М., 1971, С. 33>; см. также Вергилий, Энеида, VII; Тацит, Анналы, III; Poehlman, Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt, II Bd., S. 583 ff.
(обратно)[80*]
Bryce, Moderne Demokratien, München, 1926, III Bd., S. 289 f.
(обратно)[81*]
Freud, Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 2 Aufl., Leipzig und Wien, 1910, S. 38 ff. <Фрейд З., Три статьи о теории полового влечения, М., 1911, С. 35 и след.>
(обратно)[82*]
Poehlman, Op. cit., II Bd., S. 576
(обратно)[83*]
Engels, Der Urspung der Familie, des Privateigentums und des Staates, 20 Aufl., Stuttgart, S. 182 <Энгельс Ф., Происхождение семьи, частной собственности и государства, С. 173>
(обратно)[84*]
Westermarck, Geschichte der menschlichen Ehe, Aus dem englischen ubers, von Katscher und Grazer, 2 Aufl., Berlin, 1902, S. 122; Weinhold, Die deutschen Frauen in dem Mittelalter, 3 Aufl., Wien, 1897, II Bd., S. 9 f.
(обратно)[85*]
см., например: Weinhold, Op. cit., S. 7 ff.
(обратно)[86*]
Библия. Первое послание к коринфянам., Гл. 11, ст. 9
(обратно)[87*]
Ульрих фон Лихтенштейн, поэт XIII века, спародировал форму рыцарского служения прекрасной даме «Minnedienst» как служение женщине — «Frauendienst» (1255).
(обратно)[88*]
Weinhold, Op. cit., I Aufl., Wien, 1851, S. 292 ff.
(обратно)[89*]
Westermarck, Op. cit., S. 74 ff.; Weinhold, Op. cit., 3 Aufl., Wien, I Bd., S. 273
(обратно)[90*]
Schröder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, 3 Aufl., Leipzig, 1898, S. 70, 110; Weinhold, Op. cit., II Bd., S. 12 ff.
(обратно)[91*]
Tacitus, Germania, s. 17 <Тацит К., О происхождении германцев..., С. 361> [103]
(обратно)[92*]
Marianne Weber, Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwicklung, Tübingen, 1907, S. 53 ff., 217 ff.
(обратно)[93*]
August Bebel, Die Frau und der Sozialismus, 16 Aufl., Stuttgart, 1892, S. 343 <Бебель А., Женщина и социализм, М., 1959, С. 546–547>
(обратно)[94*]
В рамки этого исследования не входит рассмотрение того, в какой степени радикальность требований феминизма обязана мужчинам и женщинам с сексуальными отклонениями.
(обратно)[95*]
Marx und Engels, Das Kommunistische Manifest, 7 Aufl., Berlin, 1906, S. 35 <Маркс и Энгельс, Манифест Коммунистической партии //Соч., Т. 4, С. 444>
(обратно)[96*]
Bebel, Op. cit., S. 141 ff. <Бебель А., Указ. соч., С. 227>
(обратно)[97*]
Marianne Weber, Op. cit., S. 6 ff.
(обратно)[98*]
Эмпирическо-реалистической школе с характерной для нее чудовищной мешаниной понятий досталось объяснить принцип экономичности как специфику производства в денежной экономике (см., например: Lexis, Allgemeine Volkswirtschaftslehre, Berlin und Leipzig, 1910, S. 15).
(обратно)[99*]
Amonn, Objekt und Grundbegriffe der theoretischen Nationalökonomie, Wien und Leipzig, 1927, S. 185
(обратно)[100*]
J. St. Mill, Das Nutzlichkeitsprinzip, Ubers, v. Wahrmund // Gesammelte Werke, Deutshe Ausgabe von Th. Gomperz, I Bd., Leipzig, 1869, S. 125–200 <Милль Дж. С., Утилитаризм. О свободе., Пб, 1866–1869, С. 3–148>
(обратно)[101*]
Schumpeter, Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie, Leipzig, 1908, S. 50, 80
(обратно)[102*]
Следующий пассаж воспроизводит часть моего эссе Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen // Archiv für Sozialwissenschaft, XLVII Bd., S. 86–121.
(обратно)[102a*]
Cuhel. Zur Lehre von den Bedürfnissen. Innsbruck, 1907. S. 198
(обратно)[103*]
Wieser, Über den Ursprung und die Hauptgesetze des Witrschaftlichen Wertes, Wien, 1884, S. 185 ff.
(обратно)[104*]
В теории предельной полезности производительными благами низших порядков именуются средства производства, непосредственно используемые для изготовления предметов потребления, а средства производства для производства средств производства рассматриваются как производительные блага высших порядков.
(обратно)[105*]
Gottl-Ottlilienfeld, Wirtschaft und Technik // Grundriss der Sozialökonomik, II Abteilung, Tübingen, 1914, S. 216
(обратно)[106*]
Это признает и Нейрат (Neurath, Durch die Kriegswirtschaft zur Naturalwirtschaft, München, 1919, S. 216 ff.). Он утверждает, что каждая исключительно административная экономика (плановая экономика) является в конечном итоге натуральным хозяйством (бартерной системой). «Социализация, следовательно, требует натурального хозяйства». Нейрат, однако, не признает, что трудности с экономическим расчетом в социалистическом обществе окажутся непреодолимыми.
(обратно)[107*]
Passow, Kapitalismus, eine begrifllich-terminologische Studie, Jena, 1918, S. 1 ff. Во втором издании, опубликованном в 1927 г., Пассов [110] выразил мнение в обзоре новейшей литературы, что со временем термин «капитализм» утратит постепенно морализаторскую окраску.
(обратно)[108*]
Carl Menger, Zur Theorie der Kapitals // Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistic, XVII Bd., S. 41
(обратно)[109*]
Passow, Op. cit., 2 Aufl., S. 49 ff.
(обратно)[110*]
Passow, Op. cit., S. 132 ff.
(обратно)[111*]
см. соответствующую критику: Kelsen, Staat und Gesellschaft // Sozialismus und Staat, Leipzig, 1923, S. 11, 20 ff.
(обратно)[112*]
Engels, Herrn Eugen Dürings Umwälzung der Wssenschaft, S. 35 <Энгельс Ф., Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 20, С. 321>
(обратно)[113*]
Marx, Das Kapital, I Bd., S. 5 ff. <Маркс К., Капитал, Т. I // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 23, С. 48 и след.>
(обратно)[114*]
Ibid., S. 9 <там же, С. 51>
(обратно)[115*]
Ibid., S.10 <там же, С. 53>
(обратно)[116*]
Böhm-Bawerk, Kapital und Kapitalzins, I Abt., 3 Aufl., Innsbruck, 1914, S. 531 <Бем-Баверк Е., Капитал и прибыль: История и критика теорий процента на капитал, Спб, 1909, С. 481 и след.>
(обратно)[117*]
Можно указать, что уже в 1854 г. Госсен понимал, что «только через посредство частной собственности можно найти меру для определения того, какое количество каждого товара лучше всего произвести при данных условиях. А значит, центральная власть, на которую коммунисты хотят возложить задачу установления трудовых заданий и их вознаграждения, очень скоро обнаружит, что взялась за задачу, решить которую не в силах отдельного человека» (Gossen, Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs, Neue Ausgabe, Berlin, 1889, S. 231). Парето (Cours d'Economie Politique, Vol. II, Lausanne, 1897, P. 364 ff.) и Бароне (II Ministro della Produzione nello Stato Coletivista // Giornale degli Economisti, Vol. XXXVII, 1908, P. 409 ff.) не вполне вникли в суть проблемы. Пирсон ясно и полностью описал проблему в 1902 г. (Pierson, Das Wertproblem in der Sozialistischen Gesellschaft, Übers von Hayek // Zeitschrift für Volkswirtschaft, Neue Folge, 4 Bd., 1925, S. 607 ff.). [115]
(обратно)[118*]
Наиболее важные из этих возражений я кратко рассмотрел в двух коротких статьях: Neue Beitrage zum Problem der Sozialistischen Wirtschaftsrechtnung // Archiv für Sorialwissenschaft, 51 Bd., S. 488–500; Neue Schriften zum Problem der Sozialistischen Wirtschaftsrechtnung // Ibid., 60 Bd., S. 187–190.
(обратно)[119*]
В научной литературе не выражается больше сомнений по этому поводу. См. Мах Weber, Wirtschaft und Gesellschaft // Grundriss der Sozialökonomik, III Bd., Tübingen, 1922, S. 45–59; Adolf Weber, Allgemeine Volkswirtschaftslehre, 4 Aufl., München und Leipzig, 1932, II Bd., S. 369 ff.; Brutzkus, Die Lehren des Marxismus im Lichte der russichen Revolution, Berlin, 1928, S. 21 ff.; C. A. Verrijn Stuart, Winstbejag versus behoeftenbevrediging — Overdruk Economist, 76 Jaargang, Aflevering 1, S. 18 ff.; Pohle-Halm, Kapitalismus und Sozialismus, 4Aufl., Berlin, 1931, S. 237 ff.
(обратно)[120*]
Типична для такого рода литературы недавно опубликованная работа: C. Landauer, Planwirtschaft und Verkehrwirtschaft, München und Leipzig, 1931. Этот автор обходится с проблемой экономической калькуляции весьма наивно, сначала утверждая, что в социалистическом обществе «отдельные предприятия ... могут покупать друг у друга так же, как капиталистические предприятия покупают друг у друга» (с. 114). Несколькими страницами далее он объясняет, что, «помимо этого», социалистическое государство «установит для контроля натуральный учет»; оно одно «сможет осуществить это, ибо в противоположность капиталистическому хозяйству оно непосредственно владеет производством» (с. 122). Ландауэр [117] не понимает, что (и почему) невозможно складывать или вычитать числа с разным измерением. Тут уж ничем не поможешь.
(обратно)[121*]
Böhm-Bawerk, Kapital und kapitalzins, II Bd., 3 Aufl., Innsbruck, 1912, S. 21 <Бем-Баверк Е., Указ. соч., С. 134>
(обратно)[122*]
Ограничение, заключенное в выражении «не в первую очередь», вовсе не предполагает, что социализм позже, скажем, после достижения «высшей стадии коммунистического общества», приступит к уничтожению капитала в нашем смысле. Социализм не может планировать возврат к примитивному обществу. Скорее я хочу отметить здесь, что социализм в силу внутренних закономерностей ведет к постепенному проеданию капитала.
(обратно)[123*]
Pohle-Halm, Kapitalismus und Sozialismus, S. 12 ff.
(обратно)[124*]
см. о монополии (глава 26, параграф 1) и «неэкономичном» потреблении (глава 31, параграф 2) в настоящем издании
(обратно)[125*]
см. об издержках распределения (глава 7, параграф 5) и производительности труда (глава 8, параграф 5)
(обратно)[126*]
A. Smith,. An Inquiry into Nature and Causes of the Wealth of Nations, Book II, Chap. V, London, 1776, Vol. I, P. 437 ff. <Смит А., Исследование о природе и причинах богатства народов, Кн. II, М., 1962, С. 265 и след.>
(обратно)[127*]
Ricardo, Principles of Political Economy and Taxation, Chap. XXVI // Works, ed. MacCulloch, 2nd ed., London, 1852, P. 210 ff. <Рикардо Д., Начало политической экономики и налогового обложения // Соч., Т. 1. М., 1941, С. 222 и след.>
(обратно)[128*]
см. прим. Сэя к французскому изданию работ Рикардо (Т. II, Париж, 1819, С. 222 и след.)
(обратно)[129*]
Sismondi, Nouveaux Principles d'Economie Politique, Paris, 1819, Vol. II, P. 331 <Сисмонди Ж. С., Новые начала политической экономии, или О богатстве в его отношении к народонаселению, Т. 2, М., 1937, С. 159>
(обратно)[130*]
Bernhardi, Versuch einer Kritik der Grunde, die für grosses und kleines Grundeigentum angeführt werden, Petersburg, 1849, S. 367 ff.; см. также Cronbach, Das Landwirtschaftliche Betribsproblem in der Deutchen Nationalökonomie bis zur mitte des 19. Jahrhunderts., Wien, 1907, S. 292 ff.
(обратно)[131*]
«La societe recherche le plus grand produit brut, par consequuent la plus grand population possible, parce que pour elle produit brut et produit net son identiques. Le monopole, au contraire, vise constamment au plus grand produit net, dut-il ne l'obtenir qu'au prix de l'extermination du genre huniain» <«Общество нуждается в наибольшем валовом продукте, а значит, в наибольшем возможном населении, поскольку для него валовой и чистый продукт суть одно и то же. С другой стороны, монополия постоянно стремится к получению наибольшего чистого продукта, который она может получить только ценой истребления рода человеческого»> (Proudhon, Systeme des contradictions oconomiques ou philosophie de la misere, Paris, 1846, Vol. 1, P. 270). На языке Прудона «монополия» означает то же самое, что частная собственность... (Ibid., Vol. 1, Р. 236; см. также Landry, L'utilite sociale de la propriete individuelle, Paris, 1901, P. 76).
(обратно)[132*]
Marx, Das Kapital, I Bd, S. 613–726 <Маркс К., Капитал, T. I // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., T. 23, С. 663–770> Заключения о «теории компенсации по отношению к рабочим, вытесненным машинами» (там же, с. 403–412) <там же,. С. 448–457> нелепы в свете результатов, даваемых теорией предельной полезности. [121]
(обратно)[133*]
Goltz, Agrarwesen und Agrarpolitik, 2 Aufl., Jena, 1904, S. 53 ff.; см. также Waltz, Vom Reinertag in der Landwirtschaft, Stuttgart und Berlin, 1904, S. 27 ff.
(обратно)[134*]
Waltz, Op. cit., s. 19 ff. замечания об Адаме Мюллере, Бюлове-Кумерове и Филлипе фон Арним, а также о Рудольфе Мейере и Адольфе Вагнере s. 30 ff. [124]
(обратно)[135*]
Landry, L'utilite sociale de la propriete individuelle, Paris, 1901, P. 109, 127 ff.
(обратно)[136*]
Landry, Op. cit., P. 109, 127 ff.
(обратно)[137*]
Marx, Das Kapital, I Bd., S. 695 <Маркс К., Капитал, Т. I // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 23, С. 741>
(обратно)[138*]
цит. по: Waltz, Op. cit., S. 29
(обратно)[139*]
Cannan, A History of the Theories of Prodution and Distribution in English Political Economy from 1776 to 1848, 3rd ed., London, 1917, P. 183 ff.; см. также о сословиях и классах (глава 20, параграф 2) в настоящем издании
(обратно)[140*]
Библия, Деяния святых апостолов, Гл. 2, Ст. 45
(обратно)[141*]
См. критику этой формулы распределения у Пеккера [132]. (Pecqueur, Theorie nouvelle d'Economie sociale et politique, Paris, 1842, P. 613 ff.). Пеккер показывает свое превосходство над Марксом, который, не ведая сомнений, предается иллюзии, что «на высшей фазе коммунистического общества ... будет совершенно преодолен узкий горизонт Буржуазного права и общество сможет написать на своем знамени: Каждый по способностям, каждому по потребностям!» (Marx, Zur Kritik des Sozialdemokratischen Parteiprogramms vom Gotha, S. 17) <Маркс К., Критика Готской программы // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 19, С. 20>
(обратно)[142*]
Lenin, Staat und Revolution, S. 96 <Ленин В., Государство и революция // Полн. собр. соч., Т. 33, С. 89, 102>
(обратно)[143*]
Engels, Herrn Eugen Dühring Umwälzung der Wissenschaft, S. 302 <Энгельс Ф., Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 20, С. 291–292>
(обратно)[144*]
Fourier, Ouevres completes, Vol. IV, 2nd ed., Paris, 1841, P. 254 ff. <Фурье Ш., Избр. соч., T. 1, M.: Соцэкгиз, 1938, С. 70 и след.>
(обратно)[145*]
Godwin, Das Eigentum, Leipzig, 1904, Р. 73 ff. <Годвин У., О собственности, M.: Изд-во АН СССР, 1958, С. 147>
(обратно)[146*]
Kautsky, Die soziale Revolution, 3 Aufl., Berlin, 1911, S. 48 <Каутский К., Социальная революция, Женева, 1903, С. 167>
(обратно)[147*]
Trotsky, Literatur und Revolution, Wien, 1924, S. 179 <Троцкий Л., Литература и революция, M.: ГИЗ, 1924, С. 194>
(обратно)[148*]
«В наше время все... предприятия являются прежде всего вопросом доходности... Социалистическое общество не знает здесь никаких затруднений, кроме вопроса о рабочей силе, и если таковая имеется, то дело приводится в исполнение на пользу всем...» «Повсюду недостаток и нищета вызываются социальными учреждениями, существующим способом производства и распределения продуктов, а не чрезмерным числом людей... У нас не недостаток, а избыток продуктов питания, как избыток и промышленных продуктов.» (Bebel, Die Frau und der Socialismus, S. 308, 368) <Бебель А., Женщина и социализм, С. 501, 573>; см. также Engels, Herrn Eugen Dühring Umwälzung der Wissenschaft, S. 305 <Энгельс Ф., Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 20, С. 294> «У нас... не слишком много, а слишком мало людей.» (Bebel, Op. cit., S. 370 <Бебель А., Указ. соч., С. 575>)
(обратно)[149*]
Considerant, Exposition abregee du systeme Phalansterien de Fourier, 4 Tirage de la 3 ed., Paris, 1846, P. 29 ff.
(обратно)[150*]
Jevons, The Theory of Political Economy, 3rd ed., London, 1888, P. 169, 172 ff.
(обратно)[151*]
Engels, Herrn Eugen Dühring Umwälzung der Wissensechaft, a. a. o. S. 317 <Энгельс Ф., Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 20, С. 305>
(обратно)[152*]
Marx, Zur Kritik des Sozialdemokratischen Parteiprogramms von Gotha, S. 17 <Маркс К., Критика Готской программы // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 19, С. 20>
(обратно)[153*]
Мах Adler, Die Staatsauffassung des Marxismus, Wien, 1922, S. 287
(обратно)[154*]
Considerant, Op. cit., P.33
(обратно)[155*]
Considerant, Studien über einige Fundamentalproblem der sozialen Zukunft // Fouriers System der sozialen Reform, Ubers. v. Kaatz, Leipzig, 1906, S.55 ff. Достижением Фурье является то, что он ввел в общественные науки волшебную сказку. В его государстве будущего дети, организованные в «Petites Hordes» <«маленькие орды»>, будут нести особенные, отличные от взрослых обязанности. [145] Им будет доверено, среди прочего, поддержание дорог. «C'est a leur amour propre que l'Harmonie sera redevable d'avoir, par tout la terre, des chemins plus somptueux que les alees de nos parterres. Ils seront entretenus d'arbres et d'arbustes, meme de fleurs, et arroses de trottoir. Les Petites Hordes courent frenetiquement au travail, qui est execute comme ouevre pie, acte de charite envers de Phalange, service de Dieu et le l'Unite» <«Именно самолюбию маленьких орд строй Гармонии [146] будет обязан тем, что он будет иметь по всей земле большие дороги, более роскошные, чем аллеи наших цветников, грунтовые дороги, обсаженные кустами, а в отдалении даже цветами... Орды, ведомые своими ханами и друидами... неистово мчатся на работу, которая выполняется как акт благодарения по отношению к фаланге [147], служение Богу и Единству»>. В три часа утра они уже на ногах: чистят стойла, ухаживают за лошадьми и коровами, работают на бойнях, где они следят, чтобы ни с одним животным не обходились жестоко, а убивали бы его самым гуманным способом. «Elles ont la haute police du regne animal» <«Они имеют право верховной охраны порядка в отношении животного царства» (фр.)>. Когда их работа сделана, они умываются, переодеваются и с триумфом являются к завтраку (Fourier, Ouevres completes, Vol. V, 2 Edition, Paris, 1841, P. 141–159) <Фурье Ш., Избр. соч., T. III, С. 412–425>.
(обратно)[156*]
Fabre des Essarts, Odes Phalansteriennes, Montreuil-sous-Bois, 1900. Беранже и Виктор Гюго также чтили Фурье. [148] Первый посвятил ему стихотворение, перепечатанное Бебелем (Charies Fourier, Stuttgart, 1890, S. 294 ff.) <Бебель А., Шарль Фурье, М., 1923, С. 181>
(обратно)[157*]
Социалистические писатели все еще далеки от понимания этого. Каутский (Die Soriale Revolution, II, Р. 16 ff.) объявляет основной задачей пролетарской власти «позаботиться о том, чтобы труд, являющийся теперь бременем, сделался наслаждением, чтобы работать было приятно, чтобы рабочий шел на работу с удовольствием». Он признает, что достичь этого не так-то просто», и заключает, что «едва ли удастся в короткое время сделать работу на фабриках, на заводах и в копях очень уж привлекательною» <Каутский К., Социальная революция, С. 116>. Но он не в состоянии отринуть фундаментальные иллюзии социализма.
(обратно)[158*]
Veblen, The Instinct of Workmanship, N. Y., 1922, P. 31 ff.; De Man, Der Kampf um die Arbeitsfreude, Jena, 1927, P. 149 ff.
(обратно)[159*]
Здесь мы оставляем в стороне вышеупомянутое чувство удовольствия от начала работы, не имеющее практического значения. (См. c. 111 настоящего издания).
(обратно)[160*]
Wattenbach, Das Schriftwesen im Mittelalter, 3 Aufl., Leipzig, 1986, S. 500 Среди многочисленных приводимых Ваттенбахом подобных изречений и стихов есть и более выразительные: «Libro completo saltat scriptor pede laeto» [152].
(обратно)[161*]
Clark, Distribution of Wealth, N. Y., 1907, P. 157 ff. <Кларк Дж. Б., Распределение богатства, М.-Л., 1934, С. 84 и след.>
(обратно)[162*]
Rodbertus Johann Karl, Briefe und Sozialpolitische Aufsätze, Herausgegeben von R. Meyer, Berlin, 1881, S. 553 ff. <Родбертус-Ягецов К., Нормальный рабочий день // Государственный социализм, Вып. VI, Лассаль и Родбертус в избранных отрывках, М.-Л.: ГИЗ, 1925, С. 287 и след.> Здесь мы не будем вникать в другие предложения Родбертуса относительно нормального рабочего дня. Все они базируются на неосновательных взглядах Родбертуса на проблему ценности.
(обратно)[163*]
Schaffle, Die Quintessenz des Sozialismus, 18 Aufl., Gotha, 1919, S. 30 ff. <Шеффле А., Сущность социализма, Пг., 1917, С. 31 и след.>
(обратно)[164*]
Degenfeld-Schonburg, Die Motive des volkswirtschaftlichen Handelns und der deutsche Marxismus, Tübingen, 1920, S. 80
(обратно)[165*]
J. S. Mill, Principles, P. 126 ff. <Милль Д. С., Основания политический экономии, Спб, 1909, С. 157 и след.> Мы не можем исследовать здесь вопрос о том, в какой степени сам Милль заимствовал идеи у других. Широкому распространению эти идеи обязаны блестящему изложению, данному в очень популярной работе.
(обратно)[166*]
Конкуренция между предпринимателями гарантирует, что заработная плата не падает ниже этого уровня.
(обратно)[167*]
Kautsky, Die Soziale Revolution, II, S. 15 ff. <Каутский К., Социальная революция, С. 113 и след.>
(обратно)[168*]
Ibid., S. 21 ff. <там же, С. 123–124>
(обратно)[169*]
Ibid., S. 26 <там же, С. 131>
(обратно)[170*]
В годы контролируемой экономики мы часто слышали о замороженной картошке, сгнивших фруктах, испорченных овощах. [155] Разве прежде такого не бывало? Конечно, да. Но намного реже. Если у торговца пропадали фрукты, денежный убыток делал его более предусмотрительным, если убытки его ничему не научали, он разорялся. Он утрачивал возможность направлять производство и перемещался на такое место в хозяйственной жизни, где бы не мог принести вреда. Но все иначе с благами, которыми распоряжается государство. Здесь за товаром не стоит индивидуальный интерес. Здесь торгуют чиновники, ответственность которых так раздроблена, что никого особо не волнуют маленькие неудачи.
(обратно)[171*]
Georg Adier, Geschichte des Sozialismus und Kommunismus, Leipzig, 1899, S. 185 ff. <Адлер Г., История социализма и коммунизма, Спб, 1907, С. 18 и след.>
(обратно)[172*]
см. о роли демократии в развитии общества(глава 3, параграф 2) в настоящем издании
(обратно)[173*]
Cabet, Voyage en Icarie, Paris, 1848, P. 127 <Кабе Э., Путешествие в Икарию, Т.1, М.-Л., 1935, С. 236>
(обратно)[174*]
Лютер убеждал князей своей партии не относиться терпимо к монастырям и к мессе. Он бы не принял возражения, что император Карл, поскольку он верил в истинность папизма, действовал бы справедливо, со своей точки зрения, истребляя лютеранство как ересь. [161] Ибо мы знаем, «что он не верит в это и не может верить, ибо мы знаем, что он заблуждается и воюет против Евангелия. Ибо мы не обязаны верить в то, что он на верном пути, ибо слово Божье с нами, а не с ним; скорее уж это его долг признать слово Божье и распространять его, подобно нам, всей своей властью» Dr. Martin Luthers, Briefe, Sendschreiben und Bedenken, Hrsg. von der Wette, IV Teil, Berlin, 1827, S. 939 ff.; Paulus, Protestantismus und Toleranz im 16. Jahrhundert., Freiburg, 1911 S. 23.
(обратно)[175*]
Вводящие в заблуждение слова: прогресс надо организовать. Действительно, продуктивное невозможно втиснуть в заранее продуманные формы; оно процветает только в условиях неограниченной свободы. Последователи могут уже сорганизоваться, что и называется «созданием школы» (Spranger, Begabung und Studium, Leipzig, 1917, S. 8; см. также Mill, On Liberty, Third ed., London, 1864, S. 114 ff. <Милль Дж. С., О свободе // Утилитарианизм. О свободе., С. 288 и след.>).
(обратно)[176*]
Bebel, Die Frau und der Sozialismus, S. 284 <Бебель А., Указ. соч., С. 467>
(обратно)[177*]
Как Бебель представлял себе жизнь женщины в социалистическом обществе, видно из следующего: «При одинаковых жизненных условиях она действует так же, как мужчина. Наряду с работой в каком-либо производстве женщина в другое время дня занята как воспитательница, учительница, сиделка, в течение третьей части она занимается искусством или наукой и наконец в течение остального времени она выполняет какую-нибудь административную функцию. Она учится, работает и развлекается в обществе других женщин или мужчин, как ей это нравится и когда для этого ей представляется случай. В выборе любимого человека она, подобно мужчине, свободна и независима. Она выбирает или ее выбирают...» (Bebel, Op. cit., S. 342) <Бебель А., Указ. соч., С. 54б>.
(обратно)[178*]
Это приблизительно соответствует идеям Беллами (Bellamy, Looking Backward: If Socialism Comes, 2000–1887, Chapter 15, Boston, 1889) <Беллами Э., Через сто лет: социологический роман, Спб, 1901, С. 120 и след.>. [164]
(обратно)[179*]
так формулирует и Дж. С. Милль (J. St. Mill, On Liberty //Op cit., P. 7) <Милль Дж. С. О свободе // Указ. соч., С. 169 и след.>
(обратно)[180*]
Clark, Essentials of Economic Theory, N. Y., 1907, P. 131 ff.
(обратно)[181*]
Bebel, Die Frau und der Sozialismus, S. 340 <Бебель А., Указ. соч., С. 542> Здесь Бебель также цитирует известное стихотворение Гейне. [167]
(обратно)[182*]
Heinrich Soetbeer, Die Stellung der Sozialisten zur Malthusschen Bevolkerungslehre, Berlin, 1886, S. 33 ff., 52 ff., 85 ff.
(обратно)[183*]
Malthus, An Essay on the Prinsiple of Population, 5th ed., London, 1817, Vol. II, P. 245 ff. <Мальтус К., Указ. соч., С. 10 и след.>
(обратно)[184*]
Tarde, Die Sozialen Gesetze, Leipzig, 1908, S. 99 <Тард Г., Социальные законы, Спб, 1906, С. 133>; см. также многочисленные примеры в кн.: Roscher, Ansichten der Volkswirtschaft vom geschichtlichen Standpunkt, 3 Aufl., Leipzig, 1878, I Bd., S. 112 ff. <Рошер В., Система народного хозяйства. Руководство для учащихся и деловых людей., Т. I, Начала народного хозяйства, М., 1860, С. 238 и след.>
(обратно)[185*]
О том, какие трудности создаст социалистическая экономика на пути изобретений, и особенно на пути реализации технических усовершенствований. Dietzel, Technischer Fortschritt und Freiheit der Wirtschaft, Bonn und Leipzig, 1922, S. 47 ff.
(обратно)[186*]
См. основательную критику этих усилий, которые свидетельствуют скорее о добрых намерениях, чем о проницательности научной мысли авторов: Michaelis, Volkswirtschaftliche Schriften, Berlin, 1873, II Bd., S. 3 ff., а также Petritsch, Zur Lehre von der Uberwalzung der Steuern mit besonderer Beziehung auf den Borsenverkehr, Graz, 1903, S. 28 ff. Петрич говорит об Адольфе Вагнере [172], что «хотя он любит говорить об «органичности» экономической жизни и хотел бы именно как таковую ее исследовать и хотя он всегда подчеркивает интересы общества в отличие от интересов индивидуума, но при рассмотрении конкретных экономических проблем он не выходит за пределы индивидуумов с их более или менее моралистическими целями и при этом охотно упускает из виду наличие органической связи между этими целями и другими экономическими явлениями. Потому-то он и оканчивает там, где, строго говоря, должна быть начальная точка, но уж никак не конец каждого экономического исследования» (S. 59). То же самое верно относительно всех авторов, нападавших на спекуляцию.
(обратно)[187*]
см. критику этих теорий и движений: Passow, Der Strukturwandel der Aktiengesellschaft im Lichte der Wirtschaftsenquete, Jena, 1930, S. 1 ff.
(обратно)[188*]
Lenin, Staat und Revolution, S. 94 <Ленин В. Л., Государство и революция // Полн. собр. соч., Т. 33, С. 100–101>
(обратно)[189*]
Ibid., S. 95 <там же, С. 101>
(обратно)[190*]
Ibid., S. 96 <там же, С. 102>
(обратно)[191*]
Lenin, Die nächsten Aufgaben der Sovjetmacht, Berlin, 1918, S. 16 ff. <Ленин В. И., Очередные задачи Советской власти // Полн. собр. соч., Т. 36, С.181>
(обратно)[192*]
Poehlmann, Geschichte der sozialen Frage und der Sozialismus in der antiken, Welt, I Bd., S. 110 ff.; 123 ff.
(обратно)[193*]
Tugan-Baranowsky, Der moderne Sozialismus in seiner geschichtlichen Entwicklung, Dresden, 1908, S 136 <Туган-Барановский М., Современный социализм в своем историческом развитии, Спб, 1906, С. 131 и след.>
(обратно)[194*]
Pecqueur, Theorie nouvelle d'Economie sociale et politique, P. 699
(обратно)[195*]
Marx-Engels, Das Kommunistische Manifest, S. 26 <Маркс К., Энгельс Ф., Манифест Коммунистической партии // Соч., Т. 4, С. 428>
(обратно)[196*]
см. речь Бисмарка в Германском Рейхстаге 19 февраля 1878 г. (Fürst Bismarcks Reden, Herg. von Stein, VII Bd., S. 34)
(обратно)[197*]
Bauer, Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie, Wien, 1907, S. 519 <Бауэр О., Национальный вопрос и социал-демократия, Спб, 1909, С. 529 и след.>
(обратно)[198*]
см. мои работы: Nation, Staat und Wirtschaft, Wien, 1919, S. 45 ff.; Liberalismus, Jena, 1927. S. 93 ff.
(обратно)[199*]
Nation, Staat und Wirtschaft, S. 37 ff.
(обратно)[200*]
Ibid., S. 63 ff; Liberalismus, S. 107 ff.
(обратно)[201*]
Бессмысленно оспаривать планы автаркического хозяйства, которые ревностно пропагандировались наивными литераторами кружка «Дело» (Fried, Das Ende des Kapitalismus, Jena, 1931). Автаркическая экономика скорее всего понизила бы уровень жизни немцев несравненно сильнее, чем увеличенные в сотни раз выплаты по репарациям. [186]
(обратно)[202*]
При оценке английских усилий по прекращению самоизоляции Китая обычно сразу припоминают, что непосредственной причиной войны была торговля опиумом. Но в войнах, которые между 1839 и 1860 гг. вели против Китая Англия и Франция, ставкой была общая свобода торговли, а не только свобода торговли опиумом. То, что с точки зрения принципов свободной торговли не следовало воздвигать препятствия даже для торговли ядами и что воздержание от действий, пагубных для здоровья, должно быть делом личного выбора, не было проявлением низости и подлости, как это пытаются представить социалистические и англофобские авторы. Роза Люксембург (Die Akkumulation des Kapitals, Berlin, 1913, S. 363 ff.) <Люксембург Р., Накопление капитала, М.-Л., 1931, С. 273 и след.> обвиняет Францию и Англию: нанести поражение с помощью европейского оружия Китаю с его отсталым вооружением было далеко не героическим деянием. [189] Что же, французам и англичанам следовало вернуться к использованию примитивных ружей и шпаг, как встарь?
(обратно)[203*]
другие значения, в которых марксистами используется термин «революция», см. глава 3, параграф 4 настоящего издания
(обратно)[204*]
Engels, Herrn Eugen Dühring Umwälzung der Wissenschaft, S. 299 <Энгельс Ф., Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 20, С. 289>
(обратно)[205*]
Kautsky, Das Erfurter Programm, 12 Aufl., Stuttgart, 1914, S. 129 <Каутский К., Эрфуртская программа (Комментарий к принципиальной части), М.: Госполигиздат, 1959, С. 125>
(обратно)[206*]
Engels, Herrn Eugen Dühring Umwälzung der Wissenschaft, S. 299 <Энгельс Ф., Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 20, С. 289>
(обратно)[207*]
Kautsky, Das Erfurter Programm, S. 129 <Каутский, Указ. соч., С. 125>
(обратно)[208*]
Ibid., S. 130 <там же, С. 126–127>
(обратно)[209*]
глава 5, параграф 3
(обратно)[210*]
Bericht der Sozialisierungkommission über die Frage der Sozialisierung des Kohlenbergbaues vom 31 Juli 1920, с приложением Vorlaufiger Bericht vom 15 Februar 1919, 2 Aufl., Berlin, 1920, S. 32 ff.
(обратно)[211*]
Ibid., S. 37
(обратно)[212*]
Philipp v. Arnim, Ideen zu einer vollstandigen landwirtschaftlichen Buchhaltung, 1805, S. VI (цит. по: Waltz, Vom Reinertrag in der Landwirtschaft, S.20)
(обратно)[213*]
Там же, С. 2 (цит. по: Waltz, Ор cit., S. 21); см. также Lenz, Agrarlehre und Agrarpolitik der deutschen Romantik, Berlin, 1912, S. 84. Подобные же высказывания можно встретить у князя Алоиза Лихтенштейна (см. у Nitti, Le Socialisme Cathollque, Paris, 1894, S. 370 ff.). [198]
(обратно)[214*]
Kautsky, Die soziale Revolution, II, S. 33 <Каутский К., Социальная революция, С. 142>
(обратно)[215*]
Ibid., P. 35 <там же, С. 145>
(обратно)[216*]
Bourguin, Die sozialistische Systeme, S. 62 ff.
(обратно)[217*]
Андлер [200] особенно выделяет эту черту государственного социализма (Andler, Les Origines du Socialisme d'Etat en Allemagne, 2 ed., Paris, 1911, P. 2).
(обратно)[218*]
о липарских пиратах см. Poehlmann, Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt, 1 Bd., S. 44 ff.
(обратно)[219*]
Max Weber, Der Streit um den Charakter der altgermanischen Sozialverfassung in der deutchen Literatur des letzten Jahrzehnts // Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, XXVIII Bd., 1904, S 445
(обратно)[220*]
Caesar, Di bello Gallico, IV, 1 <Цезарь Г. Ю., Указ. соч., Т. 1, С. 74>
(обратно)[221*]
Herbert Spencer, Die Prinzipien der Soziologie, Übersetzt von Vetter, III Bd., Stuttgart, 1899, S. 710 ff. <Спенсер Г., Основания социологии, Т. 2, Спб, 1877, С. 597 и след.>
(обратно)[222*]
см. мою работу Nation, Staat und Wirtschaft, S. 115 ff.; 143 ff.
(обратно)[223*]
Винер [205] приписывает легкость покорения Империи инков отрядами Писарро тому факту, что коммунизм обессилил народ (Wener, Essai sur les Institutions Politiques, Religieuses, Economuques et Sociales de l'Empire des Incas, Paris, 1874, P. 64, 90 ff.).
(обратно)[224*]
Max Weber, Op. cit., S. 445
(обратно)[225*]
см. критику экономической политики австрийской христианской социалистической партии: Sigmund Мауег, Die Aufhebung des Befähigungsnachweises in Osterreich, Leipzig, 1894, S. 124 ff.
(обратно)[226*]
До сих пор мы говорили о церкви в целом, не учитывая различий между конфессиями. Это вполне оправданно. Эволюция в сторону социализма роднит все конфессии. Католичество энцикликой Льва ХШ «Rerum Novarum» в 1891 г. признало укорененность частной собственности в природе вещей; но одновременно церковь установила ряд фундаментальных этических принципов, которым должно подчиняться распределение дохода и которые могут быть реализованы только при государственном социализме. На тех же позициях стоит и энциклика Пия XI «Quadragesimo anno» от 1931 г. [210] В немецком протестантизме идея христианского социализма столь тесно связана с государственным социализмом, что вряд ли между ними есть малейшее отличие.
(обратно)[227*]
О военном социализме и его последствиях см. мою работу Nation, Staat und Wirtschaft, S. 140 ff.
(обратно)[228*]
Denkschrift des Reichswirtschaftsministeriums (воспроизведено у Висселя [213], с. 106)
(обратно)[229*]
Ibid., S. 116
(обратно)[230*]
«Гильдейцы враждебны частной собственности в промышленности и выступают за установление общественной собственности. Это не означает, разумеется, что они желают видеть промышленность под бюрократическим управлением государственных министерств. Они стремятся к тому, чтобы промышленностью управляли национальные гильдии, включающие всех работников промышленности. Но при этом они не хотят, чтобы промышленность была в собственности тех, кто там работает. Их цель — установление промышленной демократии через передачу функций управления в руки работников и одновременно ликвидация прибыли за счет передачи прав собственности в руки общества. Таким образом, гильдейские рабочие не будут работать ради прибыли: цена их товаров и, по крайней мере косвенно, величина вознаграждения за труд будут в значительной степени контролироваться обществом. Гильдейская система нацелена на установление партнерства между рабочими и обществом, и именно в этом ее отличие от программ, известных как «синдикалистские»... Руководящей идеей национальных гильдий является самоуправление и демократия в промышленности. Гильдейцы убеждены, что демократические принципы применимы в промышленности в той же степени, что и в политике» (Cole, Chaos and Order in Industry, London, 1920, P. 58 ff.).
(обратно)[231*]
Cole, Self-Government in Industry, 5th ed., London, 1920, P. 235 ff.; см. также Schuster Zum englischen Gildensozialismus // Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistic, 115 Bd., S. 487 ff.
(обратно)[232*]
Cole, Self-Government in Industry, P. 255
(обратно)[233*]
«Минутное размышление показывает, что одно дело — прокладывать дренаж, а другое — решать, где и как его проложить; одно дело — печь хлеб, другое — решать, сколько нужно испечь; одно — строить дома, другое — найти место для строительства. Этот список противоположностей может быть продолжен до бесконечности, и никакой демократический задор не в состоянии устранить эти противоположности. Перед лицом этих фактов гильдейский социалист заявляет, что существует нужда в местной и центральной власти, которая бы надзирала за теми важными сторонами жизни, которые не входят в сферу производства. Строитель может думать, что строить — это всегда хорошо; но этот же человек живет в каком-то месте и имеет право судить, стоит ли безусловно принимать такую чисто производственную точку зрения. На деле каждый является не только производителем, но и гражданином.» (G. D. H. Cole and W. Mellor, The Meaning of Industrial Freedom, London, 1918, P. 30)
(обратно)[234*]
Тоуни [216] расценивает как преимущество гильдейской системы для рабочих то, что она кончает с «гнусной и унизительной системой, при которой рабочего выбрасывают как нечто бесполезное тотчас же, как его услуги больше не нужны» (Tawney, The Acquisitive Society, London, 1921. P. 122). Но как раз в этом и заключается наихудший недостаток полагаемой им системы. Если строительство более не нужно, потому что существует уже относительно достаточное количество строений, но стройку приходится продолжать, чтобы занять строительных рабочих, которые не хотят переходить в другие отрасли, страдающие от относительной нехватки рабочих рук, то налицо бесхозяйственность и расточительство. Именно тот факт, что капитализм принуждает человека менять профессию, является его преимуществом с точки зрения общего блага, даже если при этом страдают особые интересы малых групп.
(обратно)[235*]
Bourgeois, Solidarite, 6 ed., Paris, 1907, P. 115 ff.; Waha, Die Nationalökonomie in Frankreich, Stuttgart, 1910, P. 432 ff.
(обратно)[236*]
Прежде всех заслуживает упоминания иезуит Пеш [219] (Pesch, Lehrbuch der Nationalökonomie, 1 Bd., 2 Aufl., Freibuig, 1914, S. 392–438). Во Франции существует конфликт между католической и свободомыслящей ветвями солидаризма (скорее относительно отношений между церковью и государством, чем по поводу принципов социальной теории и политики), который вынуждает церковные круги подозрительно относиться к термину «солидаризм». См. Haussonville, Assistance publique et bienfaisance privee // Revue des Deux Mondes, Vol. CLXII, 1900, P 773–808; Bougie, Le Solidarisme, Paris, 1907, P. 8 ff.
(обратно)[237*]
Pesch, Op. cit., Vol. 1, P. 420
(обратно)[238*]
Ibid., P. 422
(обратно)[239*]
Ibid., P. 420
(обратно)[240*]
Engel, Der Arbeitsvertag und die Arbeitsgesellschaft // Arbeiterfreund, 5 Jahrgang, 1867, S. 129–154. Обзор немецкой литературы об участии в прибылях см. в меморандуме, подготовленном Государственной статистической службой: «Исследования и предложения по участию рабочих в прибылях хозяйственных предприятий», опубликованном в специальном приложении к Reichs-Arbeitsblatt от 3 марта 1920 г.
(обратно)[241*]
см. аргументы Фогельштейна [224] на Регенсбургской сессии Союза социальной политики (Schriften, des Vereins für Sozialpolitik, 159 Bd., S. 132 ff.)
(обратно)[242*]
см. о плановой экономике (глава 15, параграф 5) в настоящем издании
(обратно)[243*]
отсюда следует, что называть синдикализм «рабочим капитализмом» — ошибка, в которую впал и я в книге Nation, Staat und Wirtschaft, S. 164
(обратно)[244*]
см. о производственных благах в главе 1 (параграф 1) в настоящем издании
(обратно)[245*]
об интервенционизме см. мою книгу Kritik des Interventionismus (Jena, 1929б S. 1 ff.)
(обратно)[246*]
Библия. Книга пророка Амоса., Гл. 9, Ст. 13
(обратно)[247*]
Библия. Книга пророка Исайи., Гл. 11. Ст. 6–9
(обратно)[248*]
там же, Гл. 29. Ст. 17
(обратно)[249*]
Нас сейчас не интересует вопрос, считал ли сам Иисус себя Мессией. Для нас единственно важно то, что Он провозгласил близкий приход царства Божия и что первая община верующих видела в нем Мессию.
(обратно)[250*]
Pfeiderer, Das Urchristentum, Band I, 2 Aufl., Berlin, 1902, S. 7 ff. <Пфлейдерер О., Возникновение христианства, Спб, 1910, С. 76>
(обратно)[251*]
Troeltsch, Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen // Gesammelte Schriften, Band. 1, Tübingen, 1912, S.110
(обратно)[252*]
Gerlich, Der Kummunismus als Lehre vom tausendjährigen Reich, München, 1920. S. 17 ff.
(обратно)[253*]
Wundt, Ethik, 4 Aufl., Stuttgart, 1912, II Bd., S. 246 <Вундт В., Этика. Исследование фактов и законов нравственной жизни., Т. 2, Спб, 1888, С. 251> Характерным примером того, как представители этого подхода готовы увидеть исчерпанность всего развития, является выполненный Энгельсом обзор военной техники. В 1878 г. Энгельс заявил, что франко-прусская война «отмечает свой поворотный пункт» в истории военной техники: «Оружие теперь так усовершенствовано, что новый прогресс, который имел бы значение какого-либо переворота, больше невозможен. Таим образом, в этом направлении эра развития в существенных чертах закончена» (Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, S. 176) <Энгельс Ф., Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 20, С. 174>. Критикуя чужие теории, Маркс умел выявлять слабости теории стадий. Согласию их учению говорит Маркс, «до сих пор была история, а теперь ее более нет» (Das Elend der Philosopnie, Deutsch von Bernstein und Kautsky, 8 Aufl., Stuttgart, 1920, S. 104) <Маркс К., Нищета философии // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 4, С. 142>. Он просто не заметил, что и в его учении происходит то же самое в тот день, когда средства производства оказываются обобществленными.
(обратно)[254*]
Kant, Der Streit der Fakultäten Sämtliche Werke, I Bd., S. 636 <Кант И., Спор факультетов // Соч., Т.6, М., 1966, С. 334>
(обратно)[255*]
Cohen, Logik der reinen Erkenntnis, 2 Aufl., Berlin, 1914, S 359
(обратно)[256*]
Это делает Лилиенфельд [236]в своей работе La pathologie sodale. (Paris, 1896. Р. 95). Когда правительство берет заем у дома Ротшильдов [237], органическая социология описывает процесс так: «La maison Rothschild agit, dans cette occasion, parfaitement en analogie avec l'action d'un group de cellules qui, dans le corps humain, cooperent a la production du sang necessaire a l'alimentation du cerveau dans l'espoir d'en etre indemnisees par une reaction des cellules de la substance grise dont ils ont besoin pour s'activer de nouveau et accumuler de nouvelles energies» <«Действия дома Ротшильдов в такой ситуации в точности подобны поведению группы клеток человеческого тела, которые участвуют в производстве крови для питания мозга, в надежде на вознаграждение за счет реакции клеток серого вещества, которая им нужна для реактивации и накопления новой энергии» — фр.> (Ibid., P. 104). Так выглядит на практике метод, который утверждает, что «стоит на твердой почве» и исследует «становление явления шаг за шагом, продвигаясь от более простого к более сложному» (Lilienfeld, Zur Verteidigung der organischen Methode in der Soziologie, Berlin, 1898, S. 75).
(обратно)[257*]
Характерно, что как раз романтики чрезмерно подчеркивают органический характер общества, тогда как социальная философия либерализма никогда этого не делала. Вполне понятно: органичная на самом деле теория общества не нуждалась в навязчивом подчеркивании этого свойства собственной системы.
(обратно)[258*]
Cohen, Logik der reinen Erkenntnis, S. 349
(обратно)[259*]
Hertwig, Allgemeine Bioligie, 4 Aufl., Jena, 1912, S. 500 ff. <Гертвиг О., Общая биология, Спб, 1911, С. 517 и след.>; Hertwig, Zur Abwehr des ethischen, des sozialen und des politischen Darwinismus, Jena, 1918, S. 69 ff.
(обратно)[260*]
Izoulet, La cite moderne, Paris, 1894, P. 35 ff.
(обратно)[261*]
Дюркгейм (Durkheim, De la division du travail social, Paris, 1893, P. 294 ff.) <Дюркгейм Э., О разделении общественного труда, Одесса, 1900, С. 207 и след.> вслед за Контом и в споре со Спенсером стремится доказать, что разделение труда укоренилось не потому, что оно способствует росту производства (как думают экономисты), а в результате борьбы за существование. [244] Чем выше плотность населения, тем острее борьба за существование. Это понуждает индивидуумов к специализации, поскольку в противном случае им не прокормить себя. Но Дюркгейм при этом не замечает, что разделение труда делает возможным такой исход лишь потому, что ведет к росту производительности труда. Дюркгейм отрицает связь между ростом производительности труда и разделением труда, исходя из ложного понимания основного принципа утилитаризма и закона насыщения потребностей (Ор. cit., Р. 218 ff.; 257 ff.). Его представление о том, что цивилизация развивается под давлением изменений в размере и плотности населения, неприемлемо. Население растет потому, что труд становится более производительным и способен прокормить больше людей, а не наоборот.
(обратно)[262*]
о важном значении многообразия местных условий производства для начальных этапов разделения труда см. Steinen, Unter den Naturvölkern Zentalbrasiliens, 2 Aufl., Berlin, 1897, S. 196 ff. <Штейнен К., Среди первобытных народов Бразилии, М., 1935, С. 102 и след.>
(обратно)[263*]
Ricardo, Principles of Political Economy and Taxation, P. 76 ff. <Рикардо Д., Соч., T. 1, С. 72 и след.>; Mill, Principles of Political Economy, P. 348 ff. <Милль Д. С., Основания политической экономии, С. 494 и след.>; Bastable, The Theory of International Trade, 3rd ed., London, 1900, P. 16 ff.
(обратно)[264*]
«Торговля обращает род человеческий, знавший изначально только видовое родство, в настоящее единое общество» (Steinthal, Allgemeine Ethik, Berlin, 1885, S. 208). Торговля, однако, есть не что иное, как техническое средство для разделения труда. О разделении труда в социологии Фомы Аквинского [245] см. Schreiber. Die volkswirtschaftlichen Anschauungen der Scholastik seit Thomas von Aquin, Jena, 1913, S. 199 ff.
(обратно)[265*]
В силу этого следует отвергнуть идею Гюйо [248], который выводит общественные связи непосредственно из разделения полов. (Guyau, Sittlichkeit ohne Pflicht, Ubers. von Schwarz, Leipzig, 1909, S. 113 ff.) <Гюйо Ж. М., Нравственность без обязательств и без санкции, М., 1923, С. 58 и след.>.
(обратно)[266*]
Фулье [249] следующим образом опровергает утилитаристскую теорию общества, которая называет общество «moyen universal» <«универсальное средство» (фр.)>: «Tout moyen n'a qu'une valeur provisoire; le jour ou un instrument dont je me servais me devient inutile ou nuisible, je le mets de cote. Si la societe n'est qu'un moyen, le jour ou, exceptionellement, elle se trouvera contraire a mes fins, je me delivrerai des lois sociales et moyens sociaux... Aucune consideration sociale ne pourra empecber la revolte de l'individu tant qu'on ne lui aura pas montreque la societe est etablie pour des fins qui sont d'abord et avant tout ses vraies fins a lui-meme et qui, de plus, ne sont pas simplement des fins de plaisir ou d'interet, l'interct n'etant que le plaisir differe et attendu pour l'avenir... L'idee d'interet est precisement ce qui divise les bommes, malgre les rapprochements qu'elle peut produire lorsqu'il у a covergence d'interets sur certains points» <«Каждое средство имеет только временную ценность; в тот день, когда средство перестает мне служить или делается для меня вредным, я его отбрасываю. Если общество есть только средство, в тот день, когда я решу, что оно действует вопреки моим целям, я освобожу себя от существующих в обществе законов и средств действия. ... Никакие социальные соображения не в силах предотвратить восстание, если не объяснить человеку, что общественные цели первичнее и выше всех его целей и, более того, они просто не имеют отношения к удовольствию или собственной пользе, которая представляет собой все то же удовольствие, ожидаемое в будущем... Именно идея собственной пользы разделяет людей, хотя При некоторых обстоятельствах совпадение интересов может порождать и сотрудничество» (фр.)> (Foillee, Humanitaires et libertaires au point de vue socioligique et moral, Paris, 1914, P. 146 ff.); см. также Guyau, Die englische Ethik der Gegenwart, Ubers. von Peusner, Leipzig, 1914, S. 372 ff. <Гюйо Ж. М., История и критика современных английских учений о нравственности, Спб, 1898, С. 287 и след.>. Фулье не видит, что временные ценности, используемые обществом как средства, действуют до тех пор, пока сохраняются неизменными природные условия жизни человека и пока человек сохраняет понимание преимуществ, даваемых сотрудничеством людей. «Вечность», а не временность общества, является следствием вечности условий его существования. Находящиеся у власти могут требовать, чтобы теория общества дала им средства предотвращать бунт индивидуума против общества, но это далеко не научное требование. Кроме того, никакая теория общества не может с такой легкостью побудить индивидуума примкнуть к общественному союзу как утилитариста. Но когда индивидуум проявляет себя как враг общества, последнему ничего не остается, как обезвредить его.
(обратно)[267*]
Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschkhte in weltbürgerlicher Absicht, Sämtliche Werke, I Bd., S. 227 ff. <Кант И., Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Соч., Т. 6, С. 11>
(обратно)[268*]
Bucher, Die Entstehung der Volkswirtschaft, First collection, 10 Aufl., Tübingen, 1917, S. 91 <Бюхер К., Возникновение народного хозяйства, Пг., 1923, С. 54>
(обратно)[269*]
Schmoller, Grundriss der allgemcinen Volkswirtschaftskehre, München, 1920, II Bd., S. 760 ff. <Шмоллер Г., Народное хозяйство, наука о народном хозяйстве и ее методы, М., 1902, С. 213 и след.>
(обратно)[270*]
Philippovich, Grundriss der politischen Ökonomie. 1 Bd., 2 Aufl., Tübingen, 1916, S. 11 ff. <Филиппович Е., Основания политической экономии, Спб, 1901, С. 16 и след.>
(обратно)[271*]
о теории стадий смотри также мою работу Grundprobleme der Nationalökonomie, Jena, 1933, S. 106 ff.
(обратно)[272*]
Dopsch, Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europaischen Kulturentwicklung, Wien, 1918, 1 Bd., S. 91 ff.
(обратно)[273*]
Marx, Das Elend der Philosophie, S. 91 <Маркс К., Нищета философии // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 4, С. 133> В более поздних формулировках своей исторической концепции Маркс избежал ригидности этой ранней версии. За такими неопределенными выражениями, как «производительные силы» и «производственные отношения», скрываются критические сомнения, которые должен был испытывать Маркс. Но невнятность формулировок, допускающая множество толкований, не делает разумной эту нелогичную теорию.
(обратно)[274*]
Ferguson, Abhandlung über die Geschichte der bürgerlichw Gesellschaft, Ubers von Dom, Jena, 1904, S. 237 ff. <Фергюсон А., Опыт истории гражданского общества, Ч. III, Кн. IV, Спб, 1817–1818, С 1–20>; см. также Barth, Die Philosophie der Geschichte als Soziologje, 2 Aufl., Leipzig, 1915, I Bd., S 578 ff. <Барт П., Философия истории как социология, Спб, 1902, С. 256>
(обратно)[275*]
Все, что осталось от исторического материализма, столь шумно явившегося миру, — это открытие, что всякое индивидуальное и общественное поведение решающим образом зависит от редкости благ и тягостности труда. Но марксисты в наименьшей степени эту заслугу могут приписать себе, поскольку все их высказывания относительно будущего социалистического общества полностью игнорируют эти два условия хозяйственной жизни.
(обратно)[276*]
Адам Мюллер говорит о «порочной тенденции к специализации труда во всех видах частной и правительственной деятельности», а также о том, что человек нуждается в «округлой, я бы мог сказать в шаровой, сфере активности». Если «система разделения труда в больших городах, в промышленных или добывающих центрах штампует из человека, совершенно свободного человека, колеса, шарикоподшипники, колонны, спицы и пр., делает его совершенно односторонним для работы в односторонней области деятельности для удовлетворения одной-единственной потребности, как можно после этого требовать, чтобы этот фрагмент человека согласовывался с целостной, совершенной жизнью, с ее законом и правом; как могут ромбы, треугольники и всякие другие фигуры оказаться в согласии и соответствии с великой сферой политической жизни и ее законами?» (Muller, Ausgewählte Abhandlungen, Jena, 1921. S. 46).
(обратно)[277*]
Маркс К., К критике Готской программы // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 19, С. 20 Бесчисленные пассажи в его работах показывают, сколь ложно представлял Маркс природу труда в промышленности. Так, он полагал, среди прочего, что «разделение труда на фабрике характеризуется тем, что труд совершенно теряет здесь характер специальности. Фабрика устраняет обособленные профессии и профессиональный идиотизм». Он клеймит Прудона, который не понимал «даже этой единственно революционной стороны фабрики» (Marx, Das Elend der Philosophie, S. 129) <Маркс К., Нищета философии // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 4, С. 160>
(обратно)[278*]
Bebel, Die Frau und der Sozialismus, S. 283 ff. <Бебель А., Указ. соч., С. 464 и след.>
(обратно)[279*]
глава 8 (параграф 2) настоящего издания
(обратно)[280*]
Durkheim, De la division du travail social, P. 452 ff. <Дюркгейм Э., О разделении общественного труда, С. 325 и след.>
(обратно)[281*]
Свойственное романтически-милитаристским идейным кругам представление о военном превосходстве народов, мало затронута» капитализмом, полностью опровергнутое недавним опытом мировой войны, есть результат веры в то, что на войне главное — физическая сила. Это было не вполне верно даже для войн эпохи Гомера. Решает бой не физическая сила, а сила разума. Она определяет выбор оружия и тактики борьбы. Азбука военного искусства требует превосходства сил в решающий момент, при том, что в целом можно численно уступать противнику. Азбука приготовления к войне — создать как можно более сильную армию и наилучшим образом экипировать ее. Это приходится подчеркивать только потому, что эти истины стремятся забыть, стараются провести различие между военными и экономико-политическими факторами победы и поражения. Было и останется истиной, что победа или поражение определяется до начала сражения — совокупностью общественных возможностей враждующих сторон.
(обратно)[282*]
об упадке античной греческой цивилизации см. Pareto, Les Systemes Soclalistes, Paris, 1902, Vol. I, P. 155 ff.
(обратно)[283*]
Izoulet, La Cite moderne, P. 488 ff.
(обратно)[284*]
«Создавая собственность, законы создают богатство, но не создают бедности; бедность есть первоначальное состояние человека. Жизнь изо дня в день и есть именно то естественное состояние, в котором первобытно находился человек... Законы, создавая собственность, благодетельны для тех, которые остаются в первобытной бедности. Бедные всегда более или менее участвуют в удовольствиях, выгодах, средствах цивилизованного общества» (Bentham, Principles of the Civil Code, ed. Bowririg, Edinburgh, 1843, Vol. 1, P. 309) <Бентам Ч., Избр. соч., Т. 1, Спб, 1867, С. 339>
(обратно)[285*]
Lassalle, Das System der erworbenen Rechte, 2 Ausg., Leipzig, 1880, 1 Bd., S. 217 ff. <Лассаль Ф., Система приобретенных прав // Соч., Т. 3, Спб, С. 261 и след.>
(обратно)[286*]
Lassalle, Op. cit., I Bd., S. 222 ff. <Лассаль Ф., Указ. соч., С. 266>
(обратно)[287*]
Marx, Die Heilige Familie // Aus dem literarischen Nachlass von Karl Marx, Fridrich Engels und Ferdinand Lassale, Herg. v. Mehring, II Bd., Stuttgart, 1902, S. 132 <Маркс К., Энгельс Ф., Святое семейство // Соч., Т. 2, С. 39>
(обратно)[288*]
«La guerre est une dissociation» <«Война есть разрушение сотрудничества» (фр.)> Novicow, La Critique du Darwinisme Social, Paris, 1910, P. 124; см. также критику теорий вражды, предложенных Гумпловичем, Ратценхофером и Оппенгеймером Y. Holsti, The Relation of War to the Origin of the State, Helsingfors, 1913. P. 276 ff. [262]
(обратно)[289*]
Taine, Histoire de la literature anglaise, Paris, 1863, Vol. 1, P. XXV <Тэн И., Развитие политической и гражданской свободы в Англии в связи с развитием литературы, Ч. I, Спб, 1871, С. 16>
(обратно)[290*]
Ibid., Р. ХХШ <там же, С. 14>: «Се qu'on appelle la race, се sont ces dispositions que 1'homme apporte avec lui a la lumiere» <«Под словом раса мы разумеем то врожденное наследственное предрасположение, которое человек вносит за собой в мир» (фр.)>
(обратно)[291*]
Hertwig, Zur Abwehr des ethischen, des sozialen und des politischen Darwinismus, P. 10 ff.
(обратно)[292*]
Ferri, Sozialismus und moderne Wissenschaft, Ubers. von Kurella, Leipzig, 1895, S. 65 ff.
(обратно)[293*]
Gumplowicz, Der Rassenkampf, Innsbruck, 1883, S. 176, О зависимости Гумпловича от идей дарвинизма см., Barth, Die Philosophie der Geschichte als Sozlologie, S. 253 <Барт П., Указ. соч., С. 215> «Либеральный» дарвинизм является непродуманным до конца продуктом эпохи, которая перестала понимать значение либеральной философии общества.
(обратно)[294*]
Novicow, La Critique du Darwinisme Sozial, P. 45
(обратно)[295*]
Barth, Die Pholosophie der Geschichte als Soziologie, P. 243 <Барт П., Указ. соч., С. 202>
(обратно)[296*]
Kropotkin, Gegenseitige Hilfe in der Tier und Menschenwelt, Leipzig, 1908, S. 69 ff. <Кропоткин П., Взаимная помощь как фактор эволюции // Соч., Т. 7, Спб, 1907, С. 13 и след.>
(обратно)[297*]
Kammerer, Genossenschaften von Lebewesen auf Grund gegenseitiger Vorteile, Stuttgart, 1913; Kammerer, Allgemeine Biologie, Stuttgart, 1915, S. 306 <Каммерер П., Общая биология, М.-Л., 1925, С. 383>; Kammerer, Einzeltod, Volkertod, biologische Unsterblichkeit, Wien, 1918, S. 29 ff.
(обратно)[298*]
Cohen, Ethik des reinen Willens, Berlin, 1904, S. 183 ff.
(обратно)[299*]
см. мою работу Nation, Staat und Wirtschaft, S. 31 ff.
(обратно)[300*]
Oppenheimer, Die rassentheoretische Geschichtsphilosophie // Verhandlungen des Zweiten deutschen Soziologentages, Tübingen, 1913, S. 106; см. также Hertz, Rasse und Kultur, 3 Aufl., Leipzig, 1925, S. 37; Weidenreich, Rasse und Korperbau, Berlin, 1927, S. 133 ff. <Вейденрейх Ф., Раса и строение тела, М.-Л., 1929, С. 176 и след.>
(обратно)[301*]
Nystrom, Uber die Formenveranderungen des menschlichen Schadels und deren Ursachen // Archiv für Anthropologie, XXVII Bd., S. 321 ff., 630 ff., 642
(обратно)[302*]
Oppenheimer, Die rassentheoretische Geschichtsphilosophie, S. 110 ff.
(обратно)[303*]
см. о теории международного разделения труда (глава 18, параграф 2) в настоящем издании
(обратно)[304*]
«Chez les peuples moderne, la guerre et le militarisme sont de veritables fleaux dont le resultat definitif est de deprimer la race» <«Для современных народов война и милитаризм есть совершенные бедствия, конечный результат которых — оскудение рода человеческого» (фр.)> (Lapouge, Les selections sociales, Paris, 1896, Р. 230)
(обратно)[305*]
Marx, Das Kapital, I Bd., S. 550 <Маркс К., Капитал, Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 25, С. 600> Цитированный текст отсутствовал в первом издании, опубликованном в 1867 г. Маркс включил его только во французское издание в 1873 г., откуда Энгельс и перенес его в четвертое немецкое издание. Масарик (Masaryk, Die philosophischen und soziologischen Grundlagen des Marxismus, Wien, 1899, S. 299) резонно отмечает, что эта вставка, скорее всего, связана с изменением теоретического подхода в третьем томе «Капитала». [274] Ее можно рассматривать как отречение от марксистской классовой теории. Знаменательно, что третий том обрывается на нескольких фразах главы «Классы». В подходе к проблеме классов Маркс не сумел выйти за пределы отдельных бездоказательных догм.
(обратно)[306*]
об истории концепции распределения см. Cannan, A History of the Theories of Production and Distribution, P. 183 ff.
(обратно)[307*]
Ricardo, Works, S. 5 <Рикардо Д., Соч., Т. 1, С. XXIX>
(обратно)[308*]
Marx, Das Kapital, III Bd., II Teil, 3 Aufl., S. 421 <Маркс К., Капитал, Т. Ш, Ч. 2 // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 25, Ч. 2, С. 458>
(обратно)[309*]
Кунов (Cunow, Die Marxsche Geschichts-, Gesellschafts- und Staattheorie, II Bd., Berlin, 1921, S. 61 ff.) <Кунов Г., Марксова теория исторического процесса, общества и государства, Т. 2, М., 1930, С. 61 и след.> пытался защитить Маркса от обвинений в смешении понятий «класс» и «сословие». [276] Но его собственные замечания и приводимые им цитаты из Маркса и Энгельса показывают, насколько оправданно это обвинение. Прочтите, например, первые шесть абзацев первой главы «Коммунистического Манифеста», которая озаглавлена «Буржуа и пролетарии», — и вы убедитесь, что здесь понятия «сословие» и «класс» не различаются. Мы уже говорили, что позднее, в Лондоне, когда Маркс ближе познакомился с системой Рикардо, он отделил понятие «класс» от понятия «сословие» и связал его с тремя факторами производства в рикардианском учении. Но он так и не развил новую концепцию класса. Точно так же ни Энгельс, ни какой-либо другой марксист не пытались показать, что же на самом деле сплачивает конкурентов — а ведь именно таких людей «однородность доходов и источников дохода» соединяет в концептуальное целое — в класс, вдохновляемый общностью интересов.
(обратно)[310*]
Bagehot, Physics and Politics, London, 1872, P. 71 ff.
(обратно)[311*]
Даже сегодня существует много бесхозной земли, которую может занять каждый желающий. Однако европейские пролетарии не переселяются во внутренние области Африки или Бразилии, а продолжают дома работать за заработную плату.
(обратно)[312*]
«Источник прибылей рабовладельца, — говорил Лексис (при обсуждении работы: Wicksell, Über Wert, Kapital und Rente // Schmoller's Jahrbüch, XIX Bd., S. 335 ff.), — несомненен, и это, может быть, можно сказать и об «эксплуататоре». При нормальных отношениях между предпринимателем и работником нету такой уж эксплуатации, но скорее наличествует экономическая зависимость со стороны работника, которая, бесспорно, воздействует на распределение продукта труда. Не имеющий собственности работник должен добывать «ежедневный хлеб», иначе он погибнет. В общем случае он может найти применение для своего труда только в производстве «будущих благ». Но и это не главное, поскольку даже когда он производит (подобно подсобному рабочему в пекарне) блага, которые потребляются в тот же день, его доля в доходе обусловлена неблагоприятными для него обстоятельствами: он не может независимо выбирать методы использования своего труда, но вынужден менять его на более или менее достаточные средства к жизни, тем самым отказываясь от участия в прибыли. Это тривиальные утверждения, но я уверен, что для непредвзятого наблюдателя они всегда будут убедительными в силу своей непосредственной самоочевидности». Нельзя не согласиться с Бем-Баверком и с Энгельсом, что в этих идеях, которые, впрочем, всего лишь воспроизводят взгляды, господствующие в немецкой «вульгарной экономии», содержится признание, выраженное в тщательно отобранных словах, социалистической теории эксплуатации (Böhm-Bawerk, Einige strittge Fragen der Kapitalstheorie, Wien und Leipzig, 1900, S. 112 <Бем-Баверк Е., Основы теории ценности хозяйственных благ, Спб, 1903, С. 115 и след.>, Engels, Vorwort zum dritten Bande des «Kapital», S. XII <Энгельс Ф., Предисловие к третьему тому «Капитала» // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 25, Ч. I, С. 13>). [277] Теоретическая неудовлетворительность теории эксплуатации нигде не видна яснее, чем в этой попытке Лексиса подвести под нее базу. [278]
(обратно)[313*]
Даже «Коммунистический Манифест» признавал: «Организация пролетариев в класс, и тем самым в политическую партию, ежеминутно вновь разрушается конкуренцией между самими рабочими» (Das Kominunistische Manifest, S. 30 <Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 4, С. 433>; см. также Marx, Das Elend der Philosophie, 8 Aufl., Stuttgart, 1920, S. 161 <Маркс К., Нищета философии // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 4, С. 183>).
(обратно)[314*]
здесь обычно совершенно алогично упускают из виду тот факт, что наемные работники также заинтересованы в процветании своей отрасли производства и своего предприятия.
(обратно)[315*]
Даже Кунов в своей некритичной апологии марксизма вынужден был признать, что Маркс и Энгельс не только говорили о трех основных классах, но и различали целый ряд подклассов и неосновных классов (Cunow, Die Marxische Geschichts-, Gesellschafts- und Staatstheorle, II Bd., S. 53 <Кунов Г., Указ. соч., С. 57>).
(обратно)[316*]
Engels, Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, S. 305 <Энгельс Ф., Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 20, С. 294>
(обратно)[317*]
Marx, Zur Kritik der Politischen Ökonomie, Stuttgart, 1897, S. XI <Маркс К., К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 13, С. 7>
(обратно)[318*]
Engels, Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, S. 304 <Энгельс Ф., Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 20, С. 294>
(обратно)[319*]
Мах Adler, Marx als Denker, 2 Aufl., Wien, 1921, S. 68
(обратно)[320*]
О попытках доказательства см., например, у Каутского. Каутский рассказывает нам, что при социализме «создастся новый тип человека ... супермен ... человек высокой души» (Kautsky, Die soziale Revolution, 3 Aufl., Berlin, 1911, S. 48 <Каутский К., Социальная революция, Женева, 1903, С. 167>). Каутский объявляет основной задачей пролетарской власти «позаботиться о том, чтобы труд, являющийся теперь бременем, сделался наслаждением, чтобы работать было приятно, чтобы рабочий шел на работу с удовольствием». Он признает, что достичь этого не так-то просто», и заключает, что «едва ли удастся в короткое время сделать работу на фабриках, на заводах и в копях очень уж привлекательною» (Die Soziale Revolution, II, Р. 16 ff.) <Каутский К., Социальная революция, С. 116>. Но он не в состоянии отринуть фундаментальные иллюзии социализма.
(обратно)[321*]
Kautsky, Die Diktatur des Proletariats, 2 Aufl., Wien, 1918, S. 12
(обратно)[322*]
Ibid., S. 40
(обратно)[323*]
Marx, Zur Kritik der Politishen ökonomie, S. XII <Маркс К., К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 13, С. 7>
(обратно)[324*]
Gerhard Hildebrand, Die Erschütterung der Industrieherrschaft und Industriesozialismus, Jena, 1910, S. 213 ff.
(обратно)[325*]
Ehrenberg, Der Gesichtskreis eines deutschen Fabrikarbeiters, Thunen-Archiv, 1 Bd., S. 320 ff.
(обратно)[326*]
Feuerbach, Vorlaufige Thesen zur Reform der Philosophie, 1842 // Sämtliche Werke, II Bd., Stuttgart, 1904, S. 239 <Фейербах Л., Предварительные тезисы к реформе философии // Избр. Философ. произв., Т. 1, М., 1955, С. 128>
(обратно)[327*]
Feuerbach, Die Naturwissenschaft und die Revolution, 1850 // Ibid., X Bd., Stuttgart, 1911, S. 22
(обратно)[328*]
Vogt, Kohlerglaube und Wissenschaft, 2 Aufl., Giessen, 1855, S. 32
(обратно)[329*]
Макс Адлер, стремящийся примирить марксизм с неокантианством, тщится доказать, что между марксизмом и материализмом нет ничего общего. Особенно резко его конфликт с другими марксистами выразился в Marxistische Probleme (Stuttgart, 1913, S. 60 ff., 216 ff.). См., например, работу Плеханова Grundprobleme des Marxismus, Stuttgart, 1910 <Плеханов Г., Основные вопросы марксизма, М., 1959>.
(обратно)[330*]
Marx, Das Kapital, I Bd., S. 354, Anm. <Маркс К., Капитал, T. I // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 23, С. 40, прим.> Но между Декартом и Галлером был Ламетри с его «Человеком-машиной». [290] Генезис его философии Маркс, к сожалению, не уточнил.
(обратно)[331*]
Marx, Zur Kritik der Politischen Ökonomie, S. XI <Маркс К., К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 13, С. 6>
(обратно)[332*]
Marx und Engels, Das Kommunistische Manifest, S. 27 <Маркс К., Энгельс Ф., Коммунистический Манифест // Соч., Т. 4, С. 429>
(обратно)[333*]
Marx, Das Elend der Philosophie, S. 91 <Маркс К., Нищета философии // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 4, С. 133>
(обратно)[334*]
Marx, Das Kapital, I Bd., S. 336, Anm. <Маркс К., Капитал, Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 23, С. 383, прим.>
(обратно)[335*]
Ibid.
(обратно)[336*]
Marx, Zur Kritik der Politischen Ökonomie, S. 62 <Маркс К., К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 13, С. 62>. Барт [292] верно отмечает, что сравнение врожденных привилегий знати и предположительно врожденных идей следовало бы воспринимать как шутку. Но первая часть Марксовой характеристики Локка столь же не выдерживает критики, как и вторая (Barth, Die Philosophie der Geschichte als Soziologie, 1 Bd., S. 658 ff. <Барт П., Указ. соч., С. 290>
(обратно)[337*]
Mehring, Die Lessing-Legende, 3 Aufl., Stuttgart, 1909, S. 422 <Меринг Ф., Легенда о Лессинге // Литературно-критические работы, Т. 1, М.-Л., 1934, С. 367>
(обратно)[338*]
Ibid., S. 423 <там же, С. 468>
(обратно)[339*]
Held, Zwei Bucher zur sozialen Geschichte Englands, Leipzig, 1881, S. 176, 183
(обратно)[340*]
Schumpeter, Epochen der Dogmen und Methodengeschichte // Gruridriss der Sozialökonomik, 1 Abt., Tübingen, 1914, S. 81 ff.
(обратно)[341*]
Hilferding, Böhm-Bawerk's Marx-Kritik, Wien, 1904, S. 1, 61 <Гильфердинг Р., Бем-Баверк как критик Маркса, М., 1923, С. 5, 74> Католик-марксист Хохофф [298] говорит о Бем-Баверке, что «это вообще одаренный, вульгарный экономист, который не смог встать над капиталистическими предрассудками, в среде которых он вырос» (Hohoff, Warenwert und Kapitalprofit, Paderbom, 1902, S. 57). См. мою работу Grundprobleme der Nationalökonomie, Jena, 1933, S. 170 ff.
(обратно)[342*]
См., например: Bernard Show, Fabian Essays, 1889, P. 16 ff. Точно то же было и с теориями естественного права и общественного договора, которые в социологии и в политических науках служили одновременно оправданию абсолютизма и борьбе с ним.
(обратно)[343*]
Если кто-то хочет поставить в заслугу материалистической концепции истории то, что она подчеркнула зависимость общественных отношений от природных условий жизни и производства, ему следовало бы сначала припомнить, что это может показаться особой заслугой только на фоне извращенности гегельянской философии истории. Эта идея присуща либеральной философии общества и истории, как и трудам либеральных историков, с конца XVIII века, (Below, Die Deutsche Geschichtsschreibung von den Befreiungskriegen bis zu unseren Tagen, Leipzig, 1916, S. 124 ff.).
(обратно)[344*]
О главных представителях итальянского и французского синдикализма Зомбарт [300] говорит: «Насколько я их лично знаю, это милые, воспитанные господа, культурные люди в чистом белье, с прекрасными манерами, обладатели изящных жен; с ними приятно беседовать как с равными, и по их виду отнюдь нельзя в них заподозрить представителей движения, которое, прежде всего, направлено против заражения социализма буржуазным духом и желает прийти на помощь мозолистым рукам, истинным рабочим, чернорабочим при отстаивании их прав» (Sombart, Sozialismus und soziale Bewegung, 7 Aufl., Jena, 1919, S. 110) <Зомбарт В., Социализм и социальное движение, Спб, 1908, С. 435>. Так же и Де Ман заявляет: «Если принять путающее марксистское положение, которое связывает каждую общественную идеологию с принадлежностью к определенному классу, то придется признать, что социализм и даже марксизм имеют буржуазное происхождение» (De Man, Zur Psychologie des Sozialismus, S. 16 ff.).
(обратно)[345*]
Распространенное выражение гласит, что желание есть отец мысли. Это следует понимать так, что желание есть отец веры.
(обратно)[346*]
Engels, Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, 5 Aufl., Stuttgart, 1910, S. 58 <Энгельс Ф., Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 21, С. 317>
(обратно)[347*]
Tonnies, Der Nietzsche-Kultus, Leipzig, 1897, S. 6
(обратно)[348*]
Marx, Das Kapital, I Bd., S. 726 ff. <Маркс К., Капитал, Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 23, С. 770–773>
(обратно)[349*]
Ibid., S. 728 <там же, С. 773>
(обратно)[350*]
Ibid. <там же, С. 772>
(обратно)[351*]
Kautsky, Das Erfurter Programm, S. 83 ff. <Каутский К., Эрфуртская программа, С. 84–85>
(обратно)[352*]
Wolf, Sozialismus und kapitalistische Gesellschaftsordnung, Stuttgart, 1892, S. 149 ff.
(обратно)[353*]
Clark, Essentials of Economic Theory, P. 374 ff., 397
(обратно)[354*]
Bericht der Sozialisierungkommission über die Frage der Sozialisierung des Kohlenbergbaus vom Juli 1920 (Anhang: Vorlaufiger Bericht vom 15 Februar 1919) Op. cit., S. 32
(обратно)[355*]
Vogelstein, Die finanzielle Organisation der kapitalistischen Industrie und die Monopolbildungen // Grundriss der Sozialökonomik, VI Abt., Tübingen, 1914, S. 203 ff.; Weiss, Abnehmender Ertrag // Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 4 Aufl., 1 Bd., S. 11 ff.
(обратно)[356*]
Alfred Weber, Industrielle standortslehre // Grundriss der Surialukonomik, VI Abt., Tübingen, 1914, S. 54 ff. <Вебер А., Теория размещения промышленности, Л.-М., 1926, С. 27 и след.> Остальные факторы размещения производства можно не затрагивать, поскольку они определяются современным или ранее существовавшим размещением добывающей промышленности.
(обратно)[357*]
Библия. Книга пророка Михея., Гл. 2, Ст. 2
(обратно)[358*]
Библия. Книга пророка Исайи., Гл. 5, Ст. 8
(обратно)[359*]
Schröder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, S. 159 ff.; Dopsch, Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europaischen KuKurentwicklung, 2 Teil, Wien, 1920, S. 289, 309 ff.
(обратно)[360*]
Michels, Die Verelendungstheorie, Leipzig, 1928, S. 19 ff.
(обратно)[361*]
Hansen, Die drei Bevolkerungsstufen, München, 1889, S. 181 ff.
(обратно)[362*]
При этом мы совершенно отвлекаемся от воздействия обесценения денег.
(обратно)[363*]
Консидеран [314] пытается доказать теорию концентрации с помощью метафоры, заимствованной в механике: «Les capitaux suivent aujourd'hui sans conterpoids la loi de leur propre gravitation; c'est que s'attirant en raison de leur masses, les richesses sociales se concentrent de plus en plus entre les mains des grands possesseurs» <«Капиталы неудержимо следуют закону взаимного притяжения. Тяготея друг к другу пропорционально своим массам, общественные богатства все больше концентрируются в руках крупных собственников» (фр.)>. Цит. по: Tugan-Baranowsky, Der moderne Sozialismus in seiner geschichtlichen Entwicklung, S. 62 <Туган-Барановский М., Современный социализм в его историческом развитии, Спб, 1906, С. 81>. Это всего лишь игра слов и ничего более.
(обратно)[364*]
Marx, Das Kapital, I Bd., S. 611 <Маркс К., Капитал, Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 23, С. 660>
(обратно)[365*]
Kautsky, Bernstein und das Sozialdemikratische Programm, Stuttgart, 1899, S. 116 <Каутский К., Бернштейн и социал-демократическая программа, Спб, 1906, С. 153>
(обратно)[366*]
Rodbertus, Erster Sozialer Brief an v. Kirchmann, Ausgabe von Zeiler. Zur Erkenntnis unserer staatwutschaftlichen Zustande, 2 Aufl., Berlin, 1885, S. 273, Anm. <Родбертус К., Первое социальное письмо к фон Кирхману, Спб, 1906, С. 68>
(обратно)[367*]
Herman Muller, Karl Marx und die Gewerkschaften, Berlin, 1918, S. 82 ff.
(обратно)[368*]
Как это делает Баллод (Ballod, Der Zukunftsstaat, 2 Aufl., Stuttgart, 1919, S. 12 <Баллод К. (Атлантикус), Государство будущего, М., 1920, С. 11>). [316]
(обратно)[369*]
Kautsky, Bernstein und das Sozialdemikratische Programm, S. 116 <Каутский К., Бернштейн и социал-демократическая программа, С. 153>
(обратно)[370*]
Ibid., Р. 120 <там же, С. 159>
(обратно)[371*]
ср. замечания Вейтлинга, цитируемые Зомбартом в его книге Der proletarische Socialismus, Jena, 1924,1 Bd., S. 106
(обратно)[372*]
Hume, A Treatis of Human Nature // Philosophical Works, Ed. by Green Grose, London, 1874, Vol. II, P. 162 <Юм Д., Исследование о человеческом познании // Соч., Т. 2, М., 1965, С. 199 и след.>, Mandeville, Bienenfabel, Heig. v. Bobertag, München, 1914, S. 123. Шац [318] (L'Individualisme ecominique et social, Paris, 1907, P. 73, n. 2) называет это «idee fondamentale pour bien comprendre la cause profonde des antagonismes sociaux» <«фундаментальной идеей правильного понимания глубоких причин социальных антагонизмов» (фр.)>.
(обратно)[373*]
см. о забастовках (глава 34, параграф 4) в настоящем издании
(обратно)[374*]
Поскольку в нашем исследовании невозможно представить всю теорию монопольной цены, рассматривается только монополия предложения.
(обратно)[375*]
Эли [321], как и вторящая ему германская комиссия по социализации, исходит из концепции монополии, близкой к тем взглядам, которые критикует сам Эли и которые в целом отброшены современной теорией цен (Ely, Monopolies and Trusts, N. Y., 1900, P. 11 ff.; Vogelstein, Die finanzielle Organusation der kapitalistischen Industrie und die Monopolbildungen, S. 231).
(обратно)[376*]
Carl Menger, Grundsatze der Volkswirtschaftslehre, Wien, 1871, S. 195; Forchheimer, Theoretisches zum unvollstandigen Monopole // Schmoller's Jahrbüch, XXXII, S. 3 ff.
(обратно)[377*]
см. в связи с этим обширную литературу по монопольным ценам, например: Wieser, Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft // Grundiss für Sozialökonomik, 1 Bd., Tübingen, 1914, S. 276
(обратно)[378*]
согласно Визеру, это «возможно, даже является правилом» (Ibid.)
(обратно)[379*]
По иному, пожалуй, обстоит дело с теми видами сельскохозяйственной продукции, которые производятся лишь на относительно ограниченных землях, как, например, кофе.
(обратно)[380*]
Сколь в малой степени учение Маркса стало доктриной социал-демократов, показывает беглый взгляд на их литературу. Один из лидеров германских социал-демократов, бывший министр национальной экономики Виссель кратко и ясно заявляет: «Я социалист и останусь социалистом, поскольку в социалистической экономике с ее подчинением индивидуума целому я вижу выражение более высокого морального принципа, чем тот, что лежит в основе индивидуалистической экономики» (Praktische Wirtschaftspolitik, Berlin, 1919, S. 53).
(обратно)[381*]
Jodl, Geschichte der Ethik als philosophischer Wissenschaft, II Aufl., II Bd., Stuttgart, 1921, S. 450 <Иодль Ф., Кант и этика в девятнадцатом столетии // История этики в новой философии, Т. 2, М., 1896–1898, С. 21>
(обратно)[382*]
Izoulet, La cite moderne, S. 413 ff.
(обратно)[383*]
Guyau, Die englische Ethik der Gegewart, Ubers. von Peusher, Leipzig, 1914, S. 20
(обратно)[384*]
Bentham, Deontology or the Science of Morality, Ed. Bowring, Vol. 1, London, 1834, P. 8 ff. <Бентам И., Деонтология, или наука о морали // Избр. соч., Т. 1, С. 6>
(обратно)[385*]
Mill, Utilitarianism, London, 1863, Р. 5 ff. <Милль Д. С., Утилитарианизм..., С. 9 и след.>; Jodl, Geschichte der Ethik als philosophischer Wissenschaft, 11 Bd. S. 36 <Иодль, Указ. соч., С 14 и след.>
(обратно)[386*]
Guyau, Sittlichkeit ohne «Pflicht», S. 272 ff. <Гюйо Ж. М., Нравственность без обязательств и без санкции, С. 51 и след.>
(обратно)[387*]
Fouillee, Humanitaires et libertaires au point de vue sociologique et moral, P. 157 ff.
(обратно)[388*]
Böhm-Bawerk, Kapital und Kapitalzins, 3 Aufl., II Abt., Innsbruck, 1909, S. 233 ff. <Бем-Баверк Е., Капитал и прибыль..., С. 225 и след.>
(обратно)[389*]
Bentham, Deontology, Vol. 1, Р. 87 ff. <Бентам И., Указ. соч., С. 107 и след.>
(обратно)[390*]
Weber, Gesammelte Aufzatze zur Religionssoziologie, II Bd., Tübingen, 1920, S. 206
(обратно)[391*]
Ibid., S. 211
(обратно)[392*]
Weber, Op. cit., 1 Bd., S. 262
(обратно)[393*]
Glaser, Die franziskanische Bewegung, Stuttgart und Berlin, 1903, S. 53 ff., 59
(обратно)[394*]
Heichen, Sozialismus und Ethik // Die Neue Zeit, 38 Jahr., 1 Bd., S. 312 ff. Особенно примечательны в этом контексте замечания Шарля Жида: Charles Gide, Le Materialisme et l'Economic Politique // Le Materialisme actuel Paris, 1924.
(обратно)[395*]
ср. характеристику Восточной церкви у Гарнака: Harnack, Das Monchtum, 7 Aufl., Giessen, 1907, S. 32 ff.
(обратно)[396*]
Harnack, Op. cit., S. 33
(обратно)[397*]
Troeltsch, Gesammelte Schriften, II Bd., Tübingen, 1913, S. 386 ff.
(обратно)[398*]
Harnack, Das Wesen des Christentums, Leipzig, 1907, S. 50 ff.
(обратно)[399*]
Библия. Евангелие от Марка., Гл. 1, Ст. 15
(обратно)[400*]
Евангелие от Луки, Гл. 22, Ст. 30
(обратно)[401*]
Harnack, Aus Wissenschaft und Leben, II Bd., Giessen, 1911, S. 257 ff.; Troeltsch, Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, S. 31 ff.
(обратно)[402*]
Деяния Апостолов, Гл. 4, Ст. 35
(обратно)[403*]
Библия. Евангелие от Луки., Гл. 14, Ст. 26
(обратно)[404*]
Pfleiderer, Das Urchristentum, 1 Bd., S. 649 ff. <Пфлейдерер А., Возникновение христианства, С. 47 и след.>
(обратно)[405*]
Евангелие от Луки, Гл. 12, Ст. 35–36
(обратно)[406*]
«Доктрина средневекового торгового права основывается на канонической догме о бесплодности денег и на совокупности выводов из нее, известных под именем законов о ростовщичестве. История торгового права этого периода не может быть не чем иным, как историей господства учения о ростовщичестве в сфере права.» (Endemann, Studien in der romanisch-kanonistischen Wirtschafts- und Rechtstslehre bis gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts, 1 Bd., Berlin, 1874–1883, S. 2)
(обратно)[407*]
Библия. Евангелие от Луки., Гл. 6, Ст. 35
(обратно)[408*]
С.10.Х. De usuris (Ш. 19) См. Schaub, Der Kampf gegen den Zinswucher, ungerechten Preis und unlautern Handel im Mittelalter, Freiburg, 1905, S. 61 ff.
(обратно)[409*]
Такое толкование отрывка дает Книс [348] (Knies, Geld und Kredit, II Abt. Berlin, 1876, S. 333–335, Anm.).
(обратно)[410*]
о раннем церковном законодательстве, признавшем в 1553 г. правомерность условий взимания процента, см. Zehentbauer, Das Zinsproblem nach Moral und Recht, Wien, 1920, S. 138 ff.
(обратно)[411*]
Pesch, Lehrbuch der Nationalökonomie, S. 212 ff.
(обратно)[412*]
Евангелие от Матфея, Гл. 5, Ст. 17
(обратно)[413*]
Pesch, Op. cit., S. 212
(обратно)[414*]
Пфлейдерер [351] объясняет пессимистические суждения Иисуса о земных владениях апокалипсическими ожиданиями близкой мировой катастрофы. «Вместо того чтобы пытаться перетолковать и приспособить его ригористические высказывания по этому вопросу в смысле современной этики общественного поведения, следовало бы раз и навсегда усвоить, что Иисус был не рациональным моралистом, а исполненным энтузиазма пророком близящегося Царства Божия, и только поэтому стал источником религии спасения. Тот, кто намерен извлечь из эсхатологического энтузиазма пророка прямые и ясные указания относительно общественной морали, действует столь же мудро, как человек, желающий согреть себя и свой суп на пламени вулкана» (Pfleiderer, Das Urchristentum, I Bd., S. 651). 25 мая 1525 г. Лютер писал Данцигскому Совету: «Евангелие есть духовный закон, на основании которого нельзя управлять» (Neumann, Geschichte des Wuchers in Deutschland, Halle, 1865, S. 618; см. также Traub, Ethik und Kapitalismus, 2 Aufl., Heilbronn, 1909, S. 71).
(обратно)[415*]
Seipel, Die wirtschaftsethischen Lehren der Kirchenvater, Wien, 1907, S 84 ff.
(обратно)[416*]
Migne, Patrologiae Graecae, Vol. LX, P. 96 ff.
(обратно)[417*]
Engels, Ludvig Feucrbach und der Ausgang der Klassischen deutschen Philosophie, 5 Aufl., Stuttgart, 1910, S. 58 <Энгельс Ф., Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 21, С. 317>
(обратно)[418*]
Cohen, Ethik des reinen Willens, Berlin, 1904, S. 303 ff.
(обратно)[419*]
Ibid., S. 304
(обратно)[420*]
«Непосредственной целью капиталистического производства является не производство товаров, а производство прибавочной стоимости или прибыли (в ее развитой форме); не продукт, а прибавочный продукт... Сами рабочие при таком понимании представляются тем, чем они и являются в капиталистическом производстве, — простыми средствами производства, а не самоцелью и не целью производства» (Marx, Theorien über den Mehrwert, Stuttgart, 1905, II Teil, S. 333 f. <Маркс К., Теории прибавочной стоимости // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 26, Ч. II, С. 607–608>). Маркс никогда не понимал, что в экономическом процессе рабочие выступают и в роли потребителей.
(обратно)[421*]
Kant, Kritik der Urteilskraft, Werke, VI Bd., S. 265 <Кант И., Критика способности суждения // Сочинения, Т. 5, М., 1965, С. 91>
(обратно)[422*]
Cohen, Ethik des reinen Willens, S. 305; см. также Steinthal, Allgemeine Ethik, S. 266 ff.
(обратно)[423*]
Art. 427, Treaty of Versailles; Art. 372, Treaty of Saint Germain
(обратно)[424*]
Cohen, Op. cit., S. 572
(обратно)[425*]
Ibid., S. 578
(обратно)[426*]
Библия. Второе послание к фессалоникийцам., Гл. 3, Ст. 10. О том, почему это письмо не принадлежит Павлу, см. Pfleiderer, Das Urchristentum, 1 Bd., S. 95 ff.
(обратно)[427*]
В Первом послании к коринфянам ап. Павел (Гл. 9, Ст. 6–14) говорит прямо обратное, поддерживая право апостолов жить за счет общины.
(обратно)[428*]
Тодт [364] являет хороший пример того, как пытаются использовать тексты Нового Завета для подкрепления лозунгов антилиберальных движений (Todt, Der radikale deutsche Sozialismus und die christliche Gesellschaft, 2 Aufl., Wittenberg, 1878, S. 306–319).
(обратно)[429*]
Kant, Fragmente aus dem Nachlass, Sämtliche Werke, herg. von Hartenstein, VIII Bd., Leipzig, 1868, S. 622
(обратно)[430*]
Так же, например, представлял себе это дело Фома Аквинский (Schreiber, Die volkswirtschaftlichen Anschauungen der Scholastik seit Thomas von Aquin, Jena, 1913. S. 18).
(обратно)[431*]
Ruskin, Unto this last, Tauchnitz-Ed., P. 19 ff.; Steinbach, Erwerb und Beruf, Wien, 1896, S. 13 ff.; Otto Conrad, Volkswirtschaftspolitik oder Erwerbspolotik?, Wien, 1918, S. 5 ff.; Tawney, The Acquisitive Society, P. 38
(обратно)[432*]
Английская экономическая история разрушила легенду, согласно которой рост фабричной промышленности — причина ухудшения положения рабочих классов. См.: Hutt, The Factory System of the Early 19th Century // Economica, Vol. VI, 1926, P. 78 ff.; Clapham, An Economic History of Modern Britain, 2nd ed., Cambridge, 1930, pp. 548 ff.
(обратно)[433*]
«Основной порок капиталистической системы - это не бедность бедных и не богатство богатых: это та власть, которую простая собственность на средства производства дает в руки относительно малой части общества для распоряжения деятельностью их сограждан, власть над духовными и физическими условиями развития будущих поколений. При такой системе личная свобода делается для больших масс людей не чем иным, как насмешкой... Социалисты стремятся к тому, чтобы заместил» эту диктатуру капиталистов самоуправлением народа и во имя народа во всех отраслях и службах, которыми живет народ.» (Sidney and Beatrice Webb, A Constitution for the Socialist Commonwealth of Great Britain, London, 1920, P. XIII ff.); см. также Cole, Guild Socialism Re-stated, London, 1920. P. 12 ff. <Коль Г., Гильдейский социализм, М., 1925, С. 13 и след.>
(обратно)[434*]
«Рынок — это демократия, в которой каждое пенни дает право голоса» (Fetter, The Principles of Economics, P. 394, 410; см. также Schumpeter, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Leipzig, 1912, P. 32 ff.). Нельзя все извратить сильнее, чем сказав: «Чье мнение меньше весит при строительстве дома в большом городе, чем мнение будущего нанимателя?» (Lenz, Macht und Wirtschaft, München, 1915, S. 32). Каждый строитель пытается строить так, чтобы наилучшим образом удовлетворить желания будущих жильцов, чтобы можно было сбыть жилье как можно быстрее и прибыльнее. См. также поразительные замечания в кн.: Withers, The Case for Capitalism, London, 1920, P. 41 ff.
(обратно)[435*]
Люди совершенно упускают все это из виду, когда подобно Веббам говорят, что рабочий должен подчиняться «безответственным хозяевам, устремленным только к собственным удовольствиям или выгоде» (Sidney and Beatrice Webb, A Constitution for the Socialist Commonwealth of Great Britain, P.XII).
(обратно)[436*]
Messer, Ethik, Leipzig, 1918, S. 111 ff.; Natorp, Sozialidealismus, Berlin, 1920, S. 13
(обратно)[437*]
Rathenau, Die neue Wirtschaft, Berlin, 1918, S. 41 ff. <Ратенау В., Новое хозяйство, М., 1923, С. 42 и след.>; см. также критические выводы в кн.: Wiese, Freie Wirtschaft, Leipzig, 1918
(обратно)[438*]
см. о прибыльности и производительности (глава 6, параграф 5) в настоящем издании
(обратно)[439*]
См., например, в «Капитале» замечания о Бентаме: «с самодовольством вещал обыденнейшие банальности», «гений буржуазной глупости» (Marx, Das Kapital, I Bd. S. 573) <Маркс К., Капитал // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 23, С. 623–624>; о Мальтусе -- «ученически-поверхностный и поповски-напыщенный плагиат» (Ibid., S. 580) <там же, С. 630>.
(обратно)[440*]
Может быть, поэтому для марксизма так легок союз с исламским фанатизмом. Переполненный гордостью марксист Отто Бауэр восклицает: «В Туркестане и Азербайджане монументы Марксу стоят напротив мечетей, и мулла в Персии мешает цитаты из Маркса с отрывками из Корана, когда призывает народ к священной войне против европейского империализма» (Otto Bauer, Marx als Mahnung // Der Kampf, XVI, 1923, S. 83).
(обратно)[441*]
см. мою работу Liberalismus, Jena, 1927
(обратно)[442*]
Cazamian, Le roman social en Angleterre, 1830–1850, Paris, 1904, P. 267 ff.
(обратно)[443*]
О социалистической тенденции в живописи см. Muther, Geschichte der Malerei im 19. Jahrhundert., München, 1893, II Bd., S. 186 ff. <Мутер Р., Социалистическая тенденция в живописи // История живописи в XIX в., Т. II, Спб, С. 136 и след.>; Coulin, Die sozialistische Weltanschaung in der franzosischen Maleri, Leipzig, 1929, S. 85 ff.
(обратно)[444*]
Bentham, Principles of the Civil Code, Works, Vol. I, P. 304 ff. <Бентам И., Основные начала гражданского кодекса // Избр. соч., С. 327–328>
(обратно)[445*]
см. критику этой легенды: Hutt, The Factory System of the Early 19-th Century // Economica, Vol. VI
(обратно)[446*]
Это вынужден был признать даже Брентано, который вообще склонен к безграничной переоценке влияния рабочего законодательства. [384] «До своего усовершенствования машина заменяла труд отца семейства трудом ребенка... При усовершенствованной же машине отец снова кормит семью и возвращает ребенка туда, где ему и место, т.е. в школу. Снова является спрос на взрослых рабочих, и притом на таких, которые вследствие более высокой нормы благосостояния могут удовлетворить высоким притязаниям машины» (Brentano, Über das Verhältnis von Arbeitslohn und Arbeitszeit zur Arbeitsleistung, 2 Aufl., Leipzig, 1893, S. 43) <Брентано Л., Об отношении заработной платы и рабочего времени к производительности труда, Спб, 1895, С. 48>
(обратно)[447*]
Brentano, Über das Verhältnis von Arbeitslohn und Arbeitszeit zur Arbeitsleistung, S. 11, 23 ff. <Брентано Л., Указ. соч., С. 15, 26 и след.>, Brentano, Arbeitszeit und Arbeitslohn nach dem Kriege, Jena, 1919, S 10; см. также Stucken, Theorie der Lohnsteigerung, Schmollers Jahibuch, 45 Jahig, S. 1152 ff.
(обратно)[448*]
Die Inauguraladresse der Intemationalen Arbeiterassoziation, herausgegeben von Kautsky, Stuttgart, 1922, S. 27 <Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 16, С. 9>
(обратно)[449*]
Engels, Die Lage der Arbeitenden Klasse in England, 2 Aufl., Stuttgart, 1892, S. 178 <Энгельс Ф., Положение рабочего класса в Англии // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 2, С. 403–404>
(обратно)[450*]
Ibid., S. 297 <там же, С. 514>
(обратно)[451*]
Engels, Die englische Zehnstundenbill // Aus dem literarischen Nachlass von Kari Marx, Friedrich Engels und Ferdinand Lassalle, III Bd., S. 393 <Энгельс Ф., Английский билль о десятичасовом рабочем дне // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 7, С. 254>
(обратно)[452*]
Like, Der Arzt und seine Sendung, 4 Aufl., München, 1927, S. 54 <Лиек Э., Врач и его призвание: Мысли еретика, Днепропетровск, 1928, С. 113> [389]; Liek, Die Schaden der sozialen Versicherung, 2 Aufl., München, 1928, S. 17 ff., см. также растущую день ото дня массу медицинских публикаций
(обратно)[453*]
в переводе на немецкий этот доклад был опубликован Бернштейном под названием «Заработная плата, цена и прибыль»; я цитирую по третьему изданию, которое появилось во Франкфурте в 1910 г.
(обратно)[454*]
Marx, Lohn, Preis und Profit. S. 46 <Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 16, С. 154–155>
(обратно)[455*]
Adolf Weber, Der Kampf zwischen Kapital und Arbeit, 3 und 4 Aufl., Tübingen, 1921, S. 384 ff.; Robbins, Wages, London, 1926, S. 58 ff.; Hutt, The Theory of Collective Bargaining, London, 1930, P. 1 ff.; см. также мою работу Kritik des Interventionismus, Jena, 1929, S. 12 ff., 79 ff., 133 ff.
(обратно)[456*]
Каутский, цит. по: Dietzel, Ausbeutung der Arbeiterklasse durch Arbeitcrgruppen, Deutsche Arbeit, 4 Jahrg., 1919, S. 145 ff.
(обратно)[457*]
Millar, The Evils of State Trading as Illustrated by the Post Office, A Plea for liberty, Ed. by Mackay, 2nd ed., London, 1891, P. 305 ff.
(обратно)[458*]
Goldscheid, Staatssozialismus oder Staatskapitalismus, Wien, 1917; Sozialiseirung der Wirtschaft oder Staatsbankerott, Wien, 1919; возражения см.: Schumpeter, Die Krise des Steuerstaates, Graz und Leipzig, 1918
(обратно)[459*]
о неприязни либералов к идее прогрессивного налогообложения см. Thiers, De la Propriete, Paris, 1848, P. 352 ff.
(обратно)[460*]
см. мою работу Nation, Staat und Wirtschaft, S. 134 ff.
(обратно)[461*]
Mengelberg, Die Finanzpolitik der sozialdemokratischen Partei in ihren Zusammenhtagen mit dem sozialistischen Staatsgedanken, Mannheim, 1919, S. 30 ff.
(обратно)[462*]
Marx-Engels, Gesammelte Schriften 1852–1862, Herg. v. Rjasanoff, Stuttgart, 1917, 1 Bd., S. 127 <Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 9, С. 65–66>
(обратно)[463*]
см. мою работу Nation, Staat und Wirtschaft, S. 129 ff.
(обратно)[464*]
см. мои работы: Theory of Money and Credit, London, 1934, P. 339 ff.; Geldwertstabilisierung und Konjunkturpolitik, Jena, 1928, S. 43 ff.
(обратно)[465*]
о критике национал-социалистического учения см. мою работу Kritik des Interventionismus, Jena, 1929, S. 91 ff., а также Karl Wagner, Brechung der Zinsknechtschaft? // Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, III Folge, 79 Bd., S. 790 ff.
(обратно)[466*]
Лучшая характеристика деструкционизма дана Стурмом [402] в описании политики якобинцев: «L'esprit financier des jacobins consista exclusivement en ceci: epuiser a outrance le present, en sacrifant l'avenir. Le lendemain ne compta jamais pour eux: les affaires furent menees chaque jour comme s'il s'agissait du dernier: tel fut le caractere distinctif de tous les actes de la Revolution. Tel est aussi le secret de son etonnante duree: la depredation quotidienne des reserves accumulees chez une nation riche et puissante fit surgir des ressources inattendues, depassant toute prevision» <«Финансовая политика якобинства заключалась исключительно в следующем: потребляй все, что можешь, в настоящем за счет будущего. Завтра для них никогда ничего не значило: ежедневно дела велись так, как будто это последний день. Таким был отличительный дух всех действий революции. В этом же секрет ее поражающей продолжительности: ежедневное расхищение накопленных запасов богатой и могущественной страны обнаружило неожиданное изобилие ресурсов» (фр.)>. Следующая характеристика Стурма слово в слово приложима к немецкой инфляционной политике 1923 г.: «Les assignats, tant qu'ils valurent quelque chose, si peu que ce fut, inonderent le pays en quantites sans cesse progressives. La perspective de la faillite n'arreta pas un seul instant les emissions. Elles ne cesserent que sur le refus absolu du public d'accepter, meme a vil prix, n'importe quelle sorte de papier-monnaie» <«Ассигнатки продолжали наводнять страну в постоянно нарастающих количествах до тех пор, пока они хоть что-то стоили, даже очень мало. Перспектива разрушения системы не остановила эмиссии ни на миг; выпуск денег прекратился, только когда публика совершенно отказалась принимать, даже по чертовски дешевой цене, какие бы то ни было бумажные деньги» (фр.)> (Stourm, Les Finances de l'Ancien Regime et de la Revolution, Paris, 1885, Vol. II, P. 388)
(обратно)[467*]
так у Каутского, цит. по: Georg Adler, Grundlagen der Karl Marxschen Kritik der Bestehenden Volkwirtschaft, Tübingen, 1887, S. 511
(обратно)[468*]
«Beaucoup d'ouvriers, et non les meilleurs, preferent le travail paye a la journee au travail a la tache. Beaucoup d'entrepreneurs, et non les meilleurs, preferaient les condition qu'ils esperent pouvoir obtenir d'un Etat socialiste a celle que leur fait un regime de libre concurrence. Sous ce regime les entrepreneurs sont des fonctionnaires payes a la tache; avec une organisation socialiste ils deviendraient des fonctionnaires paye a la journee» <«Многие рабочие, и не лучшие, предпочитают получать поденную плату, а не плату за сделанную работу. Многие предприниматели, и не лучшие, предпочли бы то, что они могут получить при социализме, тому, что может им дать система свободной конкуренции. В условиях свободной конкуренции предприниматель является «должностным лицом», которому платят за сделанную работу; при социализме они превратятся в «должностных лиц», получающих поденную плату» (фр.)> (Pareto, Cours d'Economie Politique, Vol. II, 1897, P. 97 n).
(обратно)[469*]
Hutt, The Theory of Collective bargaining, P. 25 ff.
(обратно)[470*]
Юнкер заинтересован не в частной собственности как возможности распоряжаться средствами производства, но скорее в сохранении права на определенный доход. Поэтому так легко оказалось привлечь его политикой государственного социализма, который гарантирует ему привилегированный доход.
(обратно)[471*]
Так, например, смотрел на вещи Бисмарк. См. его речь в Ландтаге 15 июня 1847 г.: Fürst Bismarcks Reden, Herg. v. Stem, 1 Bd., S. 24.
(обратно)[472*]
Cathrein, Der Sozialismus, 12 und 13 Aufl., Freiburg, 1920, S. 347 ff.
(обратно)[473*]
MacIver, Community, London, 1924, Р. 79 ff.
(обратно)[474*]
Это, конечно же, справедливо и для немцев. Почти вся интеллигенция в Германии ориентирована социалистически: в националистических кругах это государственный, или, как теперь обычно говорят, национал-социализм, в католических кругах — это церковный социализм, в других — социал-демократия, или большевизм.
(обратно)[475*]
Freud, Totem und tabu, Wien, 1913, S. 62 ff. <Фрейд З., Тотем и табу: Психология первобытной культуры и религии, М.-Пг., 1923, С. 40 и след.>
(обратно)[476*]
Archiv für Sozialwissenschaft, 51 Bd., S. 490–495
(обратно)[477*]
Ibid., 49 Bd., S. 377–420
(обратно)[478*]
Ibid., S. 378, 419
(обратно)[479*]
Ibid., S. 404
(обратно)[480*]
Ibid., S.404, Anm. 20
(обратно)[481*]
Heimann, Mehrwert und Gemeinwirtschaft, kritische und positive Beitrage zur Theurie des Sozialismus, Berlin, 1922
(обратно)[482*]
Мах Weber, Wirtschaft und Gesellschaft // Grundriss der Sozialökonomik, III Bd., S. 45–49
(обратно)[483*]
Heimann, Op. cit., S. 184 f.
(обратно)[484*]
Ibid., S. 174
(обратно)[485*]
Ibid., S. 185
(обратно)[486*]
Ibid., S. 188 f.
(обратно)[487*]
Впервые опубликовано в 1947 г. под названием Планомерный хаос.
(обратно)[488*]
Я использую термин «демократия» для обозначения системы правления, при которой управляемые могут определять прямо (плебисцитом) или косвенно (через выборы) способ отправления исполнительной и законодательной власти и выбирать высших администраторов. Демократия есть прямая противоположность принципов большевизма, нацизма и фашизма, согласно которым группа самозваных лидеров может и должна силой захватить бразды правления и насилием принудить большинство к повиновению.
(обратно)[489*]
Sidney Webb, Fabian Essays in Socialism, N. Y., 1891, P. 4 (впервые опубликовано в 1889 г.)
(обратно)[490*]
G. M. Trevelyan, A Shortened History of England. London, 1942, P. 510
(обратно)[491*]
Elmer Roberts, Monarchical Socialism in Germany, N. Y., 1913
(обратно)[492*]
Wesley С. Mitchell, The Social Sciences and National Planning. // Planned Society, Ed. Findlay Mackenzie, N. Y., 1937, P. 112
(обратно)[493*]
Laski, Democracy in Crisis, Chapel Нill, 1933, P. 87–88
(обратно)[494*]
Sidney and Beatrice Webb, Soviet Communism: A new Civilization?, N. Y., 1936, Vol. II, P. 1038–1039 <Вебб С. и Б., Советский коммунизм — новая цивилизация?, Т. 2, М.. 1937, С. 484–485>
(обратно)[495*]
T. G. Crowther, Social Relations of Science, London, 1941, P. 333
(обратно)[496*]
см. сборник этих соглашений, опубликованных Международным бюро труда под заглавием Intergovermental Commodity Control Agreements (Montreal, 1943)
(обратно)[497*]
Marx, Das Kapital, 7 Aufl., Hamburg, 1914, I Bd., S. 728 <Маркс К., Капитал, T. 1 // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 23, С. 773>
(обратно)[498*]
Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie, Stuttgart, 1897, S. XI <Маркс К., К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 13, С. 6>
(обратно)[499*]
Ibid., S. XII <там же, С. 7>
(обратно)[500*]
Marx, Der Burgerkrieg in Frankreich, Berlin, 1919 <Маркс К., Гражданская война во Франции // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 17>
(обратно)[501*]
Marx, Value, Price and Profit, Ed. Eleonor Marx-Eveling, N. Y., 1907, P. 72–74 <Маркс К., Заработная плата, цена и прибыль // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 16, С. 154–155>
(обратно)[502*]
Blueprint for World Congress as Outlined by the Communist International, Human Events, Washington and Chicago, 1946, P. 181–182
(обратно)[503*]
David J. Dallin, The Real Soviet Russia, Yale University Press, 1944, P. 88–95
(обратно)[504*]
Christmas Eve Broadcast // New York Times, 1941, December 25
(обратно)[505*]
Аннексия Карпатской Руси выставляет в истинном свете их лицемерное сожаление о Мюнхенском соглашении 1938 г. [441]
(обратно)[506*]
Mises, Bureaucracy, Yale University Press, 1944
(обратно)[507*]
Benda, La trahison des clercs, Paris, 1927
(обратно)[508*]
Эта программа издана на английском языке в кн.: Carlo Sforza, Contemporary Italy, Translated by Drake and Denis de Kay, N. Y., 1944, P.295–296.
(обратно)[509*]
см., например: Mario Palmieri, The philosophy of Fascism, Chicago, 1936, P. 248
(обратно)[510*]
Sombart, Das Lebenswerk von Karl Marx, Jena, 1909. S. 3
(обратно)[511*]
Sombart, A New Social Philosophy, Trans. and ed. by K. F. Geiser, Princeton University Press, 1937, P. 194
(обратно)[512*]
см. сокрушительную критику расовой евгеники: H. S. Jennings, The Biological Basis of Human Nature, N. Y., 1930, P. 223–252
(обратно)[513*]
Marx, Der Burgerkrieg in Fgankreich, Berlin, 1919. S. 54 <Маркс К., Гражданская война во Франции // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 17, С. 347>
(обратно)[514*]
Hayek, Individualism and the Economic Order, Chicago University Press, 1948, P. 89–91
(обратно)[515*]
цит. по: Hayek, Road to Serfdom, 1944, Chapter IX, Р. 119
(обратно) (обратно)Комментарии
[1]
Рёпке Вильгельм (1899–1966) — швейцарский экономист, учившийся и вначале работавший в Германии. В 20-е годы примыкал к сторонникам «регулируемого капитализма», но затем решительно встал на позиции экономического либерализма. Один из создателей теории социального рыночного хозяйства. Роббинс Лайонел (1898–1984) — английский экономист, также переживший в 30-е годы эволюцию в направлении экономического либерализма. Активно выступал против кейнсианской программы государственного регулирования экономики.
(обратно)[2]
В конце XIX в. в Австрии сложилось экономическое направление, получившее название школы предельной полезности. Ее представители считали, что ценность конкретного блага определяется его предельной полезностью, т. е. субъективно оцениваемой полезностью той единицы этого блага, которая удовлетворяет наименее настоятельную потребность в нем. Если, например, из трех килограммов зерна первый удовлетворяет потребность в пище, второй — в посевном материале, а третий — в корме для певчих птиц, то предельная полезность — это полезность третьего килограмма. При сокращении производства зерна на килограмм придется отказаться от кормления птиц, и тогда ценность зерна будет определяться полезностью второго килограмма, предназначенного для посева.
(обратно)[3]
Вебер Макс (1864–1920) — немецкий социолог, историк и экономист, сыгравший выдающуюся роль в формировании современного обществоведения.
(обратно)[4]
Sozialpolitik — социальная политика (нем.). Хайек имеет в виду идеи так называемой «молодой исторической школы», сформировавшейся в Германии в конце 60-х годов XIX в. Представители этой школы считали, что государство, активно вмешиваясь в общественную жизнь, обеспечит постепенное утверждение социализма. Поскольку у истоков школы стояли университетские профессора Г. Шмоллер, Л. Брентано и др., она получила ироническое название катедер-социализма, т. е. «социализма кафедры». В 1872 г. катедер-социалисты создали объединение «Союз социальной политики».
(обратно)[5]
«Фабианский социализм» — концепция постепенного преобразования капиталистического общества в социалистическое с помощью государства, развивавшаяся группой английских интеллигентов, основавших в 1884 г. «Фабианское общество». Впоследствии «фабианцы» стали мозговым центром лейбористской партии.
(обратно)[6]
Менгер Карл (1840–1921) — австрийский экономист, один из создателей теории предельной полезности, основатель «австрийской (венской) школы» в политической экономии.
(обратно)[7]
Бём-Баверк Евгений (1851–1914) — австрийский экономист, внесший существенный вклад в развитие теории предельной полезности
(обратно)[8]
книга Л. Мизеса посвящена экономической истории Галиции, а именно развитию отношений помещичьих и крестьянских хозяйств под влиянием государственно-правовых установлении.
(обратно)[9]
Шумпетер Йозеф (1883–1950) — австрийский экономист и социолог, с 1932 г. — профессор Гарвардского университета. Будучи консерватором, Шумпетер, тем не менее, признавал научные заслуги Маркса и был близок с некоторыми социалистами. Бауэр Отто (1882–1938) — идеолог так называемого «австромарксизма», один из лидеров австрийской социал-демократии и Второго Интернационала. По его рекомендации в 1919 г. Шумпетер был приглашен на пост министра финансов в коалиционном правительстве католиков и социал-демократов.
(обратно)[10]
Нейрат Отто (1882–1945) — австрийский философ, экономист и социолог. Стоял на марксистских позициях. Хайек имеет в виду вышедшую в 1919 г. в Мюнхене книгу Нейрата «Через военное хозяйство к натуральному хозяйству», в которой Нейрат обосновывает идею господства натуральных исчислений в социалистической экономике.
(обратно)[11]
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) — межправительственная международная организация, занимающаяся изучением продовольственной конъюнктуры в странах мира, разработкой рекомендаций по производству и сбыту сельхозпродукции, оказанием технической и продовольственной помощи развивающимся странам. Штаб-квартира ФАО находится в Риме. Мировой банк -- принятое в США и Англии неофициальное название Международного банка реконструкции и развития. Этот банк предоставляет взаймы собственные средства и выступает гарантом долгосрочных частных займов правительствам стран, осуществляющих экономическую перестройку и программы хозяйственного развития. Местонахождение банка — Вашингтон.
(обратно)[12]
В середине XX в. получила широкое распространение концепция «государства всеобщего благоденствия», активными сторонниками и пропагандистами которой были К. Боулдинг, А. Хансен (США), Дж. Коул, Дж. Стрейчи (Великобритания) и др. Они утверждали, что современное государство в развитых странах мира располагает возможностями ликвидации социальных противоречий и обеспечения всеобщего благосостояния населения. Тремя конституирующими моментами «государства благоденствия», согласно этой концепции, являются регулирование частного предпринимательства, наличие развитой государственной собственности и законодательные социальные гарантии трудящихся.
(обратно)[13]
Перон Хуан Доминго (1895–1974) — генерал, президент Аргентины с 1946 по 1955 г. и с 1973 по 1974 г.; выдвинул доктрину «справедливого» надклассового государства; в практической политике следовал курсу на государственное регулирование заработной платы, внешнеэкономических отношений и некоторых других сфер хозяйственной жизни
(обратно)[14]
«Новый курс» — проводившаяся президентом США Ф. Д. Рузвельтом в 1933–1938 гг. экономическая политика. В целях преодоления последствий «великой депрессии» 1929–1933 гг. она предусматривала государственное регулирование некоторых сторон хозяйственной жизни посредством фиксации цен и уровней производства ряда товаров, субсидирования фермеров и т. д. «Справедливый курс» — законодательная программа президента США Г. Трумэна в 1945–1952 гг. Она включала, в частности, государственные меры по обеспечению полной занятости населения.
(обратно)[15]
Фритредеры -- сторонники свободы торговли и невмешательства государства в хозяйственную жизнь. Фритредерство, зародившееся в Англии в конце XVIII в., особую силу приобрело с конца 30-х годов, когда его идеолог Ричард Кобден (1804–1865) основал Лигу против хлебных законов, боровшуюся за отмену ограничений внешней торговли, и в особенности за свободу ввоза хлеба в Англию.
(обратно)[16]
«Edelsozialisten» -- «благородные социалисты» (нем.); благородными, или салонными, социалистами иронически называли исповедовавших социалистические взгляды представителей рафинированной интеллигенции
(обратно)[17]
Упомянутая статья Мизеса была переведена С. Адлером на английский язык. Уже после выхода второго немецкого издания книги Мизеса статья как самостоятельное произведение была включена в подготовленную Ф. Хайеком антологию «Collectivist Ekonomic Planning», изданную в Лондоне в 1935 г.
(обратно)[18]
Херкнер Генрих (1863–1932) — немецкий экономист, представитель «молодой исторической школы», основанной Густавом Шмоллером (1838–1917)
(обратно)[19]
В январе 1923 г. Франция и Бельгия ввели войска в Рурскую область Германии, чтобы принудить германское правительство вносить обусловленные Версальским договором репарационные платежи. В ответ германское правительство призвало население Рура к прекращению работы на шахтах и заводах, продукция которых подлежала вывозу во Францию и Бельгию, а также к гражданскому неповиновению. К середине того же года промышленность Рурской области была фактически парализована забастовками рабочих, жизненный уровень которых значительно упал вследствие гиперинфляции. В августе 1923 г всеобщая забастовка охватила всю Германию.
(обратно)[20]
Подавляющее большинство названных Мизесом экономистов — Эрнст Бенн, Адольф Вебер, Фридрих Визер, Вальтер Зульцбах, Людвиг Поле, Вильгельм Рёпке — работали в начале века в Германии и Австрии, Лайонел Роббинс и Вильям Хатт — английские экономисты, Джордж Хальм -- американский, а Борис Бруцкус — русский экономист.
(обратно)[21]
Термин «этатизм» (от франц. etat — государство) введен в научный и политический оборот либеральным швейцарским государственным деятелем Н. Дро (1844–1899) для обозначения таких черт социализма, как всеобъемлющая роль государства, централизованное руководство экономикой, примат интересов государства перед интересами личности. Впоследствии, в первой половине XX в., этот термин стал употребляться не только в связи с социализмом, но и для обозначения любой политики активного участия государства в экономической жизни. Этатизм, например, был зафиксирован в Конституции 1937 г., принятой в Турции, как один из устоев республики. Однако у либералов, в том числе у Мизеса, этатизм всегда несет негативную окраску.
(обратно)[22]
Лидеры катедер-социализма организовали в 1872 г. в г. Эйзенахе конгресс своих сторонников, на котором был основан «Союз социальной политики». Для катедер-социалистов была характерна выспренняя националистическая риторика.
(обратно)[23]
Субъективная школа в политической экономии — собирательное название ряда учений, возникших в 70-е годы XIX в. Общим для них является тезис, что ценность благ определяется в конечном счете субъективной оценкой их полезности. Мизес, по всей вероятности, под субъективной школой подразумевает австрийскую школу, приверженцем которой он являлся. Эта школа рассматривает заработную плату как долю в произведенной ценности, которая может быть «вменена» труду -- одному из факторов производства.
(обратно)[24]
превыше всего — древнегреч.
(обратно)[25]
Лорд Пассфилд -- Сидней Вэбб (1859–1947) — английский экономист и историк рабочего движения. Идеолог «фабианского социализма», предполагающего постепенное преобразование капиталистического общества в социалистическое путем длительного ряда реформ. Беатриса Вэбб (1858–1943) — его жена и соавтор.
(обратно)[26]
Немецкая (прусская) историческая школа — направление в экономической науке, сложившееся в Пруссии в середине XIX в. Его основоположники В. Рошер, Б. Гильдебранд, К. Книс отрицали наличие общих для всех стран экономических законов. Задачей экономической науки они считали не анализ взаимосвязи экономических явлений, а описание норм хозяйствования, исторически сложившихся в той или иной стране под воздействием социально-политических структур, и, прежде всего, государства. Немецкая историческая школа оказала большое влияние на формирование институционализма — направления американской экономической мысли конца XIX в. Т. Веблен, У. Гамильтон и другие институционалисты считали задачей науки описание и классификацию социальных явлений (институций), определяющих экономическую жизнь. К числу институций они относили наряду с формами собственности государственные установления, налоговую систему, семью, обычаи и т. п.
(обратно)[27]
интервенционизм (от лат. interventio — вмешательство) — термин, используемый Мизесом во многих работах для обозначения государственного регулирования экономической жизни
(обратно)[28]
Ферстер Фридрих Вильгельм (1869–1966) — немецкий теоретик политической этики, пацифист по убеждениям
(обратно)[29]
Принц-Смит Джон — правильнее Смит Джон Принц, младший (1809–1874) — английский политэконом
(обратно)[30]
У Мизеса термин «либерализм» выступает «в том смысле, как он использовался повсеместно в XIX в. и как он до сих пор используется в странах континентальной Европы. Такое использование обязательно, потому что просто нет другого термина для обозначения великого политического и интеллектуального движения, которое заменило докапиталистические методы производства свободным предпринимательством и рыночной экономикой; заменило абсолютизм монархов или олигархий конституционным представительным правительством; утвердило свободу индивидуума вместо рабства, крепостничества и других форм несвободы» (Mises, Human Action: A Treatise on Economics, 3rd ed., Chicago: Regnery, 1966, P. V).
(обратно)[31]
Третий Интернационал (Коммунистический Интернационал) — международное жестко централизованное объединение коммунистических партий. Учрежден в Москве в марте 1919 г., распущен из тактических соображений в период второй мировой войны — в мае 1943 г.
(обратно)[32]
Дицген Иосиф (1828–1888) — немецкий философ — познакомившись с идеями марксизма, подпал под их влияние
(обратно)[33]
Унтерман Эрнст — немецкий, а затем американский философ, последователь Дицгена; критиковал ряд положений марксизма с социалистических позиций
(обратно)[34]
Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918) — русский философ-марксист, деятель международного и российского социалистического движения. Каутский Карл (1854–1938) — немецкий экономист и философ, пропагандист марксизма, деятель германского социалистического движения и II Интернационала. Меринг Франц (1846–1919) — немецкий философ и историк, последователь марксизма, деятель германского рабочего движения. Маркс, Энгельс, Каутский и Меринг происходили из зажиточных буржуазных семей; Плеханов по происхождению дворянин.
(обратно)[35]
Де Ман Гендрик (1885–1953) — бельгийский социолог и политический деятель, один из лидеров бельгийских социалистов; в конце 20-х годов порвал с марксизмом
(обратно)[36]
здесь и далее, где это особо не оговорено, под мировой войной Л. Мизес подразумевает первую мировую войну 1914–1918 гг.
(обратно)[37]
Коген Герман (1842–1918) — немецкий философ, глава марбургской школы неокантианства. Коген был одним из создателей теории «этического социализма», обосновывавшей социализм кантовской этикой.
(обратно)[38]
Кант Иммануил (1724–1804) — родоначальник немецкой классической философии
(обратно)[39]
Мукле Фридрих (1883--?) — немецкий экономист
(обратно)[40]
Сервитут -- ограниченное право использовать чужую собственность, преимущественно земельную, например, право крестьян собирать хворост в помещичьем лесу. Узуфрукт — право пользоваться чужим имуществом и доходами от него, не подвергая его при этом изменениям.
(обратно)[41]
Гораций (65–8 до н. э.) — римский поэт, автор исполненных философским духом стихотворных «Посланий».
(обратно)[42]
Выражение «война всех против всех» принадлежит английскому философу Томасу Гоббсу (1588–1679). Оно характеризует отношения людей на догосударственной стадии. Государство и вместе с ним «естественное право» возникло, по Гоббсу, на основе общественного договора.
(обратно)[43]
этатистская социальная философия — философия, объясняющая развитие общества деятельностью государства и его институтов
(обратно)[44]
В древнегреческой мифологии сова как символ мудрости была посвящена богине Афине — покровительнице Афин. Изображения сов чеканились на афинских монетах, именовавшихся в просторечии «совами». Отсюда, видимо, пошла поговорка «носить сов в Афины», т. е. совершать нечто излишнее, ненужное (русский аналог — «ездить в Тулу со своим самоваром»).
(обратно)[45]
рационализм — философское учение, согласно которому разум является основой бытия, познания и морали; к рационалистам принадлежали Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. В. Лейбниц
(обратно)[46]
Отсутствие титула собственности — неподтвержденность прав собственника соответствующими документами.
(обратно)[47]
Тацит Публий Корнелий (ок. 56 — ок. 117) -- римский историк; его перу принадлежит «Germania» — описание общественного устройства, верований и быта германских племен
(обратно)[48]
«Потом добывать то, что может быть приобретено кровью, — леность и малодушие» (лат).
(обратно)[49]
В этой сказке Ганса Христиана Андерсена (1805–1875) герой, идеализирующий Средневековье, очутившись чудесным образом в том времени, испытывает глубокое разочарование (Андерсен Г. Х., Сказки и истории, Т.1, Л., 1977, С. 205–235).
(обратно)[50]
По верованиям римлян, жизнь человечества проходит через ряд кругов, каждый из которых находится под покровительством определенного божества. Золотой век соотносился с кругом Сатурна -- доброго и справедливого бога урожая и земледельцев. Публий Вергилий Марон (70–19 до н. э.) — римский поэт. О Золотом веке он писал в «Буколиках», Эколога IV (Вергилий, Буколики. Георгики. Энеида., М., 1971). Публий Овидий Назон (43 до н. э. — ок. 18 н. э.) — римский поэт. Описание золотого века содержится в его «Метаморфозах» (Овидий, Метаморфозы, М., 1977). Тибулл Альбий (ок. 50–19 до н. э.) — римский поэт. Упоминания о Золотом веке встречаются в его «Элегиях» (Катулл. Альбий Тибулл. Пропорций., М., 1977). Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э. — 65 н. э.) — римский философ. О Золотом веке см. в его «Нравственных письмах к Луцилию» (М., 1977).
(обратно)[51]
«Земля же плодоносила сама, добровольно, без понуждения» (лат.) (Вергилий, Буколики. Георгики. Энеида., С. 68)
(обратно)[52]
В середине XIX в. сформировалась так называемая общинная теория, согласно которой исходным моментом аграрной истории было общинное землевладение с коллективной крестьянской собственностью на землю. Ее создателями и последователями были Г. Маурер, Г. Мэн, М. Ковалевский и другие историки и правоведы. Общинная теория нашла своих горячих сторонников и продолжателей в К. Марксе и Ф. Энгельсе (см., например, работы Ф. Энгельса «Марка», «К истории древних германцев», «Происхождение семьи, частной собственности и государства»). В конце XIX — начале XX в. общинная теория подверглась суровой критике со стороны Н. Д. Фюстель де Куланжа, Ф. Сибома, Р. Гильдебранда, А. Допша и других историков, отстаивавших извечность частной собственности.
(обратно)[53]
Как установили историки, русская сельская община с периодическими уравнительными переделами земли между входящими в общину семьями сформировалась лишь в XVII — XVIII вв. Б. Н. Чичерин, К. Д. Кавелин и другие представители «государственной школы» историков доказывали, что община в таком виде сложилась под давлением государства, преследовавшего сугубо фискальные цели. Хаубергские товарищества — ассоциации лесорубов, возникшие в прирейнском Вестервальде (Германия). Gehofeischaft (нем.) — подворная земельная община, существовавшая в районе Трира (Рейнская область Германии). Каждая семья (двор), входившая в общину, имела строго определенную долю во всех видах земельных угодий, но так как участки отличались по плодородию и другим природным условиям, практиковался периодический обмен их между членами общины. Задруга — существовавшая вплоть до конца XIX в. на землях Сербии и Хорватии семейная община. В ее сохранении из фискальных соображений были заинтересованы как правители Османской империи, которая господствовала на землях южных славян, так и правительство независимой Сербии.
(обратно)[54]
Цезарь Гай Юлий (162–44 до н.э.) — римский полководец, политический деятель и писатель. О быте германских племен он писал в «Записках о Галльской войне» (Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне, В 2 т., М., 1991). Согласно описанию Цезаря у германцев была кровнородственная община. По Тациту (полтора века спустя), германские племена жили в условиях соседской (сельской) земледельческой общины.
(обратно)[55]
Менгер Антон (1841–1906) — австрийский юрист, социолог и историк социалистических идей. Социалист-эволюционист А. Менгер был известен в конце XIX — начале XX в. как противник марксистского социализма и социал-демократии.
(обратно)[56]
Английский экономист Томас Роберт Мальтус (1766–1834) сформулировал в 1798 г. «естественный закон народонаселения», согласно которому население имеет тенденцию размножаться в геометрической прогрессии, тогда как средства существования могут расти лишь в арифметической прогрессии, что порождает нищету масс.
(обратно)[57]
Реализм и номинализм — два противоборствующих течения в европейской средневековой философии. Номиналисты утверждали, что существуют лишь единичные вещи, а общие понятия (универсалии) — это лишь nomina (имена, обозначения), выступающие в сознании людей. Реалисты считали, что общие понятия существуют реально, а не только в мышлении. Спор о реальном существовании универсалий восходит к Древней Греции: Платон (427–347 до н. э.) считал, что идеи существуют вне конкретных вещей и образуют особый идеальный мир; Аристотель (384–322 до н. э.) утверждал, что общее существует только в единичных вещах, будучи его формой.
(обратно)[58]
Универсализм здесь — синоним реализма как признания реального бытия универсалий. Проблема универсалий была сформулирована древнегреческим философом Порфирием (234–301 (?)) как проблема «вида»: существуют ли виды и роды вещей наряду с единичными вещами? По Мизесу, признание особых целей и интересов коллективов, отличных от целей и интересов индивидуумов, равносильно признанию реального бытия вида наряду с единичными вещами.
(обратно)[59]
Дитцель Генрих (1857–1935) — немецкий экономист. Шпенглер Освальд (1880–1936) — немецкий философ, культуролог и историк.
(обратно)[60]
collectiva — совокупности людей, объединенных общим делом, интересом и т. п. (лат.)
(обратно)[61]
телеология — учение о том, что развитие каких-либо явлений обусловлено не объективными причинами, а заранее предустановленной целью
(обратно)[62]
Гердер Иоганн Готтфрид (1744–1803) — немецкий философ, идеолог Просвещения; в молодости был учеником И. Канта, а в последний период своей жизни вел резкую полемику с кантианством.
(обратно)[63]
Аверроэс — латинизированное имя Ибн Рушда (1126–1189), арабского философа, комментатора Аристотеля. В учении Аверроэса нашло отражение гипостазирование — представление о том, что общие понятия, идеи, свойства обладают самостоятельным бытием наряду с конкретным вещественным миром.
(обратно)[64]
в математике асимптотическим называется неограниченное приближение точек некоторой кривой к прямой линии по мере того, как эти точки удаляются в бесконечность
(обратно)[65]
Гирке Отто Фридрих (1841–1921) — германский юрист, историк права. В истории он видел смену различных форм общности людей. Государство, по его мнению, не институт, а общность, объединяющая и господствующих, и подвластных им.
(обратно)[66]
Лессинг Готхольд Эфраим (1729–1781) -- немецкий писатель-просветитель, классик национальной литературы.
(обратно)[67]
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) — классик немецкой философии, объективный идеалист, диалектик
(обратно)[68]
Тюнен Иоганн Генрих (1783–1850) и Госсен Герман Генрих (1810–1858) — немецкие экономисты, заложившие основы теории предельной полезности и производительности, отрицающей классическую трудовую теорию стоимости, на которой базировались социалистические требования ликвидации доходов капиталиста как нетрудовых. Менгер Карл (1840–1921) — австрийский экономист, один из создателей теории предельной полезности, основатель «австрийской (венской) школы» в политической экономии. Бем-Баверк Евгений (1851–1914) — австрийский экономист, внесший существенный вклад в развитие теории предельной полезности. Визер Фридрих (1851–1926) — австрийский экономист, один из разработчиков теории предельной полезности благ и на ее основе -- теории капитала и процента. Взгляды этих основоположников австрийской школы разделял и Людвиг фон Мизес.
(обратно)[69]
Фридрих Вильгельм IV (1795–1861) — прусский король, установивший режим жестокой реакции. Вильгельм II (1859–1941) — германский император, один из политических лидеров, развязавших первую мировую войну.
(обратно)[70]
Ценностные суждения — суждения, выражающие ценностные установки, моральные оценки и т. п. С позиций формальной логики они не обладают необходимым признаком суждения, ибо не могут характеризоваться как истинные или ложные. Потому, как считает Мизес, ценностные суждения лежат вне сферы науки.
(обратно)[71]
Лассон Адольф (1832–1917) — немецкий философ и правовед, автор ряда работ по философии права.
(обратно)[72]
Зутнер Берта (1843–1914) — австрийская писательница, видная деятельница пацифистского движения. Возглавляла Венский Союз друзей мира, издавала журнал «Долой оружие» — орган Интернационального Бюро мира. Лауреат Нобелевской премии мира 1905 года.
(обратно)[73]
Марсилий Падуанский (между 1275 и 1280 — около 1343) — итальянский политический мыслитель, один из основоположников концепции возникновения государства в результате общественного договора
(обратно)[74]
«Защитник мира» — лат.
(обратно)[75]
Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих (1759–1805) — немецкий драматург, поэт, историк
(обратно)[76]
имеется в виду драма Фридриха Шиллера (1783–1787) «Дон Карлос», а именно сцена встречи «гражданина Вселенной» маркиза Позы с королем Испании Филиппом II (Шиллер Ф., Избр. соч., В 2 т., Т.1, М., 1959)
(обратно)[77]
В ночь 4 августа 1789 г. в Учредительном собрании виконт Де Ноай, герцог Д'Эйгийон и другие представители дворянства потребовали ликвидации феодальных прав (помещичьего суда, права охоты на крестьянских землях и т. п.) и феодальных повинностей (барщины, оброчных платежей и т. д.). Учредительное собрание поддержало отказывающихся от своих привилегий дворян. В марте--июне 1832 г. в Великобритании господствовавшая в парламенте аристократия пошла на уступки промышленной буржуазии, проведя парламентскую реформу. Согласно Биллю о реформе было ликвидировано представительство от мелких или вообще фиктивных избирательных округов, что лишило помещиков примерно пятой части мест в парламенте.
(обратно)[78]
volonte general — всеобщая воля (фр.)
(обратно)[79]
Прудон Пьер Жозеф (1809–1865) — французский социалист, один из основоположников анархизма.
(обратно)[80]
«Демократия -- это зависть» — фр.
(обратно)[81]
Эсхин (389–314 до н.э.) — афинский политический деятель и оратор
(обратно)[82]
Младогегельянцы -- сформировавшаяся в 40-е годы XIX в. ветвь последователей философии Гегеля (А. Руге, Б. Бауэр и др.). Младогегельянцы подчеркивали решающую роль субъективного фактора в истории; в противовес гегелевскому оправданию всего сущего как разумного они делали упор на развитии общества.
(обратно)[83]
Гервинус Георг Готфрид (1805–1871) — германский историк — видел в истории закономерное движение от аристократии к демократии
(обратно)[84]
«Молодая Европа» — тайный международный союз революционеров-демократов, основанный в 1834 г. Дж. Мадзини. Союз ставил своей целью утверждение во всей Европе республиканского строя.
(обратно)[85]
имеется в вицу радикализм эпохи, предшествовавшей революции 1848 г., начавшейся в Австро-Венгрии и Германии в марте
(обратно)[86]
pro foro externo — поразить в результате проникновения вглубь (лат.)
(обратно)[87]
дельфийская Пифия — прорицательница в храме Аполлона в Дельфах; предсказания Пифии, обычно крайне туманные, нуждались в специальном толковании
(обратно)[88]
Промышленной революцией называли задолго до появления марксизма совершившийся в Англии в конце XVIII — начале XIX в. переход от ручного производства к фабричной машинной индустрии. В одной из самых ранних работ Энгельса «Положение Англии. Восемнадцатый век» (опубликована в августе 1844 г.) термин «промышленная революция» используется как общепринятый (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.2. С. 598–617). Но уже в этой статье промышленная революция рассматривается как основа революции социальной, что в дальнейшем всячески акцентировалось Марксом и Энгельсом.
(обратно)[89]
Мизес имеет в виду «молодых марксистов» — Эдуарда Бернштейна (1850–1932) и его сторонников, выступивших на рубеже нашего века с ревизией ряда положений канонического марксизма, в частности по вопросу о путях перехода к социализму. В своей книге «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии» (1899 г., русский перевод — 1901 г.) Э. Бернштейн утверждал, что главным законом общественного развития являются не насильственные перевороты, а мирная эволюция.
(обратно)[90]
Синдикализм (анархо-синдикализм) — течение в рабочем движении, сформировавшееся в конце XIX в. Синдикалисты под влиянием анархистов отрицали легальную политическую борьбу и считали, что средством свержения буржуазного общества должны быть непосредственные действия: всеобщая стачка, бойкот, вооруженные выступления, организуемые синдикатами (профессиональными союзами).
(обратно)[91]
Бухарин Николай Иванович (1888–1938) — видный деятель русского и международного коммунистического движения, автор работ по философии и политической экономии
(обратно)[92]
Кельзен Ганс (1881–1973) — австрийский правовед (с 1942 г. — в США)
(обратно)[93]
Л. Мизес называет исторические сообщества, где существовала государственная собственность на землю и некоторые другие средства производства. В Египте времен Древнего царства вся земля вместе с населением считалась собственностью верховного владыки — фараона. И в дальнейшем во владении государства были лучшие земли, ирригационные сооружения. В империи инков — рабовладельческой деспотии, существовавшей в XV--XVI веке на американском континенте, земля считалась принадлежавшей верховному правителю и обрабатывалась сельскими общинами. Иезуитское государство в Парагвае просуществовало с 1610 по 1768 г. Средства производства здесь считались принадлежащими Иезуитскому ордену, а работающие на них индейцы были низведены до положения рабов.
(обратно)[94]
Взгляды древнегреческого философа Платона на идеальное общество изложены в его трудах «Государство», «О законах» и др. В утопии Платона нет равенства, существует жесткое сословное деление, управление находится полностью в руках высшего сословия. Мизес относит Платона к социалистам, поскольку у него два высших сословия — философы и стражи — не имеют частной собственности. У французского философа, классика так называемого утопического социализма Анри Клода Робуа Сен-Симона (1760–1825) идеальное общество построено на основе иерархии способностей, а управление осуществляют особые доверенные — по существу государственные чиновники, регламентирующие производство.
(обратно)[95]
Бебель Август (1840–1913) — один из основателей социал-демократии Германии. Его работа «Женщина и социализм», впервые вышедшая на немецком языке в 1879 г. под названием «Женщина в прошлом, настоящем и будущем», неоднократно переиздавалась в переводе на многие языки. Утверждение Л. Мизеса, что эта книга посвящена в первую очередь проповеди свободной любви, — полемическое преувеличение.
(обратно)[96]
В произведениях французского утопического социалиста Шарля Фурье (1772–1837) детально разработано устройство будущего гармонического общества. Фурье утверждал, что неизменно присущие человеку страсти, подавляемые в современном ему обществе, получат полный простор в проектируемых им «фаланстерах» — общежитиях счастливых людей, где будет господствовать свобода любви.
(обратно)[97]
Экзогамия -- система брачных отношений, запрещающая браки между членами одной общности, например рода, племени, деревни и т. п. Эндогамия, наоборот, предусматривала браки только в рамках данной общности. Промискуитет — неупорядоченные половые отношения в обществах, не знающих институтов брака и семьи. Матриархат и патриархат -- первобытно-родовые общества с преобладающей ролью соответственно женщин и мужчин.
(обратно)[98]
Брунгильда — одна из героинь немецкой саги «Песнь о Нибелунгах», дева-воительница. В саге, в частности, рассказывается, что Брунгильда выбирает себе мужа из нескольких претендентов, подвергая их разным испытаниям, в том числе и в постели.
(обратно)[99]
в Древней Греции гетерами именовались незамужние образованные женщины, ведшие свободный образ жизни, — подруги и любовницы философов и государственных мужей
(обратно)[100]
manages des convenance — брак по расчету (фр.)
(обратно)[101]
Jus Primae Noctis — право первой ночи (лат.). Согласно средневековому обычаю феодалу при вступлении его крепостного или вассала в брак принадлежало право первому провести ночь с новобрачной.
(обратно)[102]
Карл Великий (742–814) — французский король, затем император, основатель династии каролингов
(обратно)[103]
у Тацита, на которого ссылается Л. Мизес, говорится о древних германцах: «А если кто и имеет по нескольку жен, то его побуждает к этому не любострастие, а занимаемое им видное положение»
(обратно)[104]
debitum conjugate — супружеский долг (лат.)
(обратно)[105]
Фрейд Зигмунд (1856–1939) — австрийский психиатр и психолог, основоположник психоанализа. По Фрейду, в формировании характера личности и ее патологии решающая роль принадлежит детству.
(обратно)[106]
Согласно воззрениям Платона, изложенным в его трактате «Государство», в идеальном обществе государство должно регулировать подбор пар для деторождения, а дети должны отбираться у родителей сразу же после рождения, чем будет обеспечиваться общность детей как необходимое условие общего владения имуществом и справедливого распределения предметов потребления.
(обратно)[107]
Гедонизм -- этическое учение, рассматривающее удовольствие, наслаждение как единственную цель человеческой деятельности, морально оправданный мотив поведения.
(обратно)[108]
Среди создателей учения о предельной полезности благ не было по этому вопросу единого мнения. Визер утверждал, что запас благ обладает ценностью, равной произведению количества единиц блага и предельной полезности. По Бем-Баверку, поскольку различные единицы одного и того же блага имеют разную полезность, их суммарная ценность невыводима из предельной полезности. Мизес ближе к позиции Бем-Баверка.
(обратно)[109]
Здесь Мизес излагает положения, развитые теорией предельной производительности. Согласно этой теории ценность произведенной продукции есть порождение разных факторов производства, в том числе средств производства. Совокупная ценность средств производства определяет их вклад в величину созданной с их помощью продукции. Сама же эта ценность зависит от количества единиц данных средств производства и предельной производительности каждой единицы. Предельная производительность измеряется тем, насколько упадет выпуск продукции при выводе из производственных процессов единицы каждого фактора.
(обратно)[110]
Пассов Рихард (1880--?) — немецкий экономист
(обратно)[111]
Grosskapital, Grosskapitalisten, Kleinkapitalisten — крупный капитал, крупные капиталисты, мелкие капиталисты (нем.).
(обратно)[112]
Эвдемонизм — этическое учение, считающее счастье целью человеческого поведения, но самое счастье рассматривающее не как удовольствие, а как результат преодоления стремления к чувственным наслаждениям путем самоограничения, отрешения от материальных благ и личных привязанностей. Тем самым эвдемонизм противоположен гедонизму.
(обратно)[113]
Под синдикализмом в данном случае Л. Мизес подразумевает тот общественно-экономический строй, который пропагандировался популярными в рабочем движении начала XX в. анархо-синдикалистами. Согласно их воззрениям после победы над буржуазией экспроприируемые у нее средства производства не обобществляются, а переходят в собственность отдельных синдикатов — профсоюзных объединений, т. е. становятся групповой собственностью. В этом смысле Мизес противопоставляет синдикализм социализму как воплощению идеи единой, общенародной собственности.
(обратно)[114]
Закон убывающей отдачи — обобщенное название ряда теоретических положений, отмечающих, что каждое последующее дополнительное вложение труда, капитала и т.п. дает меньший эффект, чем предыдущее («закон убывающего плодородия почвы», «закон убывающей производительности труда», «закон убывающей производительности капитала»). Эти положения развивались австрийской школой, в их разработку большой вклад внес американский экономист Дж. Б. Кларк (1847–1938).
(обратно)[115]
Госсен Герман Генрих (1810–1858) — немецкий экономист, один из основоположников теории предельной полезности и производительности, отрицающей классическую трудовую теорию стоимости, на которой базировались социалистические требования ликвидации доходов капиталиста как нетрудовых. Парето Вильфредо (1848–1923) и Бароне Энрико (1859–1924) -- итальянские экономисты. Пирсон Николас Жерар (1839–1909) — голландский экономист. С их именами связано использование математического аппарата в политико-экономических исследованиях.
(обратно)[116]
миллениум — в представлении ряда религиозных сект тысячелетнее земное царствие Христа, которое должно наступить перед концом света
(обратно)[117]
Ландауэр Карл (1891--?) — немецкий экономист
(обратно)[118]
Смит Адам (1723–1790) и Рикардо Давид (1772–1823) — английские экономисты, создатели классической школы политической экономии. Сэй Жан Батист (1767–1832) — французский экономист, считавший себя последователем Смита и противником Рикардо в вопросах теории стоимости. Сисмонди Симонд (1773–1842) — швейцарский экономист, критик капитализма с позиций мелкотоварного производства. Бернгарди Теодор (1802–1887) — немецкий дипломат и историк, молодость проведший в России, где и вышла цитируемая Л. Мизесом его книга.
(обратно)[119]
Прудон Пьер Жозеф (1809–1865) — французский социалист, один из основоположников анархизма.
(обратно)[120]
Мизес, судя по следующей ссылке на «Капитал», имеет в виду XXIII и XXIV главы I тома. Переход в Англии от интенсивного земледелия к экстенсивному овцеводству был связан в конце XV — начале XVI в. с повышением цен на шерсть ввиду развития суконных мануфактур. Его ироническая характеристика «овцы съели людей» — перефразировка слов английского государственного деятеля и писателя Томаса Мора (1478–1535). В первой части своей знаменитой «Утопии» (1516) Мор писал: «Ваши овцы, обычно такие тихие, ныне ... стали такими прожорливыми и неукротимыми, что пожирают даже людей» (Мор Т., Утопия,. М., 1978. С. 132).
(обратно)[121]
Согласно «теории компенсации», развивавшейся английскими экономистами первой половины XIX в. Джемсом Миллем, Джоном Мак-Куллохом и др., замена ручного труда машинами высвобождает в то же время капитал, тратившийся на оплату труда, так что появляется возможность расширения производства и компенсации таким образом угрозы безработицы. Маркс критиковал теорию компенсации (Капитал, т. I. Гл. XIII, (185) 6), ссылаясь на то, что высвобождающаяся часть денежного капитала лишь частично может быть направлена на оплату дополнительного труда, ибо при расширении производства необходимы вложения капитала в орудия и предметы труда. При этом, по Марксу, отношение между вложениями в средства производства и вложениями в оплату труда (т. н. «органическое строение капитала») неуклонно меняется в пользу средств производства. Теория предельной полезности утверждает, что размеры вложений в труд или в средства производства определяются ожидаемым полезным эффектом от ввода в действие дополнительной единицы труда и соответственно единицы средств производства.
(обратно)[122]
Об интенсификации сельскохозяйственного производства в Англии первой половины XIX в. Маркс писал в (185) 5 гл. XXIII I т. «Капитала», а об «огораживании», т. е. экспроприации общинных земель английскими лендлордами в конце XV — начале XVI в., — в (185) 2 и 3 гл. XXIV. Для Маркса важно общее этих процессов — вытеснение крестьян, образование армии безземельных.
(обратно)[123]
Гольц Теодор (1836–1905) — немецкий аграрий, создатель агрономических школ, автор многих работ по экономике и организации сельскохозяйственного производства
(обратно)[124]
Мюллер Адам (1779–1829) — немецкий экономист, предшественник «исторической школы». Бюлов-Кумеров Эрнст Готфид Георг (1775–1851) — прусский помещик, основатель Союза для защиты собственности. Мейер Рудольф Герман (1839–1899) -- немецкий экономист, противник политики прусских аграриев. Вагнер Адольф (1835–1917) -- немецкий экономист и политический деятель.
(обратно)[125]
Machtpolitik (нем.) — державная политика, имперская политика, политика силы; Nationalpolitik (нем.) — национальная политика; эти термины широко использовались в кайзеровской Германии реакционными шовинистически настроенными деятелями
(обратно)[126]
Ландри Адольф (1874–1956) — французский экономист
(обратно)[127]
Протекционистская политика — внешнеэкономическая политика, заключающаяся во всемерной защите национальной экономики от конкуренции путем запрещения или ограничения ввоза иностранных товаров, обложения их высокими пошлинами и т. п.
(обратно)[128]
Сатерленд Элизабет (1765–1839) — крупная шотландская землевладелица; с 1814 по 1820 г. согнала с земель, традиционно считавшихся принадлежащими одному из шотландских кланов, более 15000 человек, превратив пахотные земли в пастбища и уничтожив деревенские поселения
(обратно)[129]
Таер Альбрехт (1752–1828) — немецкий аграрий, пропагандист рациональных методов ведения хозяйства
(обратно)[130]
Физиократы — французская экономическая школа второй половины XVIII в., основанная Франсуа Кенэ. Физиократы считали единственным источником возрастания стоимости сельскохозяйственное производство. Английская классическая школа в политэкономии возникла в XVII в. (основоположник — Вильям Петти). С выдающимися представителями английской классической школы Адамом Смитом и Давидом Рикардо связано формирование трудовой теории стоимости. Меркантилизм — сложившаяся на заре капиталистического общества, в конце XV в., экономическая школа, получившая наиболее полное развитие в XVII в. Меркантилисты видели источник национального богатства в активном денежном балансе во внешней торговле, в связи с чем придавали большое значение внешнеторговой политике государства.
(обратно)[131]
Лассаль Фердинанд (1825–1864) — деятель германского рабочего движения, публицист. Рассматривал государство как важный фактор движения человечества к свободе и справедливости.
(обратно)[132]
Пеккер Константен (1801–1887) — французский социалист, последователь Фурье
(обратно)[133]
res extra commercium — вещи вне сферы торговли (лат.)
(обратно)[134]
ceteris paribus — при прочих равных (условиях) (лат.)
(обратно)[135]
Понятие вменения (нем. — Zurechnung, англ. — Imputation) введено в экономическую теорию австрийским экономистом Фридрихом Визером. По Визеру, каждому фактору производства вменяется, т. е. считается его вкладом, определенная, поддающаяся точному расчету часть ценности созданного продукта. Теория вменения развита американским экономистом Джоном Бейтсом Кларком (1847–1938), согласно которому величины, вменяемые труду и капиталу в созданном продукте, определяются предельной производительностью этих факторов производства. В качестве факторов, к которым относится вменение, у Визера выступают труд, капитал и земля, у Кларка — труд и капитал, у Мизеса — труд, средства производства и предпринимательская деятельность.
(обратно)[136]
В произведениях французского утопического социалиста Шарля Фурье (1772–1837) детально разработано устройство будущего гармонического общества. Фурье утверждал, что неизменно присущие человеку страсти, подавляемые в современном ему обществе, получат полный простор в проектируемых им «фаланстерах» — общежитиях счастливых людей, где будет господствовать свобода любви.
(обратно)[137]
Каутский Карл (1854–1938) — немецкий экономист и философ, пропагандист марксизма, деятель германского социалистического движения и II Интернационала.
(обратно)[138]
Годвин Вильям (1756–1836) — английский историк, выдвинувший утопическую концепцию общества мелких частных производителей с распределением по потребностям.
Троцкий Лев Давидович (1879–1940) -- деятель российского и международного коммунистического движения.
(обратно)[139]
В концепции Фурье уделяется большое внимание теории страстей как обоснованию творческого радостного характера труда в будущем обществе. К школе Фурье принадлежит неоднократно цитируемый далее Л. Мизесом французский социалист Виктор Консидеран (1808–1893).
(обратно)[140]
Софокл (ок. 496–406 до н. э.) — древнегреческий драматург, классик античной трагедии
(обратно)[141]
Оуэн Роберт (1771–1858) — английский социалист-утопист; как и Фурье, Оуэн критиковал складывающееся при капитализме общественное разделение труда, выступая, в частности, против отделения труда промышленного от сельскохозяйственного
(обратно)[142]
Адлер Макс (1873–1937) — австрийский философ, один из видных представителей так называемого «австромарксизма».
(обратно)[143]
un sentiment de rivalite joyeuse ou de noble emulation — чувство радостного соперничества или благородного соревнования (фр.)
(обратно)[144]
un acharnement passione au travail — страстная настойчивость в работе (фр.)
(обратно)[145]
Решая, как сделать привлекательным грязный труд, например очистку выгребных ям, Фурье ссылается на любовь детей копаться в грязи. В его идеальном обществе труд детей сочетается с игрой. Дети объединяются в маленькие орды, предводительствуемые маленькими ханами, и, играя, выполняют многие тяжелые и грязные работы.
(обратно)[146]
проектируемое им будущее общество Шарль Фурье называет Гармонией
(обратно)[147]
в Гармонии люди живут и трудятся относительно небольшими общинами, которые называются фалангами
(обратно)[148]
Беранже Пьер Жан (1780–1857) — французский поэт. Имеется в виду его стихотворение «Безумцы», в котором прославляются утописты Фурье, Сен-Симон и Анфантен. В переводе В. Курочкина оно приобрело широкую известность и в России; крылатыми стали слова: «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой» (Беранже. Избранные песни, М.: ГИХЛ, 1953. С. 97–98). Французский драматург, поэт и романист Гюго Виктор Мари (1802–1885) находился с 30-х годов под влиянием социалистов, но скорее не фурьеристского, а сенсимонистского направления.
(обратно)[149]
per se — сам по себе (лат.)
(обратно)[150]
ex definitione — по определению (лат.)
(обратно)[151]
«Слава тебе, Христос, ибо эта книга завершена» — лат.
(обратно)[152]
«Поскольку книга закончена, писец весело пляшет» — лат.
(обратно)[153]
Родбертус-Ягецов Карл Иоганн (1805–1875) — немецкий экономист, один из основоположников «государственного социализма». Родбертус предлагал «конституировать» стоимость товаров путем законодательно закрепленного выражения ее непосредственно в рабочем времени.
(обратно)[154]
Милль Джон Стюарт (1806–1873) — английский экономист, философ и общественный деятель. Последний крупный представитель английской классической школы в политической экономии, сторонник трудовой теории стоимости.
(обратно)[155]
Контролируемой экономикой (в немецком оригинале — «принудительной экономикой») Мизес именует экономику Германии и Австро-Венгрии в период мировой войны 1914–1918 гг., когда были введены рационирование предметов первой необходимости, государственное регулирование распределения сырья и т. п. меры управления экономической жизнью.
(обратно)[156]
«Город Солнца» — утопия итальянского мыслителя Томмазо Кампанеллы (1568–1639). Термин «метафизика», буквально означающий то, что следует после физики, в середине века использовался как обозначение философии, исследующей неизменные начала всего сущего, обосновывающей теологию. Таким образом, у Кампанеллы метафизик — не просто мудрец-философ, а постигший божественную сущность.
(обратно)[157]
Мизес имеет в виду Венгерскую Советскую Республику, просуществовавшую с 21 марта по 1 августа 1919 г. Строго говоря, никаких большевиков в это время в Венгрии не было: во главе республики стояла социалистическая партия, образовавшаяся в результате слияния коммунистической и социал-демократической партий. Однако по идеологии и методам она не отличалась от Российской коммунистической партии (большевиков).
(обратно)[158]
Икария -- утопическая страна, описанная Этьеном Кабе (1788–1856), французским пропагандистом коммунистических идей, в его романе «Путешествие в Икарию»
(обратно)[159]
les ouvrages preferes — предпочтенные работы (фр.)
(обратно)[160]
По преданию, сподвижник Мухаммеда Омар I (591–644) повелел сжечь Александрийскую библиотеку, заявив, что, если книги противоречат Корану, они вредны, а если подтверждают Коран — излишни.
(обратно)[161]
Лютер Мартин (1483–1546) — основатель немецкого религиозного протестантизма, названного позже по его имени лютеранством. Лютер отрицал власть Римского папы, многие католические обряды, институт монашества. Опорой реформации он объявил князей феодальной Германии. Против Лютера выступал ревностный католик германский император Карл V. Изданный им в 1521 г. эдикт предписывал подавление лютеранства. Через десять лет Карл V имперским указом повелел протестантам вернуться в лоно католической церкви, а в 1546 г. объявил лютеран вне закона.
(обратно)[162]
Это написано Мизесом в 20-е годы, когда авангардизм пользовался поддержкой коммунистической верхушки как революционное антибуржуазное направление в искусстве.
(обратно)[163]
Авангардисты не были вытеснены очередными новаторами — они стали жертвами коммунистической диктатуры, круто повернувшей в искусстве к лакировочно-плакатным агиткам, выполненным в «реалистической манере» XIX в.
(обратно)[164]
Беллами Эдвард (1850–1898) — американский писатель, автор популярной утопии «Взгляд назад» («Через сто лет») и ее менее известного продолжения «Равенство».
(обратно)[165]
Адиафора — понятие древнегреческой философии, обозначающее вещи и отношения, которые сами по себе ни положительны, ни отрицательны.
(обратно)[166]
du ut des — даю, чтобы ты дал (лат.)
(обратно)[167]
Речь идет о поэме «Германия. Зимняя сказка». У Бебеля приведен отрывок:
«Достаточно хлеба растет здесь внизу, всем хватит по милости Бога, и миртов, и роз, красоты и утех, и сладких горошинок много».(Цитируется по русскому изданию книги «Женщина и социализм». См. в другом переводе: Гейне Г., Собр. соч., Т. 2, М., 1957, С. 269.)
(обратно)[168]
Мальтус ссылался на закон убывающего плодородия почвы
(обратно)[169]
Дюринг Эйген (Евгений) (1833–1921) — немецкий философ, занимавшийся также политэкономией. Разделяя идеи социализма, Дюринг выступал как противник Маркса и сам был объектом ожесточенной критики со стороны Энгельса.
(обратно)[170]
Л. Мизес имеет в виду книгу Вильяма Годвина «О народонаселении... Ответ на эссе мистера Мальтуса» (Godwin, Of Population. An enquiry concerning the power... Answer to mr. Malthus's essay, on that subject., London, 1820)
(обратно)[171]
apres nous le deluge — после нас хоть потоп (фр.) — фраза, приписываемая маркизе Помпадур, фаворитке французского короля Людовика XV
(обратно)[172]
Адольф Вагнер в ходе своей идейной эволюции пришел к защите общественной собственности с позиций государственности и христианства
(обратно)[173]
золотообрезными ценными бумагами в англосаксонских странах называют первоклассные ценные бумаги, прежде всего государственные, доход по которым гарантирован
(обратно)[174]
В случае сделки с отсроченной поставкой товара покупатель рассчитывает выиграть на разнице между ценой, оговоренной при заключении сделки, и ценой, которая сложится на рынке к предусмотренному сроку поставки. Л. Мизес усматривает здесь аналогию с вложением средств в привилегированные ценные бумаги, по которым выплачивается заранее фиксированный доход: инвестор рассчитывает, что к моменту выплаты этот дивиденд (или процент) будет выше, чем на другие акции или облигации, по которым доход не гарантируется.
(обратно)[175]
«Все течет» (др. греч.) — выражение, приписываемое философу-диалектику Гераклиту Эфесскому (535?--475? до н. э.)
(обратно)[176]
Л. Мизес подразумевает высказывание Ленина «о научно образованном персонале инженеров, агрономов и пр.: эти господа работают сегодня, подчиняясь капиталистам, будут работать еще лучше завтра, подчиняясь вооруженным рабочим» (Ленин В. И., Полн. собр. соч., Т. 33, С. 101).
(обратно)[177]
Ликург -- легендарный законодатель, создавший государственность в древнегреческом городе Спарте. Деятельность Ликурга относят к IX--VIII вв. до н. э. О Ликурге писал древнегреческий философ и историк Плутарх (ок. 45 — ок. 127) (Плутарх, Сравнительные жизнеописания, Т.1, М., 1961, С. 53–77).
(обратно)[178]
Р. Оуэн считал, что основу социалистического общества должны составлять самоуправляющиеся общины с численностью населения не более 3 тысяч. Призванная осуществить его идеи «Новая Гармония» была основана в 1825 г. Э. Кабе организовал в 1848 г. общину согласно принципам, изложенным в его утопии «Путешествие в Икарию». В. Консидеран пытался, эмигрировав в США в 1849 г., создать там по фурьеристским рецептам фаланстер-ячейку нового мира, объединяющую до 2 тысяч человек.
(обратно)[179]
Л. Мизес имеет в виду следующее место: «Они все еще мечтают об осуществлении путем опытов своих общественных утопий, об учреждении отдельных фаланстеров, об основании внутренних колоний, об устройстве маленькой Икарии — карманного издания нового Иерусалима -- и для сооружения всех этих воздушных замков вынуждены обращаться к филантропии буржуазных сердец и кошельков» (Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 4, С. 457).
(обратно)[180]
Томпсон Уильям (1785–1833) — английский социалист-утопист.
(обратно)[181]
В отличие от Фурье, ориентировавшегося на автаркические фаланстеры, Сен-Симон и его последователи в системе, названной ими индустриализмом, предусматривали централизованное руководство общественным трудом.
(обратно)[182]
Бисмарк Отто фон Шенхаузен (1815–1898) — рейхсканцлер Германской империи, яростный противник социализма и немецкий националист. Ему принадлежит ироническое высказывание, что социализм надо бы опробовать на народе, которого не жалко. Таким народом для Бисмарка были прежде всего поляки: об угрозе вытеснения или ополячивания немецкого населения Западной Пруссии живущими там поляками рейхсканцлер говорил неоднократно.
(обратно)[183]
Протекционистские тарифы -- повышенные таможенные ввозные пошлины, призванные сократить импорт товаров или же вообще воспрепятствовать ему. Ограничения импорта — меры нетарифного характера, направленные на полное прекращение или сокращение импорта: прямой запрет ввоза определенных товаров, установление квот на ввоз, лицензирование ввоза и т. п. Экспортные премии -- государственные надбавки, дотации, выплачиваемые производителям товаров, сбываемых за границу. Дискриминация на транспорте — установление повышенных тарифов за перевозки импортируемых товаров, запрет их перевозки определенными видами транспорта и т. п.
(обратно)[184]
ultima ratio — последний довод (лат.)
(обратно)[185]
Л. Мизес именует современный протекционизм во внешней торговле неомеркантилизмом, поскольку исходя из иных теоретических посылок протекционизм повторяет требования раннего меркантилизма всячески ограничить импорт иностранных товаров.
(обратно)[186]
Вокруг «Дела» («Die Tat») группировались немецкие экономисты, далеко не столь уж наивные, как казалось Мизесу до прихода Гитлера к власти. Развиваемые ими идеи автаркии были тесно связаны с национал-социалистской программой милитаризации Германии, полного самообеспечения армии и военной промышленности в будущей войне в Европе. Из этой среды вышли активные деятели гитлеровского Рейха, в частности Фердинанд Фрид, на которого ссылается Мизес и который из журналиста, пишущего на экономические темы, превратился в одного из ближайших сотрудников Гиммлера.
(обратно)[187]
погоня за возрастанием стоимости капитала — нем.
(обратно)[188]
Со второй половины XIX в. и вплоть до второй мировой войны реальная структура Британской империи была достаточно сложной. Значительная часть заморских владений официально числилась коронными колониями. Канада, Австралия и некоторые другие переселенческие колонии получили самоуправление и стали доминионами. Индия была объявлена империей, и английская королева Виктория стала в 1876 г. индийской императрицей. Ряд фактических колоний фигурировал как протектораты, т. е. самостоятельные государства под покровительством Великобритании (Аден, Кувейт, Бечуаналенд и др.).
(обратно)[189]
Люксембург Роза (1871–1919) — деятельница польского и германского социал-демократического движения, автор ряда экономических работ, написанных с марксистских позиций.
(обратно)[190]
Это написано до образования в 1947 г. на территории принадлежавшей Великобритании Индии двух самостоятельных государств — Индии и Пакистана. В послевоенные издания своего труда Мизес соответствующей поправки не внес.
(обратно)[191]
Хилиазм (от греческого «тысяча») — то же, что миллениаризм (от аналогичного латинского корня) — сложившееся в христианстве во II в. учение о грядущем тысячелетнем царствии Христа на земле, завершающем земную жизнь всего человечества. Хилиасты опирались на пророчество Иоанна Богослова (Апокалипсис, Гл. XX, Ст. 4). В наше время хилиазмом, т. е. «тысячелетним царством спасения», иронически называют утопические представления о мире всеобщего счастья.
(обратно)[192]
Мизес имеет в вицу доктрину так называемого «прусского (или германского) государственного социализма». У ее истоков стоял К. И. Родбертус-Ягецов, ее идеи разделяли представители исторической школы, сторонники катедер-социализма Г. Шмоллер, Л. Брентано, А. Вагнер, В. Зомбарт. Они рассматривали проводимое германскими властями огосударствление отдельных отраслей (прежде всего железных дорог), введение государственной монополии на производство и торговлю определенными товарами, государственное социальное страхование работников как постепенное создание социалистического устройства. К концу XIX в. термин «государственный социализм» стал толковаться шире — применительно к любым представлениям о государстве как надклассовой силе, способной устранить частнособственнический эгоизм.
(обратно)[193]
В немецком оригинале труда Мизеса фигурируют термины Verstaatlichung (огосударствление), Vergesellschaftung (обобществление). В англоязычных изданиях им соответствуют термины Nationalisation (национализация) и Socialisation (социализация). Русская политэкономическая терминология традиционно ориентирована на немецкую, и эта традиция сохранена в настоящем переводе, тем более что термин огосударствление отчетливее передает мысль автора, чем национализация. Однако из стилистических соображений в отдельных случаях, где это не вредит ясности изложения, используются термины национализация для обозначения передачи собственности государству и социализация как аналог обобществления.
(обратно)[194]
9–10 ноября 1918 г. в Германии и 11–12 ноября в Австрии были ликвидированы монархии, провозглашены республики, а правительства возглавили лидеры социал-демократических партий.
(обратно)[195]
В 1916 г. в Германии вокруг журнала «Интернационал» сложилась и организационно оформилась группа «Спартак», объединившая радикально настроенных социал-демократов. 11 ноября 1918 г. сразу же после свержения монархии, она преобразовалась в самостоятельную политическую организацию со своим ЦК — «Союз Спартака». 28–29 декабря 1918 г., конференция спартаковцев объявила себя учредительным съездом Коммунистической партии Германии («Союз Спартака»). Какое-то время за германскими коммунистами, возглавлявшимися К. Либкнехтом, Р. Люксембург, Ф. Мерингом и др., сохранялось имя спартаковцев.
(обратно)[196]
латинская поговорка «Гора родила мышь» (буквально: «Рожают горы, а родится смешная мышь»)
(обратно)[197]
Мета — по-гречески «за», «после»; физика — от «физис» (природа). Александрийский библиотекарь Андроник Родосский в I в. до н. э., комментируя Аристотеля, расположил все его труды в тематическом порядке. Философские работы он поместил после трупов о природных явлениях, соответственно назвав их метафизикой — «тем, что после физики».
(обратно)[198]
Лихтенштейн Алоиз (1847–1920) — князь, лидер австрийской партии христианских социалистов.
(обратно)[199]
Вышедший ныне из употребления термин «цезаризм» широко применялся в конце XIX — начале XX в. для обозначения абсолютистской диктатуры узурпатора, пришедшего к власти, опираясь на армию и используя демократические институты. Классический пример цезаризма — правление Наполеона III, который в 1848 г. был избран президентом Франции, в 1851 г. с помощью военных совершил государственный переворот и в 1852 г. был провозглашен императором. Для цезаризма характерно заигрывание с низшими слоями населения — ремесленниками, крестьянами, мелкими торговцами. В близком значении употребляется здесь Мизесом и термин «империализм». Исходя из политики того же Наполеона III, равно как и политики Бисмарка в Германской империи, империализмом именовали нередко попытки сочетания сильной монархической власти с элементами демократического устройства и государственной социальной защиты малоимущих. Отсюда, в частности, характеристика Германской империи конца XIX в. как социальной монархии.
(обратно)[200]
Андлер Шарль (1866–1933) — французский философ, критик марксизма
(обратно)[201]
Юнкерами именовались прусские помещики.
(обратно)[202]
В античные времена, особенно в I в. до н. э., Средиземное море кишело пиратами, образовывавшими даже свои квазигосударственные структуры. Одним из центров организованного пиратства были Липарские острова, расположенные у берегов Сицилии.
(обратно)[203]
свевами, или свебами, называли античные авторы группу родственных германских племен, проживавших в бассейнах Верхнего Рейна, Эльбы, Майна, Неккара.
(обратно)[204]
«самое воинственное из всех германских племен» —лат.
(обратно)[205]
Винер Шарль (1851–1913) — французский историк
(обратно)[206]
Так называемая Империя инков — индейское государство, сложившееся в середине XV в. на обширных территориях, ныне входящих в состав Перу, Боливии, частично Эквадора и Чили. В этом государстве земля считалась собственностью правителя — Верховного Инки и находилась в общинном пользовании. Урожай с общинных земель шел духовенству и государству, которое занималось его последующим перераспределением. Общинники отбывали также трудовую повинность на строительстве ирригационных сооружений, дорог, храмов, крепостей и т. п., на работах в рудниках. Отсюда представление об Империи инков как о воплощении коммунистических начал. В 1532–1536 гг. испанский отряд во главе с Франсиско Писарро завоевал государство инков, и оно прекратило свое существование.
(обратно)[207]
Население древней Спарты делилось на спартиатов, принадлежащих к племени завоевателей — дорийцев, и покоренных ими илотов. Илоты считались собственностью государства и не пользовались никакими правами. Все спартиаты, достигшие совершеннолетия и тем самым вошедшие в число воинов, вносили денежные и продуктовые взносы, за счет чего организовывались обязательные общественные обеды — сисситии. Во время сисситий все спартиаты получали одинаковую пищу. Вебер иронически сближает сисситии с «бесплатной» выпивкой и закуской, предоставляемой завсегдатаям игорных домов.
(обратно)[208]
Лангобардское королевство было основано в VI в. германским племенем лангобардов на завоеванной ими территории нынешней Италии. Просуществовало до 774 г., когда было завоевано франками. Вестготы -- германское племя, создавшее в начале V в. свое государство в захваченной ими Южной Галлии. Впоследствии вестготы распространили свою власть на Пиринейский полуостров, но в 711–718 гг. их государство пало под ударами арабов. Франки — группа германских племен, составившая ядро франкского королевства, просуществовавшего с конца V в. до 843 г. Франки завоевали большую часть Галлии, а затем Тюрингию, Баварию, Лангобардию и некоторые другие земли. Одной из причин краха всех этих государств было имущественное расслоение среди завоевателей. Так, в первой половине VIII в. состоятельные лангобарды являлись на военную службу с конной дружиной, менее состоятельные — со щитом, луком и стрелами, а обедневшие вообще не несли воинской службы. Ассимиляция германских завоевателей галло- и испаноримлянами также имела место во всех трех государствах, хотя и в разной степени. С конца VIII и до середины XI в. Европа пережила многочисленные захватнические походы норманнов — скандинавских народов. Норманны образуют герцогство Нормандию в Северной Франции, покоряют значительную часть Англии, основывают свои поселения в Ирландии. Норманнские завоеватели были сравнительно быстро ассимилированы подчиненными им народами.
(обратно)[209]
Учение о «справедливой» цене разрабатывалось Фомой Аквинским (1225–1274) — крупнейшим представителем схоластики — религиозно-философского направления Средневековья. «Справедливыми» ценами, считал он, являются цены, с одной стороны, отражающие трудовые затраты производителя, а с другой — обеспечивающие производителю доход, позволяющий ему вести образ жизни, достойный его положения в обществе.
(обратно)[210]
Папские энциклики (послания всем верующим католикам) принято именовать по первым словам. Энциклика «Rerum Novarum» («О новых вещах») — программный документ католицизма по социально-экономическим вопросам. В нем частная собственность объявлена «божественным правом», а социализм — «фальшивым лекарством». В то же время в этой энциклике содержатся призывы к социальным реформам во Имя справедливости, приветствуются христианские профсоюзы. В ознаменование сорокалетия «Rerum Novarum» опубликована энциклика «Quadragesimo anno» («В сороковой год»), повторяющая те же положения, однако содержащая более резкую критику социализма и коммунизма и в то же время положительно оценивающая идеи корпоративного строя, пропагандируемые фашизмом.
(обратно)[211]
Виссель Рудольф (1869–1962) и Меллендорф Вихард (1881–1937) — немецкие экономисты, социал-демократы; Р. Виссель был после ноябрьской революции 1918 г. министром национальной экономики Германской республики
(обратно)[212]
В феврале 1919 г. президентом Германской республики стал социал-демократ Фридрих Эберт, а правительство возглавил социал-демократ Филипп Шейдеман. Руководимое социалистами правительство просуществовало до июня 1920 г., но сколь нибудь заметных шагов в направлении социалистической экономики не предприняло.
(обратно)[213]
речь вдет о книге Р. Висселя «Praktische Wirschaftspolitik», Berlin, 1919
(обратно)[214]
Династия Гогенцоллернов правила Германской империей с 1871 по 1981 г. При Гогенцоллернах форсированно осуществлялось строительство государственных железных дорог, проводилась политика государственного покровительства образованию крупных картелей и других монополистических объединений, а с другой стороны, были заложены основы государственного социального страхования наемных работников.
(обратно)[215]
Концепция гильдейского социализма была разработана накануне первой мировой войны радикальными членами английского Фабианского общества Джорджем Коулом, Джоном Гобсоном и др., основавшими в 1914 г. Национальную гильдейскую лигу. Если большинство фабианцев склонялись к муниципализации, то гильдейцы считали, что частные предприятия должны быть национализированы, но управление ими передано не государству и не муниципалитетам, а национальным гильдиям — объединениям работников соответствующих народнохозяйственных отраслей, ядро которых составят уже существующие тред-юнионы.
(обратно)[216]
Тоуни Ричард Генри (1880–1962) — английский историк народного хозяйства
(обратно)[217]
Третьей республикой принято именовать Францию периода 1870–1940 гг. — от свержения Наполеона III и до установления Вишийского режима, сотрудничавшего с немецкими оккупантами.
(обратно)[218]
Сюлли-Прюдом (1839–1907) — французский поэт, нобелевский лауреат, автор ряда философских и социологических работ.
(обратно)[219]
Пеш Генрих (1854–1926) — немецкий экономист
(обратно)[220]
Шарль Жид (1847–1932) — французский экономист, деятель кооперативного движения.
(обратно)[221]
Энгель Эрнст (1821–1896) — немецкий статистик, руководитель прусского статистического бюро, исследователь бюджетов рабочих семей
(обратно)[222]
Многие социалисты, опираясь на трудовую теорию стоимости Рикардо, утверждали, что, поскольку труд является единственным созидателем стоимости, рабочим должен доставаться весь произведенный в обществе продукт. Лозунг права рабочих на полный продукт труда активно пропагандировался основателем германской социал-демократии Фердинандом Лассалем (1825–1864).
(обратно)[223]
Коллективный договор — соглашение между профсоюзом и хозяевами предприятий об условиях и оплате труда. Коллективные договоры, появившиеся еще в конце XVIII в. в Англии, в XX в. стали повсеместным явлением. В настоящее время в большинстве стран коллективные договоры имеют юридическую силу и пользуются судебной защитой. Мизес как последовательный либерал был противником коллективных договоров как ограничивающих экономическую свободу.
(обратно)[224]
Фогельштейн Теодор (1880--?) — немецкий экономист
(обратно)[225]
Сорель Жорж (1847–1922) -- французский социолог и философ, теоретик революционного анархо-синдикализма. Революцию Сорель рассматривал как волевой стихийный порыв народа. Его взгляды нашли наиболее полное воплощение в книге «Размышления о насилии» (1906). Резко критикуя парламентски-реформистскую практику социал-демократических партий, Сорель признавал единственной революционной силой синдикаты (профсоюзы), а политической борьбе противопоставлял прямые действия пролетариата: бойкот, всеобщую стачку и т. п.
(обратно)[226]
В феодальной Франции все облагаемое податями население именовалось третьим сословием (в отличие от первых двух, привилегированных сословий — духовенства и дворянства). Накануне Великой Французской революции и в ее ходе в публицистике и в народных наказах появился термин «четвертое сословие» как обозначение наемных работников, пролетариев.
(обратно)[227]
Первоначально под метафизикой понималась часть философии, рассматривающая первопричины всего сущего. С течением времени термин неоднократно переосмысливался. Мизесовское противопоставление метафизики и науки восходит к распространенному во второй половине XIX в. истолкованию метафизики как спекулятивных, не опирающихся на опыт рассуждений.
(обратно)[228]
Исайя (вторая половина XIII в. до н. э.) — один из четырех библейских так называемых больших пророков. «Книга пророка Исайи» открывает ряд пророческих книг, входящих в канонический Ветхий Завет.
(обратно)[229]
В представлении ряда религиозных сект тысячелетнее земное царствие Христа должно наступить перед концом света. Хилиазм был осужден церковью в 225 г., однако хилиастические идеи вновь и вновь возрождались, как это было, например, во время крестьянской войны в Германии (XIV--XV в.).
(обратно)[230]
Теоретики марксизма неоднократно подчеркивали, что французский утопический социализм и немецкая классическая философия — источники формирования марксистского учения. Поэтому вполне правомерна проводимая Мизесом линия от Сен-Симона и Гегеля к Марксу и Ленину. Вейтлинг Вильгельм (1808–1871) — деятель немецкого рабочего движения, создатель своеобразной системы уравнительного коммунизма.
(обратно)[231]
По Мизесу, телеологический подход, рассматривающий историю как движение к некоей предустановленной цели, неизбежно акцентирует внимание на ступенях приближения к цели, отклонениях от цели и т. п.
(обратно)[232]
Бюхнер Людвиг (1824–1899) и Молешотт Якоб (1822–1893) — немецкие естествоиспытатели и философы, завоевавшие популярность в радикальных кругах вульгарно-материалистическим подходом к природе и обществу. Философию они отождествляли с естествознанием, биологическую борьбу за существование считали основой социального развития, утверждали наличие прямой и непосредственной связи между составом потребляемой пищи и духовной жизнью народов и т. п.
(обратно)[233]
Каузальное (от лат. causa — причина) исследование, т. е. исследование, направленное на выявление причин какого-либо процесса, противоположно телеологическому исследованию, рассматривающему процесс как устремление к некоей цели.
(обратно)[234]
По Гегелю, развитие человечества есть последовательное восхождение мирового духа, абсолютной идеи через сменяющие друг друга образы культуры к полному самопознанию. По Марксу, история общества есть закономерная смена общественно-экономических формаций, обусловленная развитием производительных сил и находящая свое завершение в коммунистическом устройстве.
(обратно)[235]
Менений Агриппа (? — 493 до н. э.) — римский патриций. Как утверждает римский историк Тит Ливии (59 до н. э. — 17 н. э.), когда восставшие плебеи ушли из Рима, Сенат послал к ним Менения Агриппу. Рассказав плебеям известную басню о споре между желудком и другими частями тела -- о том, что важнее для организма, Менений убедил плебеев вернуться в Рим (Ливии Т., История Рима от основания города, T. 1, M., 1989, С. 89).
(обратно)[236]
Лилиенфельд Павел Федорович (Пауль) (1829–1903) — высокопоставленный русский чиновник из остзейского дворянства, последователь органицизма в социологии; много печатался за рубежами России
(обратно)[237]
Ротшильды — семейство, владевшее в XIX -- начале XX в. банкирскими домами в Лондоне, Париже, Вене, Неаполе, Франкфурте-на-Майне; Ротшильды предоставляли крупные займы многим европейским правительствам
(обратно)[238]
Органическая (иногда называемая биологической) школа в социологии сложилась в конце XIX в. Органицисты, полностью отождествляя социум и биологическое существо, сосредоточивали все свои усилия на поисках аналогий. Так, цитируемый Мизесом Лилиенфельд утверждал, что торговля — это кровообращение, правительство — мозг общества и т. п.; французский социолог Рене Вармс (1869–1926) в захвате колоний видел «способ размножения».
(обратно)[239]
Органическая теория государства возникла в конце XIX в. в противовес, с одной стороны, учению о государстве как результате общественного договора, а с другой — концепции государства как орудия классового насилия. Ее сторонники видели в государстве орган, удовлетворяющий потребности общества как социального организма: государство призвано поддерживать и развивать солидарность всех членов общества -- основу существования любого социума.
(обратно)[240]
tertium compaiationis — третье сравниваемое (лат.), т. е. общий признак сравниваемых вещей, явлений
(обратно)[241]
Мильн-Эдвардс Анри (1880–1935) — французский естествоиспытатель, профессор зоологии.
(обратно)[242]
Фихте Иоганн Готлиб (1762–1814) — представитель немецкой классической философии.
(обратно)[243]
животное общественное — др.-греч.; это определение содержится в сочинении Аристотеля «Политика»
(обратно)[244]
Дюркгейм Эмиль (1858–1917) — французский социолог. Конт Огюст (1798–1857) — французский философ, один из основоположников социологии как науки. Спенсер Герберт (1820–1903) — английский философ и социолог, родоначальник школы позитивизма.
(обратно)[245]
Фома Аквинский (1225–1274) — крупнейший представитель схоластики — религиозно-философского направления Средневековья
(обратно)[246]
Л. Мизес придерживался широко распространенной, особенно в прошлом веке, анимистической (от лат. anima — душа) теории происхождения религии. Ее приверженцы считают, что любая религия восходит к анимистским представлениям первобытных людей о том, что всеми предметами окружающего мира управляют существующие вне их телесной оболочки духи, или души.
(обратно)[247]
Витализм (от лат. vitalis — жизненный) — представление о том, что в живых объектах присутствует особая нематериальная жизненная сила, обусловливающая специфику биологических организмов.
(обратно)[248]
Гюйо Жан Мари (1854–1888) — французский философ, склонный к биологическому истолкованию нравственности и других социальных явлений
(обратно)[249]
Фулье Альфред Жюль Эмиль (1838–1912) — французский философ, социолог, этнопсихолог и этик
(обратно)[250]
Работы, в которых Кант изложил свои воззрения на общество, относятся к последним десятилетиям XVIII в. («Идея всеобщей истории...» — 1784; «О вечном мире» — 1795). Учение о сравнительных затратах как основе международного разделения труда и мировой торговли было разработано Давидом Рикардо во втором десятилетии XIX в. («Начала политической экономии и налогового обложения» — 1817).
(обратно)[251]
Кант считал, что природа человека противоречива, вследствие чего люди одновременно склонны сотрудничать и противодействовать друг другу. Прогресс, конечной целью которого является достижение всеобщего правового гражданского состояния, осуществляется только через борьбу этих двух начал. Что касается роли разделения труда в функционировании и развитии общества, то Кант связывает именно с международным разделением труда и международной торговлей возможность будущего вечного мира, полного отказа от войн между государствами.
(обратно)[252]
virtus dormitiva, cuius est natura sensus assupire — свойство вызывать сон, природа которого в притуплении чувств (лат.)
(обратно)[253]
По О. Конту, человечество в своем развитии проходит три этапа: теологический (когда все объясняется исходя из религиозных представлений), метафизический (когда на смену религии приходит объяснение мира некими абстрактными сущностями, первопричинами и т. п.) и позитивный (когда мир понимается научно). Лампрехт Карл (1856–1915) -- немецкий историк. Под влиянием Конта он создал учение о пяти культурно-исторических стадиях развития человечества («анимизм», «символизм» и т. д.), различающихся по социальной психологии масс, параллельно изменениям которой меняется экономика.
(обратно)[254]
Имеется в виду так называемая «новая (молодая) историческая школа», сформировавшаяся в Германии в конце 60-х годов XIX в. и господствовавшая в немецкой экономической науке до 30-х годов нашего века. Представители этой школы считали, что государство, активно вмешиваясь в общественную жизнь, обеспечит постепенное утверждение социализма. Называемые ниже Мизесом немецкие экономисты Карл Бюхер (1847–1930) и Густав Шмоллер (1838–1913) — основоположники этого направления, а Евгений Филиппович (1858–1917) — его сторонник.
(обратно)[255]
Классическая культура — условное название культуры Древней Греции периода ее расцвета (5–4 вв. до н. э.).
(обратно)[256]
Фергюсон Адам (1723–1816) — шотландский философ и историк, учитель А. Смита
(обратно)[257]
laudatores temporis acti — восхвалители былых времен (лат.) — ставшее крылатым выражение Горация
(обратно)[258]
В 1241 г. монголы под предводительством хана Батыя (Бату) вторглись в Венгрию, разбили под Лигницей войска польских и немецких князей, дошли до Адриатического моря, но вынуждены были повернуть обратно. Турки-османы неоднократно вели войны на европейской территории. Мизес, вероятно, имеет в виду XVII в., когда при попытках новых завоеваний в Европе турецкие войска терпели серьезнейшие поражения от Австрии, Венгрии и Венеции, в том числе в 1664 г. при Сенготхарде, в 1683 г. под Веной.
(обратно)[259]
«Хелианд» — эпическая поэма, относящаяся к IX в. «Евангелие» — написанное в то же время произведение Отфрида Вейсенбургского, в котором, как считается, впервые в немецкой литературе использован рифмованный стих.
(обратно)[260]
На расположенных на южном побережье Балтийского моря землях, носящих со средних веков наименование Померании, жило славенское племя поморян. Западные поморяне, попавшие в конце XII в. в зависимость от германских феодалов, подверглись в течение XIII--XVII в. онемечиванию. Между Вислой и Неманом примыкающие к морю земли были заселены группой племен, носивших собирательное название пруссов. В XIII в. пруссы, родственные по языку летто-литовцам, а по материальной культуре отчасти близкие славянам, были завоеваны Тевтонским орденом. Большая часть пруссов была истреблена, а оставшиеся онемечены. От пруссов территория получила наименование Пруссии.
(обратно)[261]
К социализму гегелевской школы Мизес относит лассальянство, поскольку Ф. Лассаль был последователем Гегеля. Лассаль Фердинанд (1825–1864) — деятель германского рабочего движения, публицист. Рассматривал государство как важный фактор движения человечества к свободе и справедливости. С гегельянских позиций написан его основной философский труд «Философия Гераклита Темного из Эфеса».
(обратно)[262]
Гумплович Людвиг (1838–1909) — австрийский социолог и юрист, пытавшийся биологическими началами оправдать колониализм, расизм и захватнические войны. Ратценхофер Густав (1842–1904) — австрийский генерал, социолог и философ, сторонник социального дарвинизма. Оппенгеймер Франц (1864–1943) — немецкий экономист и социолог, объяснявший происхождение государства завоеванием одной группы людей другой группой. В отличие от первых двух, названных здесь Л. Мизесом Оппенгеймер выступал против социального дарвинизма, хотя и разделял некоторые идеи Гумпловича.
(обратно)[263]
Английский экономист Томас Роберт Мальтус (1766–1834) сформулировал в 1798 г. «естественный закон народонаселения», согласно которому население имеет тенденцию размножаться в геометрической прогрессии, тогда как средства существования могут расти лишь в арифметической прогрессии, что порождает нищету масс. Сам Дарвин говорил, что его теория борьбы за существование есть теория Мальтуса, примененная к миру животных и растений.
(обратно)[264]
выделяемая антропологами по форме черепа группа «длинноголовых».
(обратно)[265]
Ганновер и Бранденбург — исторические германские земли. Ганновер был последовательно герцогством, курфюршеством, королевством (до 1866 г.). Бранденбург, бывший в средние века маркграфством, а затем курфюршеством, в 1618 г. объединился в единое государство с герцогством Пруссией.
(обратно)[266]
Кропоткин Петр Алексеевич (1842–1921) — теоретик анархизма коммунистического толка, видный естествоиспытатель и этик. Основные принципы нравственности выводил из поведения животных. Признавая естественный отбор, Кропоткин считал его лишь одной стороной медали, другую сторону он видел во взаимной поддержке особей одного вида.
(обратно)[267]
Каммерер Пауль (1880–1926) — австрийский зоолог; антирасист и пацифист по убеждениям, он был близок к левым кругам
(обратно)[268]
В XV в. земли, населенные южными славянами, исповедовавшими христианство, попали большей частью под владычество мусульманской Османской империи. Иноземное и иноверное владычество, длившееся несколько веков, вызвало активную неприязнь южных славян к туркам-мусульманам.
(обратно)[269]
Идея разработки искусственного всеобщего языка, призванного заменить все национальные или, по крайней мере, на первых порах, служить межнациональному общению, зародилась еще в XVII в. Первым таким разработанным языком был волапюк, созданный в 1879–1880 гг. немецким пастором Иоганном Шлейцером. Одно время он пользовался некоторой популярностью. На волапюке в конце 80-х годов XIX в. даже выходило более 20 газет. Но к началу нашего века волапюк уступил место языку эсперанто, созданному в 1887 г. польским врачом Людвиком Заменгофом. Попытки разработки подобных искусственных языков предпринимались и в XX в. (окциденталь, новиаль, интерлингва и др.).
(обратно)[270]
Французский экономист Ж. К. Гурне, выступая в 1758 г. на ассамблее школы физиократов, провозгласил: «Laissez faire, laisses passer» («Позволяйте делать <что хотят>, позволяйте идти <куда хотят>» — фр.). Это выражение, ставшее крылатым, истолковывалось как лозунг полной экономической свободы, невмешательства государства в отношения производства и обмена. Система laissez faire — синоним системы экономического либерализма.
(обратно)[271]
Черепной индекс (называемый также головным указателем) — отношение ширины головы к ее длине, выраженное в процентах. В антропологии длинноголовыми (долихокефалами) считаются те, у кого черепной индекс меньше 75,9, а короткоголовыми, или круглоголовыми (брахикефалами), — те, у кого он больше 80. Один из основоположников расизма французский социолог Жорж Ляпуж (1854–1936) утверждал, что черепной индекс — важнейший признак различия высших и низших рас. По Ляпужу, представители арийской (нордической) расы, обладающие всеми достоинствами, — обязательно долихокефалы.
(обратно)[272]
Гобино Жозеф Артюр (1816–1882) — французский социолог, дипломат и писатель, заложивший своей работой «О неравенстве человеческих рас» (1853–1855) основы «научного» расизма. Чемберлен Хаустон Стюарт (1855–1927) — германский социолог, англичанин по происхождению. Развивая идеи Гобино, провозгласил немцев эталоном арийской расы.
(обратно)[273]
Гераклит Эфесский (535?--475? до н. э.), философ-диалектик, выдвинул положение о единстве и борьбе противоположностей. В его ставшем крылатым высказывании война есть синоним борьбы противоположностей как основы всего сущего.
(обратно)[274]
Масарик Томаш (1850–1937) — чешский философ, социолог и политический деятель (президент Чехословацкой республики с 1918 по 1935 г.). Выступал с критикой марксизма с общедемократических позиций.
(обратно)[275]
каталаксия (каталактика) — аристотелевский термин, означающий «рыночное хозяйство, использующее деньги в качестве посредника в обмене», «превращение врагов в друзей», «превращение чужого в члена общины»
(обратно)[276]
Кунов Генрих (1862–1936) — немецкий историк, социолог, этнограф. В целом стоя на позициях теории марксизма, критиковал как продиктованные не научным анализом, а политическими интересами взгляды Маркса и Энгельса на государство, революцию, диктатуру пролетариата.
(обратно)[277]
Политическая экономия после Рикардо с легкой руки Маркса широко стала именоваться вульгарной экономией (от латинского vulgaris — простой, обыденный). Ее родоначальником считается Жан Батист Сэй — комментатор и вульгаризатор Адама Смита. Немецкая вульгарная экономия, начинающаяся с Адама Мюллера и Фридриха Листа, получила развитие в форме исторической школы.
(обратно)[278]
Лексис Вильгельм (1837–1914) — немецкий статистик и экономист. В 1885 г. он выступил с критикой «Капитала» Маркса, но при этом защищал положения, фактически приводящие к признанию эксплуатации рабочих и переливу части созданной ими стоимости в руки капиталистов. Поэтому Энгельс назвал Лексиса «марксистом, облачившимся в костюм вульгарного экономиста» (Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 25, Ч. 1, С. 14). Мизес приводит раскавыченную цитату из Энгельса о тщательно отобранных Лексисом словах.
(обратно)[279]
Средневековые цехи — профессиональные объединения ремесленников — в целях устранения конкуренции между своими членами всячески ограничивали прием новых мастеров в цех, регламентировали число подмастерьев и учеников у мастера.
(обратно)[280]
1 августа 1914 г. Германия объявила войну России, 3 августа — Франции. Германская социал-демократическая партия поддалась националистическому угару. Ее лидеры призвали социалистов встать «на защиту отечества», заключить на время войны «классовый мир», а парламентская фракция социал-демократов голосовала за военные кредиты. В ноябре 1918 г. в Германии произошла демократическая революция, приведшая к власти значительно отрезвевших социал-демократов.
(обратно)[281]
это выражение пустил в ход для обозначения международного единства финансовых воротил берлинский муниципальный советник К. Вильманс, опубликовавший в 1876 г. брошюру «Золотой интернационал и необходимость создания партии социальных реформ»
(обратно)[282]
Согласно Библии («Исход», Гл. 14) евреи, уходившие из египетского рабства на землю обетованную, подошли к Красному морю, воды которого расступились по велению Господа и пропустили их.
(обратно)[283]
Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775–1854) — немецкий философ. Разработкой Философии природы он занимался на первом этапе своей деятельности (90-е годы XVIII в.). По Шеллингу, природа — динамическое единство противоположностей. Видимо, именно этой концепцией всеобщности борьбы противоположностей объясняется отрицательное отношение Л. Мизеса к Шеллингу, равно как и к Гегелю. Спекулятивной школой именуется философское направление, рассматривающее осмысление оснований миропорядка как особую область сугубо теоретического познания, стоящего над непосредственным опытом и не использующего методов прикладной науки.
(обратно)[284]
Месмеризировать — здесь в смысле гипнотизировать. Это слово обязано происхождением Францу Месмеру (1733–1815) — основателю учения о «животном магнетизме», которым он объяснял лечение внушением, приведение «магнетизируемого» в гипнотическое состояние и т. п.
(обратно)[285]
Каутский Карл (1854–1938) — немецкий экономист и философ, пропагандист марксизма, деятель германского социалистического движения и II Интернационала. Меринг Франц (1846–1919) — немецкий философ и историк, последователь марксизма, деятель германского рабочего движения. В 1927–1929 гг. К. Каутский опубликовал двухтомную монографию «Материалистическое понимание истории». Перу Меринга принадлежат многочисленные работы по истории Германии.
(обратно)[286]
Фейербах Людвиг (1804–1872) — немецкий философ-материалист. Фогт Карл (1817–1895) — немецкий естествоиспытатель и философ. Как и Бюхнер и Молешотт, он считается ярким представителем вульгарного материализма.
(обратно)[287]
эпистемология — теория познания
(обратно)[288]
Декарт Рене (1596–1650) — французский философ, математик и естествоиспытатель
(обратно)[289]
Галлер Карл Людвиг (1768–1854) — швейцарский юрист и историк
(обратно)[290]
Ламетри Жюльен Офре (1709–1751) — французский философ. В своей книге «Человек-машина» (1747 г.) он уподоблял человека самозаводящейся машине (Ламетри Ж. О., Соч., М., 1976, С. 183–244).
(обратно)[291]
Локк Джон (1632–1704) — английский философ и экономист, один из родоначальников британского либерализма
(обратно)[292]
Барт Пауль (1858–1922) — немецкий философ и социолог, критик марксизма
(обратно)[293]
Шопенгауэр Артур (1788–1860) — немецкий философ. Нравственная философия Шопенгауэра пессимистична, ибо она рассматривает страдание как определяющий атрибут человеческой жизни.
(обратно)[294]
Ницше Фридрих (1844–1900) — немецкий философ. Ницше отрицал мораль, негативно относился к современной ему культуре как вытесняющей интеллектом изначальные здоровые инстинкты человека-индивидуалиста.
(обратно)[295]
Гельд Адольф (1844–1880) — немецкий экономист, активный сторонник, а с 1873 г. -- секретарь «Союза социальной политики».
(обратно)[296]
Маркс опирался на трудовую теорию стоимости, лежащую в основе всей концепции Рикардо. Учение Маркса о прибавочной стоимости генетически восходит к рикардианскому представлению о прибыли как разнице между стоимостью товара и затратами на заработную плату рабочим, определяемую стоимостью их средств существования.
(обратно)[297]
Классическая школа достигла своей вершины в трудах Рикардо. Поскольку согласно трудовой теории стоимости прибыль выступала как неоплаченный труд рабочих, некоторые последователи Рикардо делали из его учения социалистические выводы. Среди рикардианцев социалистами были В. Томпсон (1785–1833) и Т. Годскин (1787–1865) В то же время другая часть последователей Рикардо утверждала, что рабочий, вступая в сделку с капиталистом, получает полный эквивалент своего вклада в еще не созданный товар, а прибыль капиталиста -- это результат накопленного труда. Последовательными защитниками капитализма были, например, рикардианцы Дж. Милль (1773–1836) и Д. Мак-Куллох (1784–1861).
(обратно)[298]
Хохофф Вильгельм (1848–1923) — немецкий экономист
(обратно)[299]
В числе известных теоретиков субъективной школы, придерживавшихся социалистической ориентации, следует назвать, прежде всего, английского экономиста Филиппа Уикстеда (1844–1927), которому принадлежит сам термин «предельная полезность». От него через писателя и публициста Дж. Б. Шоу (1856–1950) идеи субъективной школы были восприняты многими фабианскими социалистами. Был близок социализму швейцарский экономист Леон Вальрас (1834-1910) — один из основоположников теории предельной полезности.
(обратно)[300]
Зомбарт Вернер (1863–1941) — немецкий экономист, социолог и историк; в первый период своей деятельности был близок к марксизму, затем стал катедер-социалистом и критиком марксизма, а в последние годы перешел на позиции национал-социализма
(обратно)[301]
По Библии, Иоанн Креститель, называемый также Иоанном Предтечей, — проповедник, готовивший народ к пришествию Мессии. Иоанн, крестивший Иисуса по его настоянию, считал себя «недостойным развязать ремень у обуви его» (Евангелие от Иоанна, Гл. I, Ст. 27), Иисус же сказал впоследствии: «Из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя» (Евангелие от Матфея, Гл. 12, Ст. 28).
(обратно)[302]
Теннис Фердинанд (1855–1936) — один из основоположников немецкой социологии. Отрицательно относясь к политической программе марксизма, в основном поддерживал исторический материализм Маркса.
(обратно)[303]
В 1897–1898 гг. немецкий социал-демократ, ученик Маркса и Энгельса Эдуард Бернштейн (1850–1932) выступил с серией статей, в которых предпринял попытку пересмотра ряда положений марксизма. Тем самым Бернштейн положил начало первой волне ревизии марксистского учения в социалистическом движении. В защиту марксистских догм выступили А. Бебель, Ф. Меринг, Р. Люксембург, К. Каутский, Г. Плеханов, В. Ленин и другие ортодоксы. В целом в первом десятилетии XX столетия, т. е. за четверть века до написания книги Мизеса, ревизионизм идейно потерпел поражение.
(обратно)[304]
Гервег Георг (1817–1875) — немецкий поэт, находившийся под сильным влиянием Маркса, а с 60-х годов — Ф. Лассаля. По просьбе последнего Гервег написал в 1863 г. гимн для Всеобщего Германского рабочего союза, который и цитируется Мизесом (Цит. по: Гервег Г., Песнь немецких рабочих ферейнов // Избранное, М., 1958, С. 185).
(обратно)[305]
Кларк Джон Бейтс (1847–1938) — американский экономист. В своих небольших работах «Контроль над трестами» (1901), «Проблема монополии» (1904) и в фундаментальной книге «Основы экономической теории» (1909) он осуждает монополии за их агрессивность. По мнению Дж. Б. Кларка, монополии подавляют стремление к выгоде как этическую основу капиталистического предпринимательства и порождают угрозу конфликтов в хозяйстве.
(обратно)[306]
Societas unius acti — общество с солидарной ответственностью (в России — товарищество на паях). Предполагает неограниченную совместную ответственность всех действительных членов общества, товарищества.
(обратно)[307]
По верованиям римлян, жизнь человечества проходит через ряд кругов, каждый из которых находится под покровительством определенного божества. Золотой век соотносился с кругом Сатурна — доброго и справедливого бога урожая и земледельцев.
(обратно)[308]
Михей (вторая половина VIII в. до н. э.) — один из двенадцати библейских так называемых меньших пророков, современник пророка Исайи.
(обратно)[309]
Секуляризация — изъятие государством церковной собственности. Майордом (высшее должностное лицо Франции при династии Меровингов) Карл Мартелл (ок. 688–741) проводил широкую секуляризацию земель, которые затем жаловал в условное держание воинской знати, за что она обязывалась служить королю. Сын Карла Мартелла Пипин Короткий, основавший королевскую династию Каролингов, проводил ту же политику.
(обратно)[310]
Здесь имеется в виду фидеикомисс в германском праве нового времени: положение, согласно которому владелец имущества обязуется передать его в полной сохранности следующему преемнику, указанному в завещании или в учредительном акте. Майорат — система наследования, при которой имение со смертью владельца не делится, а переходит к старшему из сыновей.
(обратно)[311]
В Англии с конца XV в. началось массовое изгнание крестьян с общинных земель, получившее название «огораживание». Лендлорды в связи с повышением спроса на шерсть со стороны английских и голландских мануфактур превращали общинные земли в пастбища, а крестьянские дворы попросту уничтожались. Правительство, опасаясь сокращения числа налогоплательщиков и армейских рекрутов, неоднократно принимало законы в защиту крестьянских владений (статуты 1489, 1515, 1533, 1563 и последующих лет).
(обратно)[312]
«Правом мертвой» руки именовалась одна из норм средневекового права, ограничивающая наследование. В данном контексте Л. Мизес имеет в виду «право мертвой руки» по отношению к церковному имуществу, где оно имело специфический характер: имущество, в том числе земли, попавшее в руки церкви, не могло отчуждаться без согласия церковной общины.
(обратно)[313]
После разгрома Карфагена (146 г. до н. э.) римляне организовали на его территории провинцию Африка. Плиний Старший (23–79) и Плиний Младший (61?--114?) — римские писатели и государственные деятели. Меровинги — королевская династия во Франции, правившая с V по VIII в.
(обратно)[314]
Виктор Консидеран (1808–1893) — французский социалист-утопист был инженером по образованию — принадлежит к школе Фурье
(обратно)[315]
Фуггеры — купеческое и банкирское семейство, достигшее высшего расцвета в XVI в. Они ссужали деньгами не только германских феодалов, но и римских пап. Фуггеры, происходившие от швабских ткачей, получили дворянство, а в 1514 г. — титул имперских графов и стали крупными землевладельцами. Вельзеры — семейство, занимавшее в XV--XVI вв. второе место после Фуггеров в торговле и банковском деле Германии. В начале XVII в. основная ветвь Вельзеров потерпела банкротство.
(обратно)[316]
Баллод (Балодис) Карл (1864–1931) — немецкий, а с 1919 г. — латышский экономист и статистик. Его книга «Государство будущего», вышедшая в Германии первым изданием в 1898 г., написана с социалистических позиций.
(обратно)[317]
Мандевиль Бернард (1670–1733) — английский философ-моралист. Юм Дэвид (1711–1776) — английский философ, экономист и историк, автор «Трактата о человеческой природе».
(обратно)[318]
Шац Альбер (1879–1910) — французский социолог и экономист
(обратно)[319]
В конце XIX -- начале XX в. в США развернулась широкая кампания за запрещение монополистических трестов, следствием чего явилось так называемое антитрестовское законодательство (закон Шермана — 1890 г., закон Клейтона — 1914 г., закон Уэбба-Померена — 1918 г. и др.). Закон Шермана, являющийся ядром этой группы законодательных актов, запретил не только тресты, но и любую попытку монополизации торговли; однако он не содержал определения монополии, вследствие чего сфера его действия ограничилась именно трестовской формой монополизации.
(обратно)[320]
Первоначально термин «совершенная конкуренция» использовался как синоним свободной конкуренции. Иное истолкование он приобрел в 30-е годы нашего века в рамках теории монополистического рынка американского экономиста Э. Чемберлина (1899–1967) и его последователей. Согласно их представлениям, совершенная конкуренция — это действующий и при монополизации механизм быстрого реагирования на условия рынка, возвращающий цены в точки равновесия. Судя по тому, что термин «совершенная конкуренция» в первых изданиях книги Мизеса отсутствовал и появился лишь в английском издании 1936 г., Мизес употребляет его во втором значении.
(обратно)[321]
Эли Рихард Теодор (1854–1943) — американский экономист, сторонник этического подхода к анализу экономических явлений
(обратно)[322]
Л. Мизес ссылается здесь на предложенный Эдвардом Чемберлином график спроса и предложения с кривыми средних и дополнительных издержек, а также предельного дохода (Чемберлин Э., Теория монопольной конкуренции, М., 1959).
(обратно)[323]
В целях прекращения конкуренции между внешнеторговыми компаниями Нидерландов они были в 1602 г. Генеральными штатами (парламентом) страны объединены в голландскую Ост-Индскую компанию. Наделенная монопольными правами внешней торговли и мореплавания, Ост-Индская компания получала гигантские барыши вплоть до середины XVIII в., но вследствие поражения Нидерландов в войне с Англией 1780–1784 гг. пришла в упадок и была ликвидирована в 1798 г.
(обратно)[324]
Позднейшее развитие показало, что практически все международные соглашения (синдикаты) по никелю, меди, какао, сахару, цинку и пр. развалились вследствие борьбы за рыночные квоты. Та же судьба постигла организацию производителей нефти (ОПЕК), которая исчерпала весь свой монополистический потенциал всего за 11 лет — с 1974 по 1985 г.
(обратно)[325]
sub specie altemitatis — с точки зрения вечности (лат.)
(обратно)[326]
Имеется в виду тезис марксизма, что смена способов производства есть объективный процесс, а революции лишь освобождают дорогу новым общественным отношениям, вызревшим в недрах старого общества. Самое выражение «теория повивальной бабки» восходит к словам К. Маркса: «Насилие является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым» (Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 23, С. 761).
(обратно)[327]
Fiat justitia, pereat mundus -- да свершится правосудие, <пусть даже> погибнет мир (лат.). Ставшее крылатым выражение, служившее девизом германского императора Фердинанда I (1503–1564).
(обратно)[328]
Эпикур (341–270 до н. э.) — древнегреческий философ
(обратно)[329]
«Если порок не будет иметь вредных последствий — это не порок» (др. греч.)
(обратно)[330]
сам по себе — лат.
(обратно)[331]
да свершится правосудие, <пусть даже> погибнет мир — лат.
(обратно)[332]
да свершится правосудие и да не погибнет мир — лат.
(обратно)[333]
Гюйо Жан Мари (1854–1888) — французский философ, склонный к биологическому истолкованию нравственности и других социальных явлений. Нравственность Гюйо толковал как природное явление, порождение внутренней необходимости равновесия жизненных сил человека.
(обратно)[334]
Фулье Альфред Жюль Эмиль (1838–1912) — французский философ, социолог, этнопсихолог и этик. Он выдвинул положение об «идеях-силах» как двигателях эволюции. У Фулье в основе этики лежит, с одной стороны, стремление к благополучию, а с другой — воля как атрибут существования всего живого.
(обратно)[335]
pro aris et focis — за алтари и очаги (лат.)
(обратно)[336]
Термин «трансцендентный» введен И. Кантом для обозначения недоступного познанию и относящегося только к области веры.
(обратно)[337]
Франциск Ассизский (1182–1226) — итальянский религиозный деятель, основатель монашеского ордена францисканцев — нищенствующих проповедников евангельской бедности и аскетизма. Эгидий Ассизский (?--1262) -- его сподвижник. Оба канонизированы католической церковью.
(обратно)[338]
Матвей Парижский (ок. 1200 — после 1259) — английский монах, автор «Большой хроники» — важного исторического источника и ряда других работ. Иннокентий III (1160–1216) — римский папа с 1198 г. Утверждение Матвея Парижского, приводимое Мизесом, сомнительно. Именно при Иннокентии III было положено начало нищенствующим орденам францисканцев и доминиканцев, которые он использовал как мощное орудие усиления своей власти.
(обратно)[339]
Гаузер Каспар (1812–1833) — таинственная фигура немецкой истории. По его рассказу, с детства он был в одиночном заключении и общался только с одним человеком, приносившим ему еду и обучившим чтению и письму. В 1828 г. он был выпущен в мир, где через несколько лет был смертельно ранен неизвестным.
(обратно)[340]
Написано в начале 20-х годов. Жизнь показала, что Л. Мизес поспешил похоронить эти религии: после второй мировой войны они, особенно ислам, стали важной идейной и политической силой.
(обратно)[341]
Талмуд — собрание догматических, правовых, этических и бытовых предписаний иудаизма, сложившихся в период с 4 в. до н. э. по 5 в. н. э.
(обратно)[342]
В VII--VIII вв. мусульманские племена Аравийского полуострова захватили Палестину, Сирию, Иран, вторглись в Среднюю Азию и Закавказье, завоевали Северную Африку и Пиренейский полуостров.
(обратно)[343]
Лютер Мартин (1483–1546) — виднейший деятель религиозной реформации в Германии, основатель лютеранства — одного из течений протестантской церкви. Иоанн Кронштадтский (1821–1908) — настоятель собора в Кронштадте, протоиерей (в миру — Иван Ильич Сергеев). Еще при жизни имел славу чудотворца. Русской православной церковью причислен к лику святых. Распутин Григорий Ефимович (1872–1916) — сибирский крестьянин, приобретший славу прорицателя и целителя. Стал фаворитом Николая II и его супруги Александры Федоровны, убедив их, что своими молитвами он спасает больного гемофилией наследника и обеспечивает Господню поддержку царствующему дому.
(обратно)[344]
Гарнак Адольф (1851–1930) — немецкий протестантский теолог и историк, глава либерального течения в лютеранстве
(обратно)[345]
В католицизме каноническими именуются обязательные, имеющие правовой характер нормы, сформулированные на основе канонов-актов церковной власти. В эпоху раннего феодализма экономические воззрения находили свое выражение в трудах канонистов-кодификаторов канонического права. Канонисты резко отрицательно относились к ростовщичеству, опираясь на утверждения Аристотеля, содержащиеся в книге 1 его «Политики», что «деньги не могут порождать деньги» и из всех сфер приобретения ростовщичество «наиболее противно природе».
(обратно)[346]
Урбан III (Уберто Кривелли) был папой римским в 1185–1187 гг. Декреталиями именуются папские постановления, имеющие форму посланий к верующим.
(обратно)[347]
истолковываемый отрывок звучит так: «И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего...» (Гл. 6, Ст. 34–35)
(обратно)[348]
Книс Карл (1821–1898) — немецкий экономист, один из основоположников исторической школы в политэкономии
(обратно)[349]
В гл. 6 Евангелия от Луки приводятся заповеди Христа, в том числе: «Ударившему тебя по щеке подставь и другую; и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку»; «Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад»; «Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены...».
(обратно)[350]
В Нагорной проповеди Христа заповедано: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить... Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их» (Евангелие от Матфея, Гл. 6. Ст. 25–26).
(обратно)[351]
Пфлейдерер Отто (1839–1908) — немецкий протестантский теолог и историк религии
(обратно)[352]
Кальвинизм (по имени основателя Жана Кальвина) — течение в протестантизме, возникшее в XVI в., наиболее последовательно выражавшее антифеодальные настроения крепнущей буржуазии. Кальвинисты всячески приветствовали деловое преуспеяние, видя в нем свидетельство божественного покровительства.
(обратно)[353]
Иоанн Златоуст (3457–407) — константинопольский патриарх с 388 по 404 г., видный идеолог раннего христианства. Его проповеди и завоеванная у горожан популярность вызвали недовольство светских властей, добившихся его низложения и ссылки. Впоследствии причислен к лику святых.
(обратно)[354]
Согласно Евангелию от Матфея, на вопрос юноши, что сделать доброго, чтобы обрести вечную жизнь, Иисус, в частности, ответил: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим» (Гл. 19, Ст. 21). Аналогичны места в Евангелии от Марка (Гл. 10, Ст. 21), в Евангелии от Луки (Гл. 18, Ст. 22). В Деяниях святых апостолов говорится об уверовавших в Христа: «Все же верующие были вместе и имели все общее: и продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого» (Деяния, Гл. 2, Ст. 44–45)
(обратно)[355]
Иезуитское государство в Парагвае просуществовало с 1610 по 1768 г. Средства производства здесь считались принадлежащими Иезуитскому ордену, а работающие на них индейцы были низведены до положения рабов. Опасаясь чрезмерного усиления иезуитов, испанские власти изгнали орден Иисуса из всех американских владений Испании, в том числе и из Парагвая, в 1768 г.
(обратно)[356]
Папские энциклики (послания всем верующим католикам) принято именовать по первым словам. В ознаменование сорокалетия энциклики «Rerum Novarum» опубликована «Quadragesimo anno» («В сороковой год»), повторяющая те же положения, однако содержащая более резкую критику социализма и коммунизма и в то же время положительно оценивающая идеи корпоративного строя, пропагандируемые фашизмом. Энциклика «Rerum Novarum» («О новых вещах») — программный документ католицизма по социально-экономическим вопросам. В нем частная собственность объявлена «божественным правом», а социализм — «фальшивым лекарством». В то же время в этой энциклике содержатся призывы к социальным реформам во Имя справедливости, приветствуются христианские профсоюзы.
(обратно)[357]
Фихте Иоганн Готлиб (1762–1814) — представитель немецкой классической философии. Утверждение Мизеса о социализме Фихте базируется на представлениях философа о роли государства. По Фихте, государство должно обеспечивать каждому право на труд и на собственность, определять число лиц, которые должны быть заняты в той или иной отрасли производства, устанавливать цены, гарантировать сбыт товаров и вообще регламентировать производство. Однако Фихте признавал только частную собственность на средства производства.
(обратно)[358]
Неокантианство — философское направление, опиравшееся на идеи Иммануила Канта. Сложившееся в последнюю треть XIX в., оно было популярно вплоть до 30-х годов XX в. Неокантианство представлено несколькими школами. Немецкий философ и экономист Фридрих Ланге (1828–1875), один из основоположников «физиологической школы», пропагандировал неокантианское учение в рабочем движении. Марбургская школа, к которой принадлежал немецкий философ и глава марбургской школы неокантианства Коген Герман (1842–1918), развивала идеи этического социализма. Теоретическое обоснование этического социализма она видела в представлениях Канта об автономности человеческой воли. Коген был одним из создателей теории «этического социализма». Социализм рассматривался неокантианцами-марбуржцами как система этических ценностей.
(обратно)[359]
В начале XX в. попытки соединения марксизма с неокантианством были предприняты видными теоретиками немецкой и австрийской социал-демократии, Максом Адлером (1873–1937) и Эдуардом Бернштейном (1850–1932).
(обратно)[360]
Бентам Иеремия (1748–1832) — английский правовед и моралист, теоретик утилитаристской этики, исходящей из определяющей роли принципа полезности. По Бентаму, в основе этического поведения лежит эгоизм. Милль Джон Стюарт (1806–1873) — английский экономист, философ и общественный деятель. Последний крупный представитель английской классической школы в политической экономии, сторонник трудовой теории стоимости. Милль в этике был сторонником утилитаризма (ему и принадлежит этот термин). Отвергая «эгоистические крайности» Бентама, он признавал важность наряду с эгоизмом альтруистических мотивов, но рассматриваемых с точки зрения полезности для рода. Фейербах Людвиг (1804–1872) — немецкий философ-материалист. В этике Людвиг Фейербах исходил из эгоизма как сообразности поведения с природою обусловленными потребностями человека. Фергюсон Адам (1723–1816) — шотландский философ и историк, учитель А. Смита. Основой этического поведения он считал сочетание самолюбия с человеколюбием, а руководящим моральным принципом — «распространение счастья». Смит Адам (1723–1790) — английский экономист, один из создателей классической школы политической экономии. По Адаму Смиту, в основе морали лежат естественные чувства. Природа человека противоречива: наряду со своекорыстием человеку свойственна альтруистическая готовность пожертвовать своими интересами ради общих.
(обратно)[361]
Л. Мизес цитирует слова Канта из «Основ метафизики нравственности» (Кант И., Сочинения: В 6 т., М., 1965, Т. 4, Ч. 1, С. 270).
(обратно)[362]
Категорический императив — понятие кантовской философии, обозначающее основной закон, определяющий нравственную сторону деятельности человека. Категорический императив безотносителен как к личности, так и к обстоятельствам ее действий; безусловное следование ему составляет высший долг нравственного человека.
(обратно)[363]
Версальский договор от 28 июня 1919 г. и Сен-Жерменский договор от 10 сентября 1919 г. — мирные договоры стран — победительниц в первой мировой войне соответственно с Германией и Австрией (правопреемницей Австро-Венгерской империи).
(обратно)[364]
Тодт Рудольф (1839–1887) — активный участник немецкого христианского (протестантского) социального движения, один из основоположников «Союза социальных реформ»
(обратно)[365]
стоицизм -- философская школа, зародившаяся в Древней Греции и приобретшая большую популярность (особенно этические ее представления) у римской знати I в. нашей эры
(обратно)[366]
Рококо — стиль европейского искусства, получивший распространение в XVIII в., для которого характерны изящество и декоративность. Энциклопедисты — видные философы и ученые, создатели вышедшей во Франции в 1751-1780 гг. «Энциклопедии, или Толкового словаря, наук, искусств и ремесел» (17 томов текста и 11 томов иллюстраций). В числе энциклопедистов — Д. Дидро, Ж. Л. Д'Аламбер, Ф. Вольтер, Ж. Ж. Руссо и другие выдающиеся мыслители.
(обратно)[367]
Перикл (ок. 490–429 до н. э.) — видный афинский государственный деятель и военачальник, проведший ряд демократических преобразований и всячески поощрявший развитие культуры. При нем осуществлено строительство великолепных общественных зданий (Парфенон, Одеон, Пропилеи и др.). Меценат Гай Цильний (ок. 70–8 до н. э.) — приближенный римского императора Августа. Прославился как богатый покровитель деятелей литературы и искусства, в том числе Вергилия и Горация, что сделало его имя нарицательным.
(обратно)[368]
Acquisitive Society — общество стяжателей (англ.)
(обратно)[369]
Functional Society -- общество функционеров (англ.)
(обратно)[370]
Круппы — семейство немецких промышленных магнатов, владельцев военно-металлургического комплекса. Шнейдеры -- семейство французских промышленников и финансистов, чьи капиталы вложены в металлургические предприятия и заводы тяжелого машиностроения, выполняющие в первую очередь военные заказы.
(обратно)[371]
Ратенау Вальтер (1867–1922) — германский политический деятель, публицист и промышленник. По своим убеждениям Ратенау был скорее не социалистом, а сторонником реформирования общества в направлении организованного капитализма.
(обратно)[372]
Деструкционизм -- от destructio — разрушение (лат.).
(обратно)[373]
цитата из «Манифеста Коммунистической партии» (см. Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 4, С. 447)
(обратно)[374]
Английские социалисты Джон Грей (1798–1850), Джон Френсис Брей (1805–1895), Томас Годскин (1787–1869) и другие, опираясь на Рикардо и Оуэна, критиковали капитализм как строй, позволяющий владельцам капитала присваивать прибавочную стоимость, произведенную рабочими. Их общим лозунгом было «право рабочего на полный продукт труда». Работы их, написанные, как правило, в расчете на неподготовленного читателя, были популярны, в том числе и в рабочей среде. Чартизм как массовое движение английских рабочих зародился в 1838 г. Первоначально чартисты выдвигали только требования политических реформ, но в 40-е годы они провозгласили ряд социальных требований. Однако в целом чартистское движение, изжившее себя в начале 50-х годов, не носило социалистического характера.
(обратно)[375]
Л. Мизес имеет в виду появление книги австрийского экономиста Карла Менгера «Основания политической экономии», сыгравшей решающую роль в становлении так называемой субъективной школы в политэкономии. Первый том «Капитала» вышел в 1867 г., а работа К. Менгера — в 1871 г.
(обратно)[376]
перефразировка знаменитого изречения прусского военного теоретика Карла Клаузевица (1780–1831): «Война есть продолжение политики иными средствами»
(обратно)[377]
Флобер Гюстав (1821–1880) и Мопассан Ги (1850–1893) — французские писатели. Якобсен Енс Петер (1847-1885) — датский писатель. Стриндберг Юхан Август (1849–1912) — шведский писатель. Мейер Конрад Фердинанд (1825–1898) — швейцарский немецкоязычный писатель. Все перечисленные писатели — видные представители реалистического направления в литературе.
(обратно)[378]
Гауптман Герхарт (1862–1946) — немецкий писатель. Его драма «Ткачи» (1892) посвящена восстанию силезских ткачей в 1844 г.
(обратно)[379]
soidisant — мнимый (фр.)
(обратно)[380]
Манчестерство -- экономическая политика, провозглашенная так называемой Манчестерской школой в конце 30-х годов XIX в. Ее основоположники Р. Кобден и Дж. Брайт — английские экономисты и политические деятели — выступали за полную экономическую свободу товаропроизводителей. Манчестерская школа вела борьбу против протекционизма, правительственных субсидий, фабричного законодательства — вообще против любого вмешательства государства в хозяйственную жизнь.
(обратно)[381]
Моррис Вильям (1834–1896) — английский писатель и художник, автор социалистической утопии «Вести ниоткуда, или Эпоха спокойствия». Дж. Б. Шоу (1856–1950) — писатель и публицист. Шоу был одним из основателей социалистического Фабианского общества. Уэллс Герберт Джордж (1866–1946) - английский писатель, близкий к социализму этического толка. Золя Эмиль (1840–1902) — французский писатель, автор серии критических романов «Ругон-Маккары», проявлявший интерес к идеям социализма. Франс Анатоль (1844–1924) — французский писатель, в начале XX в. сблизившийся с социалистами. Де Амичис Эдмондо (1846–1908) — итальянский писатель, чье творчество посвящено людям труда, социалист по убеждениям. В отличие от других называемых Мизесом писателей Де Амичис ныне забыт, но в конце XIX — начале XX в. был весьма популярен. По его повести «Учительница рабочих» Маяковский создал сценарий фильма «Барышня и хулиган».
(обратно)[382]
Коммунистические мотивы были присущи секте катаров (Италия, Южная Франция, Фландрия, XI в.) и возникшей под ее влиянием секте вальденсов (Франция, Северная Италия, Германия, Испания, XII в.). Полностью отрицала частную собственность и государство секта «братьев и сестер свободного духа» (Франция, XI в.). В Нидерландах в XIV в. возникла секта беггардов, члены которой вели коллективное хозяйство и жили вместе. Широкое распространение получили коммунистические воззрения в ересях времен Реформации, — массового антифеодального и антикатолического движения, охватившего в XVI в. многие страны Европы. Так, в Южной Чехии сформировалась хилиастическая секта пикартов; в Швейцарии сложилась ересь анабаптистов, требовавших ликвидации торговли и денег, уравнения имуществ и коллективного землевладения.
(обратно)[383]
Имеются в виду слова Нагорной проповеди: «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевается так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!» (Евангелие от Матфея, Гл. 6, Ст. 28–30).
(обратно)[384]
Брентано Луйо (1844–1931) — немецкий экономист, представитель катедер-социализма. Пропагандировал, в частности, устранение противоречий между трудом и капиталом с помощью фабричного законодательства и развития профсоюзного движения.
(обратно)[385]
Сениор Нассау Вильям (1790–1864) — английский экономист. Будучи в 30-е годы членом ряда правительственных комиссий по вопросам труда, выступал против фабричного законодательства, в частности против ограничения рабочего дня 10 часами. По Сениору, на создание прибыли капиталиста уходит часть рабочего дня, пропорциональная доле прибыли в валовом продукте. Согласно расчетам Сениора, эта доля равна 2/23, что соответствует одному часу из рабочего дня средней для английской промышленности того времени продолжительности в 11 с половиной часов. Поэтому сокращение рабочего дня даже на час приведет к полному исчезновению прибыли.
(обратно)[386]
После многолетней борьбы билль о 10-часовом рабочем дне был принят английским парламентом в 1847 г. Введенное им ограничение продолжительности рабочего дня касалось подростков моложе 18 лет и женщин, но именно эти группы составляли основную часть фабричной рабочей силы того времени.
(обратно)[387]
Закон о бедных, основанный на акте 1601 г., возлагал заботу о содержании бедных на приход. В начале 30-х годов XIX в. законодательство о бедных стало предметом обсуждения и в прессе, и в специально созданной комиссии. Комиссия пришла к выводу, что система поддержки малоимущих, многодетных и безработных разорительна для страны, тормозит развитие промышленности и дурно действует на нравственность масс. В 1834 г. парламент принял новый закон о бедных, отменивший все денежные и продуктовые пособия беднякам и предусмотревший широкое создание работных домов для нуждающихся.
(обратно)[388]
Впервые в мире система государственного социального страхования была создана в Германии при рейхсканцлере Отто Бисмарке. Законами от 1883, 1884 и 1889 гг. было введено страхование работников от несчастных случаев, предусмотрены выплаты при болезни, пенсии по старости и инвалидности.
(обратно)[389]
в русском сокращенном переводе место, на которое ссылается Мизес, опущено, но аналогичная мысль изложена и на другой странице, представленной в переводе, — на нее и дана ссылка
(обратно)[390]
post hoc ergo propter hoc — после того значит вследствие того (лат.)
(обратно)[391]
С 4 по 12 мая 1926 г. по призыву конференции исполкомов профсоюзов в Великобритании прошла всеобщая стачка. Стачка проводилась в поддержку бастующих горняков. 11 мая Верховный суд объявил ее незаконной. По следам стачки 28 июля 1927 г. был принят Закон о промышленных конфликтах и тред-юнионах, запретивший всеобщие стачки и стачки солидарности. Он просуществовал до 1946 г.
(обратно)[392]
13 марта 1920 г. немецкие монархисты и милитаристы, опираясь на части рейхсвера и так называемые «добровольческие корпуса» — военизированные формирования, состоящие в основном из бывших фронтовиков, подняли антиправительственный мятеж. Войдя в Берлин, путчисты сформировали свое правительство во главе с Вольфгангом Каппом (1868–1922) — крупным помещиком, лидером «Партии отечества». Президент и законное правительство бежали в Штутгарт. Профсоюзы призвали ко всеобщей стачке. Стачка, в которой приняло участие 12 млн. человек, сыграла решающую роль в разгроме путча, с которым было покончено во всей Германии за 5 дней. Капп бежал в Швецию.
(обратно)[393]
status quo -- существующее положение (лат.)
(обратно)[394]
«Technische Nothilfe» — «Техническая помощь в беде» (нем.) -- существовавшая в Германии с 1919 по 1945 г. добровольческая организация, члены которой выполняли работы на транспорте, на предприятиях энергоснабжения, в других службах жизнеобеспечения при забастовках, локаутах и стихийных бедствиях. До 1939 г. она числилась при министерстве внутренних дел, а затем была объявлена независимой общественной организацией.
(обратно)[395]
Гольдшейд Рудольф (1870–1931) — австрийский экономист.
(обратно)[396]
В 1916 г. в Германии вокруг журнала «Интернационал» сложилась и организационно оформилась группа «Спартак», объединившая радикально настроенных социал-демократов. 11 ноября 1918 г. сразу же после свержения монархии, она преобразовалась в самостоятельную политическую организацию со своим ЦК — «Союз Спартака». 28–29 декабря 1918 г., конференция спартаковцев объявила себя учредительным съездом Коммунистической партии Германии («Союз Спартака»). Какое-то время за германскими коммунистами, возглавлявшимися К. Либкнехтом, Р. Люксембург, Ф. Мерингом и др., сохранялось имя спартаковцев.
(обратно)[397]
В своем основном труде «Начала политической экономии и налогового обложения», опубликованном в 1817 г., Д. Рикардо детально рассматривает влияние на экономику отдельных видов налогов: на сырье, на ренту, на землю, на прибыль, на заработную плату и т. д.
(обратно)[398]
Под «военным социализмом» Л. Мизес подразумевает введенную в годы первой мировой войны в Германии и Австро-Венгрии систему государственного регулирования производства и потребления.
(обратно)[399]
Маркс и Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии» называли высокий прогрессивный налог в числе десяти мероприятий, «которые экономически кажутся недостаточными и несостоятельными, но которые в ходе движения перерастают самих себя и неизбежны как средство для переворота во всем способе производства» (Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 4, С. 446).
(обратно)[400]
Fiduciary media -- фидуциарные средства (лат.), т. е. денежные субституты, принимаемые по номинальной ценности. К ним относятся имеющие хождение платежные требования, превышающие гарантийные резервы соответствующих платежей. Фидуциарные деньги включают жетоны, банкноты, не обеспеченные золотом, свидетельства о вкладах до востребования и т. п.
(обратно)[401]
«Смерть евреям!» — нем., жаргонное)
(обратно)[402]
Стурм (Штурм) Рене (1837–1917) — французский экономист и историк народного хозяйства
(обратно)[403]
«Я <здесь> расположился и владею <этим>» — нем.
(обратно)[404]
misera plebs — жалкий народ, нищий люд (лат.); крылатое выражение, восходящее к Горацию
(обратно)[405]
Катрейн Виктор (1845–1931) — философ и этик, швейцарец по происхождению, профессор иезуитской высшей школы в Нидерландах
(обратно)[406]
Под аграрным социализмом подразумевается довольно широкий круг воззрений, связанных с требованием национализации земли. По утверждениям их сторонников, национализация земли позволит устранить капиталистическую эксплуатацию наемных рабочих, ибо каждый гражданин сможет получить участок земли для ведения собственного хозяйства. Особую популярность, главным образом в Англии, Ирландии и США, получили взгляды американского экономиста и публициста Генри Джорджа (1839–1897). В России их пропагандировал и развивал Л. Н. Толстой. Под синдикализмом в данном случае Л. Мизес подразумевает тот общественно-экономический строй, который пропагандировался популярными в рабочем движении начала XX в. анархо-синдикалистами. Согласно их воззрениям после победы над буржуазией экспроприируемые у нее средства производства не обобществляются, а переходят в собственность отдельных синдикатов — профсоюзных объединений, т. е. становятся групповой собственностью. В этом смысле Мизес противопоставляет синдикализм социализму как воплощению идеи единой, общенародной собственности.
(обратно)[407]
Анабаптисты — участники религиозно-политического движения, занимавшие во время Крестьянской войны в Германии крайне революционные позиции, пропагандировавшие общность имущества и уравнительное потребление. В 1533–1534 гг. анабаптисты, укрепившиеся в северогерманском городе Мюнстере, создали здесь мюнстерскую коммуну: конфисковали в общую пользу имущество церкви и богатых горожан, упразднили деньги, запретили торговлю и ввели для всех обязательный труд при уравнительном распределении предметов потребления. Главную роль в жизни коммуны после гибели «пророка» Яна Матиса стали играть Ян Бокельзон, более известный под именем Иоанна Лейденского (1508–1535), и его приспешник Бернт (Бернард) Книппер-доллинг (1490–1536).
(обратно)[408]
de facto — фактически (лат.)
(обратно)[409]
Поланьи Карл (1886–1964) — австрийский экономист, социолог, антрополог и историк; после гитлеровского захвата Австрии эмигрировал в Англию, затем работал в США.
(обратно)[410]
Хейман Эдуард (1889–1967) — немецкий экономист и социолог, теоретик «христианского социализма», один из создателей модели рыночного социализма.
(обратно)[411]
имеются в виду Муссолини и Гитлер
(обратно)[412]
Харкурт Уильям (1827–1904) — британский юрист, журналист, политик. Принимал видное участие в налоговой реформе 1894 г.
(обратно)[413]
Робертс Элмер (1863–1924) — американский историк
(обратно)[414]
Zwangswirtschaft -- принудительная экономика (нем.). Контролируемой экономикой (в немецком оригинале -- «принудительной экономикой») Мизес именует экономику Германии и Австро-Венгрии в период мировой войны 1914–1918 гг., когда были введены рационирование предметов первой необходимости, государственное регулирование распределения сырья и т. п. меры управления экономической жизнью.
(обратно)[415]
Betriebsfuhrer -- руководитель, вождь предприятия (нем.).
(обратно)[416]
Лассаль Фердинанд (1825–1864) — деятель германского рабочего движения, публицист. Рассматривал государство как важный фактор движения человечества к свободе и справедливости. В социалистической концепции Лассаля едва ли не решающая роль отводилась государству. Государство, по Лассалю, даже в современной ему бисмарковской Пруссии могло и должно было стать организатором и инвестором социалистических производственных ассоциаций трудящихся.
(обратно)[417]
Митчелл Уэсли Клер (1874–1948) — американский экономист
(обратно)[418]
CIO — аббревиатура от Congress of Industrial Organizations (русский аналог — КПП — Конгресс производственных профсоюзов). CIO (КПП) — профсоюзное объединение американских рабочих, конституировавшееся в 1938 г. и просуществовавшее до конца 1955 г. КПП, отколовшийся от Американской федерации труда (АФТ), занял более радикальную позицию, чем АФТ по вопросам внутренней политики.
(обратно)[419]
Штрассер Грегор (1892–1934) — один из основоположников национал-социалистской партии Германии. Перед приходом нацистов к власти находился в оппозиции к Гитлеру, возглавлял «радикальное крыло» партии, всячески рекламировавшее свои антикапиталистические позиции. В частности, в отличие от Гитлера, ориентировавшегося на поддержку предпринимателей, Штрассер делал ставку на профсоюзное движение. В 1932 г. Г. Штрассер лишился руководящего поста в партии, а в 1934 г. был ликвидирован физически.
(обратно)[420]
Ласки Гарольд Джозеф (1893–1950) — профессор Лондонской школы экономических и политических знаний, признанный теоретик Лейбористской партии. С 1936 по 1949 г. был членом исполкома, а в 1945–1946 гг. — председателем исполкома этой партии. Его книга «Кризис демократии», на которую ссылается Мизес, выдержала несколько изданий.
(обратно)[421]
Карл I (1600–1649) — король Англии, осуществлявший крайне реакционную политику. Неоднократно распускал непослушные парламенты (с 1629 по 1640 г. Англия вообще жила без парламента), жестоко репрессировал оппозиционных парламентариев. Георг III (1783–1820) — король Великобритании, известный своими абсолютистскими поползновениями. В частности, в 1794 г. он приостановил действие Habeas corpus act — закона (принятого парламентом еще в 1679 г.), охранявшего жителей от административно-полицейского произвола.
(обратно)[422]
Филипп II (1527–1598) — король Испании. Фанатичный католик, главной своей задачей он считал искоренение инакомыслия во всей Европе и потому всячески поощрял инквизицию.
(обратно)[423]
Кроутер Джеймс Геральд (1899) — английский науковед и историк науки, автор книг о науке в Советском Союзе.
(обратно)[424]
Викторианской эпохой именуют период истории Британской империи, связанный с пребыванием на престоле королевы Виктории (с 1837 по 1901 годы). Это было время расцвета промышленного капитализма, успехов колониальной экспансии, расширения политических прав широких слоев населения. Милль Джон Стюарт (1806–1873) — английский экономист, философ и общественный деятель. Последний крупный представитель английской классической школы в политической экономии, сторонник трудовой теории стоимости. Убежденный либерал, Милль много занимался вопросами этики. Его работа «О свободе» вышла в свет в 1859 г.
(обратно)[425]
«Новый курс» -- проводившаяся президентом США Ф. Д. Рузвельтом в 1933–1938 гг. экономическая политика. В целях преодоления последствий «великой депрессии» 1929–1933 гг. она предусматривала государственное регулирование некоторых сторон хозяйственной жизни посредством фиксации цен и уровней производства ряда товаров, субсидирования фермеров и т. д. В отличие от большинства западных исследователей, высоко оценивавших «Новый курс» как эффективное средство обеспечения экономического прогресса и торжества демократии. Мизес сугубо критичен в отношении рузвельтовской хозяйственной политики как ориентированной на усиление роли государства. NRA — аббревиатура от National <Industrial> Recovery Act (Закон о восстановлении национальной промышленности). Принят в США в 1933 г. В том же году принят ААА — Agricultural Adjustment Act (Закон о регулировании сельского хозяйства). Направленные на преодоление «великой депрессии», эти законы резко усиливали государственное регулирование экономической жизни. Под лозунгом обеспечения «честной конкуренции» внедрялся ряд монополизирующих моментов: фиксация цен и уровней производства, распределение рынков сбыта в различных отраслях промышленности, поощрение фермеров за сокращение посевных площадей и поголовья скота.
(обратно)[426]
Тред-юнионизм -- течение в рабочем движении, сформировавшееся первоначально в Великобритании в середине XIX в. Согласно концепции тред-юнионистов рабочие могут добиться коренного улучшения условий своей жизни и работы, организуясь в профессиональные союзы (тред-юнионы). Тред-юнионизм ориентировался не только на экономические соглашения профсоюзов с предпринимателями, но и на проведение требований тред-юнионов через парламент.
(обратно)[427]
Будучи рейхсканцлером Германской империи, Отто Бисмарк в 1878 г. выдвинул, а затем провел в жизнь программу социального законодательства, предусматривавшую государственные гарантии значительным слоям рабочего класса, особенно в области социального страхования. Впервые в мире система государственного социального страхования была создана в Германии при рейхсканцлере Отто Бисмарке. Законами от 1883, 1884 и 1889 гг. было введено страхование работников от несчастных случаев, предусмотрены выплаты при болезни, пенсии по старости и инвалидности.
(обратно)[428]
Сорель Жорж (1847–1922) — французский социолог и философ, теоретик революционного анархо-синдикализма. Революцию Сорель рассматривал как волевой стихийный порыв народа. Его взгляды нашли наиболее полное воплощение в книге «Размышления о насилии» (1906). Резко критикуя парламентски-реформистскую практику социал-демократических партий, Сорель признавал единственной революционной силой синдикаты (профсоюзы), а политической борьбе противопоставлял прямые действия пролетариата: бойкот, всеобщую стачку и т. п. Начав свой идейный путь как марксист, Сорель затем стал одним из основоположников анархо-синдикализма, а в последние годы жизни сблизился с националистами. Его взгляды оказали влияние на формирование идеологии итальянского фашизма: Муссолини называл Сореля своим духовным отцом. В то же время Сорель выступал в поддержку Октябрьской революции, призывал к оказанию помощи большевистской России.
(обратно)[429]
Имеются в виду Екатерина I и Екатерина II. Жена Петра I, литовка по происхождению, Марта Скавронская после смерти мужа, не назначившего преемника престола, была провозглашена гвардейцами императрицей Екатериной I. Занимала императорский престол с 1725 по 1727 г. Немецкая княжна Софья Анхальт-Цербстская свергла, опираясь на гвардию, своего мужа Петра III и с 1762 по 1796 г. царствовала под именем Екатерины II.
(обратно)[430]
Кромвель Оливер (1599–1658) — деятель английской буржуазной революции, командующий вооруженными силами республиканцев. В 1653 г. установил режим личной военной диктатуры. Робеспьер Максимиллиан (1758–1794) — деятель Великой французской революции, руководитель якобинцев. С 1793 г. формально будучи только членом Комитета общественного спасения, фактически возглавлял правительство, сосредоточив в своих руках диктаторскую власть. Наполеон Бонапарт (1769–1821) в 1799 г. произвел государственный переворот, в результате которого как консул получил всю полноту власти. В 1804 г. был провозглашен императором.
(обратно)[431]
Керенский Александр Федорович (1881–1970) — русский политический деятель, эсер. С июля 1917 г. — министр-председатель Временного правительства, с сентября — одновременно и Верховный главнокомандующий.
(обратно)[432]
18-го брюмера VIII г. по введенное во время Великой французской революции календарю (9 ноября 1799 г.) Наполеон Бонапарт захватил власть во Франции. С тех пор выражение «18-е брюмера» стало символом политического переворота.
(обратно)[433]
Л. Мизес несколько неточен: из 715 избранных депутатов большевиков было 175 (24,5%). На заседание Учредительного собрания явилось только 410 депутатов, вследствие чего доля большевиков возросла примерно до 30%.
(обратно)[434]
Каутский Карл (1854–1938) — немецкий экономист и философ, пропагандист марксизма, деятель германского социалистического движения и II Интернационала. В деле завоевания власти пролетариатом он выдвигал на передний план мирные методы; Октябрьскую революцию встретил отрицательно. Тома Альбер (1878–1932) — французский историк, один из лидеров французских социалистов. В годы первой мировой войны стоял на позициях классового мира, входил в состав французского правительства. Активно выступал против выхода России из войны с Германией после Февральской революции.
(обратно)[435]
desinteressement — незаинтересованность, равнодушие (фр.)
(обратно)[436]
Lebensraum — жизненное пространство (нем.). Термин, получивший хождение в связи с работами так называемых геополитиков (Ф. Рамуель, К. Хаусхофер и др.), широко использовался в нацистской идеологии.
(обратно)[437]
Понятие предельная производительность труда введено американским экономистом Джоном Бейтсом Кларком. Кларк Джон Бейтс (1847–1938) — американский экономист. В своих небольших работах «Контроль над трестами» (1901), «Проблема монополии» (1904) и в фундаментальной книге «Основы экономической теории» (1909) он осуждает монополии за их агрессивность. По мнению Дж. Б. Кларка, монополии подавляют стремление к выгоде как этическую основу капиталистического предпринимательства и порождают угрозу конфликтов в хозяйстве. По Кларку, при неизменной величине капитала дополнительные вложения труда будут давать все меньший прирост промышленного продукта. Прирост продукции, обеспеченный вовлечением в производство «последнего» (при данном капитале) дополнительного рабочего, — это и есть предельная производительность труда. Она определяет уровень заработной платы всех рабочих, ибо более высокая выработка ранее вовлеченных в производство — не их заслуга, а проявление производительности капитала. Чем меньше приток рабочей силы в страну, тем выше в ней предельная производительность труда, а следовательно, и зарплата. Наоборот, в странах, откуда затруднен отток рабочих, число занятых непомерно велико в сравнении с имеющимся капиталом, что влечет за собой снижение предельной производительности, а значит, и зарплаты.
(обратно)[438]
имеется в виду Пий XII (Пачелли Эудженио), занимавший папский престол с 1939 по 1958 г.; в период второй мировой войны благожелательно относился к германской и итальянской агрессии, что вызвало недовольство в католической среде
(обратно)[439]
Первый Интернационал (международное товарищество рабочих) был основан Марксом и Энгельсом в Лондоне в 1864 г. Формально он был распущен в 1876 г., хотя свою деятельность фактически прекратил после поражения Парижской коммуны в 1871 г.
(обратно)[440]
Пятая колонна — ставшее крылатым выражение из обращения по радио к жителям Мадрида франкистского генерала Э. Мола (1936 г.). Призывая их к сдаче, Мола заявил, что он ведет наступление четырьмя колоннами, а пятая колонна тайно ведет борьбу с республиканцами в самом Мадриде. Anschluss — присоединение (нем.). Это немецкое слово вошло в политический лексикон многих стран после захвата фашистской Германией Австрии (1938 г.).
(обратно)[441]
29 сентября 1938 г. в Мюнхене главы правительств Великобритании, Франции, Германии и Италии подписали соглашение о расчленении Чехословакии. Карпатская Русь была оккупирована Венгрией. С 1945 г. она стала Закарпатской областью Украины.
(обратно)[442]
Cordon sanitaire — санитарный кордон (фр.). Так зачастую именовались в политических публикациях 20-х годов образовавшиеся после Октябрьской революции государства — Эстония, Латвия, Литва, Польша, отделявшие Западную Европу от большевистской России.
(обратно)[443]
Людендорф Эрих (1865–1937) — немецкий генерал. В 1917 г. занимал должность генерал-квартирмейстера верховного командования, фактически был его главой. Л. Мизес имеет в виду широко распространенное представление, что германский генштаб не только предоставил Ленину с группой единомышленников возможность приезда в Россию через территорию Германии весной 1917 г., но и субсидировал большевистскую деятельность, направленную на выход России из войны.
(обратно)[444]
Вильсон Томас Вудро (1856–1924) — президент США с 1913 по 1921 г. После вступления США в апреле 1917 г. в войну с Германией Вильсон неоднократно повторял, что политика его страны продиктована исключительно целью «спасти мир для демократии».
(обратно)[445]
«Mein Kampf» («Моя борьба») — книга Адольфа Гитлера, в которой излагалась не только история национал-социализма, но и его теория и геополитическая концепция (первое издание — 1925 г.).
(обратно)[446]
Название «Веймарская республика» закрепилось за Германией 1919–1933 г., так как ее конституция была принята заседавшим в Веймаре Германским учредительным национальным собранием. На потерпевшую в Первой мировой войне поражение Германию Версальским договором были наложены существенные ограничения численности армии, вооружения и подготовки офицерских кадров. В 20-е годы советское руководство считало своим главным военным противником Францию; отсюда заинтересованность в возрождении военной мощи Германии как противовеса Франции и ее союзникам в Европе Сталинская поддержка ремилитаризации Веймарской республики заключалась не только в поставке ей стратегического сырья, но и в предоставлении тайной возможности подготовки офицерских кадров в советских военных училищах и на полигонах. Стоит упомянуть хотя бы такого выдающегося германского стажера как будущий герой танковых сражений второй мировой войны генерал-полковник Гудериан, проходивший практику при Казанском танковом училище.
(обратно)[447]
Габсбургской империей (по правящему дому Габсбургов) принято было именовать Австро-Венгрию. В результате поражения в первой мировой войне империя распалась на самостоятельные государства — Австрию, Венгрию, Чехословакию, а части территории бывшей Австро-Венгрии вошли в состав Югославии, Румынии, Польши.
(обратно)[448]
ГПУ -- аббревиатура «Государственное политическое управление». ГПУ — политическая охранка в СССР. Создано в 1922 г. на базе Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (ВЧК), с 1923 г. именовалось ОГПУ (Объединенное ГПУ). Хотя в 1934 г. было преобразовано в НКВД (Народный комиссариат внутренних дел), в быту еще долго охранку называли ГПУ.
(обратно)[449]
6 января 1919 г. в Берлине началась всеобщая политическая забастовка рабочих. Созданный в тот же день революционный комитет, в который вошли независимые социал-демократы и коммунисты, призвал рабочих взять власть. В течение 10–12 января правительственные войска силой оружия подавили восставших. 15 января руководители коммунистов Карл Либкнехт (1871–1919) и Роза Люксембург (1871–1919) были арестованы группой офицеров и в тот же день убиты. В Баварии 7 апреля 1919 г. левые социал-демократы провозгласили Советскую республику. 13 апреля власть перешла в руки коммунистов, которые удерживали ее до 27 апреля. Против Советской республики были двинуты правительственные немецкие войска, и к 1 мая она была разгромлена. В марте 1921 г., когда начались вооруженные столкновения рабочих с полицией в Саксонии, ветеран первой мировой войны коммунист Макс Гельц (1889–1933) организовал в Средней Германии партизанские отряды, сражавшиеся с правительственными войсками и жандармерией. Его отряды потерпели поражение, а сам он был арестован и приговорен к пожизненному заключению.
(обратно)[450]
21 марта 1919 г. была провозглашена Венгерская Советская республика как государство диктатуры пролетариата. В апреле началось наступление румынских войск, поддержанных добровольческими венгерскими формированиями, возглавленными бывшим габсбургским контр-адмиралом Миклошем Хорти (1868–1957). Дьюла Гембеш (1866–1936) занимал пост государственного секретаря военного министерства в антикоммунистическом сегедском венгерском правительстве. 1 августа 1919 г. Венгерская Советская Республика пала.
(обратно)[451]
15–17 июля 1927 г. в Вене всеобщая забастовка и демонстрации переросли в уличные бои рабочих с полицией.
(обратно)[452]
Массовый захват итальянских предприятий рабочими начался 31 августа 1920 г. по призыву профсоюза металлистов в ответ на объявленный предпринимателями локаут. Движение, носившее в целом экономический характер, радикально настроенной частью рабочих и интеллигенции воспринималось как начало революции. 19 сентября при посредничестве правительства было достигнуто соглашение, согласно которому рабочие покидают предприятия, а предприниматели повышают ставки на 10–20 % и обещают допустить профсоюзный контроль над производством.
(обратно)[453]
С 4 по 12 мая 1926 г. по призыву конференции исполкомов профсоюзов в Великобритании прошла всеобщая стачка. Стачка проводилась в поддержку бастующих горняков. 11 мая Верховный суд объявил ее незаконной. По следам стачки 28 июля 1927 г. был принят Закон о промышленных конфликтах и тред-юнионах, запретивший всеобщие стачки и стачки солидарности. Он просуществовал до 1946 г. На следующий день после того, как стачка была объявлена Верховным судом незаконной, генеральный совет тред-юнионов отменил ее.
(обратно)[454]
Французский генерал Жорж Буланже (1837–1891) в конце 80-х годов возглавил движение средних слоев, получившее его имя. Буланжизм представлял собой сплав националистических реваншистских идей с лозунгами борьбы против финансовых и промышленных магнатов, чьи интересы защищают коррумпированное правительство и парламент.
(обратно)[455]
Дон Карлос старший (1788–1855) — один из сыновей испанского короля Карла IV. В прошлом столетии Испания дважды сотрясалась гражданскими войнами, спровоцированными попытками возвести на престол сначала Дон Карлоса старшего, а потом его внука — Дон Карлоса младшего. Карлисты как наиболее консервативно-клерикальная ветвь монархистов играли видную роль в испанской истории и в XX веке. Они, в частности, активно поддержали генерала Франко.
(обратно)[456]
В произведениях французского утопического социалиста Шарля Фурье (1772–1837) детально разработано устройство будущего гармонического общества. Фурье утверждал, что неизменно присущие человеку страсти, подавляемые в современном ему обществе, получат полный простор в проектируемых им «фаланстерах» — общежитиях счастливых людей, где будет господствовать свобода любви. Веблен Торстейн (1857–1929) — американский экономист, один из основоположников институционализма. Для Веблена характерны элементы критически-утопического подхода к буржуазному обществу. Он выдвигал проекты преобразования капитализма, например путем создания совета техников как органа руководства производством.
(обратно)[457]
Гинденбург Пауль (1847–1934) — с 1916 г. фактически верховный главнокомандующий Германии. Возглавляемые им милитаристские круги активно добивались государственного регулирования экономической жизни. Под их влиянием производство было жестко регламентировано, запрещены стачки, введена обязательная трудовая повинность для мужчин от 17 до 60 лет, организовано нормированное снабжение продовольствием и одеждой.
(обратно)[458]
Ницше Фридрих (1844–1900) — немецкий философ. Ницше отрицал мораль, негативно относился к современной ему культуре как вытесняющей интеллектом изначальные здоровые инстинкты человека-индивидуалиста. В противоречивом наследии Ницше Л. Мизес акцентирует внимание на мифе о «сверхчеловеке» — сильной личности, отвергающей буржуазный мир и преодолевающей его, отбросив моральные запреты и не останавливаясь перед насилием.
(обратно)[459]
Карлейль Томас (1795–1881) — английский историк и философ. В его взглядах особое место принадлежит концепции героев и толпы: историю творят отдельные герои, тогда как масса тупа и инертна. В действиях героев Карлейль подчеркивает жестокость, деспотизм, необходимые для блага пассивной массы, отвечающей на них культом героя. Только герои могут низвергнуть пошлое царство буржуазии и создать новую организацию труда. Рескин Джон (1819–1900) — английский историк, искусствовед, публицист. Выступал с резкой критикой буржуазных отношений, противопоставляя им средневековые феодальные порядки, организацию производителей в ремесленные гильдии (цехи).
(обратно)[460]
ad libitum -- по желанию, как захочется (лат.)
(обратно)[461]
Муссолини Бенито (1883–1945) — глава итальянской фашистской партии и фашистского правительства Италии в 1922–1945 гг. Первые фашистские организации были созданы Муссолини в марте 1919 г. как военизированные дружины бывших фронтовиков (от их названия «fasci di combattimento» — «союз борьбы» произошло наименование политического движения). Мизес имеет в виду, что идеология фашизма закладывалась до Муссолини и не исчезла с его казнью в апреле 1945 г.
(обратно)[462]
Вплоть до 1935 г. между лидерами итальянского фашизма и германского национал-социализма по внешнеполитическим вопросам имели место серьезные трения, связанные в первую очередь с притязаниями на австрийские земли. В октябре 1935 г. Италия начала войну с Эфиопией и в мае 1936 г. оккупировала ее. С лета 1936 г. Италия и Германия тесно сотрудничают во внешней политике: оказывают военную поддержку франкистским мятежникам в Испании, заключают ряд договоров, в том числе «Антикоминтерновский пакт» (1937 г.) и соглашение о военно-политическом союзе (1939г.).
(обратно)[463]
Тори -- политическая партия, существовавшая в Англии с конца 70-х годов XVIII в. до середины ХГХ в. Тори стали нарицательным названием консерваторов-аристократов.
(обратно)[464]
Stahlhelm — «Стальной шлем» (нем.) -- военизированная националистическая организация, возникшая в Германии в 1918 г. на базе Союза бывших фронтовиков. После прихода Гитлера к власти слилась с штурмовыми отрядами. Cagoulards -- кагуляры (фр.) — образовавшаяся во Франции в 1936 г., после победы народного фронта на парламентских выборах подпольная фашистская организация. Заговор кагуляров, готовивших военный путч, был раскрыт осенью 1937 г.
(обратно)[465]
С 1920 по 1944 г. Хорти был регентом Венгерского Королевства. При нем политика страны была в значительной мере фашизирована, однако продолжали существовать политические партии, действовал парламент.
(обратно)[466]
Франко Баамонде Франсиско (1892–1975) возглавил в 1936 г. военный мятеж против республиканского правительства Испании. При военной поддержке Германии и Италии мятежники одержали победу, и с 1939 г. Франко стал фактическим диктатором Испании. Он был провозглашен пожизненным главой государства («каудильо»). Жизнь показала, что Мизес, как и многие другие, недооценил Франко: тот проявил себя как самостоятельный и умелый политик, проведший постепенную либерализацию режима и подготовивший переход к конституционной монархии. После крушения Гитлера и Муссолини Франко находился у власти еще три десятилетия.
(обратно)[467]
Австро-Венгрии принадлежали перед первой мировой войной районы Трентино, Южного Тироля, Триеста, значительную часть населения которых составляли итальянцы.
(обратно)[468]
В 1911 г. Италия развязала войну с Османской империей за ее североафриканские провинции Триполитанию и Киренаику (ныне образующие основную часть территории Ливийской джаммахирии). В результате оккупации итальянскими войсками прибрежных районов Ливия фактически стала на длительный период (до 1943 г.) итальянской колонией.
(обратно)[469]
Балабанова Анжелика Исааковна (1878–1965), эмигрировав из России, принимала активное участие в итальянском рабочем движении (в 1912–1916 гг. — член ЦК Итальянской социалистической партии, в 1912–1914 гг. -- соредактор газеты «Аванти!» ). В 1918 г. возвратилась в Россию, была членом РКП(б) до 1924 г., затем вновь — на этот раз уже в Париже — редактор «Аванти!» (1924–1935 гг.).
(обратно)[470]
Габсбурги -- императорская династия, правившая в Австрии (с 1804 г.), а затем в Австро-Венгрии (с 1867 г.).
(обратно)[471]
Risorgimento — Возрождение (итал.). Так именуется эпоха борьбы итальянского народа за объединение страны и освобождение от иноземного владычества (90-е годы XVIII в. — 1870 г.). В результате Рисорджименто была преодолена многовековая политическая раздробленность Италии и зависимость от Австрийской империи.
(обратно)[472]
Итальянцы составляли значительную часть населения на землях Юлийской крайны. До крушения Габсбургской империи эти южнославенские области находились под владычеством Австро-Венгрии, затем вошли в состав Италии. Книга Л. Мизеса написана в то время, когда вопрос об итальянских меньшинствах активно дебатировался в связи с включением большей части Юлийской крайны в Югославию.
(обратно)[473]
Rinascimento -- возрождение, ренессанс (итал.); эпоха Возрождения в Италии — XIV--XVI вв. Наименование «Возрождение» подчеркивало, что это время рассматривалось его идеологами как восстановление после мрачного средневековья великой культуры Римской империи
(обратно)[474]
stato corporativo — корпоративное государство (итал.)
(обратно)[475]
Alldeutsche — пангерманисты (нем.). В конце XIX в. в Австро-Венгрии сформировалась политическая доктрина пангерманизма, согласно которой все регионы с немецкоязычным населением должны быть политически воссоединены с Германией. Германия должна стать организующей силой Европы, а над Прибалтикой, Польшей, Белоруссией и Украиной установлен немецкий контроль. По существу в доктрине пангерманизма содержались важнейшие положения будущего национал-социализма: расизм, антисемитизм, требования аншлюса Австрии и Судетов, идея «Дранг нах Остен» (наступления на Восток). Видными теоретиками и политиками пангерманизма были Г. Шенерер, Э. Хассе, А. Гугенберг, Г. Класс.
(обратно)[476]
Сисмонди Симонд (1773–1842) — швейцарский экономист, критик капитализма с позиций мелкотоварного производства. Рассматривая противоречия капиталистической экономики, он выдвигал пожелания государственного покровительства мелкому производству, восстановления средневековых цеховых структур. Это сближает его воззрения со взглядами Карлейля и Рескина и, по мнению Л. Мизеса, делает предтечей экономических лозунгов нацизма. Чемберлен Хаустон Стюарт (1855–1927) — германский социолог, англичанин по происхождению. Развивая идеи Гобино, провозгласил немцев эталоном арийской расы.
(обратно)[477]
Гобино Жозеф Артюр (1816–1882) — французский социолог, дипломат и писатель, заложивший своей работой «О неравенстве человеческих рас» (1853–1855) основы «научного» расизма.
(обратно)[478]
Лассаль Фердинанд (1825–1864) — деятель германского рабочего движения, публицист. Рассматривал государство как важный фактор движения человечества к свободе и справедливости. Лассон Адольф (1832–1917) — немецкий философ и правовед, автор ряда работ по философии права. Лассон, развивая идеи гегелевской философии права, изучал так называемое немецкое народное право. Шталь Фридрих Юлий (1802–1861) — германский юрист и политический деятель, руководивший в прусском ландтаге феодально-консервативной партией. Шталь утверждал, что для обеспечения порядка необходим авторитет, стоящий над людьми, посредник между людьми и богом. Ратенау Вальтер (1867–1922) — германский политический деятель, публицист и промышленник. По своим убеждениям Ратенау был скорее не социалистом, а сторонником реформирования общества в направлении организованного капитализма. Исследование Ратенау военной экономики носило апологетическую окраску: по его мнению, в огне войны складывается новый, социально справедливый хозяйственный строй и обеспечивается научно-технический прогресс. Зомбарт Вернер (1863–1941) — немецкий экономист, социолог и историк; в первый период своей деятельности был близок к марксизму, затем стал катедер-социалистом и критиком марксизма, а в последние годы перешел на позиции национал-социализма. Зомбарт — один из авторов теории организованного капитализма. Всегда придавая в объяснении экономической истории особое значение факторам «духа народа», религии и т.п., на склоне лет он скатился к идеям расистского толка и открыто поддержал национал-социализм. Шпанн Отмар (1878–1950) — австрийский экономист и социолог. В работах Шпанна на первое место выдвигается государство как универсальная сущность, обеспечивающая устойчивость экономики. Демократия, согласно Шпанну, подрывает основы государства. Идеальная организация общества — корпоративный строй, при котором государство выступает как сила, направляющая деятельность корпораций, объединяющих все население, а предприниматели-капиталисты выполняют функции национальных руководителей производства. Фрид Фердинанд — псевдоним германского реакционного публициста Фердинанда Фридриха Циммерманна (1898–1967). С 1923 по 1934 г. был экономическим редактором ряда крупных газет и журналов. После прихода Гитлера к власти — оберштурмбанфюрер СС, сотрудник расового ведомства при рейхсфюрере СС Генрихе Гиммлере.
(обратно)[479]
Катедер-социалисты были крайними немецкими националистами и апологетами военных методов. Объединение катедер-социалистов «Союз социальной политики» благополучно существовало в гитлеровской Германии до начала второй мировой войны.
(обратно)[480]
Fuhrertum — фюрерство, вождизм (нем.) -- система, основанная на принципе всеохватывающей роли вождя
(обратно)[481]
Жанна д'Арк (ок. 1412–1431) — предводительница французов в их борьбе с английскими оккупантами. Попала в руки англичан, предавших ее церковному суду. По приговору суда сожжена как колдунья. Гус Ян (1371–1415) — идеолог чешской реформации. Осужден церковным собором и сожжен как еретик. Бруно Джордано (1548–1600) — итальянский философ. Сожжен по приговору суда инквизиции как еретик. Галилей Галилео (1564–1642) — итальянский ученый. Был предан суду инквизиции за защиту коперниковской модели Солнечной системы. Отречением от своих взглядов сохранил жизнь, но провел последние годы в ссылке.
(обратно)[482]
Имеется в виду совершенная под руководством Сталина экспроприация денег из банка в Тифлисе (июнь 1907 г.). Л. Мизес ошибается в оценке суммы, поступившей в большевистскую кассу в результате экспроприации: налет на банк дал всего 250 тысяч рублей.
(обратно)[483]
Брут Марк Юний (85–42 до н. э.) — римский политический деятель, один из руководителей республиканского заговора, убийца ставшего диктатором Цезаря.
(обратно)[484]
Верификация -- установление истинности научных утверждений.
(обратно)[485]
Эпистемологический анализ — анализ с позиций теории познания.
(обратно)[486]
Теория относительности — теория, рассматривающая пространственно-временные свойства физического мира, разработанная Альбертом Эйнштейном (1879–1955). Бергсон Анри (1859–1941) — известный французский философ, лауреат Нобелевской премии, один из создателей философской концепции интуитивизма. Психоанализ -- психологическая и психотерапевтическая концепция, разработанная Зигмундом Фрейдом (1856–1939), австрийским психиатром и психологом, основоположником психоанализа. По Фрейду, в формировании характера личности и ее патологии решающая роль принадлежит детству. Упомянутые Л. Мизесом три концепции, относящиеся к совершенно различным областям науки, имеют одно общее — все они в сталинском государстве были объявлены лженаукой, идеалистическим хламом.
(обратно)[487]
эзотерические -- предназначенные только для посвященных
(обратно)[488]
Внутренняя противоречивость философии Гегеля сделала возможным использование его идей различными направлениями общественно-политической мысли. Философия Гегеля (особенно диалектический метод) стала одним из источников марксистского учения. В то же время философское оправдание прусского деспотического государства было подхвачено консервативно-националистическими кругами и явилось базой нацизма. Джентиле Джованни (1875–1944) — итальянский философ и историк, официальный идеолог фашистского режима. Шпенглер Освальд (1880–1936) — немецкий философ и публицист, автор нашумевшей книги «Закат Европы». Стоял на консервативно-националистических позициях; его идеи сыграли существенную роль в формировании идеологии национал-социализма.
(обратно) (обратно)

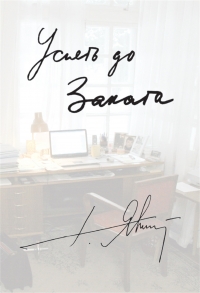
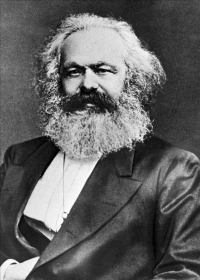
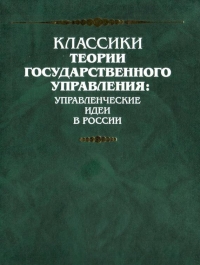
Комментарии к книге «Социализм», Людвиг фон Мизес
Всего 0 комментариев