Михаил Бакунин Избранные сочинения Том IV.
Политика Интернационала[1]
„Мы думали до сих пор", говорит газета „La Montagne" „что как политические, так и религиозные убеждения человека находятся в полнейшей независимости от принадлежности его к Интернационалу. Что касаемся нас, то мы придерживаемся такой точки зрения".
На первый взгляд может показаться, что г. Куллери[2] прав. Действительно, Интернационал, принимая нового члена в свою среду, не спрашивает у него религиозен ли он или атеист, принадлежит ли он к той или другой политической партии. Он просто спрашивает у него: рабочий ли ты? И если нет, то хочешь ли, чувствуешь ли потребность и силу искренно и всецело отдаться делу рабочих, посвятить себя ему, оставляя в стороне всякие другие стремления, идущие в разрез с интересами рабочих?
Чувствуешь ли ты, что рабочие, которые производят все богатства мира, которые являются творцами цивилизации, которые завоевали все буржуазные свободы, сами осуждены выносить нищету, невежество и рабство? Понял ли ты, что главной причиной всех несчастий рабочего класса, является нищета? И что эта нищета, составляющая удел рабочих всего мира, является необходимым следствием экономического строя современного общества, а именно, следствием порабощения труда, т. е. пролетариата — капиталом, т. е. буржуазией?
Понял ли ты, что между пролетариатом и буржуазией всегда существует непримиримый антагонизм, так как он является неизбежным следствием их взаимных отношений? Что благоденствие буржуазного класса несовместимо с благосостоянием и свободой рабочих, ибо оно основано на эксплоатации и рабстве труда и, что по той же причине, процветание и развитие чувства человеческого достоинства в рабочих массах требует уничтожения буржуазии, как отдельного класса? Что, следовательно, борьба между пролетариатом и буржуазией — неизбежна и может окончиться только с уничтожением последней?
Понял ли ты, что ни один рабочий, как бы развит и энергичен он не был, не способен в отдельности бороться против столь хорошо организованного могущества буржуазии, представителем и опорой которой является государство, — всякое государство? Что для того, чтобы стать сильным, ты должен об'единиться не с буржуазией, что было бы с твоей стороны глупостью или преступлением, так как все буржуа, как таковые, наши непримиримые враги; и не с рабочими-изменниками, которые настолько подлы, что готовы испрашивать благосклонность буржуазии, — но объединиться с честными энергичными рабочими, искренно стремящимися к тому, чего жаждешь и ты?
Понял ли ты, что, имея перед собою могучую коалицию всех привилегированных классов, всех собственников, капиталистов и всех государств мира, отдельный изолированный союз, местный или национальный, принадлежащий хотя бы к одной из величайших стран Европы, никогда не может победить; и для того, чтобы устоять против этой коалиции и сокрушить ее, необходимо объединение всех рабочих организаций, местных и национальных, в один всемирный союз, необходим великий международный союз рабочих всех стран?
Если ты это чувствуешь, если ты это все хорошо понял и если ты действительно всего этого хочешь —прийди к нам, каковы бы ни были твои политические и религиозные убеждения. Но для того, чтобы мы тебя приняли, ты должен нам обещать: во первых, подчинять отныне твои личные интересы, даже интересы твоей семьи, а также и проявления твоих политических и религиозных убеждений, высшим интересам нашего союза: борьбы труда с капиталом, рабочих с буржуазией на экономической почве; во вторых, никогда не вступать в сделки с буржуазией в виду личных выгод; в третьих, никогда не стремиться возвыситься из за личных выгод над рабочей массой, что сделало бы из тебя буржуа — врага и эксплоататора пролетариата, так как вся разница между буржуа и рабочими та, что первые ищут своего блага всегда вне коллективности, а вторые ищут и желают добыть его вместе со всеми теми, которые работают и которых эксплоатирует класс буржуазии; в четвертых, быть всегда верным рабочей солидарности, так как на малейшую измену этой солидарности Интернационал смотрит, как на величайшее преступление и как на величайшую гнусность, которую только может совершить рабочий. Одним словом, ты должен сполна и искренно принять наши общие статуты, ты должен дать торжественное обещание сообразовать с нами отныне все твои действия и всю твою жизнь.
Мы думаем, что основатели Интернационала поступили очень умно, не касаясь первоначально в программе Союза политических и религиозных вопросов. У них самих были, несомненно, ясные и определенные политические и антирелигиозные взгляды, но они воздержались от занесения их в программу, так как главной их целью было прежде всего об'единение рабочих масс всего цивилизованного мира, ради общего дела. Они должны были искать общего основания, ряд простых принципов, на которых могли бы сойтись все рабочие, каковы бы ни были их политические и религиозные заблуждения, лишь бы они были действительные рабочие, т. е. тяжело эксплоатируемые и страдающие.
Если бы они подняли знамя какой нибудь политической или антирелигиозной школы, они никогда не объединили бы рабочих Европы, но еще более разъединили бы их. Так как благодаря невежеству рабочих, корыстолюбивая и в высшей степени развращающая пропаганда священников, правительств и всех буржуазных политических партий не исключая и наиболее красных, распространила множество ложных взглядов среди рабочих масс, и эти ослепленные массы, к несчастью, еще слишком часто увлекаются всякими измышлениями, имеющими целью заставить их добровольно и глупо, в ущерб своим интересам, служить интересам привилегированных классов.
Впрочем, до сих пор существует слишком большая разница в степени промышленного, политического, умственного и нравственного развития рабочих масс разных стран, чтобы можно было их объединить в настоящее время одной и той же политической и антирелигиозной программой. Сделать такую программу программой Интернационала, а также и необходимым условием вступления в этот союз значило бы организовать секту, а не всемирный союз, значило бы погубить Интернационал.
Есть еще другая причина, заставившая удалить вначале из программы Интернационала, по крайней мере кажущимся образом, и только кажущимся образом, всякую политическую тенденцию.
До сих пор, со времени возникновения истории, не было еще политики народа; под словом „народ" мы подразумеваем „рабочую чернь", которая кормит весь мир своим трудом. До сих пор существовала политика только привилегированных классов. Эти классы пользовались мускульной силой народа, чтобы свергать друг друга с трона и занимать место свергнутых. Народ в свою очередь всегда принимал сторону одних против других, только в смутной надежде, что по крайней мере, какая нибудь из этих политических революций, из которых ни одна не могла обойтись без него, но ни одна не была совершена для него, принесет ему некоторое облегчение в его нищете и в его вековом рабстве. И он всегда обманывался. Даже великая французская революция, и та его обманула. Она убила дворянскую аристократию, но посадила на ее место буржуазию; народ не зовется больше ни рабом, ни крепостным, он провозглашен свободным, обладающим всеми правами, но фактически его рабство и нищета остались все теми же.
И они останутся теми же, до тех пор, пока народные массы будут служить орудием буржуазной политики, будет ли эта политика называться консервативной, либеральной, прогрессивной, радикальной и даже если она придаст себе самый революционный вид. Ибо всякая буржуазная политика, каковы бы ни были ее цвет и название, может иметь в сущности только одну цель: удержание господства буржуазии; господство же буржуазии — есть рабство пролетариата.
Что же должен был делать Интернационал? Он должен был прежде всего устранить рабочую массу от всякой буржуазной политики, должен был исключить из своей программы все буржуазно—политические программы. Но в момент его возникновения во всем мире не было иной политики, кроме политики церкви, монархии, аристократии или буржуазии. Последняя, в особенности политика радикальной буржуазии, была несомненно более либеральной и гуманной, нежели все другие, но все они были одинаково основаны на эксплоатации рабочих масс и не имели в действительности другой цели, как оспаривать друг у друга монополию этой эксплоатации, Интернационал должен был, стало быть, начать с расчистки почвы, и, так как всякая политика с точки зрения освобождения труда была запятнана реакционными элементами, Интернационал должен был выбросить из своей среды все известные политические системы, чтобы основать на этих развалинах буржуазного мира настоящую политику рабочих, политику Международного Союза.
II.
Основатели Международного Союза Рабочих поступили тем более умно, избегая класть в основу этого союза принципы политические и философские, и придавая ему вначале характер исключительно экономической борьбы труда с капиталом, что они были уверены, что когда рабочий вступит на эту почву, что когда, проникаясь сознанием своего права и своей численной силы, он начнет совместно со своими товарищами борьбу против буржуазной эксплоатации,— он в силу естественного хода вещей и развития борьбы дойдет скоро до признания всех политических, философских и социалистических принципов Интернационала, которые, в сущности, являются только истинным выражением его исходной точки и его цели.
Мы изложили эти принципы в наших последних номерах[3]. С политической и социальной точки зрения они имеют необходимым следствием, уничтожение классов, а следовательно класса буржуазии, являющегося в настоящее время господствующим классом; уничтожение всех территориальных государств, всех политических отечеств и создание на их развалинах великой международной федерации всех производительных групп, национальных и местных. Что же касается философской точки зрения, то, имея в виду осуществление человеческого идеала, человеческого счастья, равенства, справедливости и свободы на земле, они делают тем самым бесполезными всякие упования на небо и надежды на лучшее будущее на "том" свете, и будут иметь, стало быть, столь же необходимым следствием—уничтожение всех культов и религиозных систем.
Об'явите прежде всего эти обе цели невежественным рабочим, обремененном ежедневной работой и деморализованным, как бы в тюрьму заключенным, в рамки развратных доктрин, которыми правительство, в союзе со всеми привилегированными кастами — священниками, дворянством, буржуазией —их щедро осыпает, и вы их испугаете. Они, быть может, вас оттолкнут, не подозревая, что все эти идеи суть ничто иное, как самое точное выражение их собственных интересов, что цели эти заключают в себе осуществление наиболее дорогих их желаний, и что напротив, политические и религиозные предрассудки, во имя которых они их отвергнут, быть может, — являются прямой причиной продолжения их рабства и нищеты.
Нужно отличать предрассудки народных масс от предрассудков привилегированного класса. Предрассудки масс, как мы только что это показали, основаны на их невежестве и они совершенно противоположны их интересам, тогда как предрассудки буржуазии основаны именно на интересах этого класса и только благодаря коллективному эгоизму буржуазии могут устоять против разлагающего влияния самой буржуазной науки.
Народ хочет, но не знает; буржуазия знает, но не хочет. Кто из них неизлечим? Несомненно буржуазия.
Общее правило: можно только обратить тех, кто чувствует потребность в этом, только тех, кто уже носит в глубине своих инстинктов, в условиях своего бедственного существования, внешних или внутренних, то, что вы хотите им дать; но не тех, кто не ощущает никакой потребности в перемене, и не тех также, которые, несмотря на то, что желают выйти из положения, коим они недовольны, в силу своих нравственных, умственных и общественных привычек, стремятся искать перемен в такой сфере, которая ничего не имеет общего с миром ваших идей.
Попробуйте обратить в социализм дворянина, стремящегося к богатству, буржуа, желающего стать дворянином или даже рабочего, который всеми силами души своей стремится к тому, чтобы стать буржуа! Обратите настоящего или воображаемого аристократа ума, ученого, полу-ученого, четверть-ученого — десятую, сотую часть ученого, которые все полны ученого чванства и часто, только потому что имели счастье кое-как осилить несколько книг, полны высокомерного презрения к безграмотным массам и воображают, что призваны образовать новую господствующую, т. е. эксплоатирующую касту.
Никакие рассуждения, никакая пропаганда никогда не будет в состоянии обратить этих несчастных. Чтобы убедить их, существует только одно средство: „это — уничтожение самой возможности существования привилегии, всякого господства и всякой эксплоатации: это — социальная революция, которая, сметая все, что составляет неравенство в мире, сделает их нравственными, принудив искать счастья в равенстве и солидарности.
Иначе обстоит дело с действительными рабочими. Под действительными рабочими мы подразумеваем всех тех, которые действительно задавлены бременем труда, всех тех, положение которых настолько непрочно и жалко, что никому из них, исключая разве какие нибудь редкие случаи, не может даже придти в голову мысль добыть для себя самого, и только для себя, лучшее положение при существующих экономических условиях и в современной социальной среде стать, например, в свою очередь, хозяином или государственным советником. Мы включаем безусловно в ту же категорию, редких и благородных рабочих, которые, имея возможность возвыситься над рабочим классом, не хотят этим воспользоваться, предпочитая лучше выносить еще некоторое время, вместе со своими товарищами по несчастью, буржуазную эксплоатацию, нежели стать самим эксплоататорами. Этих нет надобности обращать: они чистые социалисты.
Мы говорим об огромной массе рабочих, которые, изнуренные ежедневной работой, невежественны и несчастны. Эта масса, каковы бы ни были ее политические и религиозные предрассудки, сделавшиеся отчасти преобладающим элементом в ее сознании, благодаря стараниям буржуазии, является бессознательно социалистической. Она инстинктивно в силу самого своего положения гораздо серьезнее и глубже социалистична, чем все научные и буржуазные социалисты вместе взятые. Она является социалистичной в силу всех условий своего материального существования, в силу всех потребностей своего существа, а не в силу потребности мысли, как это происходит у последних; в действительной жизни, потребности первого рода имеют гораздо большую силу, чем потребности мысли, которая здесь, как и повсюду, всегда является выражением личности, отражением ее последовательного развития, но никогда не может быть ее принципом.
У рабочих нет недостатка ни в реальности, ни в необходимости социалистических стремлений, им недостает лишь социалистической мысли; то, к чему каждый рабочий стремится всей своей душой, это — вполне человеческое существование, как в смысле материального благосостояния, так и в смысле умственного развития, существование, основанное на справедливости, т. е. на равенстве и свободе каждого и всех в труде; этот идеал, являющийся инстинктивно у того, кто живет своим собственным трудом, не может, конечно, осуществиться при современном политическом и социальном строе, покоящимся на несправедливости и циничной эксплоатации рабочих масс. А потому каждый настоящий рабочий необходимо является революционером и социалистом, ибо его освобождение может осуществиться только посредством ниспровержения всего того, что существует ныне. Или эта организация несправедливости, со всеми выставленными на показ своими криводушными законами, должна погибнуть, или же рабочие массы будут осуждены на вечное рабство.
В этом заключается социалистическая мысль, зародыш которой находится в инстинкте каждого действительного рабочего. Цель, значит, состоит в том, чтобы дать рабочему полное сознание того, что он хочет, пробудить в нем мысль, соответствующую его инстинкту, ибо когда мысль рабочих масс поднимется до уровня их инстинкта, воля их определится и могущество их станет несокрушимо.
Что еще мешает более быстрому развитию этой спасительной мысли в среде рабочих масс? — Без сомнения, их невежество, и в значительной степени, их политические и религиозные предрассудки, при помощи которых заинтересованные в этом классы, стараются затемнять их природное сознание и ум. Каким же образом рассеять их невежество, как разрушить их гибельные предрассудки? Посредством образования и пропаганды.
Это, конечно, прекрасное средство. Но при существующем положении рабочих масс они недостаточны. Рабочий слишком задавлен трудом и ежедневными работами, чтобы уделять достаточное время на образование. Да и кто, впрочем, будет вести эту пропаганду? Те немногие искренние социалисты, вышедшие из буржуазии, которые несомненно полны благородных желаний, — с одной стороны, в силу своей немногочисленности, не могут придать пропаганде необходимую широту, а с другой стороны, принадлежа по своему социальному положению к иному миру, не могут иметь на рабочую среду должного влияния, возбуждая при этом к себе, ее более или менее справедливое недоверие.
„Освобождение рабочих есть дело самих рабочих" сказано в предисловии к нашим общим статутам. Это тысячу раз правда. Это главная основа нашего Союза. Но рабочие в большинстве случаев невежественны, они еще пока совершенно не владеют теорией. Следовательно им остается только один путь, путь практического освобождения. Какова
же может и должна быть эта практика? Существует только одна: это — солидарная борьба рабочих против хозяев. Это — трэд-юнионы, организация, организации и федерации касс сопротивления.
III.
Если Интернационал в начале проявляет снисходительность к пагубным и реакционным идеям в области политики и религии, которые могут быть у рабочих, входящих в его среду, то это вовсе не в силу безразличного отношения к этим идеям. Это нельзя назвать равнодушием, так как он ненавидит и отстаивает их всеми силами, так как всякая реакционная идея является разрушением самого принципа Интернационала, как это было доказано в предыдущих статьях.
Подобная снисходительность, повторяем еще раз, внушена ему глубокой мудростью. Зная прекрасно, что всякий действительный рабочий является социалистом, в силу условий, необходимо присущих его бедственному существованию, и, что его реакционные идеи могут быть только следствием его невежества, Интернационал рассчитывает, что рабочий может освободиться от них, при помощи коллективного опыта, который он приобретет в лоне Интернационала,а главное благодаря развитию коллективной борьбы рабочих против хозяев.
Действительно, раз рабочий, начиная верить в возможность радикального переустройства экономического строя, совместно со своими товарищами принимается горячо бороться за уменьшение рабочего времени и увеличение заработной платы, когда он начинает сильно заинтересовываться этой чистой материальной борьбой, можно с уверенностью сказать, что в скором времени этот рабочий покинет все свои небесные мечтания и, что, привыкая все более и более рассчитывать на коллективные силы рабочих, он должен будет отказаться от помощи неба. Место религии в его уме займет социализм. Также будет и с его реакционными политическими взглядами. Они утратят свою главную опору, по мере того, как сознание рабочего станет освобождаться от религиозного давления. С другой стороны, экономическая борьба, развиваясь и расширяясь все более и более, заставит его узнать на практике и посредством коллективного опыта, всегда являющегося поучительнее и шире всякого отдельного опыта, своих настоящих врагов— привилегированные классы, включая сюда духовенство, буржуазию, дворянство и государство. Это последнее существует только для того, чтобы блюсти привилегии всех этих классов и всегда неизбежно становится на их сторону против пролетариата.
Рабочий, вступив, таким образом, в борьбу, в конце концов поймет существующий непримиримый антагонизм между этими оплотами реакции и своими самыми дорогими для него человеческими интересами; и, дойдя до этой степени сознания, он ясно и определенно заявит себя социалистом и революционером.
Не так дело обстоит с буржуазией. Все ее интересы противоположны экономическому переустройству общества, и если идеи ее тоже противоречат этому переустройству и если они реакционны, или, как теперь выражаются более вежливо, умеренны; если ум и сердце ее отталкивают тот великий акт справедливости и освобождения, который мы называем социальной революцией; если эти буржуа питают отвращение к истинному социальному равенству, т. е. к равенству политическому, социальному и экономическому одновременно; если в глубине души они хотят сохранить для самих себя, для своего класса или для своих детей, хотя бы одну единственную привилегию, хотя бы только привилегию ума, как мы видим это у буржуазных социалистов; если они не возненавидят не только всей логикой своего ума, но и всей силой своего чувства, существующий порядок Вещей, — тогда можно быть уверенным, что они останутся реакционерами, врагами рабочего дела на всю жизнь. И их нужно отстранить от Интернационала.
Их надо держать от Интернационала как можно дальше, так как, проникая туда, они не могут иметь другой цели, как произвести деморализацию в его среде и свести его с истинного пути. Впрочем, есть безошибочный призрак, по которому рабочие могут узнать, приходит ли к ним буржуа желающий быть принятым в их ряды, искренно, без тени фальши, без малейшей задней мысли. Этим признаком служит та связь, которую он сохранил с буржуазным миром.
Антагонизм, существующий между рабочим миром и буржуазией, принимает все более и более резкий характер. Всякий серьезно думающий человек, чувства и представления которого не искажены влиянием, часто бессознательным, пристрастных софистов, должен в настоящее время понимать, что никакое примирение между рабочими и буржуазией немыслимо. Рабочие хотят равенства, буржуазия — неравенства. Ясно, что одно уничтожает другое. Поэтому огромное большинство буржуазии, капиталистов и собственников, имеющих смелость откровенно заявить о своих желаниях, доказывают с такой же искренностью и смелостью свою ненависть и к современному движению рабочего класса. Это — враги решительные и искренние; их мы знаем, и это хорошо.
Но есть другая категория буржуа, которые не обладают ни подобной смелостью, ни подобной искренностью. Являясь врагами социальной ломки, к которой мы стремимся всей силой нашей души, как к великому акту справедливости, как к необходимому основанию рациональной и равноправной организации общества, эти буржуа, как и все другие, хотят сохранить экономическое неравенство, этот вечный источник всех прочих неравенств. И в тоже время, они утверждают, что, как и мы, они стремятся к полному освобождению трудящихся и труда. Они отстаивают с увлечением, достойным самых реакционных буржуа, самую причину рабства пролетариата, — отделение труда от недвижимой или капиталистической собственности, представителями которой являются различные классы. И не смотря на это, они выступают апостолами освобождения рабочего класса из под гнета собственности и капитала!
Обманываются ли они сами, или других обманывают? Некоторые искренно ошибаются; многие обманывают других; огромное большинство в одно и то же время и сами обманываются, и других обманывают. Все принадлежат к разряду радикальных буржуа и буржуазных социалистов, которые основали „Лигу Мира и Свободы"!
Социалистическая ли эта Лига? — Вначале и в течении первого года своего существования, она, как мы уже имели случай указать, с ужасом отворачивалась от социализма. В прошлом году на своем конгрессе в Берне, она торжественно отвергла принцип экономического равенства. Теперь же, чувствуя приближение смерти и желая еще немного продлить свое существование, поняв наконец, что отныне никакая политическая жизнь немыслима без социального вопроса, она называет себя социалистической: она стала буржуазно-социалистической, а это означает, что она хочет на основе экономического неравенства разрешить все социальные вопросы. Она хочет, она должна сохранить процент на капитал и земельную ренту, и она думает вместе с этим освободить рабочих. Она хочет воплотить абсурд.
Зачем ей понадобилось это делать? Что заставило ее предпринять столь бессмысленное, столь бесплодное дело? Не трудно это понять:
Значительная часть буржуазии устала от господства цезаризма и милитаризма, вызванного ею же самой в 1848 году из страха перед пролетариатом. Вспомните только июньские дни, предвестники декабрьских; вспомните Национальное Собрание, которое после июньских дней, единогласно, за исключением одного члена, покрыло руганью и проклятиями великого и можно сказать, героического социалиста Прудона, единственного человека, имеющего смелость бросить социалистический вызов этому бешеному стаду буржуев — консерваторов, либералов и радикалов. Не нужно забывать, что среди всех этих ругателей Прудона, есть масса граждан, живых теперь, которые, попавши в огонь декабрьских преследований, с тех пор сделались мучениками свободы.
Без всякого сомнения, буржуазия вся целиком, включая сюда и радикальную буржуазию — не была в собственном смысле слова творцом цезарского деспотизма и милитаризма, результаты которых она в настоящее время оплакивает. Воспользовавшись ими против пролетариата, она хотела бы теперь избавиться от них. Нет ничего естественнее; этот режим ее унижает и раззоряет. Но как от них избавиться? Некогда она была смела и решительна, за ней была сила побед; теперь она труслива и слаба: она чувствует, что одна она ничего сделать не в состоянии, что ей нужна помощь. Эту помощь может оказать только пролетариат, — следовательно, его нужно привлечь на свою сторону.
Но как его привлечь? Обещанием свободы и политического равенства? Это—слова, которые не трогают больше рабочих. Они научились дорогой ценой, они поняли тяжким опытом, что эти слова ничего иного для них не означают, как сохранение рабства экономического, часто даже более тяжелого, чем оно было раньше. Если, стало быть, вы хотите затронуть чувство этих несчастных миллионов рабов труда, то говорите об экономическом освобождении. Нет больше ни одного рабочего, который бы не знал теперь, что это является для него единственным, серьезным и реальным основанием всех других освобождений. Следовательно им нужно говорить об экономических преобразованиях общества.
Ну, что-же, сказали себе члены Лиги Мира и Свободы, будем говорить об этом, назовем себя тоже социалистами. Будем обещать им экономические и социальные реформы, но с условием, чтобы они уважали основы цивилизации и буржуазного всемогущества: частную и наследственную собственность, процент на капитал, земельную ренту. Убедим их, что только при этих условиях, которые, впрочем, обеспечивают нам господство, а рабочим рабство, рабочий может быть освобожден.
Убедим их еще в том, что для осуществления всех социальных реформ, нужно прежде всего совершить хорошую политическую революцию, исключительно политическую, такую красную, какую им только будет угодно, с политической точки зрения, — с массой отрубленных голов, если это будет необходимо, — но с сохранением полнейшего уважения к священной собственности. Одним словом, чисто якобинскую революцию, которая сделает нас господами положения. А раз мы окажемся хозяевами положения, то мы дадим рабочим то... что мы сможем и захотим дать.
Это безошибочный признак, по которому рабочие могут узнать фальшивого социалиста, социалиста буржуазного: если, говоря им о революции или о социальном перевороте, он говорит им, что политический переворот должен предшествовать перевороту экономическому; если он отрицает, что обе эти революции должны совершиться одновременно, или, что политическая революция не должна быть ничем иным, как только немедленным и прямым осуществлением полной и всецелой социальной ликвидации, — пусть рабочие повернут ему спину, потому что, или он просто глуп, или лицемерный эксплоататор.
Международный союз рабочих, дабы остаться верным своему принципу и не сойти с единого пути, который может довести его до цели, должен остерегаться, главным образом, влияния двух родов буржуазных социалистов: сторонников буржуазной политики, включая сюда и буржуазных революционеров, и сторонников буржуазной кооперации, или так называемых практических людей. Рассмотрим сперва первых.
Экономическое освобождение, сказали мы в предыдущем номере, есть основа всякого другого освобождения. Мы резюмировали в этих словах, всю политику Интернационала.
Действительно, в предпосылках к статутам мы читаем следующее заявление:
„Подчинение труда капиталу есть источник всякого рабства: политического, нравственного и материального, и по этой причине, экономическое освобождение рабочих есть великая цель, которой должно быть подчинено всякое политическое движение".
Само собой разумеется, что всякое политическое движение, которое не ставит непосредственной и прямой целью окончательное и полное экономическое освобождение рабочих и которое не начертало на своем знамени ясно и определенно принцип экономического равенства, означающего полное возвращение капитала труду или же социальную ликвидацию, что всякое такое политическое движение есть буржуазное и, как таковое, должно быть исключено из Интернационала.
Следовательно, без всякого сожаления должна быть исключена политика буржуазных демократов или буржуазных социалистов, которые, заявляя, что „политическая свобода есть предварительное условие экономического освобождения", могут понимать под этими словами лишь следующее: реформы или революции политические должны предшествовать реформам или революциям экономическим; рабочие должны, следовательно, войти в союз с буржуазией, более или менее радикальной, для совершения вместе с ней сперва первых, чтобы потом произвести против нее последние.
Мы громко протестуем против этой пагубной теории, которая может привести рабочих только к тому, чтобы заставить их лишний раз служить орудием против себя самих и предоставить их снова буржуазной эксплоатации.
Завоевать политическую свободу сначала— означает ни что иное, как завоевать сначала ее одну, оставляя, по крайней мере, в первые дни, старые экономические и социальные отношения, т. е. сохраняя собственность и капиталистов, дерзко выставляющих свои богатства, и рабочих с их нищетой.
Но, говорят, раз эта свобода будет завоевана, она послужит рабочим орудием в деле завоевания впоследствии, равенства или экономической справедливости.
Свобода, действительно, прекрасное и могущественное орудие; но вопрос в том, могут ли рабочие действительно воспользоваться ею, будет ли она действительно в их руках, или же, как это было всегда до сих пор, их политическая свобода будет только обманчивой внешностью, фикцией.
Рабочий, которому в его настоящем экономическом положении стали бы говорить о политической свободе, мог бы ответить припевом известной песни:
Не говорите о свободе, Нищета есть рабство!И действительно, надо быть влюбленным в иллюзию, чтобы воображать, что рабочий при тех экономических условиях, в которых он теперь находится, сможет полностью и действительным образом воспользоваться своей политической свободой? Ему недостает для этого двух маленьких вещиц: досуга и материальных средств.
Впрочем, не видели ли мы это во Франции на другой день после революции 1848 года, революции, наиболее радикальной, какую только можно пожелать с политической точки зрения.
Французские рабочие, конечно, не были ни равнодушными, ни бестолковыми и, несмотря на самое широкое всеобщее избирательное право, они должны были предоставить буржуазии свободу действий. Почему? Потому что им недоставало материальных средств, необходимых для того, чтобы политическая свобода стала реальностью, потому что они оставались рабами труда под угрозой голода, в то время как буржуа-радикалы, либералы и даже консерваторы,
— одни уже республиканцы, другие, ставшие ими потом, раз'езжали, агитировали, говорили, действовали и конспирировали свободно, кто благодаря своим доходам или выгодному буржуазному положению, а кто благодаря государственному бюджету, который, конечно, был сохранен и даже увеличен больше, чем когда либо.
Известно, что вышло отсюда: сначала июньские дни, потом, как необходимое следствие, декабрьские.
Но скажут нам, рабочие, наученные опытом не пошлют больше буржуа в учредительные и законодательные собрания, они пошлют туда простых рабочих; как бы они не были бедны, они могут дать необходимое содержание своим депутатам. Знаете ли, что из этого выйдет? То, что рабочие-депутаты, попавшие в условия буржуазного существования и в атмосферу чисто буржуазных политических идей, фактически перестав быть рабочими, становясь людьми государственными, сделаются буржуями и, быть может, станут буржуазнее самих буржуа. Не люди создают положение, а наоборот, положение — людей. А мы знаем по опыту, что рабочий-буржуа бывает часто не менее эгоистичен, чем буржуа-эксплоататор; не менее вреден для Союза, чем буржуа-социалисты; не менее смешным в своем чванстве, чем облагороженные буржуа.
Что бы ни делали и ни говорили, до тех пор пока рабочий останется при настоящих условиях существования, для него будет немыслима свобода, и те, которые зовут его к завоеванию политической свободы, не касаясь предварительно жгучих вопросов социализма, не произнеся слов „социальная ликвидация", заставляющих бледнеть всех буржуа, те просто говорят рабочему: добудь сначала эту свободу для нас, чтобы мы потом могли воспользоваться ею против тебя.
Но ведь у них добрые и искренние намерения, у этих радикальных буржуа, скажут нам. — Нет таких добрых и искренних намерений, которые могли бы устоять против влияния положения и, так как мы сказали, что даже рабочие, попавшие в буржуазные условия неизбежно становятся буржуями, то тем более буржуа, оставшиеся в этих условиях, останутся буржуями.
Если буржуа, охваченный страстным желанием справедливости, равенства и гуманности, хочет серьезно трудиться над освобождением пролетариата, пусть он начнет с того, что порвет с буржуазией все свои политические и социальные связи, всякие отношения, возникшие на почве материальных или умственных интересов, на почве чувства и тщеславия. Пусть он поймет сначала, что никакое примирение невозможно между пролетариатом и этим классом, который, живя только эксплоатацией других, является естественным врагом пролетариата.
Отойдя окончательно от буржуазного мира, пусть он станет под знамя рабочих, на котором написаны следующие слова: „Справедливость, Равенство и Свобода для всех. Уничтожение классов посредством экономического уравнения всех. Социальная ликвидация". — Он будет желанным гостем. Что же касается буржуазных социалистов и рабочих-буржуа, которые будут говорить нам о соглашении между буржуазной политикой и социализмом рабочих, мы можем только дать такой совет последним: отойди от них. Так как буржуазные социалисты стараются в настоящее время организовать, пользуясь приманкой социализма, громадную рабочую агитацию, для завоевания политической свободы, которой, как мы только что видели, воспользуется только буржуазия; так как рабочие массы, дошедшие до истинного понимания своего положения, озаренные и движимые принципом Интернационала, уже организуются и начинают представлять действительную силу, не национальную, а международную, и не для того, чтобы делать буржуазное дело, а свое собственное; так как даже для того, чтобы осуществить буржуазный идеал полной политической свободы с республиканскими учреждениями, необходима революция, а никакая революция не может восторжествовать без содействия народной силы, — нужно чтобы эта сила, перестав загребать жар для господ буржуа, стала служить отныне только торжеству народного дела, делу всех тех, кто трудится, против всех тех, кто эксплоатирует чужой труд.
Международное Общество Рабочих, верное своему принципу, никогда не протянет руки политической агитации, не имеющей своей непосредственной и прямой целью — полное экономическое освобождение рабочих, т. е. уничтожение буржуазии, как класса экономически обособленного от массы, и не поможет никакой революции, которая с первого же дня, с первого же часа не начертает на своем знамени — Социальная ликвидация.
Но революции не импровизируются. Они не делаются по воле отдельных личностей, ни даже самых могущественных ассоциаций. Они, независимо от всякой воли и от всякой конспирации, всегда происходят в силу хода самих вещей. Их можно предвидеть, иногда предчувствовать их приближение, но никогда нельзя ускорить их взрыв.
Убежденные в этой истине, мы ставим себе вопрос: какой политике должен следовать Интернационал в течении этого более или менее длинного периода времени, отделяющего нас от той ужасной социальной революции, которую мы все теперь предчувствуем?
Отбрасывая согласно своим статутам всякую национальную и местную политику, Интернационал придает рабочей агитации всех стран характер исключительно экономический. Ставя как цель: уменьшение рабочего времени и увеличение заработной платы, как средство: объединение рабочих масс и организацию касс сопротивления.
Он будет пропагандировать свои принципы, так как эти принципы, будучи чистейшим выражением коллективных интересов рабочих всего мира, являются его душой и составляют всю жизненную силу Союза.Он поведет широко эту пропаганду, не считаясь с буржуазной щекотливостью, чтобы каждый рабочий, выходя из состояния умственной и нравственной неподвижности, в которой его стараются удержать, понял положение дел и знал, что он должен хотеть и при каких условиях может завоевать себе человеческие права.
Он должен будет вести эту пропаганду тем более искренно, и энергично, что в нем самом мы часто наталкиваемся на такие влияния, которые, показывая свое презрение к этим принципам, хотели бы заставить их сойти за ненужную теорию и стараются вернуть рабочих к политическому, экономическому и религиозному катехизису буржуазии.
Он, наконец, расширится и прочно организуется, переступив границы всех стран, чтобы в момент, когда, наступившая в силу естественного хода вещей, революция вспыхнет, нашлась бы реальная сила, знающая, что она должна делать, и в силу этого, способная взять революцию в свои руки и придать ей направление спасительное для народа: серьезная международная организация рабочих союзов всех стран, способная заменить этот отходящий политический мир государств и буржуазии.
Мы заканчиваем это точное изложение политики Интернационала воспроизведением последнего параграфа предпосылок к нашим общим статутам:
„Движение совершающееся среди рабочих промышленных стран Европы, пробуждая новые надежды, дает торжественное предупреждение не впадать в старые ошибки".
Усыпители
I.
Международная ассоциация буржуазных демократов, „Международная Лига Мира и Свободы", издала свою новую программу или, вернее, испустила вопль отчаянья, трогательный призыв ко всем буржуазным демократам Европы, умоляя их не дать ей погибнуть по недостатку средств.
Ей не хватает нескольких тысяч франков, чтобы продолжать свой журнал, окончить бюллетень своего последнего конгресса и сделать возможным собрание нового конгресса,
вследствие чего центральный комитет, дойдя до последней крайности, решился открыть подписку и приглашает всех сочувствующих и верующих в эту буржуазную Лигу доказать свою симпатию и веру, прислав ему, в каком бы то ни было виде, как можно более денег.
В этом циркуляре Центрального Комитета Лиги читателю слышится голос умирающих,силящихся разбудить мертвых. В нем нет ни одной живой мысли, все повторение избитых фраз и бессильное выражение желаний, столь же добродетельных, сколько бесплодных, над которыми история давно произнесла смертный приговор, именно за их отчаянное бессилие.
А между тем надо отдать справедливость Лиге Мира и Свободы, она соединяет в себе самых передовых, самых благомыслящих и самых великодушных буржуа Европы, конечно, за исключением маленькой группы людей, которые хотя родились и воспитались в буржуазном классе, но с той самой минуты, как убедились в отсутствии жизненной силы в этом почтенном сословии, как поняли, что оно не имеет никакого права на существование и может продолжать это существование лишь в ущерб справедливости и человечеству, разорвали с ним всякие сношения и, отвернувшись от него, смело отдались великому делу освобождения рабочих, эксплуатируемых и порабощенных этой буржуазией.
Почему же Лига, заключающая в своей среде столько умных, ученых и искренно либеральных личностей, так скудна мыслью, так очевидно неспособна желать действовать и жить.
Эта неспособность и скудоумие зависят не от личностей, а от целого класса, к которому эти личности имеют несчастье принадлежать. Этот класс, как политический и социальный организм, оказав в свое время цивилизации важные услуги, самой историей обречен на смерть. И это последняя и единственная услуга, которую он еще может оказать человечеству, так долго питавшему его своими лучшими силами. Но умирать она не хочет. Вот в чем единственная причина его настоящей глупости, той постыдной немощности, которая характеризует ныне все его политические предприятия, как национальные, так и интернациональные.
Буржуазная Лига Мира и Свободы желает невозможного, она хочет, чтобы буржуазия существовала и вместе с тем продолжала служить прогрессу. После долгих колебаний, а именно после того, как в среде своего комитета она отрицала в конце 1867 г., в Берне, даже существование социального вопроса; после того, как на своем последнем конгрессе она отвергла огромным большинством экономическое и социальное равенство, она, наконец, поняла, что теперь в истории положительно невозможно ступить шагу вперед, не разрешив социального вопроса и не доставив торжества принципу равенства. Циркуляр Лиги приглашает всех членов деятельно содействовать „всему, что может ускорить наступление царства справедливости и равенства". И в то же время она ставит такой вопрос: „Какую роль должна играть буржуазия в социальном вопросе".
Мы уже ответили ей. Если она действительно желает оказать человечеству еще одну последнюю услугу; если ее любовь к истинной свободе, т. е. к свободе всеобщей, полной и равной для всех, искрения; если, одним словом, она хочет перестать быть реакцией, ей остается исполнить только одно: умереть добровольно и как можно скорее.
Мы говорим, конечно, не о смерти индивидуумов, составляющих этот класс, но о смерти его, как сословия, как политического и социального организма. Истинный, единственный смысл, единственная цель социального вопроса, как признает и сам центральный комитет, состоят в торжестве и осуществлении равенства. Но не очевидно ли, что в таком случае буржуазия должна погибнуть, так как ее существование, как организма, различного по экономическому положению от рабочей массы, влечет за собою и необходимо производит неравенство.
Сколько бы ни прибегали ко всяким уловкам, сколько бы ни старались запутать вопрос, подделать социальную науку на пользу буржуазной эксплуатации, все рассудительные люди, которым нет выгоды обманывать себя, понимают теперь, что пока для известного количества экономически привилегированных людей будут существовать средства и образ жизни, отличные от рабочего класса; пока, с одной стороны, более или менее значительное количество отдельных лиц будут наследовать в различных пропорциях земли и капиталы, несозданные их собственным трудом, а с другой стороны, громадное большинство трудящихся не наследуют ровно ничего, пока проценты с капитала и рента позволяют этим привилегированным личностям существовать, не работая, до тех пор равенство немыслимо. Если даже предположить, что в обществе все работают по обязанности или по доброй воле, но что один класс общества, благодаря своему экономическому положению и, пользуясь, вследствие этого, особыми политическими и общественными привилегиями, может предаваться исключительно умственной работе, тогда как громадное большинство людей бьется из за насущного хлеба; если допустить, что не все люди находят в обществе одинаковые условий жизни, воспитания, образования, труда и наслаждения, — то этим самым равенство экономическое, политическое и социальное делается положительно невозможным. Во имя равенства буржуазия некогда свергла феодальное право. Во имя равенства и мы требуем ныне смерти или самоубийства буржуазии, с той только разницей, что менее кровожадные, чем буржуазия, мы желаем смерти не людей, а только современного порядка. Покорностью и уступками буржуа могут спасти свои особы. Но, горе им, если, в безумном увлечении интересами своего класса, обреченного на смерть, они вздумают противиться народному правосудию, чтобы спасти невозможное положение!
II.
Сторонникам Лиги Мира и Свободы следовало бы позадуматься над тем жалким финансовым положением, в котором в настоящее время находится Лига Мира, после почти двухлетнего существования, что союз самых радикальных буржуазных демократов Европы не мог ни создать действительной организации, ни произвести ни одной плодотворной, живой мысли. Но нас это не удивляет, потому, что для нас ясна причина этого бессилия и скудоумия.
Но отчего Лига вполне буржуазная и, как таковая, состоящая, понятно, из членов несравненно более богатых и более свободных в своих действиях и поступках, чем члены Международного Рабочего Общества, отчего погибает она теперь по недостатку материальных средств, между тем как работники Интернационала, бедняки, подавляемые множеством притеснительных, несправедливых законов, неимеющие ни образования, ни досуга, обремененные тяжелым трудом, сумели в короткое время создать сильную международную организацию со множеством журналов, выражающих их потребности, стремления, идеи? Чему приписать это финансовое банкротство, дополняющее уже об'ясненное нами умственное и нравственное банкротство? Как! Все радикалы швейцарские, вся немецкая народная партия, все гарибальдийские демократы Италии, вся радикальная демократия Франции, Испании и Швейцарии, все эти партии, представляемые такими личностями, как сам Эмилио Кастелар, как милый полковник, обезоруживший все умы и покоривший все сердца на последнем Бернском конгрессе; такими практическими деятелями, такими великими политическими дельцами, как г. Гаусман и редакторы „Будущности"; умами, подобными Лемонье, Густаву Фохту и Барни; борцами, как гг. Гег и Шодэ, — все эти партии и личности, взявшись за создание „Лиги Мира и Свободы", с благословением Гарибальди, Кинэ и Якоби кенигсбергского, после двухлетнего существования обшества, не могли обеспечить его финансовую сторону и Лига Мира и Свободы должна умереть из за отсутствия нескольких тысяч франков! как! даже трогательные, символические об'ятия представителей великого германского отечества и великой нации, г.г. Армана Гега и Шодэ, бросившихся при всем конгрессе друг другу на шею с криками; Pax! Рах! Pax! (Мир) так что маленький бернец, Теодор Бэк даже всплакнул от восторга и умиления, все это не дало ни одного су, буржуазные кошельки не раскрылись, сухие сердца европейской буржуазии не смягчились.
Неужели буржуазия уже обанкротилась? Нет еще. Или, может быть, ей перестали нравиться свобода и мир? Ничуть. Свободу она продолжает любить, конечно, с условием, чтобы свобода существовала, только для нее, т. е. с условием, чтобы она сохранила свободу эксплуатировать фактическое рабство народных масс, которые при настоящих конституциях, имея только право на свободу, но не средства пользоваться ею, поневоле остаются в ее власти. Что же касается до мира, то никогда буржуазия не чувствовала такой потребности в нем, как ныне. Вооруженный мир, давящий в настоящую минуту Европу, тревожит, парализует, разоряет буржуазию.
Почему же буржуазия, с одной стороны еще не потерпевшая банкротства, а с другой продолжающая питать любовь к миру и свободе, почему не хочет она пожертвовать ни копейки на поддержание Лиги Мира и Свободы?
Дело в том, что она не верит в эту Лигу, потому что не верит в самое себя. Верить — значит страстно хотеть; а, она безвозвратно утратила способность хотеть. Действительно, чего еще хотеть ей в настоящее время, как отдельному классу? Ей и без того принадлежит все: богатство, наука, исключительное владычество. Ей, конечно, не очень нравится военная диктатура, несколько грубо покровительствующая ей; но она хорошо понимает, насколько она необходима, и благоразумно покоряется ей, отлично зная, что с той минуты, как эта диктатура падет, она лишится всего и перестанет даже существовать. Вы, граждане Лиги, хотите, чтобы эта буржуазия дала вам свои деньги и соединилась с вами для уничтожения стеснительной диктатуры? Как бы не так! Обладая практическим смыслом, она лучше
вас понимает свои интересы.
Вы силитесь убедить ее, указывая ей ту бездну, к которой она роковым образом стремится, следуя по пути эгоистического и грубого консерватизма. Вы думаете, она не видит, этой бездны? Она не хуже вас чувствует приближение катастрофы, которая должна поглотить ее. ,,Но, соображает она, если мы поддержим существующий порядок, то можем надеяться продержаться в настоящем положении целые годы, быть может, умереть до наступления катастрофы, а там будь, что будет! Между тем, позволив увлечь себя по пути радикализма и низвергнув существующую власть, мы завтра же погибнем. И так, лучше останемся, при существующем".
Буржуа-консерваторы лучше понимают настоящее положение, чем буржуа радикалы. Не предаваясь иллюзиям, они понимают, что между отживающей буржуазной системой и социализмом, долженствующим заменить ее, не может быть никаких сделок. Вот почему все действительно практические умы и туго набитые кошельки буржуазии обращаются на сторону реакции, предоставляя Лиге Мира и Свободы пустые головы и пустые кошельки. Вот почему эта злосчастная Лига терпит ныне столько банкротств. Ничто не доказывает так убедительно умственную, нравственную и политическую смерть буржуазного радикализма, как его нынешнее бессилие создать хотя бы самую ничтожную вещь, бессилие, вполне доказанное во Франции, Германии и Италии и проявившееся в самом ярком свете в Испании. Вот уже девять месяцев, как в Испании возгорелась, и восторжествовала революция.Буржуазия имела,если не власть, то, по крайней мере, все средства захватить власть в свои руки. Что же она создала? Монархию и регентство Серрано!
III.
Как ни глубока наша антипатия, наше недоверие и презрение к нынешней буржуазии, но в этом классе все таки есть две категории, которые мы не отчаиваемся по крайней мере частично убедить социальной пропагандой и сделать полезными народному делу. Одна, силою самих обстоятельств и своего положения, другая, в силу своего темперамента и ума, должны будут принять и, конечно, примут вместе с нами участие в уничтожении нынешней несправедливости и в создании нового порядка вещей.
Мы говорим о самой мелкой буржуазии и о школьной и университетской молодежи. Скажем несколько слов о буржуазной молодежи. Дети буржуазного происхождения, правда, наследуют, по большей части, исключительные привычки, узкие предрассудки и эгоистичные инстинкты своих родителей. Но пока они молоды, в них не следует отчаяваться. Молодость обладает такой энергией, такими широкими стремлениями, таким врожденным инстинктом справедливости, что эти хорошие качества зачастую уравновешивают много вредных влияний. Испорченная примером и уроками своих отцев, буржуазная молодежь не развращена в конец практикой жизни; ее собственная деятельность еще не вырыла пропасти между ней и справедливостью, а что касается дурных традиций ее отцов, то она до некоторой
степени застрахована от них духом противоречия и протеста, присущим всем молодым поколениям по отношению к предшествующим. Молодежь непочтительна, она инстинктивно пренебрегает традицией и принципом авторитета. В этом ее сила и ее спасение.
Затем следует спасительное влияние учения, науки. Да, действительно спасительное, но только под условием, чтобы учение не было ложно направлено и чтобы наука не была пошлым доктринерством в пользу официальной лжи и беззакония.
К несчастию, в настоящее время и учение и наука в огромном большинстве европейских школ и университетов находятся, именно, в этом состоянии систематической и преднамеренной подделки. Можно подумать, что наука нарочно создана, умственно и нравственно отравить буржуазную молодежь. Университет же и школы превратились в привилегированные лавки, где ложь продается оптом и в розницу.
Мы не станем указывать на богословие, науку божественной лжи, на юриспруденцию, науку человеческой лжи, на метафизику и идеальную философию, науки всякой полу-лжи; мы укажем на такие науки, как история, политическая экономия, философия, опирающиеся не на реальное знание природы, а основывающиеся на тех же началах, на которых построены богословие, юриспруденция и метафизика. Можно без преувеличения сказать, что всякий молодой человек, выходящий из университета и пропитанный этими науками или, лучше сказать этими различными видами систематической лжи, которые, присвоили себе название науки, совершенно губится умственно, если не представятся какие нибудь исключительные обстоятельства, могущие спасти его. Профессора, эти новейшие жрецы патентованного политического и социального шарлатанства отравили его таким славным ядом, что нужны полные чудеса целебного искусства, чтобы вылечить его. Молодой человек выходит из университета полнейшим доктринером, исполненным уважения к самому себе и презрения к подлой черни, конторую он готов притеснять, а главное, эксплуатировать, во имя своего умственного и нравственного превосходства. Чем моложе подобная личность,тем зловреднее и тем гаже она.
Иное дело факультет точных и естественных наук. Это настоящие науки! Чуждые богословия и метафизики, они враждебны всяким фикциям и основываются исключительно на точном знании, на добросовестном анализе фактов, на здравом смысле, присущем каждому. Насколько науки идеальные авторитетны и аристократичны, настолько естественные науки демократичны и широко либеральны. А потому, что же мы видим? Молодые люди, изучавшие идеальные науки, становятся в жизни эксплуататорами и реакционерами - доктринерами: те же которые изучают естественные науки, становятся революционерами, и многие революционерами-социалистами; на эту часть молодежи мы и надеемся.
Манифестации последнего Люттихского конгресса дают нам надежду, что скоро вся эта развитая и благородная часть университетской молодежи составит в среде Международного Общества Рабочих новые секции. Содействие их будет иметь высокую цену, если только они поймут, что миссия науки состоит теперь не в господстве, а в служении труду, что им гораздо больше приводится учиться у рабочего, чем быть его учителями. Они — представители молодой буржуазии, он — представитель будущего человечества; в нем заключена вся его будущность. Таким образом в будущих исторических событиях первенствующая роль будет за рабочим, а студенты из буржуазии окажутся его учениками. Но пора вернуться к Лиге Мира и Свободы. Почему на ее конгрессах не присутствует молодая буржуазия? Дело ясно. Доктринеры не пойдут туда, а другая часть этой молодежи в настоящее время представляет нечто, пожалуй, похуже уже сложившейся буржуазии. Масса нынешнего студенческого мира погрязла в филистерстве и в настоящем предана грубым удовольствиям, в будущем она мечтает о блестящих и доходных местах. Эта масса и не знает о существовании Лиги Мира и Свободы.
Когда Линкольн был избран президентом Соединенных Штатов, покойный полковник Дуглас, бывший тогда одним из главных предводителей побежденной партии воскликнул:, „наша партия погибла. Молодежь не с нами". Так эта бедная Лига никогда не была молода; она родилась старой и умрет, не живши.
Такова участь всей радикальной буржуазной партии Европы. Все ее существование было всегда только прекрасной мечтой. Она мечтала во время Реставрации, мечтала во время Июльской Монархии. В 1848 году, выказав себя неспособной создать что нибудь существенное, она позорно пала, а сознание собственной неспособности и бессилия кинуло ее в реакцию, и после 1848 г. она имела несчастие пережить самое себя. Она и теперь продолжает мечтать. Но это уже не мечта о будущем; это старческая мечта о прошлом человека отжившего, который в сущности не имеет прошлого. Эта часть буржуазного мира все еще упорствует в своей тяжелой мечте, но и она чувствует и понимает, что вокруг нее уже волнуется иной мир, нарождается сила будущего. Это — сила и мир рабочей массы.
Движение рабочего мира наконец разбудило ее. Долго непризнававшая, даже отвергавшая существование этой грозной силы, она, наконец, убедилась в ее действительном существовании: перед нею стоял мир, полный жизни, которой сама она никогда не знала. Желая спасти себя, она попыталась переродиться и слиться с этой живой силой. И теперь она называет себя уже не радикальной демократией, а буржуазным социализмом. Под этим новым названием эта часть буржуазии существует еще только год. Посмотрим что удалось ей произвести в продолжение этого года.
IV.
Наши читатели могут, конечно, спросить нас, почему мы занимаемся Лигой Мира и Свободы, если считаем ее умирающей, если знаем, что дни ее сочтены; почему не даем ей покойно и без шуму покончить свое жалкое существование. Действительно, так бы и следовало поступить, если бы Лига Мира и Свободы не угрожала подарить нам на прощание свою память — буржуазный социализм. Мы не стали бы заниматься этим жалким незаконнорожденным детищем буржуазии, если бы он обращался с своей пропагандой только к буржуазному радикальному миру; не веря в успех его усилий, мы только удивлялись бы его благим намерениям; но, к несчастью, он не довольствуется этими бесполезными усилиями и старается проникнуть в рабочую среду, чтобы и ее приобщить буржуазной теории; а это по меньшей мере безнравственно и, главное, крайне вредно. Этот выродок, буржуазный социализм, очутился между двумя непримиримо враждебными мирами: миром буржуазным и миром рабочим. Хотя, с одной стороны, его двусмысленное и вредное действие ускоряет смерть буржуазии, за то, с другой, развращает пролетариат. Он вдвойне развращает его; во первых, извращая программу и умаляя величие ее принципов; во вторых, внушая ему несбыточные надежды и нелепую веру в близкое обращение буржуазии; он привлекает, или по крайней мере, желает привлечь пролетариат к буржуазной политике и таким образом, обратить его опять в орудие буржуазии. Что же касается принципов буржуазного социализма, то он находится в этом отношении в положении столь же затрудительном, сколько смешном; он или слишком широк, или слишком развращен, чтобы держаться одного определенного принципа, он хочет соединить в себе два принципа, взаимно исключающие друг друга, с нелепой претензией примирить их. Например, он хочет сохранить буржуазии индивидуальную собственность капитала и земли и в то же время заявляет великодушную готовность обеспечить благосостояние рабочего. Далее он обещает рабочим полное пользование продуктом их труда — вещь невозможную при существовании процента с капитала и ренты, так как и процент, и рента взимаются с продукта труда.
Буржуазный социализм хочет сохранить за буржуазией ее нынешнюю свободу, которая ничто иное, как возможность эксплутировать силою капитала труд рабочих, и в то же время он обещает рабочим полное экономическое и социальное равенство: равенство эксплуатируемых с эксплуататорами.
Он защищает право наследства, то есть возможность детям богатых рождаться богатыми, а детям бедняков нищими, и вместе с тем обещает всем детям равенство воспитания и образования, как того требует справедливость.
Буржуазный социализм поддерживает, в пользу буржуазии, неравенство положений, естественное последствие наследственного права, и обещает пролетариату, что в его системе все будут равно работать, сообразно способностям и естественным наклоностям каждого. Это было бы возможно только при двух условиях, одинаково нелепых: или, государство, власть которого также ненавистна социальной буржуазии, как и нам, будет принуждать богатых работать наравне с бедными, что приводит нас прямо к государственному коммунизму; или, все богатые, движимые единственно чудным самоотвержением и великодушной решимостью примутся добровольно работать, непобуждаемые нуждой, работать наравне с теми, кого заставляют трудиться нужда и голод.
Но даже допуская подобное чудо, очевидно, что работающие по необходимости всегда будут в подчинении, зависимости и просто в рабстве у добровольных работников.
Буржуазный социалист легко узнается по следующему признаку: он крайний индивидуалист и не может без внутренней злобы слышать о коллективной собственности. Враждебный ей, он естественным образом враждебен и коллективному труду и, не имея возможности совершенно устранить его из социальной программы, хочет во имя свободы, которую так плохо понимает, открыть самое широкое поприще индивидуальному труду.
А что такое индивидуальный труд? Всюду, где непосредственно участвует физическая сила или ловкость человека, то есть, во всем, что называется материальным производством — индивидуальный труд бессилен; единичная работа одного, как бы он ни был силен и ловок, никогда не может бороться против коллективного труда рабочих организованных в ассоциацию. То, что ныне в промышленном мире называется индивидуальной работой, есть только эксплуатация коллективного труда рабочих отдельными лицами, привилегированными обладателями капитала или знания. Но с прекращением эксплуатации, чего они желают, как уверяют, по крайней мере, сами буржуазные социалисты, в промышленном мире не будет другого труда, кроме труда коллективного и, следовательно другой собственности, кроме коллективной. Таким образом, индивидуальный труд останется возможным только в интеллектуальном производстве, в работе ума. Но и тут нужна оговорка. Ум величайшего гения не есть ли продукт коллективной работы, как умственной, так и промышленной, всех прошедших и настоящих поколений. Чтобы убедиться в этом, достаточно вообразить себе этот самый гений перенесенным, с самого раннего детства, на необитаемый остров, предполагая, что он не погибнет там с голоду; что получится из него? Животное, существо неспособное даже говорить, а тем более мыслить. Перенесите его туда в десятилетнем возрасте; что выйдет из него через несколько лет? Опять таки животное, потерявшее способность говорить и сохранившее от своей человеческой природы лишь смутный инстинкт. Перенесите его двадцати, тридцати лет—через десять, пятнадцать, двадцать лет он одичает. И самое большее, что может сделать - изобретет какую нибудь новую религию. Из этого ясно, что человек, даже богато одаренный природою, получает от нее только способности, и что эти способности останутся бесплодными, мертвыми без могучего действия коллективности. Наше мнение, что личность, богато одаренная от природы, уже поэтому самому многим может воспользоваться и пользуется от коллективности, а это обязывает ее много воздать ей; этого требует справедливость.
Тем не менее, мы признаем, что хотя большая часть умственных работ может производиться и лучше, поскорее коллективно, чем индивидуально, но есть такие, которые требуют единичного труда. Что же из этого следует? Уже не то ли, что единичные работы гениальных или талантливых людей, будучи более редки, более ценны и более полезны, чем работы обыкновенных рабочих, должны оплачиваться лучше? На каком основании? Разве эти работы тяжелее ручного труда? Напротив, ручной труд несравненно тяжелее. Умственный труд приятен; он сам в себе носит свою награду и не нуждается в другом вознаграждении. Кроме того, он еще находит вознаграждение в уважении и благодарности современников, в сознании того просвещения и блага, которые он ,им доставляет. Вы, предающиеся идеальничанью в таких широких размерах, господа буржуа-социалисты, неужели вы не находите, что эта награда стоит всякой другой? Или, может быть, вы предпочли бы более существенное вознаграждение звонкой монетой? Вы сами оказались бы в большом затруднении, если бы вам пришлось установлять таксу на продукты интеллектуальной работы гения. Это, по очень верному замечанию Прудона, величины неизмеримые: они или ничего не стоят или стоят миллионы... Но понимаете ли вы, что при этой системе вам придется поторопится уничтожить наследственное право, потому что иначе дети людей гениальных или великих талантов будут наследовать миллионы и сотни тысяч; вспомните притом, что дети гениев большею частью, вследствие ли неизвестного еще закона природы, или того привилегированного положения, которое доставили им труды их отцов, бывают большей частью очень ограничены умственно, а часто просто глупы. Что же станется с тем справедливым распределением, о котором вы так любите толковать и во имя которого ведете борьбу с нами? Как осуществится та равноправность которую, вы нам сулите?
Из всего этого, кажется, очевидно, что единичный труд индивидуального ума, все умственные работы в смысле изобретения, но не в смысле приложения, должны быть даровыми. Но чем же тогда жить людям таланта, людям гениальным? Разумеется физическим и коллективным трудом как все другие? Как? Вы хотите подчинить великие умы физическому труду наравне с самыми посредственными? Да, хотим, и вот почему: во первых, мы убеждены, что великие умы не только ничего при этом не потеряют, но напротив, много выиграют, укрепятся физически, а еще более духовною солидарностью и справедливостью. Во вторых, это единственный способ возвысить и очеловечить физический труд и этим самым установить настоящее равенство между людьми.
V.
Теперь мы рассмотрим великие меры, предлагаемые буржуазным социализмом для освобождения рабочего класса, и легко докажем, что каждая из этих мер под очень почтенной наружностью скрывает что нибудь невозможное, лицемерное, лживое. Их три: 1) народное образование, 2) кооперация и 3) политическая революция.
Мы спешим заявить, что есть пункт, на котором мы совершенно согласны с ними: образование необходимо народу. Только те могут отвергать это или сомневаться в этом, кто желает увековечить рабство народных масс. Мы так убеждены, что образование есть мерило той степени свободы, благосостояния и человечности, которой может достигнуть как целый класс, так и отдельное лицо, что требуем для пролетариата не только какого нибудь образования, а образования полного, всестороннего, чтобы над ним не мог возвыситься иной класс, покровительствующий и направляющй его в силу своего знания; чтобы не могла,
создаться новая аристократия — аристократия ума и знания.По нашему мнению, из всех аристократий, которые угнетали человеческое общество поочередно, а иногда все вместе, это так называемая аристократия ума всех гнуснее, презрительнее, надменнее и притеснительнее. Аристократия дворянства говорит вам: „Вы честный человек, но вы не дворянин". Это оскорбление еще можно перенести. Аристократия капитала признает за вами всевозможные достоинства, „но, прибавляет она, у вас нет ни гроша за душой". Это тоже еще сносно, потому что это лишь констатирует факт, в большинстве случаев скорее лестный для того, к кому обращается этот укор. Но аристократия ума говорит вам: „вы ничего не знаете, ничего не понимаете, вы осел, а я разумный человек, поэтому я должен вас навьючить и вести" . Это нестерпимо.
Аристократия ума — возлюбленное детище новейшего доктринерства, последнее прибежище духа властолюбия, которым страдал мир с самого начала исторических времен и который воздвиг и освятил все государства. Это смешное и нелепое поклонение патентованному уму могло родиться только в среде буржуазии. Аристократии дворянства наука была не нужна для доказательства своего права. Она опирала свою власть на двух неопровержимых аргументах, основывая ее на насилии, на грубой физической силе и освящая милостью Божьей. Она совершала насилия, а церковь благословляла их — таково было ее право. Эта тесная связь торжествующего кулака с божественной санкцией придавала ей обаяние и внушала ей ее рыцарскую доблесть, покорявшую ей сердца.
Буржуазия, лишенная всякой доблести и благодати, может основывать свое право только на одном аргументе: очень существенном, но очень прозаическом могуществе денег. Это циническое отрицание всякой добродетели; с деньгами всякий дурак и скот, всякий негодяй имеет всевозможные права; без денег все личные достоинства ничего не значат — вот основной принцип буржуазии в его грубой действительности. Понятно, что такой аргумент, как бы ни был он силен сам по себе, недостаточен, чтобы оправдать и закрепить могущество буржуазии. Такова природа людей, что самые скверные вещи могут упрочиваться в обществе только под благовидной личиной. Отсюда поговорка, что лицемерие есть дань уважения, платимая пороком добродетели. Самое могущественное насилие нуждается в освящении.
Мы видели, что дворянство оградило все свои насилия милостью Божьей. Буржуазия не могла прибегнуть к такому покровительству, во первых, потому, что Господь Бог и его представительница церковь слишком скомпрометировали себя исключительно покровительствуя целые века монархии и дворянской аристократии, злейшему врагу буржуазии; и во вторых, потому, что буржуазия, чтобы она ни говорила и ни делала, все таки отрицает Бога. Она толкует о Боге для народа, но сама в нем не нуждается и обделывает все свои дела в храмах, посвященных не Господу, а Мамону, на бирже, в торговых и банкирских конторах, в больших промышленных заведениях. Ей, следовательно, надо было искать санкции помимо церкви и Бога. Она нашла ее в патентованной интеллигенции.
Она отлично знает, что ее настоящее политическое могущество основывается главным образом и, можно сказать, единственно, на ее богатстве; но так как она не желает и не может сознаться в этом, то старается об'яснить это могущество, своим умственным превосходством не природным, а научным; чтобы управлять людьми утверждает она, нужно много знать; а в настоящее время она одна обладает знанием. Действительно, во всех государствах Европы только буржуазия, включая сюда и дворянство, существующее ныне только по имени, — класс эксплуатирующий и властвующий, получает один сколько нибудь серьезное образование. Кроме того, из среды буржуазии выделяется особое меньшинство, посвящающее себя исключительно изучению великих вопросов философии, социальной науки и политики и составляющее собственно новейшую аристократию, аристократию патентованной и привиллегированной интеллигенции. Это меньшинство — квинт-эссенция и сильнейшее выражение духа и интересов буржуазии.
Новейшие европейские университеты,образующие род ученой республики, оказывают буржуазии те же услуги, какие некогда католическая церковь оказывала дворянству, и подобно тому, как католицизм санкционировал в свое время все насилия дворянства над народом, университет, храм буржуазной науки, объясняет и оправдывает ныне эксплуатацию того же самого народа капиталом буржуазии. Удивительно ли после этого, что в великой борьбе социализма против буржуазной политической экономии, новейшая патентованная наука так решительно приняла и продолжает принимать сторону буржуазии.
Не будем придираться к последствиям, будем всегда обращаться к причинам. Школьная наука — продукт буржуазного духа; представители этой науки родились, выросли и воспитались в буржуазной среде, под влиянием ее духа и исключительных интересов; поэтому естественно, что и та, и другие враждебны полному и действительному освобождению пролетариата, и что их теории, экономические, философские, политические и социальные последовательно выработанные в этом духе, имеют в сущности целью только доказать неспособность народных масс и, следовательно, призвание буржуазии, управлять ими до конца веков, так как богатство дает ей знание, а знание дает возможность богатеть еще больше. Как же выйти рабочему из этого заколдованного круга? Ему, понятно, необходимо приобрести знание и захватить в свои руки могучее орудие—науку, без которой он может, правда, делать революцию, но никогда не будет в состоянии воздвигнуть на развалинах буржуазных привилегий эту равноправность, справедливость и свободу, которые составляют сущность всех его политических и социальных стремлений. — Вот пункт, на котором мы вполне сходимся с буржуазными социалистами.
Но на следующих пунктах мы положительно расходимся с ними.
1. Буржуазные социалисты требуют для рабочих только немного более того образования, которое они получают в настоящее время, и предоставляют привилегию высшего образования очень незначительному классу счастливцев; говоря проще — людям, вышедшим из класса землевладельцев, буржуа, и тем, которые по счастливой случайности были приняты в среду этого класса, так сказать, усыновлены им. Буржуазные социалисты утверждают, что бесполезно всем получать одинаковую степень образования, потому что, если бы все захотели предаваться науке, то никого не осталось бы для физического труда, без которого даже наука не может существовать.
2. С другой стороны они утверждают, что для освобождения рабочих масс надо начать с воспитания их, и что пока они не будут обладать знанием, им нечего и думать о коренном изменении своего экономического и социального положения.
Всестороннее Образование
I.
Мы рассмотрим сегодня первым следующий вопрос: возможно ли полное освобождение рабочих масс, пока образование их будет ниже образования, получаемого буржуазией, или пока, вообще, будет существовать какой нибудь класс, многочисленный или нет, пользующийся по своему рождению привилегией лучшего воспитания и более полного образования? Поставить этот вопрос, значит решить его.
Очевидно, что из двух лиц, одаренных от природы приблизительно одинаковыми умственными способностями, то, которое больше знает, умственный кругозор которого более расширен, благодаря приобретенным научным знаниям, и которое, лучше поняв взаимную связь естественных и социальных фактов, или то, что называют естественными и социальными законами, легче и шире постигнет характер среды, в которой живет, — это лицо будет чувствовать себя более свободным в этой среде, окажется на практике способнее и сильнее другого. Понятно, что тот, кто больше знает, будет господствовать над тем, кто знает меньше. И если бы существовало только различие в воспитании и образовании между классами, то этого одного различия было бы вполне достаточно, чтобы в сравнительно короткий срок породить все другие, и человечество вернулось бы к современному состоянию, т. е. оно было бы вновь разделено на массу рабов и небольшую кучку господ, при чем первые, как и теперь, работали бы на последних.
Понятно, стало быть, почему социалисты-буржуа требуют для народа только побольше образования, немножко больше того, что народ получает ныне, и почему мы, демократы-социалисты, требуем для него, наоборот, полного всестороннего образования, насколько позволяет состояние умственного развития века, чтобы не могло существовать никакого класса, стоящего выше рабочих масс и могущего приобретать большие знания, и который, именно потому, что у него будет больше знаний, сможет господствовать над рабочими и эксплуатировать их.
Буржуазные социалисты желают сохранения классов, так как каждый класс, по их мнению, должен иметь свою особую функцию, один, напр., должен представлять науку, другой — ручной труд; мы же желаем окончательного и полного уничтожения классов, об'единения общества, экономического и социального равенства всех людей на земле. Они желали бы, сохраняя классы, уменьшить, смягчить и сгладить несправедливость и неравенство, — этот исторический фундамент современного общества, — мы же хотим разрушить их. Отсюда ясно, что между буржуазными социалистами и нами немыслимы ни соглашение, ни примирение, ни даже союз.
Но, скажут нам, — и этот аргумент всего чаще выставляют против нас, и господа доктринеры всех цветов считают его неопровержимым, — невозможно, чтобы все человечество отдалось науке: оно умерло бы с голоду. Следовательно, необходимо, чтобы в то время как одни занимаются наукой, другие работали бы и производили продукты, которые необходимы прежде всего им самим, а затем также и людям, посвятившим себя исключительно умственному труду, так как люди эти трудятся ни для себя одних: их научные открытия не только обогащают человеческий ум, но и улучшают быт всего человечества, благодаря применению их к промышленности и земледелию и, вообще, к политической и экономической жизни. Разве их художественные произведения не облагораживают жизнь всех людей?
Нисколько. И мы всего больше упрекаем науку и искуство именно в том, что они распространяют свои благодеяния и оказывают свое благотворное влияние только на очень незначительную часть общества, минуя огромное большинство и, следовательно, в ущерб ему. Относительно прогресса в науке и искусствах можно сказать теперь то же самое, что уже не раз было замелено с большим основанием относительно удивительного развития промышленности, торговли, кредита, одним словом, общественного богатства в наиболее цивилизованных странах современного мира. Это богатство совершенно исключительное и с каждым днем все более и более стремится к исключительности, сосредоточиваясь все в меньшем и меньшем количестве рук и выбрасывая низшие слои среднего класса, так называемую мелкую буржуазию, в ряды пролетариата, так что развитие этого богатства находится в прямом отношении к возрастающей нищете рабочих масс. Отсюда следует, что пропасть, разделяющая счастливое и привилегированное меньшинство от миллионов работников, которые содержат это меньшинство трудом своих рук, постоянно расширяется, и чем счастливее становятся счастливцы, эксплоататоры народного труда, тем бедственнее делается положение работников. Стоит только сравнить баснословную роскошь крупного аристократического, финансового, торгового и промышленного мира Англии с бедственным положением рабочих той же страны; стоит прочитать недавно обнародованное наивное и вместе с тем ужасающее письмо одного умного и честного лондонского серебряника, Вальтера Дюгана, который добровольно отравился вместе с женою и шестью детьми, спасаясь от унижений, нищеты и от мучений голода, — и придется сознаться, что наша пресловутая цивилизация для народа не что иное, как источник рабства и нищеты.
То же можно сказать и о современном прогрессе в области науки и искуств. Прогресс этот огромный — это правда; но чем больше он возрастает, тем больше становится причиною умственного, а, следовательно, и материального рабства, причиною нищеты и умственной отсталости народа, постоянно расширяя пропасть, отделяющую умственный уровень народа от умственного уровня привилегированных классов.
Ум народа, с точки зрения природной способности, конечно, в настоящий момент менее притуплен, менее испорчен, искалечен и извращен необходимостью защищать несправедливые интересы, и, следовательно, он, естественно, обладает большей мощью, чем буржуазный ум; но за то последний вооружен наукою, а это оружие ужасно. Очень часто случается, что очень умный рабочий вынужден замолчать перед глупым ученым, который побивает его не умом, которого у него нет, а образованием, отсутствующим у рабочего. Он мог получить это образование, потому, что в то время как его, глупого, учили и развивали в школе, труд рабочего одевал его, давал ему жилище, кормил его и снабжал всем необходимым для его образования, учителями и книгами.
Мы прекрасно знаем, что и в буржуазном классе не всякий обладает равными знаниями. Тут также своего рода иерархия, зависящая не от способности индивидов, а от большего или меньшего богатства того социального слоя, к которому они принадлежат по рождению: так например, образование, получаемое детьми мелкой буржуазии, немногим превышая образование рабочих, почти ничтожно в сравнении с тем которым, общество щедро наделяет среднюю и высшую буржуазию. И что-же мы видим? Мелкая буржуазия которая, с одной стороны, в данное время причисляется к среднему классу только благодаря смешному тщеславию, а с другой стороны поставлена в зависимость от крупных капиталистов, находится в большинстве случаев, в еще более бедственном и унизительном положении, чем пролетариат. Поэтому, говоря о привилегированных классах, мы никогда не подразумеваем в числе их эту жалкую мелкую буржуазию. Будь у нее больше ума и смелости, она не преминула бы присоединиться к нам, чтобы вместе бороться против крупной и средней буржуазии, которая давит ее теперь не меньше, чем пролетариат. Если экономическое развитие общества будет продолжаться в том же направлении еще лет десять, что нам кажется, впрочем, невозможным, то большая часть средней буржуазии сначала очутится в теперешнем положении мелкой буржуазии, а потом, мало по малу, поглотится пролетариатом, все благодаря той же фатальной концентрации собственности все в меньшем и меньшем количестве рук, и, в конце концов, неизбежным результатом этого будет окончательное разделение социального мира на незначительное но непомерно богатое, ученое и господствующее меньшинство и на огромное большинство несчастных, невежественных и порабощенных пролетариев.
Каждого добросовестного человека, всех кому дороги человеческое достоинство и справедливость, т. е. свобода и равенство поражает тот факт, что все изобретения человеческого разума, все великие приложения науки к промышленности, торговле и вообще к социальной жизни, до сих пор служили только интересам привилегированных классов и могуществу государств, вечных покровителей всякого политического и социального неравенства, и никогда не приносили пользы народным массам. Стоит только указать на машины, чтобы каждый рабочий и искрений сторонник освобождения труда согласился с этим.
Какая сила поддерживает привилегированные классы еще и теперь, со всем их наглым довольством и несправедливыми наслаждениями всеми благами жизни, против столь законного негодования народных масс? Сила, присущая им? Нет, их охраняет только государственная сила. В государстве, впрочем, дети их занимают ныне, как и всегда, высшие должности и даже средние и низшие, они не исполняют только обязанностей рабочих и солдат. А что составляет ныне главную силу государства? Наука.
Да, наука. Наука, правительственная, административная и наука финансовая; наука, учащая стричь народное стадо, не вызывая слишком сильного протеста, и когда оно начинает протестовать, учащая подавлять эти протесты, заставлять терпеть и повиноваться; наука, учащая обманывать и раз'единять народные массы, держать их всегда в спасительном невежестве, чтобы они никогда не могли, соединившись и помогая друг другу, организовать из себя силу, способную свергнуть государство; наука военная прежде всего, с усовершенствованным оружием и всеми ужасными орудиями разрушения, „творящими чудеса"; наконец, наука изобретателей, создавшая пароходы, железные дороги и телеграфы, которые, служа для военных целей, удесятеряют оборонительную и наступательную силу государств; телеграфы, которые, превращая каждое правительство в сторукое или тысячерукое чудовище, дают им возможность быть вездесущими, всезнающими, всемогущими — все это создает самую чудовищную политическую централизацию, какая только существовала в мире.
После этого можно ли отрицать, что до сих пор всякий прогресс, без исключения, в науке служил всегда средством для обогащения привилегированных классов и усиления государств, в ущерб благосостоянию народных масс, пролетариата? Но, возразят нам, разве рабочие не пользуются также благами прогресса? Разве в нашем обществе они не являются гораздо более цивилизованными по сравнению с прошлыми веками?
На это мы ответим словами Лассаля, знаменитого немецкого социалиста. Для того, чтобы судить о прогрессе рабочих масс, с точки зрения их политического и экономического освобождения, не нужно сравнивать их умственный уровень в настоящем веке с умственным уровнем их в прошлые века. Надо посмотреть, прогрессировали ли они за данный период времени в такой же степени, как и привилегированные классы. Ибо, если они совершили такой же прогресс, как и эти последние, разница в умственном развитии между ними и привилегированными будет такая же, как и прежде; если пролетариат совершит больший прогресс и быстрее, чем привилегированные, разница эта необходимо уменьшится. Если же, наоборот, прогресс рабочего будет итти медленнее и, следовательно, будет совершен в меньшей степени, чем прогресс господствующих классов, в тот же промежуток времени, разница эта увеличится: пропасть разделявшая их, станет шире, привилегированный станет более могущественным, рабочий сделается более зависимым, более рабом, чем раньше. Если мы выйдем с вами одновременно из двух разных пунктов, и вы будете впереди меня на сто шагов, и если при этом вы будете делать шестьдесят шагов в минуту, в то время как я только тридцать, то через час расстояние, разделявшее нас, будет не сто шагов, а тысяча девятьсот.
Этот пример дает точную идею о взаимном прогрессе, совершаемом буржуазией и пролетариатом. До сих пор буржуазия двигалась оыстрее по пути цивилизации, чем пролетарии, но не потому, чтобы ее природные умственные способности были выше умственных способностей последних, — теперь мы с полным правом можем сказать обратное, — а потому что экономическая и политическая организация общества была такова, что одна только буржуазия могла получать образование, что наука существовала только для нее и что пролетариат осужден на вынужденное невежество, так что если он всетаки делает прогресс, — и этот прогресс не подлежит сомнению, — так это не благодаря обществу, а вопреки ему.
Резюмируем все нами сказанное. При современной организации общества прогресс науки был причиной относительного невежества пролетариата, подобно тому как прогресс промышленности и торговли был причиной его относительной бедности. Умственный и материальный прогресс, следовательно, одинаково способствовали увеличению его рабства. Что отсюда следует? То,что мы должны отвергнуть эту буржуазную науку и бороться против нее, так же как мы должны бороться против буржуазного богатства и отвергнуть его. Бороться и отвергнуть их в том смысле, что, разрушая общественный строй, при котором они являются собственностью одного или нескольких классов, мы должны их требовать, как общего достояния для всех.
(Egalite, 31 июля 1869 г.).
II
Мы доказали, что, пока существуют две или несколько степеней образования для различных слоев общества, до тех пор необходимо будут существовать классы, т. е. экономические и политические привилегии для небольшого числа счастливцев, и рабство и нищета для большинства. Как члены Международного Общества Рабочих мы хотим равенства, а потому должны также желать всестороннего и равного образования для всех.
Но, спросят, если все будут образованы, кто же захочет работать? Наш ответ прост: все должны работать и все должны быть образованы. На это очень часто возражают, что подобное смешение умственного и механического труда может произойти только в ущерб тому и другому: работники физического труда будут плохими учеными, а ученые всегда останутся очень плохими рабочими. Да, — в современном обществе, где ручной и умственный труд одинаково искажены тем совершенно искуственным разобщением, которому оба подвергнуты. Но мы убеждены, что обе эти силы, мускульная и нервная, должны быть одинаково развиты в каждом живом и цельном человеке и не только не могут вредить друг другу, а напротив, каждая должна поддерживать, расширять и укреплять другую: знание ученого будет плодотворнее, полезнее и шире, если ученый будет знаком и с ручным трудом, труд образованного рабочего будет осмысленнее, и следовательно более производителен, чем труд невежественного рабочего.
Из этого следует, что в интересе как самого труда, так и науки, не должно существовать ни рабочих, ни ученых, а должны быть только люди.
Люди, которые теперь в силу своего умственного превосходства занимаются исключительно наукою, которые однажды попав в эту область, подчиняются влиянию условий своего буржуазного положения и обращают все свои открытия исключительно на пользу своего привилегированного класса, — эти люди, сделавшись действительно солидарными со всеми людьми, солидарными не в воображении только и не на словах, а на деле, через труд, обратят также неизбежно, открытия и приложения науки на пользу всех и прежде всего на облегчение и облагорожение труда, этой единственно законной и реальной основы человеческого общества. Возможно и даже очень вероятно, что в переходный период, более или менее продолжительный, который наступит естественно, после великого социального кризиса, наиболее высоко стоящие науки упадут значительно ниже их настоящего уровня. Несомненно, также и то, что роскошь и все, составляющее утонченность жизни, должно будет исчезнуть надолго из общества и вернутся, уже не как исключительная привилегия, а как общее достояние, возвышающее жизнь всех людей, только тогда, когда общество доставит все необходимое всем своим членам.
Считать ли, впрочем, несчастием или даже неудобством это временное затмение высшей науки? То, что наука потеряет в движении в высь, она выиграет в широте распространения. Будет, конечно, меньше ученых, но будет меньше и невежд. Взамен нескольких первоклассных умов миллионы людей, теперь униженных и раздавленных, получат возможность жить по человечески. Не будет полубогов, но не будет и рабов. Полу-боги и рабы станут людьми; первые немного спустятся с своей исключительной высоты, вторые значительно поднимутся. Не будет, следовательно, места ни для обоготворения ни для презрения. Все подадут друг другу руки и, соединившись, с новой энергией пойдут к новым завоеваниям как в науке, так и в жизни.
Поэтому, не страшась этого, впрочем совершенно временного, затмения науки, мы призываем его, наоборот, всей душой, ибо следствием его будет очеловечение как ученых, так и работников ручного труда, примирение науки с жизнью. И мы уверены, что как только это осуществится, прогресс человечества как в науке, так и в жизни быстро превзойдет все, что мы до сих пор видели, и все, что мы теперь можем вообразить.
Но здесь является другой вопрос: способны ли все личности возвыситься до одинаковой степени образования?! Вообразим себе общество, устроенное на началах полного равенства, где дети с самого рождения находятся в одинаковых условиях как политических, так и экономических и социальных, т. е. пользуются совершенно одинаковой обстановкой, воспитанием и образованием. Между миллионами этих маленьких существ будут бесконечные различия в энергии, в естественных склонностях и способностях.
Вот самый сильный аргумент наших противников, чистых буржуа и буржуазных социалистов. Они считают его неопровержимым. Постараемся доказать им противное.
Во-первых, по какому праву они ссылаются на принцип индивидуальных способностей? Возможно ли в современном обществе развитие этих способностей? Возможно ли оно в каком бы то ни было обществе, экономическим основанием которого будет служить наследственное право? Ясно, что нет, ибо раз будет существовать наследственное право, будущая карьера ребенка не может быть результатом его личных способностей и энергии, а прежде всего зависит от степени богатства или нищеты его семьи. Богатый, но глупый наследник получит высшее образование, а самые умные дети рабочего все-же останутся невежественными, как это происходит теперь. Какое, стало быть, лицемерие, какой бесстыдный обман говорить об индивидуальных правах, основанных на индивидуальных способностях, не только в современном обществе, но даже в будущем, реформированном обществе, но основанием которого останутся индивидуальная собственность и наследственное право.
Столько теперь толкуют о личной свободе, а между тем в современной жизни господствует не человеческая личность, не личность сама по себе, а личность привилегированная по своему социальному положению, следовательно, господствует привилегированное положение, класс. Пусть попробует какой нибудь умный человек из рядов буржуазии восстать против экономических привилегий этого почтенного класса, и добрые буржуа, толкующие о личной свободе, покажут, как уважают они свободу личности! Толкуют о личных способностях, как будто мы не видим ежедневно, что самые выдающиеся по своим способностям личности из рабочего и буржуазного мира, вынуждены уступать первенство и даже склонять голову перед тупоумием наследников золотого тельца? Только при совершенно полном равенстве могут получить полное развитие действительно индивидуальные способности и индивидуальная, не привилегированная, а человеческая свобода. Когда будет существовать равенство в точке отправления для всех людей на земле, тогда только, — сохраняя, однако, высшие права солидарности, которая есть и всегда будет самым великим производителем в социальной жизни: человеческого ума и материальных благ,— тогда только можно будет сказать с большим правом, чем теперь, что всякий человек есть то, чем он сам себя сделал. Отсюда следует, что для того, чтобы личные способности процветали и могли давать беспрепятственно все свои плоды, нужно прежде всего уничтожить все личные привилегии, как политические, так и экономические, т. е. нужно уничтожение классов. Нужно уничтожение индивидуальной собственности и наследственного права, нужно торжество экономического, политического и социального равенства.
Но когда равенство восторжествует и утвердится, не будет больше никакого различия в способностях и в степени энергии людей? Будет различие, не в такой степени, быть может, как существует теперь, но несомненно будет различие. Истина, перешедшая в пословицу, и которая, вероятно, никогда не перестанет быть истиной, гласит, что нет двух листьев на одном и том же дереве, которые бы совершенно походили один на другой. Тем более это верно по отношению к людям, которые являются гораздо более сложными существами, чем листья? Но это различие не только не составляет зла, а напротив, по верному замечанию Фейербаха, составляет богатство человечества. Благодаря этому различию, человечество есть коллективная единица, в которой каждый член дополняет всех других и сам нуждается во всех; так что это бесконечное различие человеческих личностей является самой причиной, главным основанием их солидарности, составляет сильный аргумент в пользу равенства.
В сущности, даже и в современном обществе, если исключить две категории людей: гениев и идиотов, и если оставить в стороне различия, искуственно созданные под влиянием тысячи социальных причин, как то: воспитание, образование, политическое и экономическое положение, которые все различаются не только в каждом слое общества, но почти в каждом семействе, то и теперь необходимо будет признать, что относительно умственных способностей и нравственной энергии огромное большинство людей очень похоже друг на друга, или по крайней мере стоят друг друга; слабость каждого в одном каком нибудь отношении почти всегда, уравновешивается силой в другом отношении, так что невозможно сказать о человеке, взятом в массе, что он гораздо выше или ниже другого. Огромное большинство людей не одинаковы, но, так сказать, эквивалентны, а следовательно и равны. Аргументация наших противников, следовательно, может опираться только на гениев и идиотов.
Известно, что идиотизм есть физиологическая и социальная болезнь! Ее нужно, следовательно, лечить не в школах, а в больницах, и должно надеяться, что с введением социальной гигиены, более рациональной, и в особенности более заботящейся о физическом и нравственном здоровье людей, и с устройством нового общества на началах общего равенства, уничтожится совершенно эта болезнь, столь унизительная для человеческого рода. Что же касается до гениев, то нужно заметить прежде всего, что к счастию или к несчастию, они всегда появлялись в истории, только как очень редкие исключения из всех известных правил, а исключения не организовывают. Будем однако надеяться, что будущее общество, найдет в действительно-практической и народной организации своей коллективной силы средство сделать этих великих гениев менее необходимыми, менее подавляющими и более действительно благодетельными для всех. Не следует забывать глубокомысленного изречения Вольтера: „Есть некто, у кого больше ума, чем у самых великих гениев, это —все". Следовательно, для того чтобы не бояться больше диктаторских вожделений и деспотического честолюбия гениальных людей, надо организовать массу, т. е. всех, посредством полной свободы, основанной на полном равенстве, политическом, экономическом и социальном.
О возможности же создавать гениальных людей посредством воспитания нечего и думать. Впрочем, из всех известных гениев ни один или почти ни один не проявил себя таковым ни в детстве, ни в отрочестве, ни даже в первой молодости. Они явились гениями только в зрелом возрасте а многие признаны были только после смерти, между тем как много неудавшихся великих людей, которые в молодости провозглашены были необыкновенными, кончили жизнь полным ничтожеством. Следовательно, ни в детстве, ни даже в отрочестве нельзя определить относительное превосходство или низкое качество людей, степень их способностей и естественные склонности. Все это обнаруживается и определяется только с развитием личности, и так как некоторые натуры развиваются рано, а другие поздно, хотя эти последние нисколько не ниже, а иногда и выше первых, то ни один школьный учитель не будет в состоянии никогда заранее определить поприще и образ занятий, которые выберут дети, когда достигнут периода самосостоятельности.
Из всего сказанного следует, что общество, не принимая в соображение действительные или кажущиеся различия в наклонностях и способностях и не имея, никакой возможности определить и никакого права назначить будущее поприще детей, обязано дать всем без исключения воспитание и образование совершенно равное!
(Egalite, 14 августа 1869 г.).
III.
Образование всех степеней для всех должно быть равное и, следовательно, полное; другими словами, оно должно приготовлять каждого ребенка, обоих полов, к умственной жизни и к труду, для того что бы все могли быть одинаково цельными людьми.
Позитивная философия[4], уничтожив обаяние религиозных басен и метафизических бредней, дает нам возможность предвидеть, в чем должно заключаться научное образование в будущем. Основанием его будет изучение природы, а завершением социология. Идеал перестанет быть властителем и исказителем жизни, каким он является во всех религиозных и метафизических системах, и будет лишь последним и наилучшим выражением действительного мира. Перестав быть мечтой, он станет сам действительностью,
Так как никакой ум, как бы он ни был обширен, не в состоянии обнять все науки во всей их полноте, так как, с другой стороны, общее знакомство со всеми науками безусловно необходимо для полного развития ума, преподавание естественно будет делиться на две части: на общую, которая будет знакомить с главными элементами всех наук без исключения и давать, не поверхностное, а действительное понятие о взаимном их отношении; и на специальную часть, разделенную по необходимости на несколько групп или факультетов, из которых каждый будет обнимать во всей их полноте, известное число предметов, по самой природе своей, дополняющих друг друга.
Первая часть, общая, обязательная для всех детей, будет составлять, если можно так выразиться, человеческое образование их ума, замещая вполне метафизику и теологию и вместе с тем достаточно развивая детей, чтобы они могли, достигнув юношеского возраста, с полным сознанием избрать тот факультет, который наиболее подходит к их личным способностям и вкусам.
Конечно, может случится, что выбирая ученую специальность, юноша, под влиянием второстепенных, внешних или даже внутренних причин, иногда ошибется и изберет науку или поприще, не совсем соответствующее его способностям.
Но так как мы искренние, а не лицемерные поклонники личной свободы и во имя этой свободы ненавидим от всего сердца принцип власти и всевозможные проявления этого божественного противочеловеческого принципа; так как мы ненавидим и осуждаем всей силой нашей любви к свободе власть родительскую и учительскую, находя их одинаково безнравственными и пагубными; так как повседневный опыт доказывает нам, что отец семейства и школьный учитель, несмотря на свою обязательную, вошедшую в пословицу мудрость, и даже в силу ее, ошибаются относительно способностей своих детей еще легче, нежели сами дети; и так как в силу общего человеческого закона, закона неопровержимого, рокового, всякий человек, имеющий власть, злоупотребляет ею, школьные учителя и отцы семейств, устраивая произвольно будущность детей, обращают гораздо больше внимания на свои собственные вкусы, чем на естественные склонности детей: и, наконец, так как ошибки, совершенные деспотизмом, гораздо гибельнее и труднее поправимы, чем ошибки, совершенные свободой действия, то мы поддерживаем против всех опекунов мира оффициальных и оффициозных, полную и безусловную свободу для детей самим выбирать и определять свое поприще. Если они ошибутся, сама эта ошибка послужит им действительным уроком для будущего; а обшее образование, которое все они будут иметь, поможет им без большого труда вернуться на истинный путь, указанный им их собственной природой.
Дети, как и взрослые люди, становятся умнее только благодаря своему собственному опыту и иногда благодаря опыту других.
При всестороннем образовании рядом с преподаванием научным или теоретическим необходимо должно быть образование прикладное или практическое. Только таким образом образуется цельный человек: работник понимающий и знающий.
Преподавание практическое параллельно с научным образованием, будет делиться, также как и научное, на две части: общую, дающую детям общую идею и первые практические сведения относительно всех индустрий без исключения и идею их совокупности, составляющей материальную сторону цивилизации, общую сумму человеческого труда, и специальную часть, разделенную также на группы индустрий, более тесно связанных между собой.
Общее образование должно подготовлять юношей к свободному выбору специальной группы индустрии и среди этих последних той отрасли, к которой они чувствуют себя наиболее склонными. Достигнув этого второго периода индустриального образования, юноши будут, под руководством профессоров, производить первые опыты серьезной работы.
Рядом с научным и прикладным образованием необходимо должно будет также существовать образование практическое, или, скорее, ряд последовательных опытов нравственности, не божественной, а человеческой. Божественная нравственность основана на двух безнравственных принципах: на уважении власти и презрении к человечеству. Человеческая же нравственность основана, напротив, на презрении власти и уважении к свободе и человечеству. Божественная нравственность считает работу унижением и наказанием; человеческая же нравственность видит в ней высшее условие счастья и достоинства людей. Божественная нравственность, в силу необходимой последовательности, приводит к политике, которая признает только права людей, могущих, по причине своего привилегированного экономического положения, жить без труда. Человеческая нравственность напротив, признает права только тех, которые работают. Она признает, что только одной работой человек становится человеком.
Воспитание детей, беря за исходную точку власть, должно последовательно дойти до совершенно полной свободы. Мы понимаем под свободой, с положительной точки зрения, полное развитие всех способностей, которое находятся в человеке, с отрицательной же точки зрения, независимость воли каждого от воли других.
Человек никогда не может быть совершенно свободен по отношению в естественным и социальным законам. Законы, которые делят таким образом на две группы для большего удобства науки, в действительности принадлежат к одной и той же категории, так как они все суть законы естественные, законы неизбежные, составляющие основу и условия всякого существования, так что ни одно живое существо, не может восстать против них, не уничтожив тем самым себя.
Но нужно глубоко различать эти естественные законы от законов авторитарных, произвольных, политических, религиозных, уголовных и гражданских, которые на протяжении истории созданы были привилегированными классами в интересах эксплоатации труда рабочих масс, с единственной целью подавления их свободы, и которые под предлогом мнимой нравственности были всегда источником самой полнейшей безнравственности. Итак, невольное и неизбежное подчинение всем законам, которые, независимо от воли людей, составляют самую жизнь природы и общества; но насколько возможно полная независимость каждого по отношению всех честолюбивых претензий и всякой воли, как индивидуальной, так и коллективной, которая вознамерилась бы не воздействовать своим естественным влиянием, а навязать свой закон, свой деспотизм. Что же касается естественного влияния, которое люди оказывают друг на друга, то оно тоже составляет одно из тех условий социальной жизни, против которых восстание так же бесполезно, как и невозможно. Это влияние есть основа физической, материальной, умственной и нравственной солидарности людей. Человеческая личность, продукт солидарности, т. е. общества, подчиняясь его естественным законам, может, конечно, до некоторой степени противодействовать ему, под влиянием чувств, навеянных извне и особенно посторонним обществом, но она не может выйти из него, не сделавшись немедленно членом другой солидарной среды и не подпав там новым влияниям. Ибо для человека жизнь без всякого общества, вне всякого человеческого влияния, полное отчуждение равняются нравственной и физической смерти. Солидарность есть не продукт, а мать индивидуальности, и человеческая личность может родиться и развиваться только среди человеческого общества. Сумма преобладающих социальных влияний, выраженная солидарным или общим сознанием более или менее обширной группы людей называется общественным мнением. А кто не знает всесильного влияния общественного мнения на всех людей? Действие самых драконовских ограничительных законов ничто в сравнении с ним.
Следовательно, общественное мнение есть самый главный воспитатель человека, а отсюда вытекает, что для нравственного улучшения личности нужно прежде всего улучшить в нравственном отношении самое общество, нужно сделать человечным его мнение или его общественную совесть.
(Egalite, 14 августа, 1869 г.).
IV.
Мы сказали, что для улучшения человеческой нравственности нужно улучшить в нравственном отношении само общество.
Социализм, основанный на точных науках, совершенно отвергает учение „свободной воли"; он признает, что все так называемые пороки и добродетели людей, суть лишь продукт комбинированного действия природы и общества. Природа силою этнографических, физиологических и патологических влияний производит способности и склонности, которые называются естественными, а общественная организация развивает их или останавливает, или же искажает их развитие. Все люди, без исключения, в каждый момент своей жизни бывают только тем, чем сделала их природа и общество.
Только эта естественная и социальная необходимость делает возможной статистику, как науку, которая не довольствуется занесением фактов в списки и перечнем их, но старается, кроме того, об'яснить связь и соотношение их с организацией общества. Уголовная статистика, например, констатирует факт, что в одной и той же стране, в одном и том же городе в период 10, 20, 30 и даже иногда больше лет, если в это время не было никаких политических и социальных переворотов, могущих изменять организацию общества, одно и то же преступление или проступок, повторяется ежегодно почти одинаковое число раз; и, что еще более замечательно, даже способы совершения известных преступлений повторяются из года в год одинаковое число раз; напр., число отравлений, убийств ножем или огнестрельным оружием, так же как и число самоубийств тем или другим способом всегда почти одинаково. Это заставило Кетле произнести следующие достопамятные слова: ,,Общество подготовляет преступления, а личности только выполняют их".
Это периодическое повторение одних и тех же социальных фактов было бы невозможно, если бы умственные и нравственные наклонности людей, равно как и поступки их зависели от их свободной воли. Слова „свободная воля" или не имеют смысла, или же выражают, что личность принимает известное решение совершенно произвольно, помимо всякого внешнего влияния, естественного или социального. Но если бы это было так, если бы люди зависели только от самих себя, в мире господствовала бы самая большая анархия; всякая солидарность между людьми была бы невозможна. Миллионы противоречивых и независимых друг от друга свободных воль необходимо стремились бы уничтожить друг друга и, конечно, достигли бы этого, если бы над ними, выше них, не было деспотической воли небесного провидения, которая „направляет их пока они суетятся", и, уничтожая их всех одновременно, водворяет среди человеческой неурядицы божественный порядок.
Поэтому мы видим, что все сторонники учения свободной воли принуждены, логикою вещей признать действие божественного Промысла. Это — основание всех богословских и метафизических учений, великолепная система, долгое время тешившая человеческую совесть, и должно сознаться, с точки зрения отвлеченного мышления или религиозно-поэтической фантазии, она должна казаться полной гармонии и величия. Но, к несчастью, историческая действительность, соответствующая этой системе была всегда ужасной и сама система не выдерживает научной критики. Действительно, мы знаем что пока на земле царствовало божественное право, огромное большинство людей подвергалось грубой, немилосердной эксплуатации, тирании, гнету и унижению; мы знаем что и до сих пор именем религиозного или метафизического божества стараются удержать народные массы в рабстве. Да иначе и быть не может, потому что, если божественная воля управляет всем миром, как природой, так и человеческим обществом, то для человеческой свободы нет места. Человеческая воля, неизбежно бессильна перед волей божьей. Таким образом, желание защитить метафизическую, отвлеченую или воображаемую свободу людей, свободную волю, приводит к отрицанию действительной свободы. "Перед божеским всемогуществом и вездесущием человек является рабом". Так как свобода человека в общем уничтожается божественным провидением, то остается только привилегия, т. е. особые права, ниспосланные божественной благодатью известным лицам, известной иерархии, династии, классу.
Точно также божественное провидение делает невозможной и всякую науку, что означает, что оно просто отрицает человеческий разум; другими словами, чтобы признать его, должно отказаться от своего здравого смысла. Раз мир управляется божественной волей, нечего уже искать естественной связи между явлениями и остается смотреть на них, как на ряд проявлений высшей воли, предначертания которой, по словам Св. Писания, должны всегда оставаться непроницаемы для людей, чтобы не потерять своего божественного характера. Божественный промысл не только отрицает человеческую логику, но и логику вообще, ибо всякая логика подразумевает естественную необходимость, а такая необходимость была бы противна божественной свободе; с точки зрения человеческой это торжество бессмыслия. Кто хочет верить, должен, следовательно, отказаться и от свободы, и от науки, должен позволить эксплуатировать, тиранить себя любимцам милосердного Бога, повторяя слова св. Тертуллиана: „верую, потому что это нелепо" и дополняя их изречением столь же логичным, как и первые „и хочу беззакония". Мы же, добровольно отрекающиеся от блаженства будущего света и желающие только полного торжества человечества на земле, мы смиренно сознаемся, что божественная логика непостижима для нас и что мы довольствуемся логикой
человеческой, основанной на опыте и на знании взаимной связи явлений, как естественных, так и социальных. Наука, т. е. сумма опытов, много раз повторенных, приведенных в порядок и обдуманных, доказывает нам, что „свободная воля" — невозможная фикция, противная самой природе вещей; что так называемая воля есть лишь проявление известной нервной деятельности, как наша физическая сила есть результат действия наших мышц, что, следовательно, и то и другое одинаково продукты естественной и социальной жизни, т. е. тех физических и общественных условий, среди которых каждый человек родится и развивается; таким образом, повторяем, каждый человек в каждую минуту своей жизни есть результат комбинированного действия природы и общества; откуда ясно вытекает истина положения, высказанного нами в предыдущей статье: что для улучшения человеческой нравственности нужно улучшить общественную среду. Улучшить эту среду можно только одним способом, — водворяя в ней справедливость, т. е. полную свободу[5] каждого среди полного равенства всех. Неравенство в социальном положении и правах и неизбежно вытекающее из него отсутствие свободы для всех—вот та великая коллективная несправедливость, от которой происходят все индивидуальные несправедливости. Уничтожьте первую, и все другие исчезнут сами собою. Видя, как мало люди привилегированные стремятся к нравственному улучшению или, что тоже, к уравнению своих прав с прочими, мы боимся, что торжество истины может водвориться только посредством социальной революции.
Чтобы люди были нравственными, т. е. совершенными людьми, людьми в полном смысле слова, необходимы три вещи: рождение в гигиенических условиях, рациональное и всестороннее образование, сопровождаемое воспитанием, основанным на уважении к труду, разуму, равенству и свободе, и общественная среда, в которой каждая человеческая личность, пользуясь полной свободой, была бы, как по праву, так и в действительности, равна всем другим. Существует ли подобная среда? Нет. Следовательно, нужно создать ее. Если бы в существующем обществе и удалось основать школы, которые давали бы своим ученикам образование и воспитание, настолько совершенное, насколько мы только можем себе представить, они всетаки не могли бы создать людей справедливых, свободных и нравственных, ибо по выходе из школы человек попадал бы в общество, управляемое совершенно другими принципами; а так как общество всегда сильнее отдельных личностей, то скоро оно подчинило бы их своему влиянию, другими словами, развратило бы их. Впрочем, основание подобных школ совершенно невозможно в современном обществе так как общественная жизнь обнимает все, подчиняет своим условиям и школу, и семейную жизнь, и отдельную личность.
Учителя, профессора, родители—все члены этого общества, все более или менее развращены им. Как же могут они дать ученикам то, чего нет в них самих? Нравственность проповедуется хорошо только примером а так как социалистическая нравственность совершенно противоположна современной морали, то учителя, находясь более или менее под властью этой последней, доказывали бы ученикам своим примером совершенно противное тому, что проповедовали в школах. Следовательно, социалистическое воспитание невозможно в школах, как невозможно и в современной семье.
Но и интегральное, то есть всестороннее образование совершенно невозможно при современном порядке вещей. Буржуа не имеют никакого желания, чтобы дети их делались работниками, а работники лишены всех средств дать своим детям научное образование.
Бесподобна наивности и простота буржуазных социалистов, которые все твердят: „Дадим народу прежде образование, а потом освободим его". Мы говорим наоборот: „пусть он прежде освободится, а потом он сам начнет учиться". Кто будет учить народ? Уж не вы ли? Но вы не учите его, вы его отравляете, стараясь внушить ему все религиозные, исторические, политические, юридические и экономические предрассудки, защищающие вас против него, и в то же время мертвящие его ум, расслабляющие его законную злобу и волю. Вы убиваете его ежедневной работой и нищетой и говорите ему: „учись!" Желали бы мы видеть, как вы с вашими детьми стали бы учиться после 13, 14, 16-и часов оскотинивающего труда, при нищете, при неуверенности в завтрашнем дне.
Нет, господа, несмотря на все наше уважение к великому вопросу всестороннего образования, мы утверждаем, что не в нем теперь главный интерес для народа. Первый вопрос для народа—его экономическое освобождение, которое необходимо и непосредственно влечет за собою его политическое, а вслед затем и умственное и нравственное освобождение.
Поэтому, мы целиком принимаем следующее постановление Брюссельского Конгресса 1887 г.:
„Признавая, что в настоящее время организация рационального образования невозможна, конгресс приглашает отдельные секции открыть публичные курсы по программе научного, профессионального, и производственного образования, т. е. всестороннего, чтобы пополнить по возможности недостаточность образования рабочих. Само собой разумеется, что уменьшение часов работы должно считать предварительным, необходимым условием этого!"
Да, конечно, рабочие должны сделать все возможное, чтобы получить то образование, какого они могут достигнуть при тех материальных условиях, в которых они находятся. Но не увлекаясь сладкими песенками буржуа и буржуазных социалистов, они должны прежде всего
сосредоточить свои силы на великом вопросе своего экономического освобождения, которое должно быть источником всякого рода освобождения.
(Egalite, 21 августа 1869 г.).
Организация Интернационала[6]
Великая задача, взятая на себя Международным Обществом Рабочих, задача окончательного и полного освобождения рабочих и народного труда из под ига всех его зксплоататоров — хозяев, владельцев сырого материала и орудий производства, словом всех представителей капитала — не есть чисто экономическое дело; она в то же время и в такой же степени дело философское, социальное и нравственное; она является также и делом политическим, но только в смысле уничтожения всякой политики, посредством разрушения Государства.
Мы не думаем, чтобы понадобилось доказывать, что при современной политической, юридической, религиозной и социальной организации наиболее цивилизованных стран, экономическое освобождение рабочих невозможно и что, следовательно, для достижения и полного его осуществления, необходимо разрушить все современные учреждения: Государство, Церковь, Юридический Форум, Университет, Армию и Полицию, которые ни что иное, как крепости, воздвигнутые привилегированными против пролетариата, и недостаточно их свергнуть в какой нибудь одной стране; их надо разрушить во всех странах, ибо со времени основания современных государств, в XVII и ХVIII веках, между всеми этими учреждениями и всеми странами существует постоянно возрастающая международная солидарность и могучие международные союзы.
Стало быть, задача, взятая на себя Международным Обществом Рабочих, есть полная ликвидация существующего политического, юридического, религиозного и социального мира и замена его новой экономической, философской и социальной формой. Такое гигантское предприятие никогда бы не могло осуществиться, если бы в распоряжении Интернационала не было двух одинаково могучих, друг друга пополняющих рычагов: один, это постоянно возрастающая сила потребностей, страданий и экономических требований масс; другой — новая социальная философия, философия реалистическая и народная, теоретически покоющаяся только на действительной науке, т. е. одновременно экспериментальной и рациональной, и не имеющая других основ, кроме человеческих принципов — выражение исконных потребностей масс — принципов равенства, свободы и всемирной солидарности.
Побуждаемый этими потребностями, во имя этих принципов народ должен победить. Ему не чужды эти принципы, они даже не новы для него в том смысле, что, как мы только что сказали, он во все времена инстинктивно носил их в своем сердце. Он всегда желал своего освобождения от всех видов лежащего на нем гнета; и так как он, рабочий, кормилец общества, создатель цивилизации и всех богатств — последний раб, раб из рабов, так как он не может освободиться, не освободив вместе с собой всего мира, он всегда стремился к освобождению всех, т. е. к всемирной свободе. Он всегда страстно мечтал о равенстве, необходимом условии свободы; и, несчастный, вечно побежденный в одиночку, он всегда искал свое спасение в солидарности, Взаимное счастье до сих пор не было известно, или, во всяком случае, мало известно; быть счастливым означает быть эгоистом, жить чужим трудом, эксплуатируя и порабощая другого, а потому — только одни несчастные и, стало быть, народные массы, знали и практиковали братство.
Итак, социальная наука, как нравственная доктрина, только развивает и формулирует народные инстинкты. Но между этими инстинктами и этой наукой, однако, существует пропасть, которую надлежит заполнить. Если бы одних внутренних инстинктов было достаточно для освобождения народа, то он давно бы уж освободился. Эти инстинкты не помешали массам, в течение всей их печальной и трагической истории, быть постоянной жертвой разных религиозных, политических; экономических и социальных абсурдов.
Правда, тяжелые испытания, через которые пришлось пройти массам, не были для них совершенно потерянными. Эти испытания оставили в народе нечто в роде исторического сознания, создали как бы практическую, основанную на преданиях науку, которая очень часто заменяет ему науку теоретическую. Так, напр., можно быть теперь уверенным, что ни один западно-европейский народ не позволит больше себя увлечь ни какому нибудь религиозному шарлатану, ни новому Мессии, ни какому нибудь политическому пройдохе. Можно также с уверенностью сказать, что потребность экономической и социальной революции сильно чувствуется народными массами Европы; если бы народный инстинкт не проявил себя так ярко, глубоко и решительно в этом направлении, то никакие социалисты в мире, будь то даже величайшие гении, не были бы в состоянии поднять массы. Народ готов, он слишком много страдает, а, главное, начинает понимать, что он вовсе не обязан страдать; ему надоело вечно обращать свои взоры к небу и он не обнаруживает больше намерения терпеть. Даже помимо всякой пропаганды масса делается социалистичной; глубокое сочувствие, какое встретила Парижская Коммуна со стороны пролетариата всех стран, служит доказательством. Но массы — сила, или по крайней мере, существенный элемент всякой силы. Что же им мешает свергнуть ненавистный им общественный порядок? Им не достает двух вещей: организации и науки, которые обе составляют и всегда составляли силу правительств.
Итак, прежде всего, организация, которая, впрочем, невозможна без помощи науки. Благодаря военной организации, батальон в тысячу вооруженных человек может нагнать страх, и на самом деле нагоняет, на миллионную толпу народа, тоже вооруженного, но дезорганизованного. Благодаря бюрократической организации, государство посредством нескольких сотен тысяч чиновников, держит в подчинении громадные страны. Следовательно, чтобы создать народную силу, способную раздавить военную и гражданскую силу государства, надо организовать пролетариат, что и делает Международное Общество Рабочих. В тот день, когда оно будет обнимать половину, треть, четверть или даже только десятую часть европейского пролетариата, государство, или, вернее, государства перестанут существовать. Организация Интернационала, имеющая целью не создание новых государств, а коренное разрушение всякого господства, должна существенно разниться от государственной организации. Насколько последняя искусственна, насильственна, основана на принципе власти, чужда и враждебна естественному развитию народных интересов и инстинктов, настолько организация Интернационала должна быть свободной, естественной, соответствовать во всех отношениях этим интересам и этим инстинктам.
Но что это за естественная организация масс?
Организация, вытекающая из их повседневной жизни, основанная на различных видах труда; иными словами — организация по ремеслам. С того момента, когда все виды промышленности будут представлены Интернационалом, включая сюда и разные виды земледельческого труда, организация народных масс будет закончена.
Нам могут возразить, что эта организация влияния Интернационала на народные массы будет иметь своим последствием замену прежнего начальства новым правительством. Но это будет глубоким заблуждением. Организация Интернационала всегда будет отличаться от организации всех правительств и всех государств; его основная черта состоит в том, что он действует на массы только путём убеждения, вне всякого принуждения. Между могуществом государства и Интернационала такая же разница, какая существует между оффициальной государственной деятельностью и простой деятельностью функционированием какого нибудь клуба. Интернационал не имеет и никогда не будет иметь другой силы, кроме великой силы убеждения, и всегда останется организацией естественного воздействия (воздействия путем убеждения) личностей на массы. Государство же и все государственные учреждения: церковь, университет, юридический форум, бюрократия, финансовая система, полиция и армия, не забывая, по возможности, развращать мнения и волю подданных, требует от них пассивного повиновения, совершенно не считаясь, и чаще всего вопреки этим самым мнениям и воле; конечно, все это в мере, всегда очень растяжимой, допущенной и принятой законами.
Государство, ища только подчинения масс — иначе, впрочем, не может и быть — призывает их к повиновению. Интернационал, желая только освобождения масс, призывает их к возмущению. Но, чтобы сделать это возмущение могучим и способным свергнуть господство государства и привилегированных классов, представителем которых оно единственно и является, Интернационал должен организоваться. Для этой цели он употребляет только два средства, которые, хотя далеко не всегда легальны — легальность, во всех странах, чаще всего есть лишь юридическое освящение привиллегии, т. е. несправедливости — с точки зрения человеческого права, оба одинаково законны. Эти два средства, как мы уже сказали — пропаганда идей и организация естественного воздействия членов Интернационала на массы. Тому, кто стал бы утверждать, что и такого рода деятельность Интернационала есть покушение на свободу масс, мы ответим, что он или софист, или глуп. Тем хуже для тех, которые до такой степени не знают естественного и социального закона человеческой солидарности, что считают абсолютную взаимную независимость друг от друга личностей и масс возможной и даже желательной.
Желать ее, значит желать исчезновения общества, ибо вся общественная жизнь есть ни что иное, как непрерывная взаимная зависимость индивидов и масс, каждый человек, даже самый умный, самый сильный, и в особенности умные и сильные, во всякий момент своей жизни является одновременно производителем и продуктом. Сама свобода каждого человека есть следствие, постоянно возобновляющееся, массы влияний, физических, умственных и нравственных, которым он подвергается со стороны окружающих его лиц и среды, в которой он родится, живет и умирает. Желать избегнуть этого влияния во имя какой то трансцендентальной, божеской свободы, самодавлеющей и абсолютно эгоистичной, значит стремиться к небытию; отказываться от влияния на другого, значит, отказываться от всякого социального акта, даже от выражения своих мыслей и чувств, — т. е. опять таки клониться к небытию. Эта пресловутая независимость, так превозносимая идеалистами и метафизиками, и личная свобода, понимаемая в таком смысле, — просто небытие.
Как природа, так и человеческое общество, которое есть ни что иное, как та же природа, все, что живет — живет только под непременным условием самого решительного вмешательства в жизнь другого. Уничтожение этого взаимного влияния было бы смертью. Требуя свободы масс, мы вовсе не собираемся уничтожать естественные влияния, которым они подвергаются со стороны отдельных лиц и групп. Все, чего мы хотим, это уничтожения искусственных
узаконенных влияний, уничтожения привилегий влияния.
Если бы церковь и государство могли быть частными учреждениями, мы бы и тогда, без сомнения, были их противниками: но мы боремся против них, потому что хотя они и частные учреждения, в том смысле, что они служат только частным интересам привиллегированных классов, они тем не менее пользуются коллективной силой организованных с этой целью масс, чтобы насильственно навязать им свою власть.
Если бы Интернационал мог сделаться государством, то из теперешних его убежденных и страстных приверженцев мы превратились бы в его отчаянных врагов. Но в том то и дело, что Интернационал не может вылиться в государственную форму; не может уже по одному тому, что, как указывает его название, он уничтожает все границы; государство же без границ немыслимо! Невозможность существования всемирного государства, о котором мечтали воинственные народы и величайшие деспоты мира, доказана исторически. При слове „государство" нужно всегда подразумевать несколько государств, — угнетателей и эксплуататоров внутри своих владений, и более или менее враждующих завоевателей по ту сторону границы. Государство заключает в себе отрицание человечества. Всемирное государство, или народное государство, как говорят немецкие коммунисты, может, следовательно, означать только одно: уничтожение государства. Международное Общество Рабочих не имело бы никакого смысла, еслибы оно не стремилось к уничтожению государства. Оно организует народные массы только в виду этого разрушения.
Но как же оно их организует? Оно организует их не сверху вниз, навязывая общественному разноооразию — продукту разнообразного народного труда, искусственное единство и порядок, как это делает государство; а снизу вверх, беря за исходною точку социальное положение масс и их стремления и побуждая и помогая им группироваться, сообразно этому разнообразию занятий и положения.
* * *
Но чтобы Интернационал, организованный таким образом снизу вверх, сделался действительной, серьезной силой, необходимо, чтобы каждый член его секций значительно сильнее проникся его принципами, чем это есть теперь. Только при этом условии он действительно сумеет выполнить миссию пропагандиста и апостола во времена затишья и роль истинного революционера во время борьбы.
Говоря о принципах Интернационала, мы имеем в виду принципы, которые содержатся в общей части наших статутов, принятых на Женевском с'езде. Они так немногочисленны, что мы просим позволения читателя привести их здесь:
1. Освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих;
2. Старание рабочих завоевать свое освобождение не должно вести к созданию новых привиллегий. а к установлению для всех (людей, живущих на земле) равных прав и обязанностей и к уничтожению всякого классового господства;
3. Экономическое подчинение рабочего владетелю сырого материала и орудий труда, есть источник всех видов рабства, нравственного, умственного и политического;
4. Поэтому, экономическое освобождение рабочих — великая цель, которой должно быть подчинено всякое политическое движение, как простое средство;
5. Освобождение рабочих не является чисто местной или национальной задачей; это — задача всех цивилизованных стран, так как ее решение неизбежно зависит от их теоретической и практической помощи;
6. Интернационал и все его члены признают, что истина, справедливость и нравственность должны лежать в основе его отношений ко всем людям без различия цвета кожи, верований и национальности;
7. Наконец, он считает долгом требовать человеческих и гражданских прав не только для члена Интернационала, но и для каждого исполняющего свои обязанности. — Нет обязанностей без прав и нет прав без обязанностей!
* * *
Мы знаем теперь, что содержит в себе эта столь простая и справедливая программа, так скромно выражающая наиболее законные, наиболее человеческие требования пролетариата. В ней заключаются — потому именно, что она есть исключительно программа человеческая — все зародыши великой социальной революции: свержение всего, что есть создание нового мира.
Вот, что должно теперь быть об'ясняемо и стать вполне ясным каждому члену Интернационала.
Эта программа приносит с собой новую науку, новую социальную философию; которая должна заместить собой все прежние религии, и новую политику, политику интернациональную, которая, поспешим заметить, как таковая, должна иметь целью разрушение всех государств. Чтобы члены интернационала могли добросовестно исполнять двойную обязанность пропагандиста и революционера, нужно, чтобы каждый из них сам, насколько возможно, проникся этой наукой, этой философией, этой политикой. Недостаточно знать и говорить, что они хотят экономического освобождения рабочего, полного пользования для каждого продуктом его труда, уничтожения классов и политического порабощения, осуществления полноты человеческих прав и полного равенства прав и обязанностей, одним словом осуществления братства между людьми. Все это, без сомнения, очень хорошо и вполне справедливо, но если члены Интернационала принимают эти великие истины, не вникая в их суть, не задумываясь глубиной их значения и если они будут довольствоваться вечным повторением их в этой общей форме, последние рискуют в непродолжительный промежуток времени превратиться в пустые, бесплодные слова, в общие непонятые места.
Но, говорят нам, все рабочие, даже когда они члены Интернационала, не могут стать учеными. И не достаточно ли иметь внутри Интернационала группу людей, владеющих в совершенстве, насколько это возможно в наши дни, наукой, философией и политикой социализма, чтобы большинство, массы, примыкающие к Интернационалу, доверчиво повинуясь их правлению и „братскому наставлению" (стиль Гамбетты, якобинца-диктатора по превосходству), не могли свергнуть с пути, который должен вести к окончательному освобождению пролетариата?—Вот рассуждение, которое мы довольно часто слышим, развиваемое втихомолку—для высказывания вслух нет ни достаточно искренности, ни смелости. Это мнение, за начальство в Интернационале, сопровождается всевозможными более или менее ловкими подходами и демагогическими комплиментами по адресу великой мудрости и всесилия верховного народа. Мы всегда страстно боролись против него, потому что мы убеждены, что если Международное Общество Рабочих будет разделено на две группы: одну, заключающую в себе громадное большинство и состоящую из членов, вся наука которых будет состоять только в слепой вере в теоретическую и практическую мудрость своих вождей; и другую, состоящую только из нескольких десятков правителей, — это учреждение, которое должно освободить человечество, превратится само в некоторого рода олигархическое государство — худшее из всех государств. Это прозорливое, ученое и искусное меньшинство, которое примет на себя всю ответственность и права правительства, тем более самодержавного, что его деспотизм заботливо прячется под внешней оболочкой учтивого уважения к воле и решениям, всегда им самим продиктованным, этой якобы народной воли; это меньшинство, говорим мы, повинуясь необходимости и условиям своего привиллегированного положения, и подвергаясь общей участи всех правительств, постепенно будет становиться все более и более деспотичным, зловредным и реакционным. Международное Общество Рабочих только тогда может стать орудием освобождения человечества, когда оно прежде само освободится; а освободится оно только переставши делиться на две группы: большинство слепых орудий и меньшинство ученых машинистов, и только, когда каждый его член вполне постигнет науку, философию и политику социализма.
Письма о Патриотизме. К ТОВАРИЩАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВА РАБОЧИХ ЛОКЛЯ и ШО-ДЕ-ФОНА.
Письмо Первое[7]
Друзья и братья,
Прежде чем покинуть ваши горы, я чувствую потребность еще раз выразить вам письменно мою глубокую благодарность за сделанный мне вами братский прием. Разве не удивительно, что какой-то человек, русский, бывший дворянин, которого вы до последнего времени совершенно не знали, и чья нога в первый раз ступила на вашу землю, тотчас же по своем прибытии, был окружен несколькими сотнями братьев! Подобное чудо в настоящее время может быть осуществлено лишь Международным Обществом Рабочих, и это по простой причине: оно одно теперь являет собой историческую жизнь и творческую мощь политического и социального будущего. Te, кого об'единяет живая мысль, живая воля и великое общее стремление, являются действительно братьями, даже если они незнакомы друг с другом.
Было время, когда буржуазия, обладая такой же жизненной мощью и являясь единственным историческим классом, представляла подобное зрелище братства и единения, как в действиях, так и в мыслях. Это было лучшее время этого класса, без сомнения всегда почтенного, но отныне бессильного, тупого, и бесплодного, эпоха его самого энергичного развития. Такова была буржуазия до великой революции 1793-го года; таковой была она еще, но в меньшей мере, до революции 1830 и 1848 года. Тогда пред буржуазией был целый мир для покорения, она должна была занять место в обществе, и, организованная для борьбы, умная, смелая, чувствуя себя сильной правом всех, она обладала непреоборимым всемогуществом; она одна совершила три революции против соединенных сил монархии, дворянства и духовенства.
В то время буржуазия тоже создала всемирную, могучую международную ассоциацию: Франк-Масонство.
Очень ошибся бы тот, кто судил бы о Франк-Масонстве прошлого века, или даже начала этого века, по тому, чем оно является теперь. Учреждение по преимуществу буржуазное, Франк-Масонство, в своем растущем могуществе сначала и потом в своем упадке, было как бы выражением интеллектуального и морального развития, могущества и упадка буржуазии. В настоящее время, спустившись до печальной роли старой интриганки и болтуньи, оно ничтожно, бесполезно, иногда вредно и всегда, смешно, между тем как до 1830 и в особенности до 1793 года, оно соединяло в себе, за малым числом исключений, все выдающиеся умы, самые пылкие сердца, самые гордые воли, самые смелые характеры и, представляло собой деятельную, могучую и истинно полезную организацию. Это было мощное воплощение и осуществление на практике гуманитарных идей XVIII века. Все великие принципы свободы, равенства, братства, человеческого разума и справедливости, выработаные теоретически философией этого века, сделались в среде Франк-Масонства практическими догматами и как-бы основами новой морали и новой политики — душой гигантского предприятия разрушения и воссоздания. Франк-Масонство было в то время не более, не менее, как всемирным заговором революционной буржуазии против феодальной, монархической и божеской тирании!
Это был Интернационал буржуазии.
Известно, что все главные деятели первой революции были Франк-Масонами, и что, когда эта революция разразилась, она встретила, благодаря Франк-Масонству, друзей и преданных, могущественных союзников во всех других странах, что, конечно, сильно помогло ее торжеству. Но так же очевидно, что торжество революции убило Франк-Масонство, ибо после того, как революция в значительной мере выполнила пожелания буржуазии и поставила ее на место родовой аристократии, буржуазия, бывшая долгое время утесняемым и эксплуатируемым классом, естественно сделалась в свою очередь классом привилегированным, эксплуататорским, притесняющим, консервативным и реакционным, сделалась другом и самой надежной поддержкой государства. После захвата власти первым Наполеоном, Франк-Масонство сделалось, в большинстве стран европейского континента, императорским учреждением.
Реставрация его отчасти воскресила. Буржуазия, видя угрозу возвращения старого режима, вынужденная уступить церкви и дворянству место, завоеванное ею в первую революцию, принуждена была снова сделаться революционной. Но какая разница между этим подогретым революционаризмом и горячим, могучим революционаризмом, вдохновлявшим ее в конце прошлого столетия! Тогда буржуазия была искренна, она серьезно и наивно верила в права человека, ее двигал, вдохновлял гений разрушения и обновления, она была в полной силе ума и в полном развитии сил; она еще не подозревала, что бездна отделяет ее от народа; она себя считала, чувствовала и действительно была представительницей народа. Реакция термидора и заговор Бабефа навсегда лишили ее этой илюзии. — Бездна, разделяющая рабочий народ от эксплуатирующей, властвующей, и благоденствующей буржуазии, открылась, и чтобы заполнить эту бездну понадобится весь класс буржуазии, целиком, все привилегированное существование буржуа.
Поэтому, не вся буржуазия в ее целом, а только часть ее возобновила после реставрации, заговорщицкую деятельность против дворянского, клерикального режима и законных королей.
В следующем письме, я разовью вам, если вы мне позволите, свои мысли, относительно последней фазы конституционного либерализма и буржуазного карбонаризма.
Письмо Второе[8]
Я сказал в предыдущем письме, что реакционные, легитимистические, феодальные и клерикальные попытки пробудили снова революционный дух буржуазии, но что между этим новым духом и телом, который одушевлял ее до 1793 года, была громадная разница. Буржуа прошлого столетия были гигантами, в сравнении с которыми самые смелые из буржуа этого столетия кажутся лишь пигмеями.
Чтобы в этом убедиться, надо только сравнить их программы. Какова была программа философии и великой революции XVIII столетия? Не более не менее, как полное освобождение всего человечества; осуществление для каждого и всех права и действительной и полной свободы путем всеобщего политического и социального уравнения; торжество человечности на развалинах божеского мира; царство свободы и братства на земле.—Ошибкой этой философии и этой революции было непонимание, что осуществление человеческого братства невозможно пока существуют государства, и что действительное уничтожение классов и политическое и социальное уравнение индивидов, возможны не иначе, как при уравнении для всех и каждого экономических средств, воспитания, образования, труда и жизни. Тем не менее было бы несправедливо упрекать ХVIII век за то, что он этого не понял. Общественные науки не создаются, неизучаются с помощью одних книг; они нуждаются в великих уроках истории, и надо было совершить революцию 1789 и 1793 годов, надо было повторить опыт 1830 и 1848 годов, чтобы придти к этому, отныне несокрушимому заключению, что всякая политическая революция, не ставящая себе немедленной и прямой целью экономическое равенство, является, с точки зрения народных интересов и прав, ничем иным, как лицемерной и замаскированной реакцией.
Эта столь очевидная и простая истина была еще неизвестной в конце XVIII столетия, и когда Бабеф выдвинул экономический и социальный вопрос, сила революции была уже исчерпана. Тем не менее этой последней принадлежит бессмертная честь провозглашения самой великой цели, из всех когда либо поставленных в истории, — освобождение всего человечества в его целом.
Какую же цель, преследует в сравнении с этой громадной программой, программа революционного либерализма в эпоху Реставрации и Июльской монархии? Пресловутую благоразумную свободу, очень скромную, очень упорядоченную, очень ограниченную, принаровленную как раз к ослабевшему темпераменту полунасыщенной буржуазии, которая, уставши от борьбы и ощущая нетерпение начать благоденствовать, уже чувствовала для себя угрозу не сверху, но снизу, и с беспокойством видела появление на горизонте, черной массы бесчисленных миллионов эксплуатируемых пролетариев, уставших терпеть и готовящихся потребовать своих прав.
С начала настоящего столетия этот рождающийся призрак, названный позже красным призраком, этот ужасный призрак права всех, противуположного привилегиям класса счастливцев, эта народная справедливость и народный разум, которые при своем дальнейшем развитии должны обратить в прах софизмы буржуазной экономии, юриспруденции, политики и метафизики, становятся посреди современных триумфов буржуазии, помехою ее счастью, ослабляют ее уверенность, ее ум.
А, ведь, при Реставрации, социальный вопрос был еще почти неведом или, лучше сказать, забыт. Было несколько отдельных великих мечтателей, как Сэн-Симон, Роберт Оуен, Фурье, гениальный ум которых или великие сердца отгадали необходимость радикальной переработки экономической организации общества. Вокруг каждого из них группировалось малое число пылких и преданных учеников, составляя как бы несколько небольших церквей, но они были столь же неизвестны, как их учителя и не имели никакого влияния на окружающий мир. Было еще коммунистическое завещание Бабефа, переданное его знаменитым товарищем и другом Буонаротти, наиболее энергичным пролетариям, посредством тайной народной организации. Но тогда это было еще подпольной работой, проявление которой дало себя почувствовать только позже, при Июльской монархии; во время Реставрации она совершенно не была замечена буржуазным классом. Народ, рабочие массы, оставались спокойными и ничего еще для себя самих не требовали.
Ясно, что если боязнь народной справедливости имела в эту эпоху какое либо существование, то она могла жить лишь в нечистой совести буржуа. Откуда явилась эта нечистая совесть? Или буржуа, жившие при Реставрации были, как индивиды, более злыми, чем их отцы, сделавшие революции 1789 и 1793 года? Нисколько. Это были почти одинаковые люди, но только поставленные в другую среду, и другие политические условия, обогащенные новой опытностью и, следовательно, имеющие другую совесть.
Буржуа прошлого столетия искренно верили, что, освобождая самих себя от монархического, клерикального и феодального ига, они освободят вместе с собой весь народ. И это наивное, искренное верование и было источником их геройской смелости и их невероятной мощи. Они чувствовали свое единение со всеми, и шли на приступ, неся в себе силу и право для всех. Благодаря этому праву и этой народной мощи, которая, так сказать, воплотилась тогда в классе буржуазии, буржуа прошлого столетия могли овладеть крепостью политического права, составлявшей предмет вожделения их отцов в продолжении стольких столетий. Но в то мгновение, как они водрузили на ней свое знамя, новый свет озарил их ум. Как только они завоевали власть, они начали понимать, что между их буржуазными интересами и интересами народных масс нет нечего общего, что, напротив, между ними есть радикальное противоречие, и что могущество и исключительное процветание класса собственников могут опираться лишь на нищету и политическую и социальную зависимость пролетариата.
С тех пор отношения между буржуазией и народом коренным образом изменились, и еще раньше чем рабочие поняли, что буржуа, более по необходимости, чем по злой воле, являются их естественными врагами, буржуа уже достигли сознания этого фатального антагонизма. Это то создание я и называю нечистой совестью буржуа.
Письмо Третье[9]
Нечистая совесть буржуа сказал я, парализовала с начала столетия, все интеллектуальное и моральное движение буржуазии. Я делаю поправку и заменяю слово парализовала, словом извратила. Ибо было бы неправильно обозвать параличным тот ум, который, перейдя от теории к приложению позитивных наук, создал все чудеса современной промышленности, пароходы, железные дороги и телеграф; который, с другой стороны, открыл новую науку—статистику, и, доведя политическую экономию и историческую критику развития богатства и цивилизации народов до их последних выводов, положил основание новой философии — социализму, являющемуся с точки зрения интересов буржуазии ничем иным, как великодушным самоубийством, отрицанием всего буржуазного мира.
Паралич наступил лишь позже, с 1848 года, когда буржуазия, испуганная результатами своих прежних работ, сознательно бросилась назад и, отрекшись, ради сохранения своих богатств, от всякой мысли и всякой воли, подчинилась военным покровителям и отдалась душой и телом самой полной реакции. С этого времени, она более ничего не изобрела, она потеряла вместе со смелостью и творческую мощь. У нее даже нет больше инстинкта самосохранения, ибо все что она делает для своего спасения, фатально толкает ее в бездну.
До 1848 года, она была еще в полной силе духа. Правда, этот дух уже не обладал той жизненной силой, с помощью которой в период от XVI-гo до XVIII-гo века, он создал целый новый мир. Это уже не был героический дух класса, который обладал всеми дерзновениями, ибо должен был все завоевать: теперь это был благоразумный и рассудочный дух нового собственника, который, приобретя горячо желанное имущество, должен теперь заботиться о его процветании и ценности. Характерной чертой буржуазного духа первой половины этого столетия является почти исключительно утилитарная тенденция.
Буржуазию в этом упрекали, и упреки эти несправедливы. Я, напротив, думаю, что буржуазия оказала человечеству последнюю великую услугу, проповедуя, гораздо больше собственным примером, чем теориями культ, или лучше сказать, уважение к материальным интересам. В сущности, эти интересы всегда имели в мире преобладающее значение; но раньше они маскировались под видом лицемерного и нездорового идеализма, который именно и делал их зловредными и отталкивающими.
Тот, кто хоть немного занимался историей, не мог не заметить,что в основе самых абстрактных, высоких и идеальных религиозных и теологических распрей всегда был какой нибудь крупный материальный интерес. Все расовые национальные, государственные и классовые войны, никогда не имели другой цели, кроме владычества, являющегося необходимой гарантией и условием обладания богатствами и пользования ими. Человеческая история, рассматриваемая с этой точки зрения, является ничем иным, как продолжением великой борьбы за существование, составляющей, согласно Дарвину, основной закон органической природы.
В животном мире эта борьба происходит без идей и без фраз, и ей нет разрешения; пока земля будет существовать, животные будут пожирать друг друга. Это естественное условие жизни животных. Люди, животные плотоядные по преимуществу, начали свою историю с людоедства. — Теперь они стремятся к всемирной ассоциации, к коллективному производству и потреблению.
Но между этими двумя крайними точками, какая кровавая и ужасная трагедия! И конец этой трагедии еще не настал. После людоедства наступило рабство; послe рабства, крепостное право; после крепостного права наемный труд, за которым должны последовать во-первых, страшный день возмездия, а затем позже, много позже, эра братства. Вот, фазы, чрез которые проходит животная борьба за жизнь в истории, постепенно преобразуясь в человеческую организацию жизни.
И среди этой братоубийственной борьбы людей против людей, в этом взаимном пожирании друг друга, в этом рабстве и этой эксплуатации одних другими, которые меняя название и формы, тянулись непрерывно из века в век до наших дней, какую роль играла религия? Она всегда освящала насилие и обратила его в право. Она перенесла человечность, справедливость и братство на фиктивное небо, чтобы оставить на земле царство несправедливости и грубой силы. Она благословляла счастливых бандитов, и чтобы сделать их, еще счастливее, она проповедывала их бесчисленным жертвам, народам, покорность и послушание. И чем выше и прекраснее казался идеал, которому она поклонялась на небе, тем действительность на земле становилась ужаснее. Ибо в природе всякого идеализма, как религиозного, так и метафизического, заложено презрение к реальному миру, и, презирая его, он вместе с тем его эксплуатирует, — откуда вытекает, что всякий идеализм необходимо порождает лицемерие.
Человек — материя, и не может безнаказанно презирать материю. Он—животное, и не может уничтожить свою животность; но он может и должен ее переработать и очеловечить через свободу, т. е. посредством комбинированного действия справедливости и разума, которые в свою очередь могут иметь влияние на нее только потому, что они являются ее продуктом и высшим выражением. Напротив того, всякий раз, когда человек хотел отвлечься от своей животности, он становился ее игрушкой и рабом, а чаще всего даже лицемерным служителем, свидетельством чему служат священники самой идеальной и самой нелепой из религий — католицизма.
Сравните их хорошо известную безнравственность с их обетом целомудрия; сравните их ненасытную жадность с их учением об отречении от благ сего мира, — и согласитесь, что не существует больших материалистов, чем эти проповедники христианского идеализма. Даже сейчас, какой вопрос волнует всего больше церковь? Вопрос о сохранении своего имущества, угрожаемого повсюду теперь конфискацией со стороны государства, этой новой церкви, являющейся выражением политического идеализма.
Политический идеализм не менее нелеп, не менее вреден, не менее лицемерен, чем идеализм религиозный, коего он является лишь разновидностью, лишь светским и земным выражением или проявлением. Государство, это младший брат церкви; а патриотизм, эта государственная добродетель, этот культ государства, является лишь отражением божественного культа.
Добродетельный человек, согласно предписаниям идеальной, религиозной и политической школы, должен служить Богу и жертвовать собой ради государства. И вот эту-то доктрину буржуазный утилитаризм с начала этого столетия и стал оценивать по достоинству.
Письмо Четвертое[10]
Одной из величайших заслуг буржуазного утилитаризма было, как я уже сказал, убийство религии государства, убийство патриотизма.
Патриотизм, как известно, добродетель мира античного, рожденная среди греческих и римских республик, где в действительности никогда не было другой религии, кроме религии государства, другого предмета поклонения кроме государства.
Что такое государство? Метафизики и юристы отвечают нам что, это общественная вещь; интересы, общее благо и право всех в противуположении разлагающему действию эгоистичных интересов и страстей каждого. Это справедливость, и осуществление морали и добродетели на земле. Следовательно, для индивидов не может быть более высокого подвига и более великой обязаности, как жертвовать собой и, в случае нужды, умереть ради торжества, ради могущества государства.
Вот в немногих словах вся теология государства. Посмотрим теперь, не скрывает ли эта политическая теология, также как и теология религиозная, под очень красивой и поэтической внешностью, очень обыденную и грязную действительность.
Проанализируем сперва самую идею государства, такую, какой нам ее представляют ее восхвалители. Это пожертвование естественной свободой и интересами каждого, как индивида, так и сравнительно мелких коллективных единиц — ассоциаций, коммун и провинций — ради интересов и свободы всех, ради благоденствия великого целого. Но это все, это великое целое, что это такое в действительности? Это совокупность всех индивидов и всех более ограниченных человеческих коллективов, которые его составляют. Но раз для того чтобы его составить, нужно пожертвовать всеми индивидуальными и местными интересами, то чем же является в действительности то целое, которое должно быть их представителем ? Это не живое целое, предоставляющее каждому свободно дышать и становящееся тем более богатым, могучим и свободным, чем шире развертываются на его лоне, свобода и благоденствие каждого; это не естественное человеческое общество которое утверждает и увеличивает жизнь каждого посредством жизни всех; — напротив того, это заклание как каждого индивида, так и всех местных ассоциаций, абстракция, убивающая живое общество, ограничение или лучше сказать, полное отрицание жизни и права всех частей, составляющих общее целое, во имя так называемого всеобщего блага. Это государство, это алтарь политической религии, на котором приносится в жертву естественное общество: это всепожиратель, живущий человеческими жертвами, подобно церкви, государство, повторяю еще раз—меньший брат церкви.
Чтобы доказать тождество церкви и государства, я прощу читателя констатировать тот факт, что как церковь, так и государство основаны существенным образом на идее пожертвования жизнью и естественным правом, и что они исходят из одного и того же принципа; принципа прирожденной порочности людей, которая может быть побеждена лишь божьей благодатью и смертью в Боге естественного человека, согласно церкви, а согласно государству, лишь законом и закланием индивида на алтаре государства. И церковь и государство стремятся пересоздать человека, первая в святого, второе—в Гражданина. Но естественный человек должен умереть, ибо он осужден единогласно как религией церкви, так и религией государства.
Таковы в их идеальной чистоте тождественные теории церкви и государства. Это чистые абстракции; но всякая историческая абстракция предполагает исторические факты. Эти факты, как я уже сказал в предыдущем письме, реального, грубого характера: это насилие, грабеж, порабощение, завоевание. Человек так создан, что он не довольствуется тем, что делает то или другое, он чувствует потребность объяснить и оправдать, перед своей собственной совестью и в глазах всего мира, то, что он делает. Религия явилась, стало быть, как раз кстати, чтобы благословить совершившиеся факты и, благодаря этому благословению, несправедливый и грубый факт превратился в право. Юридическая наука и политическое право, как известно, вначале вытекали из теологии, позже из метафизики, которая является ничем иным, как замаскированной теологией, имеющей смешную претензию не быть нелепой. Метафизика старалась, но тщетно, придать им характер науки.
Рассмотрим теперь, какую роль играла и продолжает играть в реальной жизни, в человеческом обществе, эта абстракция государства, параллельная исторической абстракции, называемой церковью?
Государство, сказал я, по самой сущности своей, есть громадное кладбище, где происходит самопожертвование, смерть и погребение всех проявлений индивидуальной и местной жизни всех интересов частей, которые и составляют все вместе, общество. Это алтарь, на котором реальная свобода и благоденствие народов приносятся в жертву политическому величию; и чем это пожертвование более полно, тем государство совершенней. Я отсюда заключаю, и это мое убеждение, что русская империя, это государство по преимуществу, это, без реторики, и без фраз, самое совершенное государство в Европе. Напротив того, все государства, в которых народы могут еще дышать, являются с точки зрения идеала, государствами несовершенными, подобно тому как все другие церкви по сравнению с римско-католической церковью, являются неудавшимися церквами.
Государство, сказал я, это абстракция, пожирающая народную жизнь; но для того, чтобы абстракция смогла родиться, заявиться и продолжать существовать в реальном мире, надо, чтобы существовало реальное коллективное тело, заинтересованное в ее существовании. Таковым не может быть большинство народа, ибо оно именно является жертвой государства: нуждаться в нем может лишь привилегированная группа, жреческое сословие государства, правящий и обладающий собственностью класс, являющийся в государстве тем же, чем в церкви является духовное сословие, священники.
И в самом деле, что видим мы в продолжение всей истории? Государство было всегда принадлежностью какого нибудь привилегированного класса: духовного сословия дворянства или буржуазии; наконец, когда все другие классы истощаются, выступает на сцену, класс бюрократов и тогда государство падает или, если угодно, возвышается до положения машины. Но для существования государства непременно нужно, чтобы какой нибудь привилегированный класс был заинтересован в его существовании. И вот солидарные интересы этого привилегированного класса, и есть именно то, что называется патриотизмом.
Письмо Пятое[11]
Был ли когда либо патриотизм, в том сложном смысле, который придают этому слову, народной страстью или добродетелью?
Имея в руках историю, я не колеблясь, отвечаю на этот вопрос решительным нет, и чтобы доказать читателю, что я не ошибаюсь, отвечая таким образом, я прошу у него позволения проанализировать главнейшие элементы, которые, комбинируясь более или менее различным образом между собою, составляют то, что называется патриотизмом.
Таких элементов четыре: 1) Естественный или физиологический элемент; 2) экономический; 3) политический и 4) религиозный или фанатический.
Физиологический элемент является главным основаванием всякого, наивного, инстинктивного и грубого патриотизма. Это естественная страсть, которая, именно потому, что она слишком естественная, т. е. совершенно животная находится в жесточайшем противоречии со всей политикой, и, что много хуже, сильно затрудняет экономическое, научное и гуманное развитие общества.
Естественный патриотизм, явление совершенно звериное, встречающееся на всех ступенях животной жизни и даже, можно отчасти сказать, в растительном царстве. Взятый в этом смысле патриотизм, это губительная война, первое проявление в человечестве той великой и роковой борьбы за существование, которая составляет все развитие, всю жизнь естественного или реального мира,—борьбы непрестанной, всемирного пожирания друг друга, которое питает каждого индивида, каждую породу мясом и кровью индивидов других пород, и которое, фатально возобновляясь с каждым часом, с каждым мгновением, позволяет жить и развиваться самым совершенным, сильным и умным породам насчет других.
Те, кто занимается земледелием или садоводством, знают, как трудно уберечь свои посадки против паразитических видов, которые отнимают у них свет и необходимые для питания химические элементы земли. Наиболее могучее растение, которое лучше других приноровлено к специальным условиям климата и почвы, развивается всегда со сравнительно большей силой и естественно стремится задушить все другие. Это молчаливая, но неустанная борьба, и нужно энергичное вмешательство человека, чтобы защитить предпочитаемые им растения от этого нашествия.
В животном царстве продолжается та же борьба, только она происходит более драматически с большим шумом. Здесь уже не молчаливое, незаметное задушение. Здесь течет кровь, и мучимое, раздираемое, пожираемое животное наполняет воздух криками. Наконец, человек, животное говорящее, вносит в эту борьбу первую фразу, и фраза эта называется патриотизмом.
Борьба за жизнь в растительном и животном царстве, не есть лишь борьба между индивидами: это борьба между породами, группами и семействами. Во всяком живом существе есть два инстинкта, два главных интереса: питание и воспроизведение. С точки зрения питания, каждый индивид является естественным врагом всех других, не взирая ни на какие связи—семейные, групповые или родовые — его с другими. Поговорка, что волки не едят друг друга, справедлива лишь до тех пор, покуда волки находят для своего питания животных, принадлежащих к другим породам; но мы знаем, что как только в этих последних ощущается недостаток, волки преспокойно пожирают друг друга. Кошки, свиньи и еще многие другие животныя часто с'едают своих собственных детенышей и нет животного, которое бы этого не сделало, вынужденное голодом. А человеческие общества не начали ли с людоедства? И кто не слыхал печальных историй о потерпевших крушение моряках, которые, блуждали среди океана, носясь на хрупком судне и будучи лишены пищи, бросали жребий, кто из них должен быть пожертвован и с'еден другими. Наконец, разве мы не видели при последнем большом голоде, опустошившем Алжир, матерей которые с'едали собственных детей?
Дело в том, что голод это жестокий и непобедимый деспот, и необходимость питаться, необходимость чисто индивидуальная, является первым законом, главным условием жизни. Это основание всей человеческой и социальной жизни, точно так же, как и жизни растительной и животной. Бунт против необходимости питания равносилен отрицанию всей жизни, самоприговору к небытию.
Но наряду с этим основным законом живой природы, есть и другой столь же существенный—закон воспроизведения. Первый стремится к сохранению индивидов, второй к созданию семейств, групп и пород. Индивиды, побуждаемые естественной необходимостью, стремятся соединиться, для целей воспроизведения, с индивидами, которые по организму близки к ним, подобны им. Бывают различия в организмах, делающие совокупление бесплодным или даже
невозможным. Эта невозможность очевидна между царством растительным и царством животным; но даже и в этом последнем, совокупление четвероногих, например с птицами, рыбами, пресмыкающимися или насекомыми равным образом невозможно.
Ограничившись одними четвероногими, мы найдем ту же невозможность между различными группами, и, таким образом, приходим к заключению, что возможность совокупления и воспроизведения становится реальной для каждого индивида лишь в очень ограниченном кругу индивидов, которые, будучи одарены организмом тождественным или, близким к его организму, составляют вместе с ним одну и ту же группу или одно и то же семейство.
Так как инстинкт воспроизведения составляет единственную связь солидарности, могущую существовать между индивидами животного мира, то там, где эта способность прекращается, прекращается и всякая животная солидарность. Все, остающееся вне группы, в среде которой возможно для индивида воспроизведение, составляет другую породу, совершено чуждый мир, мир враждебный и осужденный на истребление; все, что находится внутри, составляет обширное отечество породы,—как например, для людей, человечество.
Но это истребление и пожирание одного живого индивида другим происходит не только за пределами того ограниченного мира, который мы назвали обширным отечеством породы. Мы находим их внутри самого этого мира и такими же свирепыми а иногда и более свирепыми вследствие сопротивления и стеснения, которые они здесь встречают потому что к борьбе из за голода присоединяется столь же ожесточенная борьба из за любви.
Кроме того, каждая порода животных подразделяется на различные группы и семейства, видоизменяясь под влиянием географических и климатологических условий различных стран, в которых она живет. Большее или меньшее различие условий жизни определяет соответственное различие в организме индивидов, принадлежащих к одной и той же породе. К тому же известно, что всякий животный индивид естественно стремится совокупиться с индивидом, наиболее схожим с ним, откуда естественно вытекает развитие большого числа видоизменений в каждой породе. А так как различия, разделяющие все эти новые виды одни от других, основаны главным образом на воспроизведении, а воспроизведение есть единственная основа всей солидарности, то, очевидно, что широкая солидарность породы должна подразделяться на множество более ограниченных солидарностей и широкое отечество породы разбиваться на массу маленьких животных отечеств, враждебных и уничтожающих друг друга.
Физиологический или естественный патриотизм[12]
I
Я показал в своем предыдущем письме, каким образом патриотизм, как естественная страсть, вытекает из физиологического закона, а именно из закона, определяющего разделение живых существ на породы, семейства и группы.
Страсть патриотическая, очевидно страсть общественная. Чтобы найти ее яснейшее выражение в животном мире, надо обратиться к породам животных, которые подобно человеку, одарены в высшей мере общественной природой, например, к муравьям, к пчелам, к бобрам и ко многим другим животным, обладающим общими, постоянными жилищами, а также к животным, кочующим стадами. Животные, имеющие общее, постоянное жилище, представляют с точки зрения, конечно, естественного патриотизма, патриотизм земледельческих народов, а животные, кочующие стадами, патриотизм кочевых народов.
Очевидно, что патриотизм первых полнее патриотизма последних. Этот последний выражает лишь солидарность индивидов в стаде, между тем, как первый создает еще связь индивидов с почвой и жилищем, в котором они обитают. Привычка—эта вторая натура как людей, так и животных— и образ жизни гораздо определеннее, устойчивее у животных общественных и оседлых, чем среди бродячих стад; а из этих-то особенностей в привычках и в образе жизни и составляется главный элемент патриотизма.
Естественный патриотизм можно определить так: инстинктивная, машинальная и совершенно лишенная критики привязанность к общественно принятому, наследственному, традиционному образу жизни, и столь же инстиктивная, машинальная враждебность ко всякому другому образу жизни. Это любовь к своему и к своим и ненависть ко всему, имеющему чуждый характер. Стало быть, патриотизм, с одной стороны коллективный эгоизм, а с другой стороны—война.
Такая солидарность недостаточно сильна, чтобы индивиды-члены животной общины не пожирали друг друга в случае нужды; но она достаточно сильна, чтобы индивиды, забыв
междуусобие, соединялись всякий раз, как им грозит вторжение чужой общины.
Посмотрите, например, на собак какой нибудь деревни. Собаки в естественном состоянии не составляют коллективных республик; предоставленные собственным инстинктам, они живут, подобно волкам, в бродячих стаях, и только под влиянием человека обращаются в оседлых животных. Но прикрепленные к месту, они составляют в каждой деревне своего рода республику, основанную не на коммунистическом строе, а на индивидуальной свободе, согласно девизу, столь любимому буржуазными экономистами: каждый за себя и черт побери оплошавшего. У собак безграничная свобода и попустительство, конкуренция, безустанная, безжалостная гражданская война, в которой более сильный всегда кусает более слабого,—совершенно как в буржуазных республиках. Но пусть только собака соседней деревни пробежит по их улице, и вы тотчас увидите, как все эти ссорящиеся сограждане толпой бросаются на несчастного иностранца.
Не есть ли это точная копия или, лучше сказать, оригинал, ежедневно копируемый человеческим обществом? Не есть ли это самое полное проявление того естественного патриотизма, о котором я сказал и осмеливаюсь повторить, что это чисто звериная страсть? Ее звериный характер несомненен, ибо собаки бесспорно звери, а человек, будучи животным подобно собаке и другим земным животным, но только животным, одаренным физиологической способностью думать и говорить, начинает свою историю со звериного состояния и только с течением веков завоевывает и создает свою человечность.
Раз мы знаем происхождение человека, нас не должна удивлять его звериная натура, являющаяся естественным фактом в серии естественных фактов; нас не должна она и возмущать, ибо отсюда нисколько не вытекает, что против нее не надо бороться с самой большой энергией, так как вся человеческая жизнь ничто иное, как непрерывная борьба с естественной животностью человека ради его человечности.
Я хотел лишь констатировать, что патриотизм, восхваляемый нам поэтами, политиками всех школ, правительствами и всеми привилегированными классами, как высшая и идеальная добродетель, имеет корень не в человеческих, но в звериных свойствах человека.
И действительно, безраздельное царствование естественного патриотизма мы видим в начале истории, а в настоящее время в наименее цивилизованных частях человеческого общества. Конечно, в человеческих обществах патриотизм является гораздо более сложным чувством, чем в других животных обществах, по той простой причине, что жизнь человека, животного мыслящего и одаренного словом, обнимает несравненно больше предметов, чем жизнь животных других пород. К чисто физическим привычкам и обычаям в нем присоединяются еще традиции, более или менее абстрактные, интеллектуальные и моральные,—целая масса истинных или ложных представлений вместе с различными религиозными,экономическими, политическими и социальными обычаями. Все это составляет элементы естественного патриотизма человека, поскольку все эти вещи, комбинируясь тем или другим образом, создают для данного общества особую форму существования, традиционный образ жить, мыслить и действовать иначе, чем другие.
Но какова бы ни была разница, в отношении количества и даже качества охватываемых ими об'ектов, между естественным патриотизмом человеческих и звериных обществ, общее между ними то, что и тот и другой являются инстинктивными, традиционными, привычными, общественными страстями, и что интенсивность того и другого нисколько не зависит от характера их содержания. Напротив того, можно сказать, что чем это содержание менее сложно, чем оно проще, тем сильнее и исключительнее патриотическое чувство, которое служит его проявлением и выражением.
Животное, очевидно, гораздо более привязано к наследственным обычаям общества, к которому оно принадлежит, чем человек. У животного эта патриотическая привязанность фатальна; не будучи в состоянии само освободиться от нее, оно избавляется от нее иногда только под влиянием человека. Тоже самое и в человеческих обществах; чем менее развита цивилизация, чем менее сложна сама основа социальной жизни, тем сильнее проявляется естественный патриотизм, т. е. инстинктивная привязанность индивидов ко всем материальным, интеллектуальным и моральным привычкам, составляющим обычную, традиционную жизнь отдельной общины, и ненависть их ко всему чуждому, ко всему отличающемуся. Откуда вытекает, что естественный патриотизм обратно пропорционален, развитию цивилизации, т. е. торжеству человечности в человеческих обществах.
Никто не будет отрицать, что инстинктивный или естественный патриотизм жалких племен ледовитого пояса, едва затронутых человеческой цивилизацией и сама материальная жизнь чья так бедна, бесконечно сильнее или исключительнее, чем патриотизм, например, француза, англичанина или немца. Немец, англичанин, француз везде могут жить и акклиматизироваться, между тем, как уроженец полярных стран умер бы в скором времени от тоски по родине, если бы его удерживали вдали от нее. И, однако, что может быть более ничтожным, менее человечным, чем его существование! Это служит лишним доказательством, что интенсивность естественного патриотизма является показателем не человечности, а звериного состояния.
Наряду с положительным элементом патриотизма, заключающемся в инстинктивной привязанности индивидов к определенному образу существования, свойственному той общине, к которой они принадлежат, существует еще отрицательный элемент, столь же существенный как и первый и неотделимый от него; это равно инстинктивное отвращение ко всему чуждому—отвращение инстинктивное и, следовательно, совершенно звериное; да, действительно, звериное, ибо это отвращение тем энергичнее и непобедимее, чем менее тот,
который его испытывает, думал и понимал, чем менее он человек.
В настоящее время это патриотическое отвращение ко всему иностранному встречается только у диких народов; в Европе его можно найти у полудикого населения, которое буржуазная цивилизация не удостоила просветить, хотя она и не забывает его эксплуатировать. В самых больших столичных городах Европы, в самом Париже и особенно в Лондоне есть улицы, предоставленные нищенскому населению, которого никогда не касались лучи просвещения. Достаточно появления на этих улицах иностранца, чтобы толпа несчастных человеческих существ мужчин, женщин и детей, едва одетых и носящих во всей своей внешности следы самой ужасной нищеты и самого глубокого падения, окружила его и осыпала ругательствами, иногда даже побоями, единственно потому, что он иностранец. Разве подобного рода грубый и дикий патриотизм не является самым кричащим отрицанием всего, что называется человечностью?
И, однако есть, весьма просвещенные буржуазные газеты, как например Journal de Geneve, которые не чувствуют никакого стыда эксплуатировать столь мало человеческий предрассудок и столь всецело звериную страсть. Я, однако, должен отдать им справедливость и охотно сознаюсь, что, эти газеты эксплуатируют патриотизм, нисколько его не разделяя и единственно лишь потому, что им выгодно его эксплуатировать, подобно тому как поступают в настоящее время почти все священники всех религий, проповедующие религиозные нелепости, сами не веря в них и единственно лишь потому, что в интересах привилегированных классов, чтобы народные массы продолжали верить.
Когда, газета Journal de Geneve не находит уже более аргументов и доказательств, она говорит: эта вещь, эта идея, этот человек нам чужды, и она имеет столь низкое представление о своих соотечественниках, что надеется, что достаточно будет произнести это страшное слово чуждый, чтобы они, позабыв все и здравый смысл, и человечность, и справедливость, стали на ее сторону.
Я сам не женевец, но я слишком уважаю жителей Женевы, чтобы не думать, что Journal ошибается на их счет. Они, конечно, не захотят пожертвовать человечностью ради звериного состояния, эксплуатируемого коварством.
ПАТРИОТИЗМ (продолжение)[13]
Я сказал, что патриотизм, поскольку он инстинктивен или естествен, имел все свои корни в животной жизни, не представляет ничего другого, кроме особой комбинации коллективных привычек: материальных, интеллектуальных и моральных, экономических, политических и социальных, развитых традицией или историей, в, данном обществе. Эти привычки, прибавил я еще, могут быть хороши или плохи, так как содержание или об'ект этого инстинктивного чувства—патриотизма, не имеет никакого влияния на степень его интенсивности. Даже если бы пришлось допустить в этом отношении известную разницу, то она скорее склонялась бы на сторону худых, чем хороших привычек. Ибо— по причине животного происхождения всякого человеческого общества, и в силу той инертности, которая оказывает столь же могучее действие в интеллектуальном и моральном мире, как и в мире материальном,—во всяком обществе, которое еще не вырождается, а напротив, прогрессирует и идет вперед, плохие привычки, имея за собою первенство по времени, вкоренены более глубоко, чем хорошие. Это нам объясняет, почему из общей суммы нынешних общественных привычек, в самых передовых странах цивилизованного мира, по крайней мере девять десятых никуда не годятся.
Пусть не воображают, что я вздумал об'явить войну всеобщему обычаю общества и людей управляться привычками. Как и во многих других вещах, люди в этом лишь фатально повинуются естественному закону, а восставать против естественных законов было бы нелепо. Действие привычек в интеллектуальной и моральной жизни индивидов и обществ подобно действию растительных сил в жизни органической. Как то, так и другое являются условиями существования и реальности. Как добро, так и зло должны, чтобы сделаться реальной вещью, перейти в привычку, как в отдельном человеке, так и в обществе. Вce упражнения, которым предаются люди, не имеют другой цели, и самые лучшие вещи не могут укорениться в человеке и сделаться его второй природой иначе, как в силу привычки. Легкомысленно восставать против нее, ибо это фатальная сила, которую не смогли бы уничтожить никакой ум и никакая воля. Но, если просвещенные разумом нашего века и нашим представлением об истинной справедливости, мы серьезно пожелаем сделаться людьми, то нам остается только одно: постоянно направлять силу воли, т. е. привычку хотеть, развитую в нас независимыми от нас обстоятельствами, к искоренению плохих привычек и к насаждению на их место хороших. Чтобы очеловечить целое общество, надо беспощадно уничтожать все причины, все политические, экономические и социальные условия, порождающие в индивидах зло, и заместить их такими условиями, которые бы развили в этих самых индивидах привычку и практику добра.
С точки зрения современногo сознания человечности и справедливости, какими, благодаря прошедшему развитию истории, мы их теперь наконец понимаем, патриотизм является привычкой дурной, узкой и злополучной, ибо он является отрицанием человеческого равенства и солидарности. Социальный вопрос, практически выставленный в настоящее время рабочим миром Европы и Америки, и разрешение которого возможно не иначе, как с уничтожением границ Государств, необходимо стремится искоренить эту традиционную привычку из сознания рабочих всех стран. Ниже я покажу, что уже с начала столетия эта привычка была сильно поколеблена в сознании высшей финансовой, торговой и промышленной буржуазии, благодаря удивительному и совершенно международному развитию ее богатств и экономических интересов. Но прежде я должен показать, каким образом, гораздо раньше этой буржуазной революции, инстинктивный, естественный патриотизм, являющийся по самой природе своей очень узким, очень ограниченным чувством и чисто местной общественной привычкой, потерпел в самом начале истории глубокое изменение, извращение и ослабление, благодаря образованию политических Государств.
В самом деле, патриотизм, поскольку это чисто естественное чувство, т.е. продукт peaльнo солидарной жизни общества, еще не ослабленный или мало ослабленный размышлением или действием экономических и политических интересов, а также религиозных абстракций, такой патриотизм, если и не вполне, то в громадной своей части животный, может обнимать лишь очень ограниченный мир: одно племя, одну общину, одну деревню. В начале истории, как и ныне у диких народов, не было ни наций, ни национальных языков, ни национальных религий, — не было, значит, отечеств в политическом смысле этого слова. Каждое местечко, каждая деревня имела свой собственный язык, своего бога, своего священника или колдуна. Это было ничто иное, как размножившаяся, расширившаяся семья, которая, ведя войну со всеми, отрицала своим существованием все остальнoe человечество. Таков естественный патриотизм в своей энергичной и наивной неподкрашенности.
Мы встречаем еще остатки этого патриотизма даже в некоторых из самых цивилизованных стран Европы, например, в Италии, особенно в южных областях итальянского полуострова, где. строение почвы, горы и море создают преграды между долинами, общинами и городами, отделяют их, изолируют и делают почти совершенно чуждыми друг другу. Прудон заметил с большой основательностью в своей брошюре об итальянском единстве, что это единство является покуда еще только идеей и чисто буржуазной, но нисколько не народной страстью; что, по крайней мере, деревенское население осталось и поныне по отношению к этому единству в большинстве случаев совершенно равнодушно, а я прибавлю, даже враждебно, ибо это единство с одной стороны вступает в противоречие с местными патриотизмами, с другой стороны ничего до сих пор не принесло населению, кроме безжалостной эксплуатации, гнета и разорения.
Не видим ли мы часто даже в Швейцарии, особенно в отсталых кантонах, борьбу местного патриотизма против кантонального, а последнего против национального патриотизма, имеющего своим объектом всю республиканскую конфедерацию в ее целом?
В заключение, резюмируя все сказанное, я повторяю, что патриотизм, как естественное чувство, будучи по своей сущности чувством местным, является серьезным препятствием к образованию Государств, и что, следовательно, эти последние, а с ними и цивилизация, не могли основаться иначе как уничтожив, если и не вполне, то в значительной мере, эту животную страсть.
ПАТРИОТИЗМ (Продолжение[14]).
Рассмотрев патриотизм с естественной точки зрения и показав, что с этой точки зрения, патриотизм является, с одной стороны, чувством собственно звериным или животным, ибо он свойственен всем животным породам, и что с другой стороны, он — явление существенно местное, ибо он может обнять лишь очень ограниченное пространство мира, где лишенный цивилизации человек проводит свою жизнь,— я перехожу теперь к анализу исключительно человеческого патриотизма, патриотизма экономического, политического и религиозного.
Это факт, констатированный натуралистами и теперь уже сделавшийся аксиомой, что количество всякого населения всегда соответствует количеству средств к пропитанию, находящихся в обитаемой этим населением стране. Население увеличивается всякий раз, как эти средства встречаются в большем количестве; оно уменьшается с уменьшением этого количества. Когда данное население с'едает все запасы страны, оно переселяется. Но это переселение, разрывая все его старые привычки, все повседневные усвоенные жизненные обычаи, и принуждая искать, без всякого знания, без всякой мысли, инстинктивно и совершенно наудачу, средства пропитания в совершенно незнакомых странах, всегда сопровождается лишениями и страшными мучениями. Большая часть переселяющегося животного населения умирает с голоду, и часто служит пищей остающимся в живых; только меньшей части удается акклиматизироваться и разыскать новые средства к пропитанию в новой стране.
Потом возникает война, война между породами, которые, чтобы питаться, должны пожирать друг друга. Рассматриваемый с этой точки зрения, животный мир является ничем иным, как кровавой гекатомбой, ужасной и плачевной трагедией, написанной голодом.
Те, кто признает существование Богат-ворца, и не подозревают, какой они делают ему милый комплимент выставляя его творцом этого мира. Как? Всемогущий, всемудрый, всеблагой Бог не мог прийти ни к чему другому, как к созданию подобного мира, подобного страшилища?
Правда, теологи имеют превосходный аргумент для объяснения этого возмутительного противоречия. Мир был создан совершенным, говорят они; в нем царила вначале абсолютная гармония, до того времени, как человек согрешил, и разгневанный на него Бог проклял человека и мир.
Это об'яснение тем более поучительно, что оно полно нелепостей, а, как известно, в нелепом то и состоит сила теологов. Для них, чем какая нибудь вещь более нелепа, невозможна, тем она истиннее. Вся религия ничто другое, как обожествление нелепого.
Совершенный Бог сотворил совершенный мир, но вот это совершенство поскальзывается и навлекает на себя проклятие творца; после этого абсолютное совершенство делается абсолютным несовершенством. Каким образом совершенство могло сделаться несовершенством? На это ответят, что так случилось именно потому, что мир, хотя и совершенный при сотворении, тем не менее не был абсолютным совершенством, ибо абсолютен один Бог, Высшее Совершенство. Мир был совершенен лишь относительно и в
сравнении с тем, каков он теперь.
Но в таком случае, зачем употреблять слово совершенство, слово, не применимое ни к чему относительному? Разве совершенство может быть не абсолютным? Скажите лучше, что Бог сотворил мир несовершенным, но лучшим, чем он есть в настоящее время. Но если он был лишь относительно лучшим, если он не был совершенным, то он не представлял той гармонии и абсолютного мира, рассказами о которых господа теологи нам протрещали уши. И в таком случае, мы спросим у них: разве не должен творец, до вашим собственным словам, быть оцениваем по своему творению, как работник по совершенной им работе? Творец несовершенной вещи очевидно несовершенен; раз мир был создан несовершенным, то Бог, его творец, очевидно несовершенен. Ибо факт сотворения несовершенного мира может быть объяснен лишь его немудростью, или немощностью, или же злобой.
Но, возразят мне, мир был совершенен, но только менее совершенен, чем Бог. На это я отвечу, что когда дело идет о совершенстве, то нельзя говорить о большем или меньшем; совершенство полно, всецело, абсолютно, или же оно вовсе не существует. Стало быть, если мир был менее совершенен, чем Бог, мир был несовершенным; откуда вытекает, что Бог, творец несовершенного мира, был сам несовершенен, что он остается несовершенным, что он никогда не был Богом, что Бог не существует.
Чтобы спасти существование Бога, господа теологи будут принуждены согласиться, что созданный им мир был при сотворении совершенным. Но тогда я им поставлю два маленьких вопроса. Во-первых, если мир был совершенным, то каким образом два совершенства могли существовать вне друг друга? Совершенство может быть лишь едино; оно не терпит двойственности, ибо в двойственности одно ограничивается другим и становится таким образом несовершенным. Значит, если мир был совершенен, то не было Бога ни превыше его, ни даже вне его, сам мир был Богом. Второй вопрос: Если мир был совершенен, то каким
образом он мог ниспасть? Хорошее совершенство, могущее измениться и исчезнуть! И если признать, что совершенство может ниспасть, то значит и Бог может ниспасть! Другими словами, Бог, конечно, существовал в верующем воображении людей, но человеческий разум, все более и более торжествующий в истории, обрекает его на уничтожение.
Наконец, как он странен, этот Бог Христиан! Он сотворил человека таким образом, чтобы тот мог, чтобы тот должен был согрешить и ниспасть. Бог, имея между своими бесконечными аттрибутами всеведение, не мог не знать, творя человека, что тот согрешит; а раз Бог это знал, человек должен был пасть: иначе он дерзко уличил бы во лжи божественное всеведение. Тогда, зачем говорят о человеческой свободе? Здесь была фатальность! Повинуясь этому фатальному влечению,—самый простодушный отец семейства и тот на месте Бога мог бы это предвидеть,—человек грешит: и вот Бог—совершенство вдруг впадает в ужасный гнев, столь же смешной, как и отвратительный. Бог проклинает не только тех, кто преступил его закон, но и все их потомство, хотя оно в то время еще не существовало, и следовательно, было совершенно невинно в грехе наших прародителей. Не удовольствовавшись этой возмутительной несправедливостью, он проклинает еще ни в чем неповинный, гармоничный мир и делает его вместилищем всех ужасов и преступлений, местом постоянной бойни. Потом, рабски связанный собственным гневом и проклятием, изреченным им против мира и людей, против своего собственного творения, что делает Бог, вспомнив, наконец, что он Бог любви? Ему недостаточно, что он наполнил ради своего гнева кровью целый мир; этот кровавый Бог проливает еще кровь своего единственного Сына; он жертвует им под предлогом примирения мира с своим божеским Величеством! И если бы еще это удалось! Но нет, природа и человечество остаются столь же раздираемыми и окровавленными, как и до этого чудовищного искупления. Отсюда с очевидностью вытекает, что христианский Бог, подобно всем предшествовавшим ему Богам, является Богом столь же бессильным, как и жестоким, столь же нелепым, как и злым.
И такие то нелепости хотят навязать нашей свободе, нашему разуму! Посредством подобных чудовищностей претендуют воспитать, очеловечить людей! Когда же господа теологи возымеют достаточно смелости, чтобы открыто отказаться не только от разума, но и от человечности? Недостаточно сказать с Тертуллианом: „Credo, quia absurdum"—верю в то, что нелепо; пусть они постараются еще навязать нам, если могут, христианство с помощью кнута, как это делает всероссийский царь, с помощью костров, как Кальвин, с помощью Святой Инквизиции, как добрые католики, посредством насилий, пыток и казней, которые так бы желали еще применить священники всех религии. Пусть они испробуют все эти прекрасные средства, но пусть не льстят себя надеждой восторжествовать над нами каким-нибудь другим способом.
Что касается до нас, представим раз навсегда все эти божественные нелепости, и ужасы тем, кто безумно верит, что еще долго можно будет во имя их, эксплуатировать народ и рабочие массы. Возвратимся к нашему чисто человеческому разуму и будем всегда помнить, что человеческое просвещение, единственное могущее нас просветить, освободить, сделать достойными и счастливыми, является не в начале, но по отношению того времени, в котором мы живем, в конце истории и что человек в своем историческом развитии, изшел из животности, чтобы достичь мало по малу человечности. Не будем же никогда смотреть вспять, но всегда вперед, ибо впереди наше солнце и наше спасение. И если позволительно, если даже полезно иногда оглянуться назад, то только для того, чтобы констатировать, чем мы были и чем не должны уже более быть, что мы делали и чего не должны уже более делать.
Естественный мир является всегдашней ареной не прекращающейся борьбы, борьбы за жизнь. Нам нечего спрашивать себя, почему это так. Не мы это сделали, мы нашли это, рождаясь в жизнь. Это наша естественная исходная точка, и мы в этом нисколько не ответственны. Нам достаточно знать, что так было и, вероятно, всегда будет. Гармония устанавливается в этом мире через борьбу, через торжество одних, через поражение и чаще всего смерть других. Рост и развитие пород ограничены их собственным голодом и аппетитами других пород, т. е. страданием и смертью. Мы не говорим с христианами, что земной шар долина плача, но мы должны согласиться, что земля наша совсем не такая нежная мать, как иные рассказывают, и что живые существа должны иметь не мало энергии, чтобы жить на ней. В естественном мире сильные выживают, а слабые гибнут, и первые выживают только потому, что вторые гибнут.
Возможно ли, чтобы этот фатальный закон естественной жизни, был столь же неизбежен в мире человеческом и социальном?
ПАТРИОТИЗМ (Продолжение)[15]
Присуждены ли люди самой своей природой к пожиранию друг друга, чтобы жить, подобно тому, как это делают животные других пород?
Увы! в колыбели человеческой цивилизации мы находим людоедство; в то же время и впоследствии всеуничтожающие войны, войны рас и народов: войны завоевательные, войны равновесия, войны политические и войны религиозные, войны во имя „великих идей", подобные той, которую ведет Франция, управляемая своим теперешним императором[16] и войны патриотические, во имя великого национального единства, подобные тем, которые задумывают ныне, с одной стороны, пангерманский министр в Берлине, и с другой стороны, панславистский царь в Петербурге.
И в основании всего этого, под всеми лицемерными фразами, которыми пользуются, чтобы придать себе внешний вид человечности и правоты, что мы находим? Всегда один и тот же экономический вопрос: стремление одних жить и благоденствовать на счет других. Все остальное лишь одна болтовня. Невежды, простецы и глупцы даются на эту удочку, но ловкие люди, управляющие судьбами государств, знают очень хорошо, что в основании всех войн, есть только один повод: грабеж, завоевание чужого богатства и порабощение чужого труда.
Такова жестокая и грубая действительность, которую Боги всех религий, Боги войны всегда благословляли; начиная с Еговы, бога евреев, вечного Отца нашего Господа Иисуса Христа, который приказал своему избранному народу избить всех жителей Обетованной земли—и кончая католическим Богом, представленным папами, которые в вознаграждение за избиение язычников, магометан и еретиков, подарили землю этих несчастных их счастливым убийцам, еще не смывшим с себя их кровь. Для жертв—ад; для палачей— имущество и земли убитых,—такова цель самых священных войн, религиозных войн.
Очевидно, что, по крайней мере, до сего времени, человечество не было исключением из общего закона животного мира, который приговаривает все живые существа пожирать друг друга, чтобы жить. Только социализм, как я постараюсь это показать в следующих статьях, только социализм, ставя на место политической, юридической и божеской справедливости, справедливость человеческую, замещая патриотизм всемирной солидарностью людей, а экономическую конкуренцию международной организацией общества, всецело основанного на труде, может положить кoнец войне, этому грубому проявлению человеческой животности.
Но до тех пор пока он не восторжествует на земле тщетно будут протестовать все буржуазные конгрессы мира и свободы, тщетно будут председательствовать на них все Викторы Гюго всего света; люди будут продолжать раздирать друг друга, как дикие животные.
Доказано, что человеческая история, подобно истории всех других животных пород, началась с войны. Война эта, не имевшая и не имеющая другой цели, кроме завоевания средств к жизни, имела различные фазы развития, параллельные различным фазам цивилизации, т. е. развития человеческих потребностей и средств к их удовлетворению.
Вначале человек, это всеядное животное, жил подобно другим животным, плодами и овощами, охотой и рыбной ловлей. В продолжении многих веков, без сомнения, человек охотился и ловил рыбу так, как это делают и ныне животные, т. е. без помощи других орудий, кроме тех, которыми его одарила природа. В первый раз, как он воспользовался самым грубым орудием, простой палкой или камнем, он совершил акт мышления и выказал себя, разумеется, нисколько этого не подозревая, животным мыслящим—человеком. Ибо даже самое простое орудие должно соответствовать намеченной цели и, следовательно, пользование им предполагает известную сообразительность ума, которая существенно отличает человека — животного от всех других земных животных. Благодаря этой способности мыслить, обдумывать, изобретать, человек усовершенствовал, правда очень медленно, в продолжении многих веков, свои орудия, и, превратился в охотника или вооруженного дикого зверя.
Достигши этой первой ступени цивилизации, маленькие группы людей, естественно, могли питаться с большей легкостью, убивая живые существа, не исключая людей, тоже служивших им на пищу, чем животные, лишенные орудий охоты и войны. А так как размножение животных пород всегда прямо пропорционально количеству средств пропитания, то очевидно, число людей должно было увеличиваться в большей пропорции, чем число животных других пород, и, наконец, должен был наступить момент, когда невозделанная земля не была уже в состоянии прокормить всех людей.
Если бы[17] человеческий разум не обладал способностью прогресса; если бы он не развивался все больше и больше, с одной стороны, опираясь на традицию, сохраняющую для будущих поколений знания, добытые прошлыми поколениями, а с другой стороны, распространяясь, благодаря дару слова, неотделимого от дара мысли, если бы он не был одарен неограниченной способностью изобретать все новые способы для защиты человеческого существования против всех враждебных ему сил природы,—эта недостаточность природных средств к существованию явилась бы непреодолимой гранью для размножения человеческой породы.
Но благодаря этой драгоценной способности, позволяющей ему познавать, размышлять и понимать, человек может перешагнуть чрез эту естественоую грань, останавливающую развитие всех других животных пород. Когда естественные источники истощились, он создал искусственные. Пользуясь не своей физической силой, но превосходством своего ума, он начал не просто убивать животных, чтобы их немедленно пожрать, а подчинять их, приручать, и как бы воспитывать, чтобы сделать пригодными для своих целей. И таким образом, на протяжении веков еще группы охотников превращаются в группы пастухов.
Этот новый источник пропитания, естественно, еще умножил человеческую породу, что привело ее к необходимости воздать новые средства к поддержанию жизни. Когда эксплуатация животных стала недостаточной, люди стали эксплуатировать землю. Таким образом, бродячие и кочевые народы обратились на протяжении многих других веков в народы земледельческие.
В этот то период истории и устанавливается, собственно говоря, рабовладельчество. Люди, бывшие самыми что ни на есть дикими зверями, начали с пожирания убитых ими или взятых в плен неприятелей. Но, когда они начали понимать всю выгоду заставлять животных служить себе и эксплуатировать их, а не убивать сейчас же, то они должны были скоро понять, какую пользу они могли извлечь из услуг человека, самого умного из земных животных. Побежденный враг перестал быть пожираем, но становился рабом, принужденным исполнять работу, необходимую для пропитания своего хозяина.
Труд пастушеских народов столь легок и прост, что для него почти не требуется работы рабов. Поэтому, мы видим, что у кочующих и пастушеских народов, число рабов очень ограничено, чтоб не сказать почти равно нулю. Другое дело у народов оседлых и земледельческих. Земледелие требует настойчивого, ежедневного и тягостного труда. Свободный человек лесов и степей, охотник или скотовод, берется за земледелие с большим отвращением. Поэтому, мы видим и в настоящее время, например, у диких народов Америки, что самые тягостные и отвратительные домашние работы возлагаются на существо сравнительно слабое, на женщину. Мужчины не знают других занятий, кроме охоты и войны, которые даже и в нашей цивилизации считаются самыми благородными занятиями, и, презирая всякий другой труд, лениво лежат, куря свои трубки, между тем как их несчастные жены, эти естественные рабыни грубого человека, изнемогают под тяжестью своего ежедневного труда.
Шаг вперед в цивилизации, и работа жены возлагается на раба. Вьючное животное, одаренное yмом, принужденнoe нести всю тягость физической работы, дает своему господину возможность досуга и интеллектуального и морального развития.
Письма к французу. (ТОЧНОЕ И ПОЛНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ РУКОПИСИ БАКУНИНА)[18]
Продолжение.
25 августа, вечер, или, вернее, 26 августа, утро.
Рассмотрим снова общее положение вещей.
Я думаю, что доказал и события докажут лучше, чем мог это сделать я, что:
1[19]. При тех условиях, при каких Франция, находится в настоящий момент она не может больше быть спасена обычными способами, выработанными цивилизацией, установленными государством. Она может избегнуть гибели только путем крайнего напряжения своих сил, если вся страна поднимется, весь французский народ восстанет с оружием в руках.
а) Пруссаки, весь германский народ, рассматриваемый, как единое государство, как империя,—какой оно является на самом деле,—может искупить понесенные им громадные жертвы, предохранить себя от будущей и даже очень близкой мести униженной, оскорбленной Франции, лишь раздавив эту последнюю, лишь продиктовав ей условия раззорительного мира в Париже.
б) Никакое французское государство—империя, королевство или республика—не сможет просуществовать даже года, приняв гибельные и позорные условия, какие пруссаки будут вынуждены продиктовать ей в силу необходимости.
в) Стало быть, нынешнее временное правительство — Базэн, Мак-Магон, Паликао, Трошю, со своим приватным Советом—Тьер-Гамбетта—не могут, если бы даже они и хотели, вести переговоры с пруссаками, пока хоть один прусский солдат останется на французской территории. Вследствие этого, между всеми этими людьми, которые представляют четыре различных партии: позорную империю, прямой орлеанизм (Трошю), косвенный орлеанизм или даже буржуазную и, главным образом, военную республику, как переходный период к восстановлению монархии (Тьер и, разумеется, также и Трошю, если прямое восстановление монархии окажется невозможным); и настоящую буржуазную республику (Гамбетта и К°),—между всеми этими людьми существует молчаливое перемирие.
Они положили свои знамена в карман, отложили борьбу партий на более мирные времена, подав теперь друг другу руку ради спасения чести и целости Франции.
г) Все они искренние патриоты государства. Расходясь во многих пунктах, они вполне сходятся в одном: все они политические деятели, государственные люди.
Как таковые, они верят только в обычные способы борьбы, признанные государством, в государственные организованные силы, и испытывают одинаковый ужас как перед возможностью банкротства, которое, действительно является гибелью и позором для государства,—но не для страны, не для народа, так и перед восстаниями, перед анархическим
движением народных масс—концом буржуазной цивилизации, верным разложением государства.
д) Они хотели бы, стало быть, спасти государство одними только обычными средствами и государственными организованными силами, как можно меньше прибегая к диким инстинктам низкой толпы, которые оскорбляют их утонченные и деликатные чувства, их вкус, и, что еще более серьезно, угрожают их положению и самому существованию состоятельного и привилегированного общества.
е) Однако, они принуждены прибегать к ним, так как положение очень серьезное, и ответственность их громадная. Против огромной, прекрасно организованной силы они могут выставить только полуразрушенную армию и административную машину, тупую, гнилую, функционирующую только наполовину и неспособную создать в несколько дней силу, какую она не в состоянии была создать в течение двадцати лет. Они не смогут, стало быть, ни предпринять, ни сделать что-нибудь серьезное, если не встретят поддержки в общественном доверии, не найдут помощи в народном самоотвержении.
ж) Они видят, что вынуждены обратиться с призывом к этому народному самоотвержению. Они провозгласили восстановление национальной гвардии во всей стране, включение в армию боевых дружин и вооружение всего народа. Если бы все это было искренно, то было бы сделано распоряжение о немедленной раздаче оружия народу во всей Франции. Но это было бы отречением от государства, социальной революцией фактически, если не по идее,—а они этого не хотят.
з) Они до такой степени не хотят этого, что, если бы нужно было выбирать между победоносным вступлением пруссаков в Париж и спасением Франции посредством социальной революции, нет никакого сомнения, что все они, не исключая Гамбетты и К°, выбрали бы первое. Для них социальная революция, это гибель всей цивилизации, конец мира и, стало быть, и Франции также. Лучше по их мнению Франция опозоренная, маленькая, подчиненная временно наглой воле пруссаков, но с верной надеждой вновь подняться, чем Франция, навсегда убитая, как государство, социальной революцией.
и) Как политические деятели, они, стало быть, поставили себе следующую задачу: провозгласить народное вооружение, не вооружая народ, но воспользоваться народным энтузиазмом, чтобы привлечь под разными наименованиями большое число добровольцев в ряды регулярной армии; под предлогом восстановления национальной гвардии, вооружить буржуазию, удалив пролетариат, и, в особенности, вооружить старых солдат, чтобы иметь возможность выставить значительную силу против бунтующих рабочих, которым удаление войск придало смелости; включить в армию боевые дружины, достаточно дисциплинированные, и распустить или оставить невооруженными те из них, которые обнаруживают слишком красные чувства; позволять образование партизанских отрядов только при условии, если организаторами и руководителями их будут люди, принадлежащие к цивилизованным классам: члены jockey Club, собственники, дворяне или буржуа, словом, люди из приличного общества. За отсутствием принудительной силы, чтобы сдержать население, воспользоваться его патриотическим возбуждением, вызванным, как событиями, так и их собственными признаниями и обязательными постановлениями и направить его в сторону сохранения общественного порядка, распространив в народе ложное и пагубное убеждение, что для того, чтобы спасти Францию от гибели, уничтожения и рабства, которые ей угрожают со стороны Пруссии, он должен, оставаясь достаточно экзальтированным, чтобы чувствовать себя способными на чрезвычайные жертвы, какие потребует от него спасение государства, оставаться спокойным, бездеятельным, пассивно полагаясь на государственное провидение и на временное правительство, взявшее в настоящий момент управление государством в свои руки. Считать за врагов Франции, за прусских агентов всех, кто попытается нарушить это доверие, это народное спокойствие, всех тех, кто захочет вызвать народ на произвольные акты общественного спасения,—одним словом, всех, кто, справедливо не доверяя способности и добросовестности современных правительств, хочет спасти Францию, путем революции.
к) Следовательно, между всеми партиями, не исключая и самых красных якобинцев и, конечно, также и буржуазных социалистов, тех и других пришибленных и парализованных страхом, внушаемым им революционными, действительно народными социалистами,—анархистами или, так сказать, Гебертистами социализма, которых также глубоко ненавидят коммунисты-государственники, как и якобинцы и буржуазные социалисты, — между всеми этими партиями, не исключая даже коммунистов-государственников, в настоящее время существует молчаливое соглашение помешать революции, пока враг будет находиться во Франции, по двум причинам.
Первая причина та, что, все одинаково видя спасение Франции только в действии государства, в чрезмерном преувеличении всех свойств и сил государства, они все искренно убеждены, что, если бы теперь разразилась революция, то, так как она имела бы непосредственным, естественным следствием разрушение современного государства и так как у якобинцев и коммунистов-государственников неизбежно не хватило бы ни времени ни всех средств, необходимых для немедленного построения нового революционного государства, то она, т. е. революция отдала бы Францию пруссакам, отдав ее сначала в руки революционных социалистов.
Вторая причина есть лишь раз'яснение и развитие первой. Они одинаково ненавидят и боятся революционных социалистов, работников Интернационала и, чувствуя, что при существующих условиях, революция неизбежно восторжествовала бы, они хотят во что бы то ни стало помешать ей.
л) Это особенное положение между двумя врагами, из которых один—монархисты—осужден на исчезновение и другой—революционные социалисты—угрожает своим появлением, налагает на якобинцев, буржуазных социалистов и коммунистов-государственников тяжелую обязанность, заключить тайный, молчаливый союз с реакцией сверху против революции снизу. Они не столько боятся этой реакции, сколько этой революции. Видя, в самом деле, что первая чрезвычайно ослабела, до такой степени, что может существовать только с их согласия, они заключают с ней временный союз и пользуются ею скрытным образом против второй.
Это об'ясняет ужасную реакцию, которая, с их согласия, господствует в настоящий момент в Париже. Это об'ясняет, почему держат, смеют держать незаконно Рошфора в тюрьме. Заметили вы молчание всей радикальной оппозиции и в особенности молчание Гамбетты, когда Распайль требовал его освобождения? Один только старик Крэмье произнес жалкую юридическую речь, другие не сказали ни слова. Однако, вопрос очень ясен: дело идет о достоинстве и праве всего законодательного корпуса, о достоинстве и праве национального представительства, цинично нарушенных, в лице депутата Рошфора, исполнительной властью. Не означает ли молчание левых республиканцев: во-первых, что все эти якобинцы ненавидят и боятся Рошфора, как человека, пользующегося, справедливо или нет, симпатиями и доверием толпы, что все они, как политические деятели, излюбленное выражение Гамбетты, очень довольны, что Рошфор в тюрьме; во-вторых, что существует как бы предвзятое решение не оказывать оппозиции временному правительству, существующему в настоящий момент в Париже?
Это решение есть также естественное следствие их особого положения: решив, что немедленная революция будет гибельна для Франции и не желая, следовательно, свергнуть существующее правительство (потому что свергнуть его без революции невозможно, так как большинство законодательного корпуса определенно реакционно и чтобы переменить правительство, нужно сначала распустить насильственно законодательный корпус), будучи принуждены терпеть это правительство, которое они ненавидят, радикалы слишком патриоты, чтобы желать его ослабления, ибо этому правительству поручена защита Франции, так что ослабить его, значило бы ослабить защиту, шансы на спасение Франции. Отсюда необходимое следствие; радикалы принуждены терпеть, обходить молчанием все интриги, возмутительно несправедливые акты, даже самые пагубные глупости этого правительства,—ибо это признанная и тысячу раз отмеченная и подтвержденная опытом всех народов истина, что во время крупных государственных кризисов, когда государству угрожает громадная опасность, лучше иметь сильное правительство, как бы оно плохо ни было, чем анархию,
которая явилась бы неизбежным следствием оказываемой ему оппозиции. Не исправив присущих настоящему правительству пороков, оппозиция и анархия, которая за ней последует, значительно ослабят его силу, его деятельность и уменьшат, стало быть, шансы на спасение Франции.
н) Что отсюда следует?—Что радикальная оппозиция, вдвойне скованная, и инстинктивным отвращением, какое ей внушает революционный социализм и своим патриотизмом, совершенно уничтожена и пассивно тянется на буксире за правительством, которое она усиливает и санкционирует своим присутствием, своим молчанием и иногда также своими комплиментами и лицемерным выражением своей симпатии.
Этот вынужденный договор между бонапартистами, орлеанистами, буржуазными республиканцами, красными якобинцами и социалистами-государственниками, конечно, выгоден первым двум партиям и в ущерб трем последним. Если когда-нибудь были республиканцы, работающие во славу монархической реакции, так это, конечно, французские якобинцы, руководимые Гамбеттой. Реакционеры, в последней крайности, не чувствуя больше почвы под ногами и видя, что они не могут больше располагать всеми добрыми старыми средствами, всеми необходимыми орудиями государства, стали чрезвычайно вежливыми и гуманными,—Паликао и сам Жером Давид, бывшие прежде столь грубыми и нахальными, стали теперь чрезвычайно любезными. Они рассыпаются перед радикалами, в особенности перед Гамбеттой, льстят им и всячески свидетельствуют им свое почтение. Но за эту вежливость они имеют власть. А левые радикалы совершенно устранены от нее.
о) В сущности, все эти люди, которые составляют в настоящее время власть: Паликао, Шевро и Жером Давид, с одной стороны, Трошю и Тьер—с другой, наконец, Гамбетта, этот полу-оффициальный посредник между правительством и левыми радикалами, в глубине своего сердца ненавидят друг друга и, смотря друг на друга, как на смертельных врагов, относятся с глубоким недоверием друг к другу. Но, интригуя друг против друга, они вынуждены итти вместе, или, скорее, вынуждены делать вид, что идут вместе. Вся сила настоящего правительства основана исключительно в настоящий момент на вере народных масс в его стройное, полное и прочное единство.
Так как это правительство может удержаться только при общественном доверии, нужно непременно, чтобы народ имел, так сказать, абсолютную веру в единство действия и идейное согласие всех членов правительства; ибо как долго спасение Франции будет зависеть от государства, это единство и это согласие одни только могут спасти ее. Нужно, стало быть, чтобы народ был убежден, что все члены, составляющие настоящее правительство, забыв все свои разногласия и все свое прежнее честолюбие и оставив совершенно в стороне партийные интересы, искренне подали друг другу руку, чтобы работать теперь только для спасения Франции. Народный инстинкт прекрасно понимает, что правительство несогласнoe, которoe
тормошат во все стороны, и вce члены которого интригуют друг против друга, неспособно на энергичную, серьезную работу, что подобное правительство может погубить, а не спасти страну. И если бы народ знал все, что происходит внутри существующего правительства, он свергнул бы его.
Гамбетта и К° знают все, что происходит в правительстве, они достаточно умны, чтобы понять, что внутри правительства слишком отсутствует единство и что оно слишком реакционно, чтобы развернуть всю энергию, требуемую настоящим положением и чтобы предпринять все необходимые меры для спасения страны, и они молчат, — потому что говорить, значило бы вызвать революцию и потому, что их патриотизм, также как и их буржуазный дух, отвергают революцию.
Гамбетта и К° знают, что Паликао, Жером Давид и Шевро, пользуясь своим положением, интригуют с Мак-Магоном и Базэном, чтобы спасти империю, если возможно, а в случае невозможности, спасти, по крайней мере, монархию, превратив ее в королевство с династией Бурбонов или герцога Орлеанского; они знают, что слишком красноречивый и парламентарист Трошю интригует с отцом парламентаризма Тьером и с молчаливым Шангарнье, чтобы призвать герцога Орлеанского.
Гамбетта знает все, это видят все, но он оставляет их в покое, будучи сам слишком патриотом, чтобы позволить себе даже интригу в пользу республики. Он доводит это патриотическое отречение так далеко, что позволяет даже своим новым друзьям из бонапартистской реакции, ставшим всесильными с тех пор, как события показали их бессилие управлять Францией, обезглавить республиканскую партию, закрыв два ее главных органа, газеты Reveil и Rappel, единственные, которые осмелились сказать истину о происходящих событиях Франции и населению Франции.
Оффициалъная ложь теперь, больше чем когда-либо, на очереди дня в Париже и во всей Франции. Обманывают цинично, систематически весь народ относительно истинного положения дел. Когда французская армия побита и наполовину уничтожена, когда пруссаки продолжают свое победоносное шествие на Париж, Паликао говорит в парламенте о победах Базэна, и все парижские газеты, зная истину, повторяют эту ложь,—все из того же патриотизма, так как теперь лозунг во всей стране: спасти Францию посредством лжи. Гамбетта и К° знают все это и не только молчат, но санкционируют эту оффициальную ложь, лицемерно выказывая доверие и радость, которую они далеко не испытывают. Почему они это делают? Потому, что они убеждены, что если бы Париж и вся Франция знали истину, весь французский народ поднялся бы всей своей массой: была бы революция; а вследствие патриотизма, также как и вследствие своей буржуазности они не хотят революции.
Вооружение народа, постановленное и превращенное в закон Законодательным Корпусом и Сенатом, вооружение национальной гвардии и боевых дружин не приводятся в исполнение. Французский народ остается совершенно безоружным перед вторжением на его территорию врага. Гамбетта и компания не могут не знать этого, так как даже реакционные парижские газеты это говорят. Вот, что говорит газета Presse, от 24 августа:
„Боевые дружины организованы едва в трети департаментов; национальная гвардия, остающаяся неподвижно на одном месте, нигде не вооружена, если не считать Парижа".
И в другой статье:
„В административных бюро существуют плачевные традиции, устаревшие порядки. Мы видим с одной стороны административную рутину и слишком часто умственную несостоятельность некоторых служащих, занимающих высшие должности, а с другой—пылкий и смелый энтузиазм населения. Заведующие отделами, далеко не отвечающие серьезности момента, как будто увеличивают препятствия и проволочки своими тошными никчемными бумагами и дурным приемом, какой они оказывают населению".
Вот, что происходит в провинции. В Париже, которому угрожает ужасная опасность, в Париже, на глазах у этих трусливых республиканцев, происходит то же самое. Вот, что я нашел в Адресе третьего парижского избирательного округа генералу Трошю (от 23 августа):
„Вполне законное нетерпение парижского населения наталкивается на непобедимую силу инерции отсталой, завистливой, пропитанной формализмом администрации. Очень много записей в национальную гвардию остались без всякого результата. Вооружение производится так медленно, что приводит прямо в отчаяние, и организация кадров подвигается плохо... Мы обращаем ваше внимание, генерал, на это положение вещей, так мало отвечающее важности момента. Пора использовать все живые силы столицы. Довольно недоверия, довольно ненависти и боязни!"
Но у генерала Трошю, также как и Паликао и Шевро, министра внутренних дел, иезуита и любимца императрицы, есть задняя мысль, сообразная их положению, их целям и их убеждениям: убивать систематически стихийный порыв народа. Особенно это видно на тех мерах, какие они приняли и какие продолжают принимать по отношению к боевым дружинам.
Убедившись, что эти дружины, которые должны были служить полезным посредником между народным вооружением и регулярными войсками, были заражены глубоким анти-бонапартистским чувством и отчасти республиканским, они их как бы приговорили к смерти, не приняв во внимание тех громадных услуг, какие они могли бы оказать в настоящий момент отечественной обороне. Мы видели, что было сделано с боевыми дружинами, собравшимися в Шалоне, а также около Марселя. Теперь, вот, что говорит реакционная газета Presse. Сообщив, что в департаментах Ниевры и Шер об'явлено осадное положение, она замечает, что „эти меры учащаются в последние дни, что власть должна ими пользоваться очень осторожно", и в подтверждение она рассказывает, что произошло в Перпиньяне: „Во Франции происходили муниципальные выборы, как раз в тот день, когда одно за другим получались известия о несчастиях, происшедших в Виссенбурге и Форбахе. Префект Перпиньяна, из предосторожности, чтобы не вызывать слишком сильного возбуждения умов, счел необходимым отложить на сутки обнародование этих известий. Это вызвало сильное раздражение населения, и, потом беспорядки, которые привели к роспуску боевых дружин".
Ясно, что вооружение народа не производится преднамеренно, потому что вооруженный народ, это—революция, а так как Гамбетта и К° не хотят революции, они дают волю реакционному правительству.
Под давлением, несомненно, наиболее радикальной части парижского населения, которое начинает понимать истину и терять доверие и терпение, Гамбетта и компания, поддерживаемые левой парламентской фракцией и, говорят, левым центром, сделали последнее усилие, требуя от правительства, чтобы оно приняло в Комитет обороны Парижа, в качестве членов, девятъ депутатов. Реакционное правительство, которое сразу заметило ловушку, и которому совсем нежелательно было, чтобы на развалинах его военной Комиссии был учрежден Комитет общественного спасения, решительно отказало. Но, из примирительных побуждений, императрица-регентша подписала в Совете министров, 26 августа, декрет, повелевающий, чтобы депутаты Тьер, маркиз де Талуе, Дюпюи де Лом, и сенаторы: генерал Меллинэ и Беик вошли в Комитет обороны Парижа. Старая лисица Тьер сыграл роль „дурачка",—и господа Гамбетта и компания будут молчать, страдать, потому что они выдали себя с руками и ногами, скованные своим патриотизмом и буржуазными инстинктами.
Но чего же они ждут, наконец? На что надеятся? На что рассчитывают? Изменники это или глупцы? Они основали все свои надежды на энергии и ловкости, какие развернули, как видно, Паликао и Шевро в деле организации новой армии, и на военном гении Базэна и Мак-Магона.
А если Базэн и Мак-Магон будут еще раз побиты, что всего вероятнее, что тогда случится?
Паликао и Шевро, не довольствуясь, говорят, тем, что дали новую армию Мак-Магону, занимаются теперь формацией третьей армии. Они послали в департаменты десять комиссаров, чтобы ускорить ход дела. Они представили (24 августа) в законодательный корпус проэкт закона, объявленный срочным и призывающий на военную службу всех женатых старых солдат от 25 до 35 лет, всех офицеров до пятидесяти лет и всех генералов до семидесяти трех лет. Таким образом, говорит Liberte, будет образована новая и превосходная армия, состоящая из двухсот семидесяти пяти тысяч опытных в боевом отношении солдат. Да, на бумаге.
Ибо, не надо забывать, что те, кому поручено ее образовать, не чрезвычайные комиссары 1793 г., которые, увлеченные сами и поддерживаемые огромным революционным движением, охватившим все население, творили чудеса,— это не гиганты национального конвента; образование этой армии поручено префектам, чиновникам и администраторам Наполеона III, ворам и людям неспособным.
Большая глупость, великое преступление и большое малодушие со стороны Гамбетты и К°, что они не свергли императорское правительство и не провозгласили республику больше двух недель тому назад, когда известие о двойном поражении французов, в Фрешвиллере (Верт) и Форбахе, прибыло в Париж. Власть выпала из рук правительства, нужно было только ее поднять. В этот момент они были всесильны, бонапартисты пали духом, были уничтожены. Гамбетта и К°, руководимые своим собственным патриотизмом и патриотизмом Тьера, подняли власть и передали ее Паликао. Эти красивые говоруны, эти фразеры идеальной, республики, эти незаконнорожденные сыны Дантона не дерзнули. Они вынесли себе приговор.
С этого момента, столь благоприятного и потерянного навсегда, для якобинцев, а не для социальной революции, все пошло вспять с изумительной, приводящей в отчаяние логикой. Две недели тому назад никто не смел произнести имени Наполеона и, если его самые преданные сторонники говорили о нем, то только, чтобы обругать его. Теперь вот, что я прочел в газете Presse, от 24 августа:
„Император в Реймсе, вместе с принцем-наследником, со свитой, в восхитительной вилле М-mе Синар, в четырех километрах от Реймса. В этой вилле резиденция монарха. Другие виллы в той же местности заняты Мак-Магоном, Принцем Мюра и др.".
Вот, что об этом говорит Bund, полу-оффициальная газета щвейцарской Конфедерации:
„Правые (бонапартисты) повидимому хотят обманывать парижан до того момента, когда пруссаки поведут осаду Парижа. Тогда будет слишком поздно начать республиканское движение,—и в случае даже, если императору не удастся сохранить корону, может быть, можно будет надеть ее на голову наследника".
В то же время, принц-Наполеон—Плон-Плон—приезжает во Флоренцию с чрезвычайной миссией к королю Италии, не от министерства, а непосредственно от императора Наполеона,—как в прошлом. Это ставит в чрезвычайно трудное положение итальянские демократические газеты, которые очень хотели бы принять сторону революционной Франции, осажденной солдатами германского деспотизма, но не могут этого сделать, потому что они не видят еще революционной Франции, они видят только монархическую Францию, во главе которой стоит человек, наиболее ненавистный Италии, Наполеон III. Вот, что говорит по этому поводу Gazetta di Milano, от 26 августа:
„Французы продолжают вспоминать славные дни 92-го года. Но до сих пор мы еще ничего не видели во Франции, что показало бы нам, что жив этот великий народ, уничтоживший средневековье, а законодательный корпус еще менее напоминает нам, хотя бы в миниатюре, законодательный корпус, который, среди бурных волнений и в разгар революции сумел творить победы. Как! Две недели, как никто не смеет больше говорить об императоре и, если кто это делает, то встречает всеобщее порицание; две недели, как Европа знает, что империя пала, в чем признались даже члены императорской семьи (Плон-Плон будто бы выразился в этом смысле во Флоренции); и эта благородная страна не сказала еще своего слова, она ничего еще не воздвигла на произведенных развалинах; она возлагает все свои надежды
на то или другое лицо, а не на самою себя. А пока она подчиняется правительству, которое управляет ею именем императора, которое обманывает и губит ее во имя императора! При всем нашем добром желании, мы не можем выразить никакой симпатии, никакого доверия этой стране!"
Вот, к каким результатам приводят патриотизм и политический ум Гамбетты и К°. Я обвиняю их в крупной измене Франции, как за пределами страны, так и внутри, и если бонапартисты заслуживают, чтобы их повесили один раз, то все якобинцы должны быть повешены два раза.
Ясно, что они изменяют Франции за границей, потому что своим патриотическим самоотречением они лишили ее громадной моральной поддержки, — моральной вначале, но весьма материальной позднее. Если бы у них хватило смелости об'явить республику в Париже, они сразу бы расположили все народы: итальянский, испанский, английский и даже германский, в пользу Франции. Все, не исключая и немцев, немецкой рабочей массы[20], приняли бы ее сторону против прусского вторжения. А моральная поддержка других народов имеет большое значение. Якобинцы 1793 г. знали это они не сомневались,что эта поддержка составляла, по крайней мере, половину их силы. Революция немедленно бы охватила Италию, Испанию, Бельгию, Германию; и прусский король, у которого, в тылу, появился бы еще другой враг, более опасный, чем французская армия— германская революция,—очутился бы в жалком положении. Но они не дерзнули, эти незаконнорожденные сыны Дантона, и все народы, в которых столько глупости, трусости и слабости вызывает отвращение, испытывают только презрительную жалость к французскому народу.
Якобинцы изменили Франции внутри страны, потому что, провозгласив республику на развалинах монархического строя, они бы наэлектризировали и воскресили ее. Они не дерзнули, они считали очень патриотичным, очень практичным ничего не дерзать, ничего не хотеть, ничего не делать,—и этим самым, они сделались виновными в ужасном преступлении: они не тронули, они поддержали своими собственными руками монархическое здание, которое падало. Они были сами жертвой иллюзии, что доказывает их глупость, потому что вокруг них говорили: „империя пала". Они считали ее действительно павшей и находили, что будет осторожным сохранить еще некоторое время ее видимость, чтобы удержать их страшилище — революционных социалистов. Они сказали себе: „Мы теперь хозяева, будем политичными, практичными и осторожными, чтобы помешать фатальному взрыву страстей черни!"
И в то время как они рассуждали таким образом, реакционеры, бонапартисты, а вместе с ними и орлеанисты, удивленные, что они еще живы, что не украшают своими телами парижских фонарей, вздохнули свободно, потом набрались снова смелости и, всмотревшись хорошенько в своих новых хозяев и заметив, что это были лишь профессора риторики и ослы, перестали считаться с ними.
В их руках вся администрация, старая администрация, все способы действия,—и если верно, что император путешествует, империя, деспотическое и более чем когда-либо централизованное государство, стоит твердо на ногах. И вооруженные этим всемогуществом, усиленным еще под'емом национального патриотизма, совращенного с пути, они давят теперь и Париж и Францию.
Они осмелились об'явить на осадном положении...[21] И тогда как реакционные газеты, как напр., Presse, восклицают лицемерно: „Слава Богу, французский народ взял в свои руки заботу о защите родной земли... Граждане сговорились между собою, они обсуждают вместе, организуются... Теперь уже не одно правительство уполномочено пещись о нас, на нас самих лежит эта обязанность",—Паликао, Шевро и Жером Давид, воплощающие втроем все, что есть самого подлого в режиме Наполеона III, с помощью своих в данном случае верных слуг, всех префектов и помощников префектов Наполеона III, оставшихся на своих постах, заключили в тиски реакции, более свирепой и гнетущей, чем когда-либо, всю страну и привели ее почти в абсолютную неподвижность, в пассивное состояние, немногим, отличающееся от смерти.
Вот как патриотизм якобинцев изменил Франции и погубил ее.—Да, погубил, ибо если социальная революция или немедленное анархическое восстание французского народа не спасет ее, она погибла.
о) Паликао и Шевро, а также и Комитет обороны Парижа, во главе с Трошю, ведут, говорят, энергичную, удивительную, неутомимую деятельность для организации средств обороны. Допустим. Но разве пруссаки, с своей стороны, не организуются также с поразительной энергией?
Ибо для пруссаков, не надо себя обманывать, так же как и для французов, победоносный или гибельный конец войны—вопрос жизни или смерти. Говоря о пруссаках, я подразумеваю, конечно, монархию, короля и Бисмарка, его первого министра, со всей массой генералов, лейтенантов и бедных солдат, которые следуют за ними. Прусская монархия, несомненно, ставит свою последнюю ставку. Она пустила в ход свои последние денежные и человеческие рессурсы, последние рессурсы Германии.
Если германская армия будет побита, не один из сотен тысяч солдат, вступивших на территорию Франции, не вернется живым в Германию. Она должна, стало быть, победить и восторжествовать окончательно, ради своего спасения. Она не может даже ограничиться бесплодными победами, она не может вернуться, не принеся с собой крупных материальных компенсаций, за понесенные ею и причиненные Германии огромные потери. Если прусский король вернется в Германию с пустыми руками, с одной только своей славой, он не процарствует и одного дня, так как Германия потребует от него отчета в тысячах и десятках тысяч своих убитых и искалеченных сынов и в громадных суммах, издержанных на эту раззорительную и бесплодную войну.
Не нужно обманывать себя, национальное чувство немцев возбуждено до крайних пределов, нужно удовлетворить его или пасть. Есть только один способ дать ему другое направление, это социальная революция. Но это способ, который, по всей вероятности, мало желателен прусскому королю, и, так как он не может воспользоваться им, не может дать другого выхода сектантскому и тщеславному патриотическому чувству немцев, он должен его удовлетворить,—а он может его удовлетворить только за счет Франции, вырвав у нее, по крайней мере, миллиард и две провинции: Эльзас и Лотарингию, и навязав ей, чтобы предохранить себя от будущей ее мести, династию, режим и такие условия, которые ослабят ее, скуют ее по рукам и ногам и лишат ее надолго возможности двигаться. Германская пресса единодушно твердит, и она тысячу раз права, что Германия не в состоянии переносить каждые два года неслыханные жертвы для поддержания своей независимости. Следовательно, для германского народа, претендующего в настоящий момент занять господствующее положение Франции в Европе, абсолютно необходимо поставить Францию точно в такое же положение, в каком эта держава держала до сих пор Италию, превратить ее в вассала, в вице-королевство Германии, великой германской империи.
Таково, стало быть, положение короля Пруссии и Бисмарка. Они не могут вернуться в Германию, не оторвав от Франции двух провинций, не вырвав у нее миллиарда и не обязав ее ввести у себя режим, гарантирующий им ее покорность и подчинение. Но все это можно вырвать у Франции только в Париже. Пруссаки, стало быть, вынуждены взять Париж. Они прекрасно знают, что это очень нелегко. Поэтому, они употребляют неслыханные усилия, чтобы удвоить свою армию, дабы буквально раздавить Париж и Францию. В то время как Франция организуется, Пруссия тоже не спит,—она тоже организуется.
Посмотрим теперь, которая из этих двух организаций обещает лучшие результаты.
Отметим сначала, каковы положение и силы двух враждующих армий.
Базэн, запертый в Меце, что бы там ни говорили имеет—по признанию парижских газет,—не более ста двадцати тысяч солдат. Я думаю, что у него остается едва сто тысяч,—но согласимся, что у него сто двадцать тысяч солдат. В каком положении они находятся? Запертые в Меце, они окружены армией, по крайней мере, в двести пятьдесят тысяч человек, а именно, двумя армиями: армией принца Фредерика-Карла и армией Штейнмеца, которые слились вместе и к которым присоединились резервный корпус Герварта фон Биттефельд (пятьдесят тысяч человек) и северная армия, под командой Фогеля фон Фалькенштейн (по крайней мере сто тысяч человек,—но будем считать пятьдесят тысяч), что составит вместе сто тысяч человек свежего войска; а так как в начале войны принц Фредерик-Карл имел сто восемьдесят тысяч солдат и Штейнмец сто тысяч,—вместе двести восемьдесят тысяч солдат, исчисляя даже потери этих двух армий в восемьдесят тысяч человек—огромная цифра,—нужно заключить, что немецкая армия, собравшаяся теперь вокруг Меца, насчитывает, по крайней мере, триста тысяч солдат. Но предположим, что в ней только двести пятьдесят тысяч человек. Это превышает вдвое численностью, больше чем вдвое, армию Базэна.
Базэн не может долго оставаться в Меце,—он умрет с голоду со своей армией, и должен будет сдаться из за недостатка провианта и аммуниции. Он непременно должен прорваться сквозь вражескую армию, вдвое численнее его армии.—Он дважды пытался это сделать и оба раза неудачно.—Теперь ясно, что последняя битва 18 августа, в Гравелотте, была гибельна для французов. Побежденные, упавшие духом, усталые, плохо организованные, с плохой администрацией и плохим командным составом (ибо вся энергия Базэна не могла в несколько дней уничтожить зло, которое правительство Наполеона наделало в продолжение двадцати лет,—администраторы воры и неспособные, офицеры храбрые, но невежественные, полковники куртизаны, не могут вдруг быть заменены другими, тем более, что негде взять этих других), начиная уже испытывать голод, так как нет сомнения, что вся армия, запертая в Меце, получает уже недостаточный паек, сто тысяч солдат Базэна должны сражаться с двухсот пятидесяти тысячной германской армией, все солдаты которой сыты, благодаря грабежам в Лотарингии и Эльзасе и громадным запасам провизии всякого сорта, которые они отняли у трех корпусов Фроссара, Дю Файли и Мак-Магона (у этого последнего они отняли вплоть до его канцелярии, кассу и портфель), а также миллионным контрибуциям деньгами и огромным контрибуциям натурой, налагаемым на жителей отнятых городов;—бодрые, возбужденные, как этими грабежами, так и своими победами, немцы, наоборот, чувствуют себя превосходно. Ими командуют превосходные офицеры, ученые, добросовестные, умные, привыкшие воевать и у которых военное искусство и ум соединены с преданностью и рабской дисциплиной по отношению к их коронованному шефу. Они идут впереди как экзальтированные рабы, добросовестные и гордящиеся своим рабством, противопоставляя невежественной грубости французских офицеров свою осмысленную и искусную грубость. Генералы их также умные и, в особенности два, генерал Мольтке и принц Фредерик-Карл, повидимому, считаются среди лучших генералов Европы. К тому же они следуют плану, давно обдуманному, комбинированному, который до сих пор им не пришлось изменять; тогда как французская армия, которую вели сначала без всякого плана, без идеи, уменьшенная до крайних пределов, должна создать себе план, чтобы выйти из отчаянного положения, что требует, по меньшей мере, гения; а ни Базэн ни Мак-Магон, какими бы они ни были превосходными генералами, не являются гениальными людьми. Я не знаю, гениальный ли человек Мольтке, но ясно, во всяком случае, что если у пруссаков нет гения, то у них за то есть установленный план, хорошо изученный, умно подготовленный и проводимый, которому они систематически следуют с большой смелостью и вместе с тем с большей осторожностью. Все шансы, стало быть, на стороне пруссаков.
Говорят, что преобразованная или вновь составленная армия в Шалоне имеет полтораста тысяч человек. Я не думаю, чтобы она насчитывала больше ста тысяч. Но предположим, что в ней полтораста тысяч человек; армия принца наследника, которая идет на Париж и которая проникла уже в Шалон, численностью в двести тысяч человек. Во всяком случае, она превосходит численно армию Мак-Магона; она превосходит ее также своей организацией, своей дисциплиной и, в особенности, своей администрацией. Армия Мак-Магона должна иметь все неудобства вновь организованной армии. Она только что оставила Шалон, чтобы итти через Реймс, Мезьер и Монмеди, на помощь Базэну,—доказательство, что Базэн находится в весьма критическом положении и что он отныне не в состоянии высвободиться сам.
Этим стратегическим маневром, как горделиво говорят парижские газеты, Мак-Магон обнажил Париж. И нет больше сомнения, что принц—наследник идет решительно на Париж,
предоставив своему кузену, принцу Фредерику-Карлу, Штейнмецу и Фогелю фон Фалькенштейн расправиться с армиями Базэна и Мак-Магона, что они, без всякого сомнения, выполнят с честью, так как три германские армии, соединившиеся и действующие согласованно и сообща, по количеству солдат превосходят армии Базэна и Мак-Магона, взятые вместе, а они стоят в разных местах и, вероятно, никогда не соединятся между собою.
В то время, как эти три германские армии держат в нерешимости обе французские армии, королевский принц, во главе полутораста тысяч и, вероятно даже, двухсот тысяч солдат, идет на Париж, который может выставить против него только тридцать тысяч солдат регулярного войска, двенадцать тысяч солдат морской дивизии, размещенных по фортам, и восемьдесят тысяч солдат национальной гвардии, едва вооруженных.
Я надеюсь, что Париж окажет ему отчаянное сопротивление и, признаюсь, что единственно на этом сопротивлении я и строю в настоящий момент свои предложения, свои проэкты. Но я знаю также, что пруссаки так же умны и осторожны, как и смелы, что они никогда не идут вперед, не вычислив заранее и не подготовив все элементы успеха. И потом, ведь, Париж находится во власти реакции,—и Бог знает, сколько интриганов и изменников находится в данный момент в Париже, в самом правительстве! Кто знает, не имеют ли пруссаки людей в Париже, с которыми они тайно сносятся?
Во всяком случае, ясно, что с точки зрения стратегии, тактики, словом, с точки зрения военного положения, все выгоды на стороне пруссаков, все шансы в пользу их, так что можно математически доказать, разбирая вопрос все с той же исключительно военной точки зрения, что обе французские армии должны быть разгромлены и что Париж должен попасть в руки пруссаков.
Теперь оставим в стороне военную точку зрения и рассмотрим эту гигантскую борьбу между двумя великими державами, борющимися за гегемонию в Европе, между французской империей и германской империей, с точки зрения экономической, административной и политической. Нет сомнения, что эта война столь же раззорительна для Германии, как и для Франции; но достоверно также, что экономическое положение Германии, в данный момент, в тысячу раз лучше экономического положения Франции. Во-первых уже по той простой причине, что война происходит не на германской, а на французской территории. Затем, потому что Германия в сто раз лучше управляется, чем Франция, которую в настоящее время грабят и немцы и свои собственные воры, администрация империи.
Хорошая организация новых сил, которые несомненно эта война вызовет к жизни, как в Германии, так и во Франции, зависит от доброкачественности, относительной честности, ума, энергии, знания дела, опытности и активности администраций. Всем известно, что германская администрация стоит сравнительно очень высоко, французская администрация отвратительная. Эта последняя представляет максимум бесчестности, грабительства, небрежности и инертности. Наоборот, германская администрация представляет максимум добросовестного труда, сравнительной честности, ума и активности. Французская администрация в корне деморализована двадцатилетним монархическим режимом и еще больше бедствиями, только что постигшими Францию, и народными волнениями, которые возникли всюду, как их следствие. Она стала ничем с тех пор, как монархический режим пал фактически, если не юридически. Она не верит больше в свое собственное существование, началось поголовное бегство; и среди этого крайнего замешательства она потеряла тот небольшой запас разума, мужества и энергии, который она имела, и у нее осталась только одна способность: лгать и грабить. Германская администрация, наоборот, вся наэлектризована, она честнее, умнее, энергичнее и активнее, чем когда-либо, и деятельность ее происходит не в стране занятой врагами, а в стране спокойной, при общей добросовестности и при поддержке народного энтузиазма. Стало быть, в меньший промежуток времени она сделает больше и лучше, чем французская администрация.
В политическом отношении, все выгоды также на стороне немцев. Все старые раздоры страны сгладились, исчезли перед великой победой Германии. Немцы полны энтузиазма, все объединились в общем чувстве тщеславия и патриотической радости. Эта война стала для них национальной войной. Германская раса, которая столько веков была в загоне, занимает, наконец, свое место в Европе, как господствующая империя, хочет низвергнуть Францию с ее прежней высоты. Будьте уверены, что сами немецкие рабочие, хотя они и заявляют о своих международных чувствах, не могут предохранить себя от этой патриотической заразы, этой национальной язвы. Этот энтузиазм, доходящий до безумия, может стать огромной опасностью для прусского короля, если он вернется побежденным или даже после бесплодных побед, с пустыми руками; если он не отнимет у Франции Эльзаса и Лотарингии, если он не уничтожит ее, не низведет ее на степень данницы Германии. Но в настоящую минуту, бесспорно, это возбужденное состояние умов в Германии приносит ему громадную помощь, позволяя ему забирать у немцев всех солдат и все деньги, которые ему могут понадобиться, чтобы довершить свои победы и завоевания.
Наряду с этой экзальтацией немцев, какое настроение мы находим во Франции? Уныние, подавленное состояние, полнейший упадок сил. Всюду осадное положение, всюду население обмануто, неуверенно, инертно, парализовано, лишено всякой свободы.
В этот крайне тревожный момент, когда Франция может быть спасена только чудом народной энергии, Гамбетта и К°, все под влиянием того же патриотизма, неразрывно связанного с их буржуазным духом, позволяют этой шайке бонапартистов, которые забрали власть и всю администрацию в свои руки, убить окончательно общественный дух во Франции.
Гамбетта и компания выдают Францию врагу. Чувствуешь отвращение, прямо тошнит, когда читаешь официальную ложь и выражения лицемерного патриотизма французских чиновников. Вот, что я прочел в Gazetta di Milano:
„Париж, 25 августа.—Префект департамента Марны извещает, что северная часть округа Витри занята прусскими войсками. Дан приказ всеми силами помешать дальнейшему продвижению врага. Патриотизм населения также помогает выполнению предписанных мер, руководить которыми будут военные инженеры" и т. д., и т. д.
Так вот до чего дошли: префект одного из департаментов, оставленного армией Мак-Магона и занятого двумястами тысячами прусских солдат, заявляет, что он принял меры, чтобы остановить эту громадную армию, и что патриотизм помогает также немного приведению в исполнение предписанных энергичных мер!
Не правда ли, какая глупость и нахальство, приводящие в отчаяние, вызывающие чувство омерзения?
Несмотря на то, что обе французские армии стоят на явно низком уровне, было верное средство спасти Париж и не дать врагу подойти даже к стенам Парижа. Если бы сделали то, что говорили парижские газеты в первый момент отчаяния; если бы тотчас же, как только получилось в Париже известие о французских поражениях, вместо того, чтобы об'являть осадное положение в Париже и во всех восточных департаментах, мобилизовали все население этих департаментов, если бы из обеих армий сделали не единственное средство спасения, а два опорных пункта для громадной партизанской войны, войны разбойников и разбойниц, в случае необходимости; если бы вооружили всех крестьян, всех рабочих, раздав им косы, за неимением ружей; если бы обе армии, оставив в стороне свою военную гордость, вступили в братские сношения с бесчисленными партизанскими отрядами, которые образовались бы по призыву Парижа, чтобы оказывать друг другу взаимную поддержку,— тогда, даже без помощи остальной Франции, Париж был бы спасен или, по крайней мере, враг был бы задержан на достаточное количество времени, чтобы дать возможность какому нибудь революционному правительству организовать громадные силы.
Но вместо всего этого, что мы видим еще теперь, перед лицом такой ужасной опасности? Вы знаете, что несколько времени тому назад, реакционные газеты, напр., Liberte, громко требовали упразднения закона, запрещающего свободную торговлю военными припасами и оружием, делающего из нее монополию, право на которую правительство уступает только некоторым привилегированным, верным людям. Эти газеты справедливо говорили, что этот закон, продиктованный недоверием, и единственной целью которого было разоружить народ, имел своим следствием: плохое качество оружия, отсутствие оружия и крайнюю непривычку французского народа обращаться с оружием. Когда один левый депутат, Жюль Ферри, предложил проэкт закона об уничтожении этого ограничения, столь гибельного для свободы торговли, комиссия законодательного Корпуса, назначенная, как все комиссии, бонапартистским большинством, высказалась в Палате за то, чтобы отклонить предложение Жюля Ферри. Вот, стало быть, какой дух живет в этих людях еще и теперь. Не ясно ли, что они носят измену в душе?
Резюмирую эту часть моего письма. Из всего, что я сказал и доказал, ясно следует:
1, что обычные средства, регулярная армия не могут больше спасти Францию;
2, что она может быть спасена только путем народного восстания.
В третьем письме я докажу, что инициатива и организация народного восстания не могут больше принадлежать Парижу, что они возможны только в провинции.
Продолжение
III.
27 августа.
Думаю, что я достаточно доказал, что Франция не может быть больше спасена обычными, государственными средствами. Но кроме искусственной государственной организации, в стране есть только народ; стало быть, Франция может быть спасена только непосредственным действием, не политическим, народа, массовым восстанием всего французского народа, организующегося стихийно, снизу вверх, для разрушения, для дикой войны на ножах.
Когда страна в тридцать восемь миллионов человек поднимается для своей защиты, решившая скорее все разрушить и дать себя истребить со всеми своими богатствами, чем впасть в рабство, нет такой армии в мире, как бы она ни была мастерски организована и снабжена необычайным и новым оружием, которая могла бы ее покорить.
Весь вопрос в том, способен ли французский народ на такое восстание. Это вопрос национальной исторической физиологии. Стал ли французский народ, благодаря пережитому им ряду исторических эпох и под влиянием буржуазной цивилизации, буржуазным народом, отныне неспособным на крайние решения, на дикую страсть и предпочитающим мир и покой в рабстве, свободе, которую нужно будет купить ценою огромных жертв, или же он сохранил, под внешней оболочкой этой развращающей цивилизации, всю или, по крайней мере, часть той природной силы, которая сделала из него великую нацию?
Если бы Франция состояла только из французской буржуазии, я, не колеблясь, дал бы отрицательный ответ. Буржуазия во Франции, как и почти во всех других странах западной Европы, составляет громадное тело, она гораздо многочисленнее, чем это думают, и пускает свои корни даже в пролетариат, верхние слои которого она в достаточной степени развратила. В Германии, несмотря на все усилия социалистических газет вызвать в пролетариате чувство и сознание неизбежного антагонизма по отношению к буржуазному классу (Klassenbewusstein, Klassenkampf), рабочие, и отчасти так-же крестьяне, попали в сети буржуазии, которая их опутывает со всех сторон своей цивилизацией, и дух ее проникает в массы. И сами эти писатели социалисты, которые громят буржуазию, буржуи с головы до ног, — пропагандисты, апостолы буржуазной политики и, как неизбежное следствие, чаще всего бессознательно и помимо своей воли, защитники интересов буржуазии против пролетариата.
Во Франции рабочие гораздо резче отделены от буржуазного класса, чем в Германии и с каждым днем они стремятся отделиться от него все больше и больше.
Однако, тлетворное влияние буржуазной цивилизации сказалось также и на французском пролетариате. Этим об'ясняется индиферрентизм, эгоизм и отсутствие энергии, которые замечаются среди рабочих некоторых ремесл, гораздо лучше других оплачиваемых. Они являются полубуржуа по своим интересам и, из тщесловия, и они также, против революции, потому что социальная революция их раззорит.
Буржуазия составляет, стало быть, очень почтенный, очень значительный и очень многочисленный класс в общественной организации Франции. Но если бы Франция состояла только из буржуазии, в данный момент при вторжении немцев, которые идут на Париж, Франция погибла бы.
Буржуазия пережила свою героическую эпоху, она больше не способна на решительные действия, как в 1793 г., ибо с того времени, насыщенная и удовлетворенная, она катится вниз, она может еще пожертвовать жизнью своих детей для удовлетворения какой нибудь великой страсти, для осуществления какой нибудь идеи, но не своим социальным положением, не своим состоянием. Она скорее согласится принять какое угодно германское и прусское иго, чем отказаться от своих социальных привилегий, чем сравняться экономически с пролетариатом. Я не говорю, что у нее нет патриотизма. Наоборот, патриотизм, в тесном смысле этого слова, является ее исключительным качеством. Никогда не соглашаясь с этим и часто даже не подозревая этого, она обожает отечество, но это потому, что отечество, представляемое государством, все поглощенное государством, гарантирует ей ее политические, экономические и социальные привилегии. Отечество, которое перестанет это делать, престанет быть для нее отечеством. Стало быть, для буржуазии отечество, все отечество,—это государство. Патриот государства, она становится ярым врагом народных масс всякий раз, когда, наскучив служить мясом для правительства и пассивным пьедесталом, вечно приносимым в жертву государству, они восстают против государства; и если бы буржуазии пришлось выбирать между массами, восставшими против государства, и пруссаками, завладевшими Францией, она, конечно, выбрала бы последних, потому, что, как бы они ни были неприятны, они всетаки защитники цивилизации, представители идеи государства против всей черни в мире. Не выбрала ли парижская и вся французская буржуазия по этой самой причине в 1848 г. Людовика Бонапарта? Не сохраняет ли она еще режим, правительство, администрацию Наполеона III, после того, как стало ясным для всех, что этот режим, это правительство, эта администрация ввергли Францию в пропасть[22],—не сохраняет ли парижская и вся французская буржуазия их только потому, что она боится, потому, что она знает, что свержение их послужило бы сигналом к народной революции, к социальной революции? И этот страх так силен, что он заставляет ее сознательно изменять отечеству. Она достаточно умна, чтобы понять и достаточно хорошо осведомлена, чтобы знать, что этот режим и эта администрация неспособны спасти Францию, что у них нет на то ни воли, ни ума, ни власти, и, несмотря на это, она их поддерживает, потому что она еще больше боится вторжения дикой народной стихии в буржуазную цивилизацию, чем вторжения пруссаков во Францию.
Тем не менее, буржуазия, вся французская буржуазия, в настоящий момент проявляет искренний патриотизм. Она откровенно ненавидит немцев и, чтобы прогнать с французской территории нахального и угрожающего врага, она согласна принести крупные жертвы солдатами, взятыми в большинстве среди народа, и деньгами, выплачивать которые неизбежно придется, рано или поздно, тоже народу. Только она хочет непременно, чтобы все плоды этих жертв народа и буржуазии были сконцентрированы исключительно в руках государства и чтобы все вооруженные добровольцы были по возможности превращены в солдат регулярной армии. Она хочет, чтобы всякая личная инициатива, уклоняющаяся от обычной формы организации—финансовой, административной, санитарной или военной, допускалась и разрешалась только при условии, чтобы она подчинялась непосредственному контролю государства и чтобы партизанские отряды, например, могли составляться и воружаться только при посредстве и под личной ответственностью вождей, признанных государством, пользующихся его доверием, землевладельцев или хорошо известных лиц из буржуазии, занимающих видное положение, словом, джентльменов или приличных людей. Таким образом, партизаны из простонародья перестанут быть опасными. Больше того, если их вожди джентльмены сумеют хорошо взяться за дело, если они сумеют хорошо организовать их и руководить ими, они могут в случае нужды повернуть их против народного восстания, как это было сделано в июне 1848 г. с парижскими боевыми дружинами[23].
В этом отношении, буржуа всех цветов, начиная с самых отсталых реакцинеров и кончая самыми ярыми якобинцами, обнаруживают полное единодушие; они понимают и хотят спасение Франции только при посредстве государства, легальной государственной организации.
Между ними разногласие только относительно формы, организации и наименования государства и относительно людей, которым должно быть поручено управление государством, — но все они одинаково хотят сохранения государства, и это то и объединяет их всех в одной общей великой измене Франции, которая может быть спасена только средствами, ведущими к распадению государства.
Империалисты хотят, если это возможно, сохранения монархического государства. Две недели тому назад, они отчаивались в этом. Теперь, благодаря преступной трусости радикальной партии, которая не тронула их, больше того, которая оставила им оффициальную власть, думая, что последняя будет в их руках теперь лишь простой видимостью, полезной для избежания революции, которой она боялась, — теперь империалисты подняли голову. Они не теряли зря время и, в то время как риторы слева, получая комплименты за свое патриотическое самоотречение и умеренность, с самодовольным видом, тщеславно упивались своей мнимой властью и великодушием, Паликао, военный министер, Шевро, иезуит и любимец императрицы, министр внутренних дел, Жером Давид, бывший перед этим ад'ютантом Плон-Плона, и Дювернуа, бывший поверенным тайн Наполеона III, пользуясь своим положением и огромной властью которую дала им централизация, протянули новую сеть над всей Францией, не для того чтобы ускорить оборону, вооружения, патриотическое восстание страны, а, наоборот, для того, чтобы задавить его, парализовать в городах, и в то же время пробудить в деревнях наполеоновские дух и симпатии. Они воспользовались своими префектами и помощниками префектов, своими мэрами, жандармами и урядниками, а также весьма заинтересованным усердием господ кюрэ, чтобы повести во всех деревнях огромную пропаганду, выставляя коммунистов, республиканцев и орлеанистов, как изменников, которые отдали пруссакам императора и Францию. И, благодаря грубому невежеству французских крестьян, повидимому, они достигли успеха. Они организовали в деревнях нечто в роде белого террора против всех противников монархического строя. Знаете ли вы о факте, происшедшем на ярмарке в Отфэй[24] в департаменте Дордон? Г-н де Монэис—сын сожжен живым крестьянами за то, что он не хотел крикнуть: да здравствует Император! Фот, что я прочел сегодня в республиканской газете г. Тулузы Emancipation: „Газеты (Debats и Figaro) и частные письма дают печальные подробности о каком то монархическом терроре, господствующем в деревнях. Всюду, на граждан, известных своими демократическими идеями, смотрят искоса, им угрожают, часто наносят оскорбление действием. Можно подумать, что выброшен определенный лозунг, ибо везде одно и то же нелепое обвинение в измене Императору и Франции, отданной Пруссии. Газета Debats приводит письмо одного землевладельца из Бар сюр Об и другого из Пуатье. Газета Figaro говорит о жакерии, организованной в Пикардии. Я сам получил письма от некоторых друзей из Нижней Шаранты, Изера и Жиронды. Ужасное Нонтронское преступление лишь эпизод среди многих фактов такого же характера". А вот, что говорит газета Peuple francais, бывшая прежде органом г. Дювернуа, теперешнего министра:" Вот факт, который должен заставить задуматься тех, кто говорит об империи и императоре, как будто они больше не существуют. Граф д'Эстурнель, депутат департамента Соммы, приехав в свой округ, сообщал одной группе сельчан последние вести о войне „А Император?" поспешно спросили его. — „Император? Мы лишим его императорского звания" Возмущенное население начало бить его и уже надело ему на шею веревку, но благодаря вмешательству... и т. д . . Мы, конечно, далеко не оправдываем такие акты насилия, но..." и т. д.
Ясно, не так ли? Не прав ли я был, говоря, что министерство не теряет зря времени? Бонапартисты воспряли духом и вновь начинают верить в себя и в монархический строй. Вот, что я прочел еще в газете Liberte. „Руэр, Шнейдер, Персиньи, Барош и генерал Трошю присутствуют на всех заседаниях Совета министров." Наконец, вот еще одно письмо в Gazette de Turin: „Повидимому, очень серьезный спор возник в последнее время между генералом Трошю и графом Паликао. Последний хотел непременно удалить из Парижа боевые дружины, тогда как генерал Трошю хочет их оставить. Эту меру с настойчивостью требовала от графа Паликао императрица. Она не может простить боевым дружинам, что те оскорбили Наполеона III в Шалоне, и боится, что при первом удобном случае они выступят против династии. Трошю не хотел уступать, Паликао настаивал; Тьер привел их к соглашению, во имя родины. Не в первый раз генерал Трошю встретил оппозицию со стороны военного министра. Он хотел снять запрещение с четырех радикальных газет и требовал также увольнения префекта полиции; но должен был отказаться от того и другого, в виду энергичной опозиции министров. Императрица оказывает такое же пагубное влияние в Париже, какое Наполеон III в армии. Несомненно, что присутствие императора очень вредит свободной деятельности Мак-Магона, который должен заниматься гораздо больше защитой особы императора, чем борьбой с врагами. Ему предложили удалиться, но он упорно остается, несмотря на то что недовольство солдат по отношению к нему растет с каждым днем... Вы знаете, что Рур, Барош, Персиньи, Гранье де Кассаньяк, Дюгэ де Лафаконнэри посетили его в Реймсе... Очевидно существует личное тайное правительство, и явное правительство, насколько может, является его очень скромным служителем".
Наконец заседание законодательного Корпуса (23 или 24 числа) доказывает, что министерство считает себя достаточно сильным, чтобы сбросить с себя маску. Паликао сказал, что отвергая предложение Кератри (касающееся приема в Комитет обороны Парижа девяти или трех депутатов, избранных палатой), „министры оставались в пределах законности". А вот резюме речи Дювернуа;
„Палата, высказывая доверие министерству, дает нам возможность выполнить нашу двойную задачу: защитить Францию от вторжения врага и строго охранять порядок внутри страны, так как порядок внутри страны есть условие нашей безопасности от врага. Мы не можем присоединиться к предложению г. де Кератри, потому что это значило бы присоединиться к предложению о нарушении конституции, которая вас охраняет, которая охраняет общественные свободы, конституции, которую, знайте это, мы не позволим нарушить никакой власти. Мы не министерство государственного переворота, ни парламентского ни монархического. Мы парламентское министерство. Мы хотим опираться на Палату и только на Палату". (Не на парижский народ, но на эту Палату, потому что громадное большинство этой Палаты бонапартисты), и позволите мне вам сказать, что наше уважение к конституции — ваша гарантия....
„Чей то голос.—Это угроза.
„Дювернуа.—Нет, это не угроза, я хочу только сказать, что наш долг, долг правительства уважать конституцию, в силу которой мы являемся властью и в силу которой мы будем править...
„Паликао.—С внешними врагами мы будем бороться, пока не освободим нашу родину. Внутренние враги будут обессилены. В моих руках все источники власти для этого, и я отвечаю за спокойствие Парижа.
„Тьер. — Министр торговли выставил здесь интерес учреждений... Франция борется за свою независимость, ради своей славы, ради своего величия, за неприкосновенность своей территории: направо, налево, всюду; вот, за что мы боремся... Но, ради Бога, не вмешивайте тут учреждения, вы вынудите нас напомнить вам, что они, больше чем люди, виновники наших несчастий."
Вы видите, стало быть, что бонапартисты еще не сдались. В их руках власть, и вся бесчисленная челядь гигантской администрации, которую поддерживают клерикалы,—их люди. Они попытаются возложить венец на голову принца наследника, и, если это не удастся сделать, они воспользуются своей властью, чтобы продать себя за дорогую цену Орлеанской династии.
Буржуазия легитимистская, и в особенности орлеанистская, которая в настоящий момент, гораздо многочисленнее, чем бонапартисты, и радикальная буржуазия, все вместе прикрываются фразами бескорыстного патриотизма, так как их время, время князей Орлеанских еще не пришло, ибо этим последним невозможно вернуться вместе с пруссаками. Впрочем, они нисколько не помышляют принять наследство Наполеона III; они не хотят ни его политического наследства, ни административного, ни финансового, и это по многим причинам. Во-первых, им чрезвычайно неприятно начать свое царствование мерами терроризма и общественного спасения, что было бы неизбежно, для того чтобы очистить Францию от бонапартистской нечисти. Они не хотели бы также начать свое царствование с банкротства, а банкротство неизбежно постигнет всякое правительство, которое придет после царствования Наполеона III, ибо никакое правительство не сможет укрепиться при том громадном дефиците, какой последний оставляет в наследство своему преемнику. Давно уже, еще с 1863 и 1864 г. г., орлеанисты говорят: „Пусть придут сначала республиканцы, пусть они очистят всю администрацию и, в особенности, пусть они обанкротятся,—а потом придем мы".
Поэтому меня нисколько не удивило бы, если бы Тьер, Трошю, Дарю и многие другие сначала высказались за республику. Я даже убежден, что они это сделают, если представится случай. Сначала все пойдет хорошо; они будут людьми сносными, полезными при республиканском строе и, прямо или косвенно, они будут иметь большое влияние на правительство. Они не боятся республики, и они правы. Они знают, что республика Гамбетты и компания может быть только политической республикой, исключающей социализм, народные массы и упрачивающей, усиливающей даже, эту святая святых, цитадель буржуазии— государство. Они знают, что эта республика именно потому, что она выступит врагом социализма, потерпев поражение в борьбе с последним, скоро принуждена будет отказаться от своего существования в пользу монархии,—и что тогда князья Орлеанские могут вернуться во Францию, приветствуемые французской буржуазией и буржуазией всей
Европы, как спасители цивилизации и отечества.
Вот, во всей своей правде и во всей полноте план орлеанистов. Мы можем, стало быть, считать их теперь, для данного момента только, искренними республиканцами. Они не заграждают дорогу Гамбетте, наоборот, они будут его толкать к власти. И меня нисколько не удивит, если завтра или после завтра мы узнаем вдруг, что Гамбетта и компания (разные Пикар, Фавр, Жюль Симон, Пеллетан, Грэви, Кератри и многие другие) совершили вместе с Тьером и Трошю республиканский государственный переворот, разве только, что Паликао, Шевро, Дювернуа и Жером Давид уже приняли настолько энергичные и действительные меры, что подобная перемена декорации станет невозможной. Но я сомневаюсь, чтобы они могли помешать этому, если Гамбетта сговорится с Тьером и Трошю.
Итак, мы приходим к республиканской партии радикалов якобинцев, к партии Гамбетты. Предположим, что он овладел властью и диктатурой Парижа. Думаете вы, что он захочет, что он может дать свободу движению в Париже и Франции? Нисколько. Постоянно наталкиваясь в своих планах на революционный социализм, он будет принужден об'явить ему войну на смерть, и он станет, может стать гонителем тем более что меры притеснения, предпринятые им, будут иметь с внешней стороны характер необходимых мер для спасения свободы. Может ли он, по крайней мере, организовать достаточную силу, чтобы отразить пруссаков? Тысячу раз нет! И я докажу вам это, как дважды два четыре.
Как якобинец, он будет неизбежно искать спасение Франции в усилении государственной машины. Если бы даже он был федералистом, жирондистом, — а мы знаем, что он не федералист, не жирондист, как и вся его партия,— он и тогда, в виду вторжения немцев, подошедших к стенам Парижа, принужден был бы прибегнуть к чрезмерной централизации. К тому же, поверьте, что якобинцы не посмеют даже уничтожить нынешнюю администрацию, эту сеть бонапартистской реакции, которая душит Францию, и это по двум причинам: первая, это та, что пропустив 15—20 драгоценных дней, в продолжение которых они могли бы совершить революцию с гораздо меньшей опасностью для Парижа и для них самих, и с гораздо большими шансами на успех, чем в настоящий момент, парижские республиканцы теперь оказались в таком положении, что они не могут ничего предпринять, ничего сделать, без согласия и содействия Тьера и Трошю. Стало быть, Тьер и Трошю войдут в состав нового правительства, правительства Гамбетты, если только, для того чтобы свергнуть их, Гамбетта не сделает второй революции, что для него невозможно, во-первых, уже потому, что он будет иметь своими коллегами таких республиканцев, как Пикар, Жюль Фавр, Жюль Симон, Пеллетан и т. п., которые, будучи такими же реакционерами, как Тьер и Трошю, не обладают их бесспорными талантами, ни их практическими ловкостью и приемами. Для того, чтобы прогнать Тьера и Трошю, Гамбетта должен будет сначала прогнать из провительства этих умеренных республиканцев. — Для этого нужно будет обратиться к самому парижскому народу, к революционным социалистам, а это было бы смертью для Гамбетты. Он это очень хорошо знает и повторяет себе слова, с которыми к нему обратилась газета Liberte, от 26 числа: „Вам не зачем делать революцию, она теперь совершилась во всех умах. Все чувствуют в ней теперь неотъемлемую необходимость. Это только вопрос времени и подходящего момента. К чему же это нетерпение? Но, неосторожные, разве вы не чувствуете, что, если, вместо того, чтобы ждать разрешения вопроса и разрешить его политическим путем, вы разнуздаете народные страсти, вы первые будете их жертвами?" — Вот, почему Гамбетта не удалит из правительства ни одного из умеренных республиканцев и почему он не удалит из него ни Тьера ни Трошю. Он не удалит их еще по другой причине. Не будучи революционным социалистом, не имея, следовательно, возможности опереться в своей деятельности открыто на пролетариат, на рабочих, на народ, он принужден будет искать поддержки буржуазии, более или менее радикальной, а также поддержки армии. Ну, так Тьер и Трошю ему обеспечат и ту и другую. Стало быть, они необходимы и их не миновать. Но с Тьером и Трошю радикальные меры, даже с исключительной точки зрения революционного якобинства, будут невозможны — или они будут возможны только против народа, против революционных социалистов, а не против буржуазной реакции. Последний декрет Трошю от 25 августа повелевает выслать из Парижа всех лиц, которые не смогут доказать, что у них есть средства к существованию, не потому, что будет трудно, а не то и невозможно их прокормить во время осады Парижа, что было бы очень веским мотивом, но „потому, что их присутствие будет составлять опасность для общественного порядка и угрозу для безопасности собственности и людей." Декрет угрожает также выслать „всех лиц, которые попытаются парализовать меры обороны и общей безопасности." — Первая часть этого декрета, скажут нам, относится только к ворам, хотя она прекрасно может быть применена и к рабочим, которых хозяева выставят из своих мастерских, вынужденные к тому промышленным кризисом или просто найдя, что это удобнее. Что же касается второй части, то она относится непосредственно к революционным социалистам.— Это диктаторская мера, мера общественного спасения против революции.
Вот, стало быть, первая причина, почему Гамбетта не предпримет радикальной реформы нынешней администрации. С такими компаньонами, как Тьер, Трошю, Пикар, Пеллетан, Фавр и Жюль Симон, можно творить только реакцию, а не революцию. Но есть еще другая причина, которая помешает ему разом покончить с монархической администрацией. Невозможно сразу уничтожить эту администрацию, потому что невозможно заменить ее сейчас же другой. — Стало быть, в самый разгар опасности, будет более или менее длительный момент, во время которого во Франции не будет никакой администрации и, следовательно, никакого следа правительства, — во время которого население Франции, предоставленное совершенно самому себе, будет добычей самой ужасной анархии. — Это хорошо для нас, это на руку нам, революционным социалистам, но это не входит в планы якобинцев, отъявленных государственников. Реформировать администрацию постепенно в момент опасности, когда враг стоит у порога, тоже невозможно; во-первых, потому что эта реформа не может исходить из инициативы какой нибудь личной или коллективной диктатуры; она будет незаконной и не будет иметь никакого значения, если не будет предпринята Учредительным Собранием, изменяющим форму правления и администрацию Францию от имени всего народа. Нужно ли доказывать, что нынешний законодательный корпус неспособен предпринять ни даже хотеть подобной реформы? Впрочем, Гамбетта может получить власть только в том случае, если будет распущен этот бонапартистский парламент, а невозможно будет создать новое учредительное собрание, пока немцы будут
находиться у ворот Парижа. Пока немцы не будут прогнаны с французской территории, Гамбетта и компания будут вынуждены править диктаторски, принимать меры общественного спасения, но они не смогут предпринять никакой конституционной реформы.
Правда, на одном собрании левых, 23 или 24 августа, в котором принимали участие Тьер и некоторые передовые члены левого центра, когда левые выразили намерение свергнуть министерство и Тьер, заклиная их не делать этого, наконец, спросил: „Но кем же вы замените его, каких людей назначите в кабинет министров?" чей то голос, не знаю чей, ответил: .„Не будет больше кабинета, будет управлять весь вооруженный народ, посредством своих делегатов", — что, если только в этих словах не отсутствует всякий смысл, может означать только следующее: Национальный и ограниченный революционный конвент,—не Учредительное Собрание, законным образом и правильно составленное из делегатов всех кантонов Франции,—а конвент, исключительно составленный из делегатов городов,которые совершат революцию. Я не знаю, кто высказал эту безумную мысль, кому принадлежал этот голос, который раздался среди этого совета мудрых. Может быть, это был осел Валаама, какое нибудь невинное верховое животное Гамбетты? — Но, несомненно, что осел говорил лучше своего пророка. То, что предлагал этот осел, было ни больше ни меньше, как социальная революция, спасение Франции, посредством социальной революции. Поэтому, его не удостоили даже ответом.
Таким образом, стало быть, правительство Гамбетты, занятое обороной страны, и в особенности Парижа, и лишенное помощи какого нибудь учредительного корпуса, не сможет предпринять в настоящий момент реформы учреждений, характера и самых основ администрации. Предположим даже, что он хотел бы это сделать, предположим также, что у него будет под рукой нечто вроде революционного конвента, составленного из делегатов восставших городов; предположим, наконец, — что совершенно невозможно, — что большинство этого Конвента будет состоять из якобинцев, как он, и что революционные социалисты будут там в незначительном меньшинстве. Я скажу, что даже в этом случае, впрочем, совершенно невозможном, правительство Гамбетты не сможет предпринять ни осуществить никакой радикальной и серьезной реформы существующей администрации. Это значило бы хотеть предпринять и выполнить фланговое движение, когда имеешь дело с сильным врагом, вроде движения, предпринятого Базэном перед прусской армией, которое было так неудачно. Разве время, — не забывайте, что я говорю все время с точки зрения государства,—разве время изменять радикальным образом административную машину, когда каждую минуту необходимы ее услуги, ее самая энергичная деятельность? Чтобы изменить ее, чтобы перестроить ее сколько нибудь основательно и серьезно, необходимо парализовать ее деятельность на две, на три недели, по крайней мере, и все это время нужно будет обходиться без ее услуг, и это в момент ужасной опасности, когда каждая минута драгоценна! но это значило бы отдать Францию пруссакам.
Та же невозможность помешает Гамбетте затронуть сколько нибудь радикальным образом служебный персонал монархической администрации. Он должен будет создать людей для того, чтобы заменить его. А где он найдет сто тысяч новых чиновников? Все, что он может сделать, это заменить префектов и помощников префектов другими, которые не будут многим лучше; ибо среди этих новых чиновников, будьте в этом уверены—такова логика существующего положения вещей,—будет, по крайней мере 7 орлеанистов на 3 республиканца; орлеанисты будут более ловкие, более прохвосты, республиканцы — более добродетельные, более глупые.
Эта необходимая реформа в личном составе еще более деморализует нынешнюю администрацию. Будут бесконечные трения и глухая гражданская война в самой ее среде, что сделает ее еще в сто раз более нетрудоспособной, чем она есть в настоящее время, — так что правительство Гамбетты будет иметь в своем распоряжении административную машину еще хуже той, которая, худо ли хорошо ли, исполняет приказы настоящего бонапартисткого министерства.
Для предотвращения этого зла Гамбетта пошлет, без сомнения, во все департаменты проконсулов, чрезвычайных комиссаров, снабженных полномочиями. Это будет верхом дезорганизации. Во-первых потому, что ввиду положения, занимаемого Гамбеттой, и его вынужденного союза с Тьером и, Трошю, ввиду патриотизма и патриотического склада ума всех этих Пикаров, Пеллетанов, Жюль Симонов, Фавров и т. п., можно быть уверенным, что на три комиссара из республиканцев будет 7 орлеанистов. Но предположим даже обратную пропорцию, предположим, что на 7 республиканцев будет 3 орлеаниста, дело от этого не будет лучше.
Оно не будет лучше по той причине, что недостаточно быть снабженным чрезвычайными полномочиями для принятия чрезвычайных мер общественного спасения, чтобы иметь возможность создать новые силы, чтобы иметь возможность вызвать в развращенной администрации и в населении, систематически отучаемом от всякой инициативы, спасительные энергию и активность. Для этого нужно иметь в себе то, что имела буржуазия 1792—93 г. г. в такой высокой степени, и что решительно отсутствует в современной буржуазии, даже у наших республиканцев, — нужно иметь революционные ум, волю, энергию, нужно иметь „беса в теле". А как представить себе, что люди, которые необходимо будут мельче Гамбетты и К°, ниже этих корифеев современного республиканизма, так как, если бы они были их равными, они распоряжались бы, если не на их месте, то по крайней мере вместе с ними и не были бы у них под началом,—как представить себе, что эти комиссары, посланные Гамбеттой и К°, найдут в себе эти ум, волю и энергию и этого „беса", раз сам Гамбетта, в самый важный момент своей жизни и наиболее критический для Франции, не нашел их ни в своем сердце, ни в своем мозгу?
Помимо этих личных качеств, которые придают поистине характер героев людям 1793 г., у якобинцев Национального Конвента так удачно вышло с чрезвычайными комиссарами еще потому, что этот Конвент был действительно революционным, и потому, что, опираясь сам в Париже на народные массы, на чернь, в стороне от либеральной буржуазии, он дал приказ своим проконсулам, посланным в провинции, опираться также везде и всегда на ту же самую чернь. Чрезвычайные комиссары, посланные Ледрю-Ролленом в 1848 г., и комиссары, которых непременно пошлет Гамбетта, если он достигнет власти, одни должны были потерпеть, другие необходимо потерпят полное фиаско, в силу обратной причины; и вторые потерпят еще более значительное фиаско, чем первые, потому что эта обратная причина будет действовать еще сильнее на них, чем на их предшественников 1848 г. Эта причина та, что одни были, а другие будут еще в более чувствительной, в более определенной степени буржуазными радикалами, делегатами буржуазного республиканизма и, как таковые, врагами революционного социализма, естественными врагами истинно народной революции. Этот антагонизм буржуазной и народной революции не существовал еще в 1793 г. ни в сознании народа ни даже в сознании буржуазии. Еще не была уяснена из исторического опыта вечная истина, что свобода всякого привилегированного класса и, следовательно также и буржуазии, существенным образом основана на экономическом рабстве пролетариата. Как факт, как реальное следствие, эта истина всегда существовала, но она была так спутана с другими фактами, и замаскирована столькими различными интересами и различными историческими стремлениями, в особенности религиозными, национальными и политическими, что она еще не выявлялась во всей своей простоте и теперешней ясности ни буржуазии, вкладывающей деньги на предприятия, ни пролетариату, который последняя нанимает, т. е. эксплоатирует. Буржуазия и пролетариат были естественными, вечными врагами, но не зная этого, и, вследствие этого незнания, приписывали — буржуазия свои опасения, пролетариат свои бедствия—фиктивным причинам, а не существующему между ними антагонизму; они считали себя друзьями, и считая себя друзьями, они шли вместе и против монархии, и против дворянства, и против духовенства. Вот, что создало великую силу революционной буржуазии 1793 г. Она не только не боялась взрыва народных страстей, она вызывала его всеми способами, как единственное средство спасения родины и ее самой против внутренней и внешней реакции. Когда какой нибудь чрезвычайный комиссар, делегированный Конвентом, приезжал в провинцию, он никогда не обращался к местным шишкам ни к революционерам из „чистой публики", он обращался прямо к санкюлотам, к народной черни и на нее он исключительно опирался для выполнения против шишек и приличных революционеров революционных декретов Конвента. То, что делали, стало быть, чрезвычайные комиссары, это не было собственно ни централизацией ни администрацией, они вызывали народное движение. Они не являлись в какую нибудь местность для того чтобы диктаторски провести в ней волю национального Конвента. Они делали это лишь в очень редких случаях и когда они являлись в местность вполне и целиком враждебную и реакционную. Тогда они не являлись одни, а в сопровождении войска, которое присоединяло аргумент штыка к их гражданскому красноречию. Но обыкновенно они являлись одни, без единого солдата, чтобы
поддержать их, и они искали опору в массах, инстинкты которых всегда отвечали мыслям Конвента,—они далеко не ограничивали свободу народных движений из боязни анархии, они вызывали их всеми способами. Первым Делом они обыкновенно организовывали народный клуб, там, где его не было,—сами действительные революционеры, они быстро распознавали в массе настоящих революционеров и соединялись с ними, чтобы раздуть революционное пламя, анархию, чтобы взбунтовать народные массы и чтобы организовать революционно эту народную анархию. Эта революционная организация была единственной администрацией и единственной исполнительной силой, которой чрезвычайные комиссары пользовались, чтобы разжигать революционный дух в данной местности, чтобы терроризировать ее.
Таков был истинный секрет силы этих революционных гигантов, которыми восхищаются якобинцы - пигмеи наших дней, но не могут к ним приблизиться.
Комиссары 1848 г. перед июньской монархией были уже буржуа, которые, как Адам и Ева, вкусив запрещенный плод, знали уже, какая разница существует между добром и злом, между буржуазией, эксплоатирующей народный труд, и эксплоатируемым пролетариатом. Большей частью это были, в общем, бедняки, пролетарии худшего качества, богема мелкой литературы и политики, которая ведется в кафе, деклассированные люди, выбившиеся из колеи, без глубоких, страстных убеждений и без темперамента. Это не были люди, живущие своей собственной жизнью, они были бледным подражанием героям 1793 г. Каждый взял
себе роль и каждый старался ее кое как выполнить. Те, от кого они имели свой мандат, не были значительно более убежденными, более страстными, более энергичными, более истинно революционными, чем они сами. Это были грубые тени, тогда как они были бледными тенями. Но все они несчастные дети той же буржуазии, отныне фатально раз'единенной с народом, все вышли, большими или меньшими доктринерами, из общей университетской кухни. Герои великой революции были для них тем, чем были трагедии Корнеля и Расина для французских литераторов до появления романтической школы — классическими моделями. Они старались им подражать и подражали им очень плохо. Они не обладали ни их характером, ни их умом ни, в особенности, их положением. Дети буржуа, они чувствовали, что их разделяет пропасть от пролетариата, и они не находили в себе ни достаточной революционной страсти, ни решимости, чтобы попытаться сделать опасный скачек через эту пропасть. Они оставались по другую сторону пропасти и, чтобы соблазнить, чтобы привлечь рабочих, они им лгали, кривлялись, произносили красивые фразы. Когда они находились в рабочей среде, они чувствовали себя неловко, как люди, впрочем честные, но которые находятся в необходимости обманывать. Они старались найти в себе какое нибудь живое слово, благотворную идею, но ничего не находили. — В этой революционной антасмагории 1848 г. нашлись только два настоящих человека: Прудон и Бланки, впрочем, совершенно непохожие один на другого. Что касается всех остальных, то это были лишь плохие актеры, которые играли революцию, — как актеры средних веков играли страсти, — до тех пор, пока Наполеон III не опустил занавес.
Инструкции, полученные чрезвычайными комиссарами 1848 г. от Ледрю Роллена, были так же бессвязны и туманны, как и революционные идеи этого великого гражданина. Это были все великие слова революции 1793 г. без их великой идеи, без великих целей и, в особенности, без энергичных peшений той эпохи. Ледрю Роллен, как богатый буржуа, каковым он является на самом деле, как ритор, как адвокат, всегда был и остается естественным инстинктивным врагом революционного социализма. В настоящий момент, после больших усилий, он, наконец, достиг того, что понял значение кооперативных обществ, но он не чувствует силы итти дальше этого. Луи Блан, этот Робеспьер в миниатюре, этот поклонник умного и добродетельного гражданина — тип государственного коммуниста, авторитарного социалиста и доктринера. Он написал в молодости маленькую брошюру об „организации труда" и даже теперь, при существовании громадных трудов в этой области и при изумительном развитии Интернационала, он не ушел дальше этой брошюрки. Ни одно его слово, ни одна искра его мозга не дала никому жизни. Ум его бесплоден, как вся его сухая особа. В настоящий момент еще, в своем последнем письме, недавно адресованном в газету Daily News, когда происходит ужасная братоубийственная война между двумя наиболее цивилизованными народами в мире, он не нашел ничего другого в своей голове ни в своем сердце, как посоветовать французским республиканцам, „чтобы они предложили немцам, во имя братства народов, одинаково почетный мир для обеих стран".
Ледрю Роллен и Луи Блан были, как известно, двумя крупными революционерами 1848 г. до июньских дней. Один буржуа - адвокат, напыщенный ритор, с претензиями походить на Дантона, другой — Робеспьер-Бабеф в крошечном виде. Ни тот ни другой не умели ни думать, ни хотеть, ни, еще меньше, дерзать. — Впрочем, сантиментальный, слащавый Ламартин придал всем актам и всем людям этой эпохи, за исключением Прудона и Бланки, свою фальшивую ноту, свой фальшивый характер примиренчества, что в переводе на серьезный язык означает реакцию, принесение пролетариата в жертву буржуазии — и что привело, как известно, к июньским дням.
Итак, чрезвычайные комиссары отправились, в провинцию, напутствуемые этими великими людьми и везя в кармане их инструкции. Что содержали эти инструкции! Фразы и ничего больше. Но вместе с этими фразами они везли еще с собой инструкции настоящего реакционного характера, данные им умеренными республиканцами из газеты National: Mappa, Гарнье-Пажэ, Араго, Бастид и Жюлем Фавром также, одним из самых ярых среди реакционных республиканцев того времени.
Нужно ли удивляться, что подобные комиссары, посланные такими великими людьми и снабженные такими инструкциями, ничего не сделали в департаментах, а лишь только возбуждали всеобщее недовольство диктаторским тоном и проконсульскими манерами, какие они принимали. Над ними смеялись, и они не оказывали никакого влияния. Вместо того, чтобы обращаться к народу, и только к народу, как это делали их предшественники 1793 г., которым они старались подражать, они занимались исключительно морализацией людей, принадлежащих к привилегированным классам. Вместо того, чтоб, путем возбуждения революционных страстей, организовать анархию и народную силу, они проповедовали пролетариату, следуя, впрочем, в этом полученным ими инструкциям и посылаемым из Парижа советам, как нужно действовать, умеренность, спокойствие, терпение и слепое доверие к благородным намерениям временного правительства.—Реакционные круги провинции, сильно напуганные сначала и этой революцией, которая так неожиданно свалилась им, как снег на голову, и приездом этих уполномоченных из Парижа, видя что эти господа только произносили фразы и важничали с смешным самодовольным тщеславным видом, видя, с другой стороны, что они совершенно не занимались организацией пролетарской силы против них, не возбуждали против них народный гнев, который один только способен сдержать их и уничтожить, вновь воспрянули духом и, в довершение, послали реакционное Учредительное Собрание, которое вы знаете. Вам известны печальные последствия этого
После июньских дней было другое; искренне революционные буржуа, те, которые перешли в лагерь революционного социализма, под влиянием великой катастрофы, убившей сразу всех парижских революционных актеров,—сделались людьми серьезными и употребили серьезные усилия, чтобы пробудить революционный дух во Франции. Им даже это удалось в значительной степени. Но было слишком поздно. Реакция вновь сплотилась в колоссальную силу и благодаря ужасным средствам, какие дает государственная централизация, она окончательно восторжествовала, больше даже чем она этого хотела, в декабрьские дни.
Чрезвычайные комиссары, которых Гамбетта, без сомнения пошлет в департаменты, если ему удастся победить, с помощью Трошю и Тьера, бонапартистскую реакцию в Париже, будут еще более жалкими, чем комиссары 1848 г. Враги рабочих социалистов, также как и бонапартистской организации и крестьян бонапартистов, на кого, чорт возьми, они будут опираться? Им будут даны инструкции обуздать революционное социалистическое движение в городах и реакционное бонапартистское движение в деревнях; с чьей помощью? С помощью дезорганизованной, плохо преобразованной администрации, которая сама осталась наполовину, если не на три четверти, бонапартистской, и нескольких сотен местных бледных республиканцев и орлеанистов?— Республиканцев, таких же бледных, таких же ничтожных, неопределенных и сбитых с пути, как они сами, оставшихся вне народных масс и не оказывающих никакого влияния ни на кого, и орлеанистов, годных как и все богатые и хорошо воспитанные люди, для того чтобы эксплоатировать и повернуть, своими интригами, движение в пользу реакции, но неспособных принять какое нибудь энергичное решение, предпринять какое нибудь энергичное действие. И орлеанисты будут еще наиболее сильными, так как рядом с значительными средствами, имеющимися в их распоряжении, на их стороне еще то преимущество, что они знают, чего хотят, тогда как республиканцы вместе с большой бедностью обладают еще ужасным несчастьем не знать, куда они стремятся, и оставаться чуждыми всем реальным интересам страны, как привилигерованных классов, так и общенародным. Они являются в настоящее время лишь представителями устарелых идеала и партии. А так как, в конечном счете, миром управляют материальные интересы, а идеи имеют силу лишь постольку, поскольку они являются выразителями какого нибудь крупного интереса, — напр., идеи 1793 г., истинной основой которых были восходящие и торжествующие интересы буржуазии, противоположные интересам дворянства, теократии и монархии; так как интересы народных масс нашли свое выражение в практических идеях и тенденциях социализма; и так как республиканцы теперь открыто заявили себя врагами этих идей и этих тенденций и, следовательно, друзьями буржуазных идей и тенденций, и так как орлеанизм есть выражение этих последних — то очевидно, что республиканцы комиссары и местные, а также и парижские республиканцы, находясь под влиянием много выше их стоящих орлеанистов, которые льстят им, руководят ими, толкают их и магнетизируют всевозможными способами, будут работать в действительности для реставрации орлеанской династии, воображая, что они работают для республики.
Теперь, возвращаясь опять к прежнему вопросу, я, спрашиваю, будут ли эти республиканцы, объединившиеся с орлеанистами и поддерживаемые ими, как это, несомненно, будет, если Гамбетте, вместе с Тьером и Трошю, удастся совершить — не революцию, а государственный переворот против бонапартистов в Париже, — будет ли эта коалиция республиканцев и орлеанистов достаточно сильной, чтобы спасти Францию в этот ужасный момент?
Достаточно поставить этот вопрос, чтобы сейчас же решить его в отрицательном смысле. Имея против себя, с одной стороны, городскую рабочую массу, которую нужно будет сдерживать, а с другой — бонапартистскую крестьянскую массу, которую тоже нужно будет сдерживать, они будут иметь на своей стороне полуразвалившуюся армию, количественно, по крайней мере, вдвое уступающую великолепно управляемой прусской армии. К тому же, они не будут уверены в преданности и повиновении двух вождей этой армии, Базэна и Мак-Магона, - оба, создание Наполеона III. У них будет, кроме того, администрация, несостоятельность и недобросовестность которой доказана; администрация, которая даже теперь, под начальством Шевро, Дювернуа и Давида, ведет страстную пропаганду за императора, против них, выставляя их всюду изменниками, продавшими пруссакам страну и императора, и поднимая крестьян против городов; администрация, которую, даже в том случае, если будет совершен переворот в Париже и переменится правительство, нельзя будет преобразовать, ни даже заменить другими громадное большинство ее служащих; она конечно, будет терпеть ненавистных ей победивших радикалов, но в глубине души останется, тем не менее, бонапартистской. Наконец, у них будут симпатии и, при случае, поддержка республиканцев и орлеанистов, рассеянных, то здесь, то там по Франции, но не составляющих компактной организованной силы и совершенно неспособных на энергичное действие.
Я спрашиваю вас, могут ли с подобными средствами даже самые умные, самые энергичные люди спасти Францию от ужасной опасности, которая уже не только угрожает ей, но стала уже в значительной степени действительной катастрофой?
Ясно, что оффициальная Франция, монархическое или даже республиканское государство, ничего не может сделать, так как всякая оффициальная власть стала бессильной. Ясно, что если Франция может быть еще спасена, то только естественной Францией, всем народом, вне всякой оффициальной организации, монархической или республиканской, стихийным восстанием народных масс, рабочих и крестьян вместе, взявших оружие, которое не хотят им давать[25], и сорганизовавшихся снизу вверх для обороны и ради своего существования.
Необходимость народного восстания стала в настоящий момент столь очевидной для всех, что на заседании 25 числа было сделано два предложения в Законодательном Корпусе, который высказался за неотложность второго предложения. Первое предложение — Эскироса: ,,пycть Законодательный Корпус обратится ко всем муниципалитетам с призывом образовать из себя центры действия и обороны, вне всякой административной опеки, и принять, во имя Франции, над которой совершено насилие, все меры, какие они сочтут необходимыми". Это предложение было бы совершенным, но при условии, чтобы во всех муниципалитетах предварительно совершилась революция, так как нынешняя организация всех муниципалитетов бонапартистская. Но это условие косвенным образом содержится в словах: вне всякой административной опеки, что означает уничтожение государства. Это и было, без сомнения, причиной, почему предложение Эскироса не было принято, не было признано неотложным. Вот второе предложение—де Жувансель:
„Пункт первый. В случае, если враг предпримет осаду Парижа, все французские граждане, не входящие в состав армии или в боевые дружины, будут призваны защищать, с оружием в руках, территорию. Пункт второй. Муниципалитеты тотчас же сорганизуются, чтобы употребить все средства борьбы, какими они располагают. — Пункт третий. Употребление охотничьих ружей и всякого сорта оружия будет разрешено, также как и фабрикация военных припасов.—Пункт четвертый. Все борцы, которые выступят с оружием в руках, при одном условии ношения национальной кокарды, в силу настоящего закона будут пользоваться военными преимуществами и привилегиями".
Палата высказалась за срочность этого предложения, без сомнения, потому что чувство приличия помешало ей поступить иначе. Но нет никакого сомнения, что она отвергнет его, как она отвергла на том же заседании предложение отменить законы, запрещающие продажу и ношение оружия, если не будет совершен государственный переворот Трошю, Тьером и Гамбеттой и она не будет предварительно распущена и терроризирована.
Вы видите, что все серьезные и искренние умы, которые хотят спасения Франции, пришли к убеждению, что Франция может быть спасена только стихийным восстанием, вне всякого воздействия и вмешательства администрации, правительства, государства, какова бы ни была форма этого государства и этого правительства.
И чтобы еще больше доказать вам это, я приведу достопримечательное письмо, недавно адресованное франкоамериканским генералом Клюзерэ генералу Паликао:
„Брюссель, 20 августа 1870 г.
„Генерал, я не получил ответа на мою телеграмму из Остенде, от 20 августа (телеграмма, в которой Клюзерэ предлагал свои услуги). Меня это больше огорчило, чем удивило. Недоверие и военные предрассудки несвоевременны теперь. Ваша военная система осуществила пункт за пунктом мои печальные предвидения... (критика военной системы во Франции). Вы можете исправить недостатки своей системы и помочь нашему несчастью, только введя новый элемент в борьбу, ужасный элемент, который нарушит стройность прусской тактики, введя добровольцев. Я хорошо знаю этот элемент, я пользовался им во Франции, в Италии, в Америке, я знаю, чего можно от него ждать и чего бояться с его стороны. Ошибка думать, что он не может совершить то, что не по силам так называемым регулярным войскам. Настоящие регулярные войска в подобной борьбе, это добровольцы. Но под добровольцами не следует подразумевать наемных добровольцев, зачисленных в армию, ибо тогда это будет новобранцы (т. е. плохие солдаты, вот и все). Зачисленные в прежнюю организацию, они будут ее жертвами, как и их предшественники. Организуйте — (я бы сказал: дайте организоваться свободно, стихийно) — добровольческие элементы в батальоны, как делали наши отцы; предоставьте им самим назначать себе офицеров и, рассыпавшись, вести позиционную войну. Доверьтесь их отваге и предоставьте им инициативу оперировать на путях продвижения врага, уничтожая его продовольствие и поднимая восстание в завоеванных провинциях. В этом теперь опасность для врага. Что касается ваших генералов, вашей армии, сделайте из них резервную армию, опорные пункты, для этих полных энтузиазма (революционных) отрядов и вы увидите непосредственный результат. Я видел это в Америке и я был поражен. Инстинкт сделал больше, чем учение и наука... и т. д. конечно, мне более неприятно предложить вам свои услуги, чем вам принять их. Докажите, что ваш патриотизм равен моему, приняв их.
Генерал Клюзерэ".
Если генерал Клюзерэ действительно, как говорят энергичный человек, революционер, он не предложит больше своих услуг какому бы то ни было правительству Франции, т. к. всякое централизованное правительство, которое будет претендовать само организовать, взять под свою опеку оборону страны, управлять этой обороной, неизбежно должно погубить страну. Он соберет французских добровольцев в Бельгии, — и в них не должно быть недостатка, — как нибудь вооружит их и, став во главе их, перейдет бельгийскую границу, несмотря на таможенную заставу и бельгийские войска, которые охраняют ее в данный момент, и, подавая пример всем, примется проповедывать, не словами только,—время слов прошло,—а действиями. Так как только самостоятельная инициатива смелых революционеров может
спасти Францию.
* * *
Думаю, что я доказал, быть может, немного слишком длинно, но путем доводов и фактов неоспоримых, что Франция не может больше быть спасена правительственным механизмом, если даже этот механизм перейдет в руки Гамбетты.
Предполагаю лучший случай, что Гамбетта с Тьером и Трошю восторжествуют в Париже. Я желаю теперь этого торжества всей душой, не потому, что я надеюсь, что, овладев государственной властью, этой действенной силой административного механизма, которой неисправимый Тьер еще так восхищался на заседании 26 августа, они могли бы сделать что нибудь хорошее для Франции, но именно потому, что я глубоко уверен, что логика вещей и их искреннее желание спасти отечество, докажут им тотчас жe, что они не могут больше ею пользоваться; так что, разрушив ее в руках бонапартистов, они будут вынуждены, сообразно предложениям Эскироса, Жуванселя и генерала Клюзерэ, уничтожить ее совершенно, возвратив инициативу действия всем революционным коммунам Франции, освобожденных от опеки всякого правительства, и, следовательно, призванным составить новую организацию, федерируясь между собой для обороны.
30 августа.
До сих пор я строил свое рассуждение на предположении, наиболее благоприятном, торжества Гамбетты. Но нет никакой уверенности, что оно осуществится, и в настоящий момент меньше, чем когда либо, так как стало ясным, что бонапартисты не только стали вновь надеяться и воспряли духом, но чувствуют уже себя достаточно сильными, чтобы раскрыть свои карты и прибегать к угрозе. Общее мнение в Париже, что они замышляют государственыый переворот. Письма из Парижа в газете Bund — полуоффициальный орган швейцарской конфедерации — бросают живой и, по моему мнению, верный свет на эти темные проэкты. Приведу вам некоторые выдержки:
„Париж 25 августа. — Империалисты рассуждают таким образом: ,, В наиболее неблагоприятном случае, император может отказаться от престола в пользу своего сына, заплатить несколько миллиардов пруссакам и снести крепости Меца и Страсбурга".
(Эти уступки, эти условия мира, повидимому серьезно задуманы бонапартистами, так как Daily Telegraph в одной из статей, приведенной в газете Journal de Geneve, очень рекомендует их). Что касается меня, то я не сомневаюсь, что Бисмарк серьезно думает вести переговоры с Наполеоном, ибо один Наполеон способен сделать такие подлые уступки Пруссии. Князья Орлеанские не могут этого сделать, под страхом опозорить себя и сделаться невозможыми. Что касается республиканцев, то даже самые умеренные, самые рассудительные никогда не согласятся вступить в переговоры с Бисмарком, пока хоть один прусский солдат останется во Франции. Их положение таково, что они принуждены скорее дать себя похоронить под развалинами Парижа, чем сделать ему малейшую уступку. Ясно, что одно только бонапартистское правительство, Наполеон или его сын, может подписать позорный и пагубный для Франции мирный договор. И мы видим, что бонапартисты до такой степени цепляются в настоящий момент за власть, что не может быть больше сомнения, что они способны,что они готовятся уже это сделать. Кто знает, не начались ли уже тайные переговоры между Наполеоном, Евгенией и Бисмарком? Я считаю их даже способными отдать Париж пруссакам,—до такой степени их положение стало отчаянным, а они достаточно негодяи, достаточно подлы, чтобы спасти себя какой угодно ценой. Положение Бисмарка тоже внушает опасения. Если Париж возьмется серьезно за защиту, если вся Франция встанет впереди и в тылу прусской армии, эта последняя, несмотря на громадную силу, какую она развертывает в настоящий момент, может найти свою могилу во Франции. Бисмарк, король Пруссии и генерал Мольтке прекрасно это знают; это слишком серьезные люди, чтобы не понимать этого. Их чувство мести должно быть вполне удовлетворено, они достаточно унизили французского императора; и ради тщеславного удовольствия окончательно его уничтожить, они не пожертвуют, вместе со всеми полученными ими огромными преимуществами, быть может самим будущим германской империи, вообще, и прусской властью, в частности. С одной стороны, перед ними слава еще весьма недостоверной победы и которая, во всяком случае, им будет стоить громадных жертв деньгами и людьми. С другой стороны мир такой, победоносный, о каком они даже не смели мечтать в начале кампании, возмещение всех военных убытков, быть может даже Эльзас и Лотарингия, которые одни только Наполеон III и Мадам Евгения способны будут им уступить, и будут иметь возможность уступить, от имени нынешнего императора или от имени его несовершеннолетнего сына, учреждение германской империи и бесспорная и прочно установленная гегемония Германии; наконец, подчинение Франции, по крайней мере на десяток лет, ибо никто не может гарантировать им это подчинение лучше и искреннее Наполеона III и его сына. Конечно, если Наполеон III будет жив и удержит свою власть после этой войны, после губительного и позорного мира, который он подпишет и который низведет Францию на степень второстепенной державы, сначала его, потом его сына будет до такой степени презирать и ненавидеть вся Франция, что они будут нуждаться в прямом покровительстве Пруссии, чтобы удержаться на троне, как Виктор-Эммануил до настоящего времени нуждался в специальной поддержке Франции, чтобы сохранить свою корону.
Стало быть, верно и не подлежит спору, что никакой монарх, никакое правительство Франции не может им сделать таких выгодных уступок, предоставить такую безопасность, как династия Бонапартов. Можно ли после этого сомневаться в том, что Бисмарк уже думает вести переговоры о мире с Наполеоном III, и только с ним, т. е. сохранить его во что бы то ни стало на французском троне? Остается только узнать, настолько ли подлы Наполеон III и Мадам Евгения, чтобы принять и подписать подобные условия. Кто может в этом сомневаться? Разве есть предел их низости? И надо поистине быть очень наивным, чтобы думать что они остановятся перед изменой или даже десятью изменами Франции, когда эти измены станут им необходимыми для удержания короны. Лучше быть коронованным данником Бисмарка, чем осмеянным, выгнанным и быть может повешенным императором. Будьте уверены, дорогие друзья, Франция уже продана Бисмарку Наполеоном III, и Бисмарк идет на Париж только для того, чтобы посадить опять на трон Наполеона III, или его сына под материнское крылышко интересной Евгении.
Что касается меня, то я уверен, я убежден, что этот тайный договор, возможно, уже заключенный или на пути к заключению,—не знаю,—быть может при посредничестве итальянского двора, который непосредственно в нем заинтересован и находится в большой ажитации,—что эта уверенность в протекции и поддержке Бисмарка являются главной причиной столь неожиданного возрождения уверенности и растущей и все более и более угрожающей наглости бонапартистов.
После этого длинного отступления я снова возвращаюсь к выдержкам из газеты Bund:
„Генерал Трошю и Тьер продолжают думать, что лучше всего дать пруссакам подойти к стенам Парижа без боя. Империалисты, наоборот, хотят непременно дать сражение для спасения династии. Трошю в самых худших отношениях с императрицей, но за то в наилучших отношениях с боевой дружиной. Самые видные патриоты и республиканцы подписывают адрес Трошю. По примеру принца Наполеона, который, безопасности ради, поселился сам во Флоренции, а семью перевез в Пьемонт, богатые люди Парижа начинают отправлять свои сокровища в Бельгию или в Англию. С одной стороны они боятся отчаянного сопротивления со стороны парижского населения, а с другой—решения Трошю, который, для защиты Парижа, повидимому, расположен прибегнуть, если понадобится, к июньским баррикадам и взорвать целые кварталы в Париже. Руэр привез вчера из Реймса, куда он ездил навестить больного императора, отчаянный план обороны и действия против тех, кого они называют внутренними пруссаками (орлеанистов и республиканцев). Паликао принял его. Фавр, Гамбетта и Тьер горячо нападали на империю в тайном комитете (24 или 25 числа). „Момент теперь такой ужасный", заявили они, „что страна может быть спасена только соединенной властью Палаты, Паликао и Трошю!" (Какая восхитительная микстура!) Бонапартисты расположены защищаться до крайних пределов. Левые находят, что им грозит серьезная опасность. В других кругах также ждут государственного переворота, совершенного бонапартистами; говорят, что организуется оборона страны исключительно декабристская. Начнут с ареста Трошю и левых депутатов, которых об'явят перед парламентским большинством и перед страной изменниками. У Паликао в руках адреса всех жителей, которые считаются опасными. Арестованы уже сотни республиканцев и социалистов, а также журналисты".
„Париж, 26 августа.—Сам Journal des Debats предчувствует бонапартистский заговор и государственный переворот. Он протестует против того, что все ультра-декабристы (Руэр, Шнейдер, Барош, Персиньи) каждый день принимают участие в Советах министров, и заявляет, что этот исключительно бонапартистский кабинет не внушает никакого доверия стране и парализует все патриотические усилия Палаты. Правые еще вчера отклонили предложение упразднить или отменить временно законы, запрещающие ношение и продажу оружия. Они предпочитают скорее отдать Париж пруссакам, чем вооружить народ. Правые хотели предать суду и потребовать ареста генерала Трошю за то, что он отказал императрице в требовании подать в отставку. Национальная гвардия услыхала о проэкте этой отставки и устроила генералу Трошю бурную, вполне республиканскую манифестацию, выразив ему свою симпатию. Со вчерашнего дня императрица опять ухаживает за Трошю, который принимает эти ухаживания, делая, вероятно, вид, что поддается им. Хотят всеми силами помешать ему сделать смотр восьмидесяти тысячам солдат национальной гвардии, боясь демонстраций с выражением симпатии Трошю, но враждебных Империи. Когда один очень известный государственный деятель посоветовал императору встать во главе кавалерийского полка и броситься на прусские штыки, Наполеон III, ответил, покручивая усы: „Это было бы очень красиво для истории, но я вовсе не настолько умер, как это думают добрые парижане. Я вернусь в Париж , не для того, чтобы дать отчет, а для того, чтобы потребовать отчета у тех, кто погубил Францию: у Оливье, который сделал столько зла своим парламентаризмом, и у левых депутатов, которые, урезывая военный бюджет, отдали нас, страну и меня, Пруссии".
„Руэр, по возвращении из Реймса, работает теперь в том же направлений, вместе с Паликао и всеми вождями правых. Империалисты полны надежд, они с уверенностью ждут победы, которая будет сигналом к роспуску или, по крайней мере, прекращению работ Палаты, несмотря на то, что сам Шнейдер, говорят, против этого".
В корреспонденции, помещенной в бельгийской газете Independance belge, помеченной: Париж, 27 августа, сообщается о намерении императора удалиться за Луару, в Бурж и там сосредоточить правительственные силы. Liberte (от 28 августа) также говорит о проэкте перенести правительство, не в Бурж, а в Тур.
Этот проэкт, повидимому, представляет очень серьезную угрозу. Повидимому, он находится в связи с образованием новой армии за Луарой, армией, командование которой будет, разумеется, поручено испытанному бонапартисту. Он является еще более угрожающим, благодаря бонапартистским волнениям среди крестьян, которые давно и систематически готовили префекты, помощники префектов, генеральные и окружные Советы, мэры, мировые судьи, жандармы и урядники, сельские учителя, попы и их помощники во всех концах Франции.
Для меня ясно, что Наполеон хочет опереться теперь на две силы: на Бисмарка представляющего внешнюю силу, и на восставших в его пользу крестьян, внутри страны. Таким образом, ради спасения своей короны, ввергнув Францию в пропасть, он хочет уничтожить свою последнюю надежду, последнее средство спасения (я говорю здесь с точки зрения государства): массовое вооружение французского народа против вторжения врага. Он хочет заменить его, в этот ужасный момент и перед лицом самого этого вторжения, гражданской войной между деревнями и городами Франции. Меня нисколько не удивило бы, если бы нынешнее министерство, бонапартистское и папистское, каких не было до сих пор, инспирированное Наполеоном, Евгенией и иезуитами, всеми вместе, если бы это министерство, которое, очевидно, хочет довершить крушение Франции, питало замыслы вооружить крестьян против городов, оставив рабочих невооруженными, стесненными осадным положением и отдав их, беззащитными, дикой расправе реакционных крестьян. Это будет громадной опасностью, и одна только социальная революция, как мы ее понимаем, в состоянии будет отклонить ее и превратить для Франции в средство спасения. Дальше я вернусь к этому.
* * *
Таковы, стало быть, нынешние проэкты императора, императрицы и их партии. Опираясь на эту новую армию, которую организуют за Луарой, и организуют так, чтобы она была предана Империи, опираясь в то же время на искусственно подогретые симпатии крестьян и сговорившись, с другой стороны, тайно с Бисмарком, бонапартисты будут способны отдать этому последнему сам Париж, обвинив в этом потом население этого города и депутатов радикалов, якобы, изменивших отечеству.
Бисмарк не может навязать Наполеона III или IV Франции, Парижу. Но Наполеон III, поддерживаемый этой Луарской армией, которая, вероятно, будет годна только для защиты его против негодования французских городов, и крестьянами, которые взбунтуются против патриотизма городов, сможет договариваться с Бисмарком, после того, как этот последний возьмет и обезоружит Париж. Если только не спасет положение сверхестественная энергия, на которую я не считаю больше способным французский народ, Франция в этом случае погибнет.
Вот почему, я, революционный социалист, желаю теперь, всем сердцем, союза якобинца Гамбетты с орлеанистами Тьером и Трошю, так как один только этот союз может покончить с бонапартистским заговором в Париже. Вот почему, я желаю теперь, чтобы коллективная диктатура Гамбетты, Тьера и Трошю захватила, как можно скорее, власть, — я говорю, как можно скорее, потому, что каждый день драгоценен, и если они потеряют теперь бесполезно один только день, они погибли. Я думаю, что все решится в три-четыре дня. Имея на своей стороне национальную гвардию, боевые дружины и парижское население, они бесспорно могут овладеть властью, если они будут действовать согласно, если у них будет необходимая решимость, если они люди. Меня удивляет, что они не сделали этого до сих пор. У бонапартистов полиция и вся муниципальная гвардия, составляющая, полагаю, довольно почтенную силу. Возможно, что они предполагают арестовать левых членов и Трошю ночью, как они сделали это в декабре. Во всяком случае, такое положение вещей не может больше длиться, и мы в один из этих дней узнаем либо о бонапартистском перевороте, либо о перевороте более или менее революционном.
Ясно, что в первом случае, спасение может притти только от революции в провинции. Но и во втором случае также, спасти Францию может только революция в провинции.
Я резюмирую в нескольких словах аргументы, которыми я пользовался, чтобы доказать это в этом длинном письме.
Если Гамбетта, которого я беру здесь, как олицетворение якобинской партии, если Гамбетта восторжествует, даже при наиболее благоприятных обстоятельствах, он не сможет ни преобразовать, согласно конституции, систему теперешней администрации, ни изменить совершенно, или даже , чувствительным и сколько-нибудь действительным образом, ее персонал, так как конституционная реформа системы может быть произведена только каким-нибудь Учредительным Собранием и не может быть закончена даже в несколько недель. Нет необходимости доказывать, что созыв Учредительного Собрания невозможен, и что нельзя терять не только ни одной недели, но и ни одного дня. Что касается перемены персонала, то, чтобы сделать это серьезным образом, нужно иметь возможность в несколько дней найти 100.000 новых чиновников, с уверенностью, что эти новые чиновники будут умнее, энергичнее, честнее и более преданными, чем теперешние чиновники. Достаточно указать на это, чтобы убедиться, что осуществить это невозможно.
Стало быть, у Гамбетты остается только два выбора: Или примириться с существующей, главным образом, бонапартистской администрацией, которая будет в его руках отравленным оружием против него самого и против Франции,—что равносильно при теперешних обстоятельствах полному раззорению, порабощению, уничтожению Франции;
Или же разрушить совершенно эту административную и правительственную машину, не пытаясь даже заменить ее другой, и вернуть тем самым полную свободу инициативы движения и организации всем провинциям, всем коммунам Франции,—что равносильно уничтожению государства, социальной революции.
Разрушая административную машину, Гамбетта лишает себя, свое правительство, лишает Париж единственного средства, какое у него было, управлять Францией. Потеряв оффициальное командование, инициативу действия путем декретов, Париж сохранит только инициативу примера, и он сохранит ее еще только в том случае, если своей моральной силой, энергией своих решений и революционной последовательностью своих актов, он встанет действительно во главе народного движения; что очень мало вероятно. Мне кажется это совершенно невозможным, по следующим причинам:
1) Вынужденный союз Гамбетты с Тьером и Трошю.
2) Его собственное якобинство, его республиканский модерантизм, также как и всех его друзей и всей его партии.
3) Политическая необходимость для Парижа, в интересах его собственной обороны, не слишком задевать, не слишком пугать предрассудки и чувства армии, помощь которой ему абсолютно необходима.
4) Наконец, очевидная невозможность для Парижа заниматься теперь развитием и практическим применением революционных идей, так как вся энергия и весь ум должны теперь необходимо и исключительно сосредоточиться на вопросе обороны. Осажденный Париж превратится в громадный военный город. Все население будет представлять огромную армию, дисциплинированную сознанием опасности и необходимостью обороны. Армия же не рассуждает—и не делает революции, она дерется.
5) Париж, поглощенный единственным интересом обороны, единственной мыслью о своей защите, будет совершенно неспособен организовать народное движение Франции и управлять им. Если бы он имел эту нелепую, смешную претензию, он убил бы движение, и было бы, следовательно, долгом Франции, долгом провинций, неповиноваться ему, в высших интересах спасения страны. Единственно и самое лучшее, что Париж мог бы сделать в интересах своего собственного спасения, это провозгласить и вызвать абсолютную
независимость движения в провинции,—и если Париж забудет или не постарается это сделать по каким бы то ни было причинам, патриотизм повелевает провинциям подняться и сорганизоваться, самостоятельно, независимо от Парижа, для спасения Франции и самого Парижа.
Из всего этого ясно следует, что, если Франция еще может быть спасена, то только стихийным восстанием провинций.
* * *
Возможно ли еще это восстание? Да, если у рабочих крупных провинциальных городов, как Лион, Марсель, Сэнт-Этьен, Руэн и многие другие, течет кровь в жилах, если у них есть мозг в голове, энергия в сердце и сила в мускулах,—если они живые люди, революционные социалисты, а не социалисты-доктринеры. Одни только рабочие провинциальных городов могут теперь спасти Францию.
Не нужно рассчитывать на буржуазию. Я подробно доказал, почему. Буржуа не видят и не понимают ничего, что вне государства, вне обычных государственных способов деятельности. Максимум их идеала, их самоотречения, героизма, максимум того, что они могут представить, это революционное усиление мощи и деятельности государства, во имя общественного спасения. Но я достаточно доказал, что государственным путем, в настоящий момент, при теперешних обстоятельствах,—Бисмарковских за пределами Франции и Бонапартистских внутри—нельзя спасти Францию, ее можно только таким путем погубить и убить.
Единственно, что может спасти Францию, среди ужасной, смертельной опасности, внешней и внутренней, которая угрожает ей в настоящий момент, это стихийное огромное, полное страсти и энергии, анархическое, разрушительное и дикое восстание народных масс на всей территории Франции. Будьте уверены, что вне этого нет спасения для вашей страны. Если вы неспособны на это, откажитесь от Франции, откажитесь от всякой свободы, опустите головы, склоните колени и станьте рабами,—рабами пруссаков, рабами бонапартистов,—вассалами пруссаков, жертвами крестьян и армии, возмущенных против вас, и приготовьтесь, уже и теперь такие жалкие и несчастные, к будущему, полному страданий и нищеты, каких до сих пор вы не могли даже себе представить.
Разумеется, буржуазия на это неспособна. Для нее это будет конец века, смерть всей цивилизации. Она скорее устроится с господством пруссаков и бонапартистов, чем
потерпит дикое народное восстание: это насильственное уравнение, это безжалостное и полное уничтожение ее экономических и социальных привилегий. Найдется в буржуазном классе, и именно среди радикалов, довольно значительное число молодых людей, которые, толкаемые отчаянием патриотизма, присоединятся к социалистическому движению рабочих; но они никогда не возьмут и не могут взять на себя инициативу его. Их воспитание, предрассудки, идеи противятся этому. К тому же, они потеряли Дантоновский темперамент—они не смеют больше дерзать. Этот темперамент не существует больше ни в одной категории буржуазного класса. Существует ли он в рабочем мире?—Весь вопрос в этом.
Я думаю, что он в нем существует, вопреки социалистическим доктринерству и риторики, которые значительно развивались за эти последние годы в рабочих массах, быть может, не без некоторого влияния самого Интернационала.
Я думаю, что в настоящий момент во Франции и, вероятно также во всех других странах, существуют только два класса, способных на такое движение: рабочие и крестьяне. Не удивляйтесь, что я говорю о крестьянах. Крестьяне, даже французские грешат только невежеством, но не недостатком темперамента. Не злоупотребляя и даже не пользуясь жизнью не испытав на себе тлетворного действия буржуазной цивилизации, которая лишь слегка неповерхностно коснулась их, они сохранили в себе весь энергичный темперамент, всю натуру народа. Собственность, любовь, не к удовольствиям, а к барышам и пользование ими, сделали их порядочными эгоистами, это правда, но они не уменьшили их инстинктивной ненависти против нарядных бар, и в особенности против буржуазных собственников, которые пользуются земными плодами, не производя их трудом своих рук. К тому же крестьянин глубоко патриотичен, националист, потому что у него культ земли, страсть к земле, и я думаю, что нет ничего легче, как поднять его против чужеземцев, которые хотят отнять у Франции две громадных территории.
Ясно, что для того, чтобы поднять и увлечь за собой крестьян, нужна большая осторожность, в том смысле, что нужно остерегаться, говоря с ними, высказывать идеи и употреблять слова, которые оказывают всесильное действие на рабочие массы городов, но которые, раз'ясняемые в продолжении долгого времени крестьянам всевозможными реакционерами, начиная с собственников, дворян или буржуа, и кончая государственными чиновниками и попом, в смысле им ненавистном и раздающемся в их ушах, как угроза, не замедлят произвести на них действие, совершенно обратное желаемому. Нет, надо употреблять с ними, сначала, самый простой язык, язык, какой наилучшим образом соответствует их инстинктам и их пониманию. В тех деревнях, где платоническая любовь к императору существует на самом деле, как предрассудок и как укоренившаяся привычка, не нужно даже говорить против императора. Нужно разложить в действительности власть государства, императора, ничего не говоря против него,—подрывая его влияние, разлагая его оффициальную организацию и, насколько это будет возможно уничтожая самих оффициальных лиц, как мэр, мировой судья, священник, жандарм, урядник,— которых, думаю, не будет невозможно сентябризировать[26], подняв против них самих крестьян. Нужно говорить крестьянам, что необходимо, главным образом, прогнать пруссаков из Франции,—это они прекрасно поймут, потому что, повторяю еще раз, они патриоты,—и что для этого нужно вооружиться, сорганизоваться в добровольческие батальоны и пойти против них. Но, что прежде, чем пойти, необходимо, чтобы и они тоже следуя примеру городов, которые избавились от всех паразитов эксплуататоров и поручили охрану городов сынам народа, рабочим, избавились от всех своих нарядных бар, которые истощают, бесчестят и эксплуатируют землю, не возделывая ее своими руками, а чужим трудом. Затем, нужно вызвать в них недоверие ко всем шишкам деревни, ко всем чиновникам и, насколько возможно, к самому попу. Пусть они берут, что им угодно, в церкви и на церковных землях, если есть таковые, пусть заберут все государственные земли, а также земли, принадлежащие богатым собственникам-паразитам, ни на что негодным. Затем, нужно сказать им еще, что, так как всюду, пока что, отменены всякие платежи, они тоже должны прекратить все платежи: частные долги, налоги и ипотеки, до восстановления полного порядка; что в противном случае, все деньги, переходящие в руки чиновников, останутся у последних или перейдут в руки пруссаков. После этого, пусть они идут против пруссаков, но сначала пусть организуются, федерируются, деревня с деревней, а также и с городами для взаимной поддержки и для защиты от пруссаков, как внешних, так и внутренних.
Вот, по моему, единственный действительный способ действовать на крестьян, в смысле защиты страны против прусского вторжения, а также в то же время и в смысле разрушения государства в самих сельских коммунах, где находятся, главным образом, его корни,—и, стало быть, в смысле социальной революции.
Только путем такой пропаганды, только путем социальной революции, понятой таким образом, можно бороться против реакционного духа деревни, победить его и превратить в революционный дух.
Бонапартистские симпатии французских крестьян, о которых говорят, нисколько меня не беспокоят. Это наружный симптом социалистического инстинкта, совращенного с пути невежеством и злонамеренно эксплуатируемого, кожная болезнь, которая должна пройти от применения энергичных средств революционного социализма. Крестьяне не отдадут ни свою землю, ни свои деньги, ни свою жизнь за сохранение власти Наполеона III, но они охотно отдадут ему жизнь и состояние других, потому что они ненавидят этих других. Они питают крайнюю, совсем социалистическую ненависть трудящихся к людям, ничего не делающим, к
нарядным барам. И заметьте, что в печальном происшествии, имевшем место в коммуне Дордонь, когда крестьяне сожгли молодого помещика, ссора началась словами одного крестьянина: „Ах, вот вы, красивый барин, вы сидите спокойно дома, потому что вы богатый, что у вас есть деньги, и посылаете бедных людей на войну. Так мы идем к себе, пусть приходят за нами". В этих словах можно видеть живое выражение вековой злобы крестьянина против богатого собственника, но никак не фанатическое желание пожертвовать собой и отдать свою жизнь за императора; наоборот, вполне естественное желание избежать военной службы.
Не в первый раз правительство эксплуатирует естественную ненависть крестьян к богатым собственникам и к богатым буржуа. Таким образом в конце прошлого века печальной памяти кардинал Руффо поднял крестьян Калабрии против либералов неаполитанского королевства, которые установили республику под прикрытием республиканского знамени Франции. В сущности, восстание, руководимое Руффо, было социалистическим движением. Калабрийские крестьяне начали грабить замки и, придя в города, грабили дома буржуазии, но они не трогали народа. В 1846 г. агенты князя Меттерника подняли таким же способом крестьян Галиции против польских дворян и помещиков, которые замышляли патриотическое восстание. До него еще, русская императрица Екатерина II устроила избиение тысяч польских помещиков украинскими крестьянами. Наконец, в 1863 г., русское правительство, следуя этим двум примерам, вызвало жакерию на Украине и в части Литвы против польских патриотов, принадлежавших большей частью к классу дворян. Вы видите, что правительства, эти оффициальные и патентованные охранители общественного порядка и безопасности собственности и личностей всегда прибегают к подобным мерам, когда эти меры становятся необходимыми для их собственного сохранения. Они становятся революционными в случае нужды и эксплуатируют, направляют в свою пользу бурные инстинкты, социалистические инстинкты. А мы, революционные социалисты, не сумеем овладеть этими инстинктами, чтобы направить их к их истинной цели, к цели, отвечающей глубоким потребностям народа, вызывающим их! Эти инстинкты, повторяю еще раз, глубоко социалистичны, ибо это инстинктивный протест всякого рабочего человека против эксплуататоров труда,—и весь элементарный, естественный и действительный социализм в нем. Все остальное, различные системы экономической и социальной организации, все это лишь экспериментальное и более или менее научное развитие и, к сожалению также, слишком часто доктринерское, этого первородного и основного инстинкта народа.
Если мы хотим стать практичными, если, нам надоело мечтать и мы хотим делать революцию, мы должны начать с того, чтобы самим освободиться от массы предрассудков, рожденных в буржуазном мире и перешедших, к сожалению, в слишком большой пропорции от буржуазного класса к самому пролетариату городов. Городской рабочий, более развитой, чем крестьянин, слишком часто презирает последнего и говорит о нем с совсем буржуазным пренебрежением. Но ничто так не раздражает, как пренебрежение и презрение, и поэтому, крестьянин отвечает на презрение городского рабочего своей ненавистью. И это большое несчастье, потому что это презрение и эта ненависть делят народ на две части, из которых каждая парализует и уничтожает деятельность другой. Между этими двумя частями в действительности нет различия интересов, есть только громадное и пагубное недоразумение, которое нужно во что бы то ни стало уничтожить.
Более просвещенный, более культурный и тем самым отчасти и в некотором роде более буржуазный социализм городов не признает и презирает первобытный, естественный и гораздо более дикий социализм деревень, и, относясь к нему недоверчиво, старается всегда сдержать его проявления, стеснить его, конечно, во имя равенства и свободы, что способствует глубокому незнанию деревенским социализмом социализма городов, который он смешивает с буржуазными стремлениями, с буржуазным духом городов. Крестьянин смотрит на рабочего, как на лакея, как на солдата буржуазии и он презирает его, ненавидит, как такового. Он ненавидит его до такой степени, что сам становится слугой и слепым солдатом реакции.
Таков фатальный антагонизм, который парализует до сих пор все революционные усилия Франции и Европы. Кто хочет торжества социальной революции, должен прежде всего разрешить этот антагонизм. Т а к как расхождение между обеими сторонами основано лишь на недоразумении, нужно, чтобы одна из них взяла на себя инициативу об'ясниться и помириться. Эта инициатива принадлежит по праву более просвещенной стороне, стало быть, она принадлежит по праву городским рабочим.—Городские рабочие, чтобы вызвать примирение, должны прежде всего дать самим себе отчет в характере обвинений, выставляемых ими против крестьян. В чем они, главным образом, их обвиняют?
Они обвиняют их в трех вещах: во-первых, в том, что крестьяне невежественны, суеверны и набожны, и что они поддаются влиянию попов. Во-вторых, в том, что они преданы императору. В третьих, в том, что они ярые сторонники частной собственности.
Верно, что французские крестьяне очень невежественны. Но разве это их вина? Разве заботились когда-нибудь о том, чтобы дать им школы? Разве это достаточная причина, чтобы презирать их и обижать? Но в таком случае, буржуа, которые бесспорно ученее рабочих, имеют право презирать и обижать этих последних; и мы знаем многих буржуа, которые говорят это и основывают на этом своем большем образовании свое право на господствующее положение, а для рабочих выводят из него долг подчиняться. Рабочих ставит выше буржуа не их образование, которое невелико, а их инстинкт справедливости и верное представление о ней, которые бесспорно велики. Но разве у крестьян отсутствует этот инстинкт справедливости? Посмотрите хорошенько, вы найдете его целиком, разумеется, в иных формах. Вы найдете в них, рядом с невежеством, глубокий здравый смысл, удивительную проницательность и эту энергию к труду, которая составляет честь и спасение пролетариата.
Крестьяне, говорите вы, суеверны и набожны и поддаются влиянию попов. Их суеверие—продукт их невежества, искусственно и систематически поддерживаемого всеми буржуазными правительствами. Впрочем, они вовсе уже не так суеверны и набожны, как вы это говорите, это их жены суеверны и набожны. Но все ли жены рабочих действительно свободны от суеверий и догм римско-католической религии? Что касается влияния попов, то оно только наружное. Крестьяне идут за попами лишь поскольку этого требует их внутренний покой и поскольку это не противоречит их интересам. Это суеверие не помешало им, в 1789 г., купить церковные земли, конфискованные государством, несмотря на проклятие, произнесенное церковью, как против покупавших, так и против продававших. Отсюда следует, что для того, чтобы окончательно убить влияние попов в деревнях, револющя должна сделать единственную вещь: поставить в противоречие интересы крестьян с интересами церкви.
Меня всегда коробило, когда, не только революционные якобинцы, но и социалисты, прошедшие, более или менее, школу Бланки и, к сожалению, даже некоторые из наших близких друзей, подпавших косвенным образом под влияние этой школы, высказывали вполне анти-революционную мысль, что будущая республика должна выпустить декрет об упразднении церковного богослужения всех вероисповеданий, а также декрет о насильственном изгнании всех священников. Во-первых, я решительный враг революции путем декретов, которая есть следствие и применение идеи революционного государства, — реакции, скрывающейся за внешним обликом революции. Системе революционных декретов я противопоставляю систему революционных дел, единственно действительную, последовательную и верную. Авторитарная система декретов, желая навязать свободу и равенство, разрушает их. Анархическая система действий вызывает и создает их неминуемо, вне всякого вмешательства какой-нибудь оффициальной или авторитарной силы. Первая неизбежно приводит к конечному торжеству настоящей реакции. Вторая устанавливает, на естественных и незыблемых основах, революцию.
Таким образом, в данном примере, если будет выпущен декрет об упразднении богослужения и изгнании священников, вы можете быть уверены, что крестьяне, наименее религиозные, выступят за сохранение богослужения и за священников, хотя бы из чувства противоречия, и потому что в каждом человеке возмущается законное, естественное чувство, основа свободы, против всякой навязанной меры, если даже эта мера имеет своей целью свободу. Можно, стало быть, быть уверенным, что если города сделают глупость декретировать упразднение богослужения и изгнание священников, крестьяне, приняв сторону последних, восстанут против городов и сделаются страшным орудием в руках реакции. Но следует ли отсюда, что нужно оставить в покое священников и их власть? Нисколько. Нужно действовать против них самым энергичным образом, но не потому, что они священники, министры римско-католической религии, а потому, что они агенты Пруссии. Как в деревнях, так и в городах, не какая-нибудь оффициальная власть должна их преследовать, хотя бы этой властью был революционный Комитет общественного спасения,—нужно, чтобы само население, в городах—рабочие, в деревнях—сами крестьяне, действовало против них, тогда как революционная власть наружно будет охранять их, во имя уважения свободы совести. Последуем мудрому примеру наших противников. Посмотрите, все правительства говорят о свободе, тогда как их поступки реакционны. Пусть революционные власти не говорят больше фраз, но употребляя насколько возможно умеренный и мирный язык, творят революцию.
Революционные же власти, во всех странах, делали совершенно обратное до сих пор: чаще всего они были чрезвычайно энергичны и революционны на словах и слишком умеренны, чтобы не сказать очень реакционны, в своих действиях. Можно даже сказать, то энергичная речь большей частью служила им маской, чтобы обмануть народ, чтобы скрыть от него слабость и непоследовательность своих актов. Есть лица, много лиц среди так называемой революционной буржуазии, которые, произнося революционные слова, думают, что они этим делают революцию, и которые, после того, как произнесли эти слова, и именно потому, что они их произнесли, считают для себя позволенным совершать несостоятельные действия, роковые непоследовательности, настоящие реакционные акты. Мы, революционеры на самом деле, должны делать совершенно обратное. Будем мало говорить о революции, но будем делать много. Предоставим теперь другим развивать теоретически принципы социальной революции и удовольствуемся тем, что будем широко применять их, воплощать их в факты.
Те из наших близких и друзей, которые хорошо меня знают, быть может, будут удивлены, что я так теперь говорю, я, который так много занимался теорией и который всегда проявлял себя ревностным и ярым сторожем принципов. Но, ведь, времена изменились. Тогда, еще год тому назад, мы готовились к революции, которую мы ждали, одни раньше, другие позже,—а теперь, что бы ни говорили слепцы, мы в периоде революции.—Тогда, было абсолютно необходимо держать высоко знамя теоретических принципов, высоко выставлять эти принципы во всей их чистоте, чтобы образовать партию, пусть малочисленную, но состоящую исключительно из лиц, искренно, всецело и страстно преданных этим принципам, так, чтобы каждый, в момент кризиса, мог расчитывать на всех других. Теперь дело уже не в наборе людей. Нам удалось, худо ли, хорошо ли, образовать небольшую партию —небольшую в отношении числа лиц, примыкающих к ней с полным знанием дела, громадную, что касается ее инстинктивных сторонников, народных масс, нужды которых она представляет лучше, чем всякая другая партия.—Теперь мы должны все вместе пуститься
в революционный океан, и отныне должны распространять наши принципы уже не словами, а делом,—ибо это наиболее народная, наиболее могучая и наиболее неотразимая пропаганда. Будем иногда молчать о наших принципах, когда политика, т. е. наше временное бессилие по отношению к враждебной нам силе этого потребует, но будем всегда бесжалостно последовательны в действиях. Все спасение революции в этом.
Главная причина, почему все революционные власти мира всегда так мало делали революцию, в том, что они всегда хотели делать ее сами, своей собственной властью и своей собственной силой, что всегда приводило к двум результатам: во-первых, это чрезвычайно суживало революционную деятельность, ибо невозможно даже для самой умной, самой энергичной, самой откровенной революционной власти обнять сразу массу вопросов и интересов, так как всякая диктатура, как личная, так и коллективная, поскольку она состоит из Нескольких оффициальных лиц, необходимо очень узкая, слепая и неспособна ни проникнуть в глубину народной жизни ни обнять всю ее широту,—также как невозможно для самого большого корабля измерить глубину и широту океана. Во-вторых, потому что всякий акт власти и оффициальной силы, поставленной законом, будит в массах чувство глубокого протеста, реакцию.
Что же должны делать революционные власти,—и постараемся, чтобы их было как можно меньше—что должны она делать, чтобы расширить и организовать революцию? Они должны не сами делать ее, путем декретов, не навязывать ее массам, а вызвать ее в массах. Они должны не навязывать им какую-нибудь организацию, а, вызвав их автономную организацию снизу вверх, под сурдинку действовать, при помощи личного влияния, на наиболее умных и влиятельных лиц каждой местности, чтобы эта организация насколько возможно отвечала нашим принципам.—Весь секрет нашего торжества в этом.
Что такая работа сопряжена с громадными трудностями, кто в этом сомневается? Но неужели думают, что революция детская игра и что можно делать ее, не победив бесчисленных трудностей? Революционные социалисты наших дней не должны ни в чем или почти ни в чем подражать в революционных приемах якобинцам 1793 г. Революционная рутина погубит их. Они должны работать в живом теле, они должны все создавать.
Возвращаюсь к крестьянам. Я уже говорил, что их мнимая приверженность к императору меня нисколько не пугает. Она не глубока и не реальна. Это лишь отрицательное выражение их ненависти к барам и к буржуазии городов. Эта приверженность не может, стало быть, устоять против социальной революции.
Последний и главный аргумент городских рабочих против крестьян, это жадность последних, их грубый эгоизм и их приверженность к частной собственности на землю. Рабочие, упрекающие их во всем этом, должны бы были сначала спросить себя: А кто не эгоист? Кто в современном обществе не жаден, в том смысле, что он страстно дорожит тем небольшим состоянием, которое он смог себе скопить и которое гарантирует ему в современном экономическом хаосе и в этом обществе, бесжалостном ко всем, кто умирает с голоду, его существование и существование его близких?—Крестьяне не коммунисты, это правда, они
боятся и ненавидят приверженцев раздела имущества[27], поому, что у них есть что сохранить, по крайней мере, в воображении, а воображение великая сила, с которой обыкновенно недостаточно считаются в обществе.—Рабочие, громадное большинство которых ничего не имеет, гораздо более склонны к коммунизму, чем крестьяне. Это вполне естественно; коммунизм одних так же естественен, как индивидуализм других,—тут нет ничего, чем бы можно было хвастаться и за что презирать других,—те и другие, со всеми их идеями, со всеми их страстями—продукт различной среды породившей их. Да и сами рабочие, все ли коммунисты?
Нечего, стало быть, роптать на крестьян и презирать их, нужно установить революционную линию поведения, обходящую трудность и которая не только помешала бы индивидуализму крестьян толкнуть их в сторону реакции, но, наоборот, воспользовалась бы им для торжества революции.
Помните, дорогие друзья, и повторяйте себе сотню раз, тысячу раз в день, что решительно от установления этой линии поведения зависит исход: торжество или поражение революции.
Вы согласитесь со мной, что теперь не время больше вести теоретическую пропаганду среди крестьян. Остается, стало быть, помимо предлагаемого мною средства, одно только средство: терроризм городов против деревень. Это превосходное средство, взлелеянное всеми нашими друзьями, рабочими крупных центров Франции, которые не замечают и даже не подозревают, что они заимствовали это орудие революции, я чуть было не сказал реакции, из арсенала революционного якобинства, и что, если они будут иметь несчастье воспользоваться этим орудием, они убьют себя; больше того, они убьют саму революцию. Ибо каково будет неизбежное, фатальное следствие этого? Все деревенское население, 10 миллионов крестьян ринутся в другую сторону и усилят своими огромными и непобедимыми массами реакционный лагерь.
В этом отношении, как и и во многих других отношениях, я считаю настоящим счастьем для Франции и для мировой социальной революции вторжение пруссаков. Если бы не было этого вторжения, и если бы революция во Франции произошла без него, сами французские социалисты попытались бы еще один раз, и на этот раз для себя уже, совершить государственный переворот. Это было бы совершенно нелогично, это было бы роковым шагом для социализма, но они, конечно, попытались бы это сделать,—до такой степени они еще сами проникнуты и пропитаны якобинскими принципами. Следовательно, среди прочих мер общественного спасения, декретированных Конвентом городских делегатов, они попробовали бы навязать коммунизм или коллективизм крестьянам. Они подняли бы и вооружили против себя всю крестьянскую массу, и чтобы подавить крестьянский бунт, они принуждены были бы прибегнуть к громадной вооруженной силе, хорошо организованной, хорошо дисциплинированной. Они дали бы армию реакции и породили бы, образовали бы военных реакционеров, честолюбивых генералов в своей собственной среде.— С помощью этой прочной государственной машины они добились бы скоро и государственного машиниста,—диктатора, императора.—Все это неизбежно случилось бы с ними, потому что к этому привела бы логика,—не капризное воображение какой-нибудь личности, а логика вещей, логика же никогда не ошибается.
К счастью, сами события теперь раскроют глаза рабочим и заставят их отказаться от этой роковой системы, заимствованной ими у якобинцев. Нужно быть сумашедшим, чтобы вздумать, при настоящих условиях, прибегать к террору против деревень. Если деревни поднимутся теперь против городов, города и вместе с ними Франция погибнут. Рабочие чувствуют это, и этим отчасти я объясняю себе невероятную и постыдную апатию, инертность, бездействие и спокойствие рабочего населения в Лионе, Марселе и в других крупных городах Франции в такой ужасный момент, когда энергия всего французского народа может одна спасти родину и вместе с родиной французский социализм. Я об'ясняю себе эту странную инертность тем, что французские рабочие совершенно запутались. До сих пор они действительно страдали своими собственными страданиями, но все остальное: их идеал, надежды, идеи, политические и социальные стремления, практические проэкты и планы на ближайшее будущее, которые существовали скорее в мечтах, чем серьезно обдумывались, все это гораздо больше было взято ими из книг и ходячих теорий, постоянно видоизменяющихся и критикуемых, чем являлось плодом собственного размышления, основанного на жизненном опыте. Они никогда не останавливались на своей жизни и на своем повседневном опыте и не привыкли черпать в них свои стремления и мысли. Их мысль питалась определенной теорией, принятой по традиции, без критики, но с полным доверием, и эта теория есть ничто иное, как политическая система якобинцев, более или менее видоизмененная для пользования революционных социалистов. Теперь, эта теория революции обанкротилась, так как главная основа ее государственное могущество, рухнуло. При теперешних обстоятельствах, применение террористического метода, который так любят якобинцы, стало, очевидно, невозможным. И французские рабочие, не знающие других методов, сбиты с толку. Они вполне основательно говорят себе, что невозможно применять оффициальный, обычный и легальный террор и употреблять принудительные средства против крестьян, что невозможно учредить революционное государство, центральный комитет общественного спасения для всей Франции, когда иностранцы подошли не только к границе, как это было в 1792 г., но двинулись к самому сердцу Франции и находятся в двух шагах от Парижа. Они видят, что вся оффициальная организация рушится, они отчаиваются, и основательно, создать другую и, не понимая спасения, они — революционеры, вне общественного порядка, не понимая, они—сыны народа, той силы и жизни, какие находятся в том, что оффициальная клика всех цветов, начиная с цвета лилии и кончая темно - красным, называет анархией, они скрещивают руки и говорят себе: мы погибли, Франция погибла.
Нет, дорогие друзья, она не погибнет, если вы не хотите погибнуть сами, если вы люди, если вы обладаете темпераментом, если в сердце вашем есть настоящая страсть,—если вы хотите ее спасти. Вы не можете больше спасти ее путем общественного порядка, государственной силой. Все это, благодаря пруссакам,—я говорю это, как истинный социалист,—теперь одни развалины. Вы не можете даже спасти ее путем революционного усиления политической власти, как это сделали якобинцы в 1793 г. Так спасите ее путем анархии. Разнуздайте эту народную анархию как в деревнях, так и в городах, разверните ее во всю ширь, так чтобы она катилась, как бешеная лава, снося и разрушая на своем пути все: всех врагов и пруссаков. Это геройский и варварский способ, я знаю. Но это последний и отныне единственно возможный способ. Вне его нет спасения для Франции. Так как все нормальные силы разложились, ей остается только отчаянная и дикая энергия ее детей, — которые должны выбрать или рабство, — путь буржуазной цивилизации, или свобода, — путь свирепой борьбы пролетариата.
Не правда ли, превосходное положение для искренних социалистов, и мечтали ли они когда-нибудь о подобной удаче? Ах, друзья мои, постарайтесь только быть на высоте событий, происходящих вокруг вас: государство рушится, буржуазный мир гибнет.—Уцелеете ли вы, останетесь ли энергичными и полными веры творцами нового мира среди этих развалин, или дадите похоронить себя под ними? Сделается Бисмарк вашим господином, станете вы рабами пруссаков, рабами их короля,—или же вы зажжете революционно-социалистический пожар в Германии, в Европе, во всем мире?—Вот, что решается в этот важный момент, вот, что зависит в настоящую минуту исключительно от рабочих Франции.
Возвращаюсь к моим дорогим крестьянам. Я не думаю, что даже при наиболее благоприятных обстоятельствах рабочие могли бы когда-нибудь иметь достаточную силу, чтобы навязать им коммунизм или коллективизм; и я никогда не желал этого,—потому что я ненавижу всякую насильственную систему, потому что я искренно и страстно люблю свободу. Эта ложная идея и эта надежда, губительная для свободы, составляют основное
заблуждение авторитарного коммунизма, который нуждаясь в правильно организованном насилии, нуждается в государстве и, нуждаясь в государстве, неизбежно приводит к восстановлению принципа власти и привилегированного класса в государстве. Можно навязать коллективизм только рабам, — а тогда коллективизм становится отрицанием человечества. У свободного народа коллективизм может явиться лишь силою вещей, не по приказу свыше, а снизу и необходимо выдвинутый самими массами, когда условия привилегированного индивидуализма: государственная политика, уголовный и гражданский кодекс законов, юридическая семья и наследственное право исчезнут, сметенные революцией.
Нужно быть безумцем, сказал я, чтобы навязать крестьянам что бы то ни было при теперешних условиях; это значило бы сделать из них наверняка врагов революции, — это значило бы погубить революцию. Каковы главные обвинения крестьян, главные причины угрюмой и глубокой ненависти их против городов?
1) Крестьяне чувствуют, что город презирает их, а презрение угадывается быстро, даже детьми, и никогда не прощается.
2) Крестьяне воображают, не без основания, хотя и без достаточных исторических доказательств и опыта в подтверждение этого предположения, что города хотят господствовать над ними, управлять ими, часто эксплуатировать их и всегда — навязать им политическое устройство, какое им мало желательно.
3) Крестьяне, кроме того, считают городских рабочих за сторонников раздела имущества и боятся, что социалисты конфискуют у них их землю, которую они любят больше всего на свете.
Что же, стало быть, должны делать рабочие, чтобы победить это недоверие и эту враждебность крестьян по отношению к себе? Прежде всего, перестать презирать их. Это необходимо для спасения революции и их самих, ибо ненависть крестьян составляет громадную опасность. Если бы не было этого недоверия и этой ненависти, революция давно бы уже была совершившимся фактом, ибо враждебность, существующая, к сожалению, в деревнях против городов, составляет во всех странах основу и главную силу реакции. Следовательно, в интересах революции, которая должна освободить их, рабочие должны как можно скорее перестать проявлять это презрение к крестьянам. Они должны это сделать также ради справедливости, ибо, поистине, у них нет никакого основания их презирать ни ненавидеть. Крестьяне не лодыри, это большие работники, как они сами. Только они работают в иных условиях. Вот и все. Перед лицом буржуа-эксплуататора, рабочий должен себя чувствовать братом крестьянина.
Леон Гамбетта, в удивительно смешном письме, адресованном им в лионскую газету Progres[28], утверждает, что настоящая война может помочь примирению буржуазии с пролетариатом, объединив эти два класса в общем патриотизме.
Я не думаю этого и совсем не желаю этого. Но чего я хочу, и на что я надеюсь в глубине сердца, это, чтобы настоящая война, эта огромная опасность, грозящая раздавить и поглотить Францию, имела непосредственным следствием действительное слияние города с деревней, рабочих с крестьянами в общей борьбе. В этом будет спасение Франции. И я не сомневаюсь в возможности быстрого осуществления этого слияния, потому что я знаю, что крестьянин глубоко и инстинктивно патриот. Если громко крикнут, громче, чем это делают, чем это могут делать, нынешняя администрация и буржуазные газеты: „Франция в опасности, пруссаки грабят и убивают народ, истребим пруссаков и всех друзей пруссаков",—французские крестьяне поднимутся и пойдут в братском единении с городскими рабочими Франции.
Они пойдут с ними, как только убедятся, что городские рабочие не претендуют навязать им свою волю, ни какой-нибудь политический и социальный порядок, изобретенный городами для наибольшего блаженства деревень, как только они приобретут уверенность, что рабочие не имеют никакого намерения взять у них землю.
Совершенно необходимо в настоящий момент, чтобы рабочие действительно отказались от этой претензии и от этого намерения и чтобы они отказались так, чтобы крестьяне это знали и убедились в этом. Рабочие должны от этого отказаться, ибо даже когда эта претензия и это намерение казались осуществимыми, они были в высшей степени несправедливы и реакционны, а теперь, когда их осуществление стало невозможным, они явились бы, ни больше ни меньше, как преступным безумием.
По какому праву рабочие навяжут крестьянам ту или иную форму правления или экономической организации? По праву революции, говорят нам. Нo революция перестает
быть революцией, когда она действует деспотически и когда она, вместо того, чтобы вызывать свободу в массах, вызывает в них реакцию. Средство и условие, если не главная
цель революции, это—уничтожение принципа власти во всех ее возможных проявлениях, это—полное уничтожение и, если понадобится, насильственное разрушение гocyдарства, по¬
тому что государство, младший брат церкви, как это превосходно доказал Прудон, есть историческое освящение всех форм деспотизма, всех привилегий, политическая основа для всяких форм экономического и социального порабощения, сама сущность и центр всякой реакции. Когда, стало быть, во имя революции, выводят на сцену государство, хотя бы временное государство, совершают реакцию и трудятся для деспотизма, а не для свободы, для становления привилегии против равенства.
Это ясно, как день. Но рабочие социалисты Франции, воспитанные в духе политических традиций якобинцев, никогда не хотели этого понять. Теперь они будут вынуждены понять это, к счастью, для революции и для них самих. Откуда у них явилась эта претензия, смешная и высокомерная, несправедливая и пагубная, навязать свой политический и общественный идеал десяти миллионам крестьян, которые не хотят его? Это, очевидно, еще одно буржуазное наследство, политический дар, завещанный буржуазным революционеризмом. Каковы основа, объяснение, теория этой претензии? Мнимое или действительное превосходство ума и образования, одним словом, рабочей цивилизации над цивилизацией деревень. Но знаете ли вы, что с таким принципом можно считать законным всякий захват,
оправдать всякое угнетение? Буржуазия всегда опиралась на этот принцип, чтобы доказать свою миссию, свое право управлять или, что то же самое, эксплуатировать рабочий мир. B столкновениях между народами, также как и между классами этот роковой принцип, который есть ничто иное, как принцип власти, объясняет и выставляет как право, всякое вторжение, всякий захват. Разве немцы не выставляли всегда этот принцип, чтобы оправдать свое покушение против свободы и независимости славянских народов и считать законной их насильственную германизацию? Это, говорят они, победа цивилизации над варварством. Берегитесь, немцы уже начинают замечать, что германская протестанская цивилизация значительно выше католической цивилизации народов романской расы, всех вообще, и в частности французской цивилизации. Берегитесь, чтобы они не вообразили скоро, что их миссия цивилизовать вас и сделать вас счастливыми, как воображаете вы, что ваша миссия цивилизовать и освободить насильно ваших соотечественников, ваших братьев, крестьян Франции. Мне, как та, так и другая претензия одинаково ненавистны, и я заявляю вам, что, как в международных отношениях, так и в отношениях между классами, я всегда буду на стороне тех, кого захотят цивилизовать таким способом. Я восстану вместе с ними против всех этих надменных цивилизаторов, называются ли они рабочими или немцами и, восставши против них, я буду служить революции против реакции.
Но если так, скажут мне, так, значит, нужно предоставить невежественных и суеверных крестьян всяким влияниям, всяким интригам со стороны реакции? Совсем нет. Нужно убить реакцию в деревнях, как нужно ее убить в городах. Но, чтобы достигнуть этой цели, недостаточно сказать: мы хотим убить реакцию, нужно ее убить, нужно ее вырвать с корнем, и ее можно вырвать с корнем только декретами.—Наоборот, и я могу это доказать на основании истории: декреты и, вообще, все акты власти ничего не искореняют; они, наоборот, упрачивают то, что хотят убить.
Что отсюда следует? Так как нельзя навязать революцию деревням, нужно произвести ее в деревнях, вызвав революционное движение среди самих крестьян, толкая их к разрушению собственными руками существующего общественного порядка, всех политических и гражданских институтов и к созданию, к организации в деревнях анархии.
Для этого существует только одно средство: говорить с ними и толкать их в направлении их собственных инстинктов. Они любят землю, пусть они берут всю землю и пусть гонят с земли всех собственников, эксплуатирующих чужой труд. У них нет никакой охоты платить ипотечные долги, налоги. Пусть они не платят их больше. Пусть те из них, кому нежелательно платить своих личных долгов, не будут больше принуждены платить их. Наконец, они ненавидят солдатскую службу, пусть они не будут больше вынуждены давать солдат.
А кто же будет драться с пруссаками? Не бойтесь, когда крестьяне почувствуют, ощутят, так сказать, все выгоды революции, для защиты её они дадут больше денег и людей, чем можно будет от них получить обычным государственным путем, даже при помощи чрезвычайных мер. Крестьяне сделают против пруссаков то, что они сделали против них в 1792 г. — Нужно только, чтобы ими овладел Бес, и лишь одна анархическая революция может вселить в их
тело этого Беса.
Но дав им разделить между собою земли, отнятые у буржуазных собственников, не установят ли этим частную собственность на более прочном и новом фундаменте? Нисколько, ибо у нее не будет юридической и политической санкции государства, — государство и весь юридический институт, охрана собственности государством, включая сюда семейное право и наследственное право, должны неизбежно исчезнуть в вихре революционной анархии. Не будет больше ни политических ни юридических прав, — будут только революционные деяния.
Но это будет гражданская война, скажете вы? Так как не будет никакой высшей власти, чтобы охранять частную собственность, и последняя будет защищаться только личной энергией собственника, каждый захочет воспользоваться чужим добром, более сильные будут грабить более слабых. Но что помешает более слабым соединиться между собою, чтобы грабить, в свою очередь, более сильных?
Да, это будет гражданская война. Но почему вы так клеймите гражданскую войну, почему так боитесь ее? Я вас спрашиваю, опираясь на историю, откуда вышли великие идеи, великие натуры, великие народы, из гражданской войны или же из общественного порядка, навязанного какой нибудь охраняющей властью? Благодаря тому, что вы имели счастье избежать в продолжении двадцати лет гражданской войны, не пали ли вы, великий народ, так низко, что пруссаки могут проглотить вас с одного маху. Возвращаясь к деревне, я спрашиваю вас: что вы предпочитаете, чтобы ваши десять миллионов крестьян объединились против вас в одну дружную, компактную массу, движимые общей ненавистью, вызываемой в них вашими декретами и революционными насилиями, или же, чтобы между ними была рознь, вызванная этой анархической революцией, что позволит вам образовать среди них могучую партию? Но разве вы не видите, что крестьяне так отсталы именно потому, что гражданская война не внесла еще розни в деревню? Компактная масса представляет человеческое стадо, мало способное к развитию и мало благоприятное для пропаганды среди него идей. Наоборот, гражданская война, вызывая рознь этой массе, пораждает идеи, создавая различные интересы и стремления. Душа, человеческие инстинкты существуют в ваших деревнях, им недостает ума. Гражданская война даст им этот ум.
Гражданская война раскроет широко двери в деревне для вашей социалистической и революционной пропаганды. Вы будете иметь в деревнях, повторяю еще раз, партию, чего у вас нет до сих пор, и вы сможете широко организовать там настоящий социализм, общество, построенное на наиболее полной свободе; вы организуете его снизу вверх, посредством деятельности самих крестьян, деятельности добровольной, но в то жe время вызванной логикой вещей.
Ваша работа тогда будет настоящей революционно-социалистической работой.
Не бойтесь, что гражданская война, анархия, приведет к разрушению деревни. Во всяком человеческом обществе имеется большой запас инстинкта самосохранения, сила общественной инерции, которая предохраняет его против всякой опасности самоуничтожения, и которая именно и замедляет так и затрудняет революционную деятельность, прогресс. Европейское общество в настоящее время, как в деревнях, так и в городах, но в деревнях еще больше чем в городах, совершенно заснуло, потеряло всякую энергию, всякую силу, всякую самостоятельность мысли и действия, под опекой государства. Еще несколько десятков лет, проведенных в таком состоянии, и этот сон, быть может, превратился бы в смерть. Но вот благодаря пруссакам, французское государство летит к чорту, рушится. Никакая сила не в состоянии больше спасти его самого, тем менее оно может спасти вас. Если вы не спасете себя сами вашей естественной энергией, вы погибли. Повторяю еще раз, вы находитесь в превосходном положении; но, чтобы воспользоваться им, вы должны иметь силу обнять его все целиком и смелость решиться на все последствия. Главное последствие — вы должны погрузиться в анархию. Так вот вы должны сказать себе, что эту анархию — и вы должны себе сделать из нее свое оружие — вы должны организовать в могучую силу.
Не бойтесь, что крестьяне, раз их перестанут сдерживать общественная власть и уважение к уголовному и гражданскому праву, перегрызут друг другу горло. Быть может, они попробуют это сделать в первое время, но они не замедлят убедиться в материальной невозможности продолжать в том же направлении, и тогда они постараются закончить распри, сговориться и сорганизоваться между собою. Потребность есть и кормить своих детей и, следовательно, необходимость обезопасить свои дома, семьи и свою собственную жизнь от непредвиденных нападений, все это неизбежно и скоро заставит их как нибудь устроиться между собой. И не думайте также, что если они станут устраиваться сами вне всякого вмешательства оффициальной власти, а лишь благодаря силе вещей, наиболее сильные, наиболее богатые возьмут перевес. Богатство богатых не будет больше охраняться законами, оно перестанет,стало быть, быть силой. Богатые крестьяне сильны в настоящий момент только потому, что их особенно охраняют и за ними особенно ухаживают государственные чиновники, и потому, что они опираются на государство. Раз государство, эта опора их, исчезнет, сила их также исчезнет. Что касается наиболее хитрых и наиболее сильных, они принуждены будут отступить перед коллективной силой массы, множества более или менее мелких и совсем мелких крестьян, также как и сельских пролетариев, — массы, в настоящий момент порабощенной, переносящей молчаливо свои страдания, но которую революционная анархия вернет к жизни и вооружит непобедимой силой.
Наконец, я не говорю, что деревни, которые, перестроются таким образом, свободно, снизу вверх, создадут сразу идеальную организацию, отвечающую во всех отношениях той организации, о какой мы мечтаем. В чем я убежден, так это в том, что это будет живая организация, в тысячу раз лучшая и более справедливая, чем существующая теперь, и которая, к тому же открытая для активной пропаганды городов, с одной стороны, и с другой, не имея возможности зафиксироваться ни, так сказать, окаменеть под охраной государства и закона, — так как не будет ни государства, ни закона, — сможет свободно развиваться и совершенствоваться бесконечно, оставаясь всегда живой и свободной, а не декретированной и установленной законом, и достигнет, наконец, той степени развития, какую мы можем желать и на какую можем надеяться в настоящий момент.
Так как жизнь и самодеятельность, отсутствовавшие в продолжение целых веков, благодаря всепоглощающему действию государства, будут возвращены общинам с уничтожением государства, естественно, что исходной точкой нового развития каждой общины будет не то умственное и нравственное состояние, какое ей приписывает оффициальная фикция, но действительное состояние цивилизации и, так как степень действительной цивилизации весьма различна между общинами Франции, как и между общинами Европы, отсюда необходимо произойдет большое различие в развитии; это, быть может, будет иметь своим последствием вначале гражданскую войну общин между собой, но потом неизбежно вызовет установление между ними взаимного соглашения, гармонии и равновесия. Будет новая жизнь, создастся новый мир.
Но не парализует ли оборону Франции эта гражданская война, даже если она и выгодна со всевозможных точек зрения, не отдаст ли ее в руки пруссаков эта внутренняя борьба между обитателями каждой общины, к которой прибавится еще борьба общин между собою?
Нисколько. История показывает нам, что никогда народы не чувствовали себя такими сильными во внешних отношениях, как в те моменты, когда они внутри представляли из себя взбаломученное море, и, что наоборот, никогда они не были такими слабыми, как тогда, когда они были об'единены какой нибудь властью или, вообще, когда среди них господствовал стройный порядок. В сущности, это вполне естественно; борьба, это — жизнь, а жизнь, это— сила. Чтобы убедиться в этом, сравните две эпохи, или даже четыре эпохи своей истории: во-первых, Францию после Фронды, развившуюся и закаленную в боях, благодаря борьбе Фронды, в молодые годы царствования Людовика XIV, с Францией в его старости, с монархией, твердо установившейся, объединенной, умиротворенной великим королем,— первая, полная побед, вторая — идущая от поражения к поражению, к крушению. Сравните также Францию 1792 г. с теперешней Францией. В 1792 и 1799 г.г. во Франции шла отчаянная гражданская война; движение захватило всю республику, повсюду велась борьба на жизнь и на смерть. И, однако, Франция победоносно вела войну почти со всеми европейскими державами. В 1870 г. Франция, успокоенная объединенная в империю, побита германской армией и до такой степени деморализована, что заставляет дрожать за свое существование. В противовес этим двум историческим фактам, вы можете конечно, мне привести пример теперешних Пруссии и Германии, в которых, ни в той ни в другой, не происходит гражданской войны, которые, необорот, особенно покорны и всецело подчиняются деспотизму своего монарха и, тем не менее, проявляют громадную мощь в настоящий момент. Но этот исключительный факт объясняется двумя особенными причинами, из которых ни одна не может быть применима к современной Франции: первая — это, страсть к единству, которая продолжает расти в продолжение пятидесяти пяти лет, в ущерб всем другим чувствам и идеям в этом несчастном германском народе. Вторая — это совершенство его административного механизма. Что касается страсти к единству, что касается этого честолюбивого, бесчеловечного, убивающего свободу стремления сделаться великим народом, первым народом в мире, Франция испытала его также в свое время. Эта страсть, подобная тем приступам лихорадки, которые временами придают больному необычайную, сверхчеловеческую силу, но истощают его совершенно и вызывают полнейшее изнеможение, — эта страсть способствовала возвеличению Франции на короткий промежуток времени, но затем привела ее к катастрофе, после которой она не поднялась еще и теперь, 55 лет спустя после битвы при Ватерлоо, так что теперешние ее бедствия, по моему, лишь повторение этой катастрофы, второй апоплектический удар, который, несомненно, убьет политический государственный организм Франции. Так вот, Германией овладела в настоящий момент та же самая лихорадка, та же самая страсть к национальному величию, какую Франция испытала и пережила во всех ее фазисах в начале нынешнего столетия и которая в данный момент больше не в состоянии возбудить ее и наэлектризовать. Немцы, которые считают себе ныне первым народом в мире, отстали, по крайней мере, на 60 лет, в сравнении с Франций, отстали настолько, что Staatszeitung, оффицальная газета Пруссии, позволяет себе обещать им в будущем, как вознаграждение за их геройское самоотвержение, „учреждение великой Германской Империи, основанной на страхе Господнем и истинной морали". Переведите это на хороший католический язык и вы получите империю, о которой мечтал Людовик XIV. Победы их, которыми они так гордятся теперь, заставляют их отойти на двести лет назад! Поэтому, вся честная и действительно либеральная интеллигенция в Германии — не говоря уже о социалистической демократии — начинает беспокоиться о роковых последствиях их собственных побед. Еще несколько недель таких жертв, какие они должны были принести, наполовину вынужденные, наполовину благодаря экзальтации, и лихорадка, овладевшая ими,
начнет уменьшаться, а раз она начнет уменьшаться, она быстро совершенно прекратится. Немцы сочтут свои потери деньгами и людьми, сравнят их с полученными выгодами, и тогда королю Фридриху-Вильгельму и его вдохновителю Бисмарку придется туго. Вот почему для них абсолютно необходимо возвратиться победителями и с полными руками.
Другая причина неслыханной мощи, какую проявляют теперь немцы, это совершенство их административного аппарата. Совершенство не с точки зрения свободы и благоденствия населения, а с точки зрения богатства и силы государства. Административный аппарат, как бы превосходен он ни был, никогда не является жизнью народа; наоборот, он является абсолютным и прямым отрицанием ее. Следовательно, сила его никогда не является естественной, органической, народной силой, — это, наоборот, совершенно механическая и искусственная сила. — Сломанная, она не может возобновиться сама собой, и ее восстановление становится чрезвычайно трудным. Вот почему надо остерегаться черезчур напрягать пружины этого механизма, так как, если их слишком напречь, машина ломается. А Бисмарк со своим королем слишком уже напрягли пружины административной машины. Германия мобилизовала 1.500.000 солдат и, бог знает, сколько сотен миллионов она издержала. Если Париж устоит против натиска врага, если вся Франция поднимется вслед за ним, пружины германской империи лопнут.
Франции нечего больше бояться этого несчастья — этого счастья! Благодаря пруссакам, оно совершилось. Машина французского государства сломана, и Гамбетта, Тьер и Трошю, все вместе, даже, если бы они позвали к себе на помощь бонапартистского людоеда, Паликао, не восстановят ее. Франция не может быть больше наэлектризована идеей национального величия, ни даже идеей национальной чести. Все это осталось позади. Она не может больше защищаться против чужеземного вторжения силою административного аппарата. Правительство Наполеона III исковеркало, растроило механизм, и пруссаки уничтожили весь аппарат. Что же остается Франции для своего спасения? Социальная революция, внутренняя и национальная анархия сегодня, завтра — мировая.
* * *
2 сентября.
По мере того, как я пишу, события развертываются и каждое новое, доходящее до меня известие показывает, что я прав. Мак-Магон снова потерпел поражение между Мон-Меди и Седаном, 30 августа. Сейчас, когда я пишу, армия его, вероятно, разбита, и хорошо еще, если он мог отступить, делая громадный обход, к Парижу и не был отброшен в Бельгию. Еще пять — шесть дней и Париж будет осажден огромной армией в триста или четыреста тысяч человек. Надеюсь, будем надеяться все, что Париж будет защищаться до конца и даст время Франции подняться и сорганизоваться всей массой.
Вот, что я прочел сегодня в газете Bund:
„Корреспонденция из Парижа, 29 августа,— В Париже царит сегодня сосредоточенное спокойствие, нет ни подавленности, ни замешательства, ни колебаний. Все настроены решительно, нигде не слышно политических разговоров, все думают только об обороне. Даже на бирже спокойно. Париж похож теперь на лагерь или на караван-сарай. Женщин и детей отправляют в провинцию. Каждая семья запасается картофелем, мукой, рисом, окороками и мясными экстрактами. Все газеты единодушно утверждают, что война будет продолжаться даже после взятия Парижа и что мир будет заключен только на правом берегу Рейна. То же высказывается и в частных беседах. Паликао не шутит. Он только что провозгласил декрет, что все здоровые мужчины от двадцати пяти до тридцати пяти лет, которые не явятся на военную службу, будут преданы военному суду. Национальная гвардия тоже будет подчинена военным законам, также как и собственники, которые почувствуют боязнь за свои дома. Рабочие, в случае нужды, расположены возобновить июньские баррикады".
А вот другая корреспонденция из Парижа в Gazette de Francfort:
„Начиная от последнего швейцара и до первого биржевого хищника, все согласны, что существование империи отныне стало невозможным, и что спасение только в республике. Но деспотизм, продолжавшийся двадцать лет, до такой степени уничтожил во французском народе всякую инициативу и всякую привычку к коллективной деятельности, что с тех пор, как правительственная машина перестала функционировать, все смотрят друг на друга растерянно, как дети, потерявшие своих родителей. Несмотря на единодушное убеждение, что от монархического правительства нечего больше ждать, Париж не мог пойти на решительный шаг. До сих пор всех парализовал страх, как бы внутренние беспорядки не помешали внешней обороне и не ослабили ее. Большинство Палаты чувствует, что, оно потеряло всякую моральную власть и что на нем лежит большая часть ошибок, послуживших причиной общественного бедствия. Меньшинство состоит из адвокатов. Оно превосходно, чтобы составить оппозицию в парламенте, но совершенно неспособно на революционную инициативу. Что касается рабочей массы, она держится в стороне и будирует. — Недавно приехал в Париж один демократ, происходящий из лучшей семьи одного пограничного города (должно быть Страсбурга), „с письмом от одного офицера высшего командного состава, умоляющего левую парламентскую фракцию провозгласить как можно скорее республику. „Армия, писал он, совершенно дезорганизована и деморализована, и одна только надежда теперь на немедленное провозглашение республики" Левые ответили посланному этого офицера, что нужно очень остерегаться, чтобы не совершить какую нибудь неосторожность теперь, когда Империя рушится сама собой[29]. „Да", ответил посланный, „Империя падает всегда достаточно рано, чтобы посадить вас на свое место, но слишком поздно, чтобы спасти страну".
Тот же корреспондент прибавляет другой факт, который, я надеюсь, по крайней мере, для чести рабочих, неверен. Он рассказывает, что посланный офицера, получив этот растяжимый ответ левых, „обратился к главарям Интернационала, чтобы уговорить их устроить грандиозную демонстрацию перед законодательным корпусом, которая непременно удалась бы, так как войска заявили, что они не будут стрелять в народ. Но рабочие ответили" (и я хотел бы именно иметь возможность отрицать этот ответ): „Виноваты буржуа. Вы установили и поддерживали Империю. Ешьте теперь суп, который вы сами приготовили, и если пруссаки опрокинут ваши дома на ваши головы, вы получите только то, чего заслужили". Повторяю, я хотел бы не верить, что таков был ответ парижских рабочих, и, однако, настроение рабочих, которое могло бы его продиктовать, подтверждается другой корреспонденцией из Парижа в Volksstaat (No 69), газете, которая не может иметь желания оклеветать парижских рабочих, так как она питает самые искренние симпатии к ним. Вот, что говорит корреспондент:
„Для меня всегда представляет большое удовольствие провести несколько часов в воскресенье среди этих милых парижских рабочих. Узкая и длинная улица Бельвиль становится вся черная, или скорее, синяя от рабочих блуз, наполняющих ее. Нет шуму, нет пьяных" (виден буржуа и, именно немецкий буржуа, который с высоты своей цивилизации великодушно, снисходительно восхищается рабочим), „нет драки. Война, повидимому, оставляет довольно равнодушными избирателей Рошфора. В мэрии предместья только что был вывешен новый бюллетень. В бюллетене говорилось о поражении при Лонжевиле. Блузники прошли мимо, пожимая плечами: „Вы можете, германские солдаты, говорили они, победить Наполеона и вывесить ваше знамя на Тюйлери. Мы оставляем вам собор Парижской Богоматери и Лувр. Но вам неудастся никогда завоевать эту узкую грязную улицу Бельвиль".
Все это сначала кажется очень логичным и очень красивым; эти слова, также как и ответ парижских интернационалистов посланному офицера, — если, однако, не доказано, что то и другое неверно, — доказывают, что пролетариат решительно откололся от буржуазии. И, конечно, не я буду на это жаловаться, лишь бы этот раскол не был пассивным, а активным. Но что парижские и французские рабочие остаются равнодушными и инертными перед этим ужасным вторжением солдат прусского короля, которое угрожает не только богатству и свободе буржуазии, но и свободе и благоденствию всего французского народа, что из ненависти к буржуазии и, быть может, также вследствие мстительного чувства и презрения и ненависти по отношению к крестьянам рабочие равнодушно относятся к тому, как германские солдаты вторгаются во Францию, грабят, избивают население завоеванных провинций, без различия классов: крестьян и рабочих еще больше, чем буржуа, потому что крестьяне и рабочие оказывают им большее сопротивление; что они равнодушно относятся к тому, что пруссаки собираются завладеть Парижем и, стало быть, стать господами Франции,—вот, чего я никогда не пойму, или, скорее, вот, что я боюсь понять!
Если бы это было верно,—и я все время надеюсь, что это неверно,—если бы это было верно, вот, что это бы доказывало: во-первых, что рабочие, суживая до крайности экономический и социальный вопрос, свели его к простому вопросу материального благополучия исключительно для самих себя, т. е. к узкой и смешной утопии, без всякой возможности ее осуществить, ибо все связано друг с другом в человеческом мире, и материальное благосостояние может быть только последствием радикальной и полной революции, охватившей, чтобы их разрушить, все нынешние учреждения и организации и свергнувшей прежде всего всякую существующую в настоящее время власть, военную и гражданскую, как французскую, так и иностранную. С другой стороны, это доказало бы, что поглощенные этой нездоровой утопией, парижские и французские рабочие потеряли всякое чувство действительности, что они не чувствуют больше и не понимают ничего, что не они сами, и что, следовательно, они перестали понимать сами условия своего собственного освобождения; что, перестав быть живыми и сильными людьми, с широким сердцем, полными ума, страсти, гнева и любви, они сделались резонерами и догматиками, как христиане Римской Империи. Быть может, мне заметят, что христиане всетаки одержали победу над этой Империей. Не христиане, отвечу я, а варвары, которые, свободные от всякой теологии и всякого догматизма, чуждые всякой утопии, но богатые инстинктами и сильные своей естественной силой, напали на эту ненавистную Империю и разрушили ее. Что касается христиан, то они действительно восторжествовали, но как? Ставши рабами, ибо осуществление их утопии названо Церковью — оффициальная Церковь, Церковь Византийской Империи, римско-католическая Церковь, источники и главные причины всех глупостей, всех постыдных деяний, всех политических и социальных бедствий до наших дней.
Это доказывало бы, что рабочие, благодаря постоянным теоретическим рассуждениям и догматическим пристрастиям, стали слепыми и глупыми. Как бы они могли иначе вообразить, что пруссаки, ставши хозяевами Парижа, Тюйлери, Собора Парижской Богоматери и Лувра, остановятся перед их сопротивлением в Бельвиль? Рабочие многочисленны, но численность не означает ничего, если силы не организованы. Они были также многочисленны при режиме Наполеона III, однако, он заставил и их молчать, жестоко обращался с ними, избивал и расстреливал их; и многие из их друзей, бывшие главари, наполняют еще тюрьмы Парижа и других городов Франции. Почему же такое хвастовство, когда столько трепещущих современных фактов доказывают их бессилие? И к тому же пруссаки тоже многочисленны и, кроме того, они закалены в боях, вооружены, дисциплинированы, организованы. Если их впустят в Париж, что могут сделать против них парижские рабочие? Останется одно, или подчиниться, как рабы, или же дать себя перебить, как давали себя избивать христиане, без сопротивления.
Я понимаю и вполне разделяю ненависть и презрение парижских рабочих к Тюйлери, к Собору Парижской Богоматери и даже к Лувру. Это монументы их рабства. Я понял бы их и приветствовал бы, если бы они взорвали их во время народной борьбы против буржуазии и против государственной власти государства в первые дни социальной революции. Я понял бы также, если бы у них не хватило энергии сделать это самим и они приветствовали бы своих братьев, рабочих Германии, если те, увлеченные и толкаемые революционной бурей в буржуазной Франции, уничтожили бы ее учреждения, монументы, власть и даже некоторых буржуа. Я бы понял все это, горячо сожалея, что рабочие Франции не нашли в себе самих необходимых решимости и энергии, чтобы сделать эту работу своими собственными руками. Ах, если бы во Францию явилась армия пролетариев, немцев, англичан, бельгийцев, испанцев, итальянцев, высоко несущих знамя революционного социализма и возвещающих миру конечное освобождение труда и пролетариата, я первый бы крикнул французским рабочим: „откройте им свои об'ятия, это ваши братья, и соединитесь с ними, чтобы смести гниющие остатки буржуазного мира!" Но нашествие, позорящее в настоящий момент Францию, не нашествие демократов и социалистов; это нашествие аристократов, монархистов и военных. Пятьсот или шестьсот тысяч немецких солдат, которые убивают в настоящий момент Францию, это послушные рабы деспота, гордо воображающего о своем божественном праве; ими командуют, их ведут, как автоматов, офицеры и генералы, принадлежащие к самому наглому дворянству в мире. Они злейшие враги пролетариата, — спросите ваших братьев, рабочих Германии. Принимая их мирно, оставаясь равнодушными и пассивными перед этим вторжением деспотизма, аристократизма и германского милитаризма на французскую почву, французские рабочие не только изменили бы своему собственному достоинству, своей собственной свободе и благоденствию, со всеми своими надеждами на лучшее будущее, они изменили бы также и делу пролетариата всего мира, священному делу революционного социализма. Ибо последний повелевает им, в интересах рабочих всех стран, уничтожить эти зверские банды германского деспотизма, как они сами уничтожили вооруженные банды французского деспотизма, истребить до последнего солдата короля Пруссии и Бисмарка, так чтобы ни один не смог оставить живым или вооруженным французскую землю.
Рабочие хотят отомстить буржуазии этим пассивным поведением? Они уже отомстили раз так, в декабре, и они сами заплатили за это мщение двадцатью годами рабства и нищеты. Они наказали гнусное июньское покушение буржуа, сделавшись сами жертвами Наполеона III, который выдал их со связанными руками и ногами эксплуатации буржуазии. Этот урок показался им недостаточным и они хотят, чтобы еще раз отомстить буржуазии, стать теперь на двадцать лет, а, может быть, и больше, рабами и жертвами прусского деспотизма, который не замедлит выдать их, в свою очередь эксплуатации той же самой буржуазии?
Мстить всегда на своей собственной спине и на пользу тем самым, кому предполагают отомстить, мне не кажется очень остроумным, и поэтому, я не могу верить правильности сообщений немецких корреспондентов. Могут ли столь сознательные парижские рабочие не знать, что окончательная победа пруссаков будет означать гораздо больше еще нищету и рабство французского пролетариата, чем унижение и раззорение французской буржуазии? Только бы было что эксплуатировать, только бы нищета заставляла рабочего продавать свой труд по низкой цене буржуа, буржуазия вновь встанет на ноги, и все ее временные потери падут на пролетариат. Но французский пролетариат, раз он попадет в кабалу к пруссакам, не поднимется долго, если только рабочие какой нибудь соседней страны, более энергичные и более способные, чем он, не возьмут на себя почин социальной революции.
Посмотрим, какие могут быть последствия окончательного торжества пруссаков и мира, продиктованного ими Франции, после взятия Парижа. Франция потеряет Эльзас и Лотарингию и заплатит, по крайней мере, миллиард пруссакам для покрытия их военных издержек. Предположим, что французским рабочим совершенно безразлично, что две французских провинции перейдут во власть Пруссии. Но заплатить миллиард не может быть им безразлично, так как плата такой громадной суммы, как и все налоги, необходимо падет на народ, ибо все, что платит буржуазия, всегда платится народом.
Французские рабочие будут утешать себя надеждою, что раз мир будет заключен, мир неизбежно позорный для Франции, раз Эльзас и Лотарингия отойдут к Германии и миллиард или миллиарды будут заплачены, пруссаки уйдут из Франции и, что тогда они, рабочие, могут совершить социальную революцию? — Напрасная надежда. Неужели они думают, что король Пруссии не боится больше всего на свете социальной революции? и что эта опасность, которая ему угрожает и пугает его, среди его неожиданных успехов больше, чем все армии Франции, вместе или порознь, не является для графа Бисмарка, его вдохновителя и первого министра, предметом постоянного беспокойства? А если так, могут ли они воображать, что, когда пруссаки, ставши хозяевами Парижа, продиктуют условия мира Франции, они не примут все необходимые меры и гарантии, чтобы обеспечить себе спокойствие и подчинение Франции, по крайней мере, на двадцать лет? Они поставят в Париже правительство, которое будет ненавидеть и презирать вся Франция, за исключением, быть может, крестьян, которых сделают окончательно слепыми, и той бюрократической сволочи, которая, проявляет себя всегда тем более преданной, когда она служит в высшей степени антинародному правительству и которая, не находя никакой опоры во Франции, будет вынуждена основать все свое существование на сильной и заинтересованной поддержке Пруссии. Одним словом, они сделают для Франции то, что Франция Наполеона III сделала сама для Италии. Они учредят прусское вице-королевство в Париже, и при малейшем революционном движении французского народа, в какой бы то ни было части Франции, будут являться немецкие солдаты, как хозяева, чтобы восстановить общественный порядок и повиновение монарху, поставленному силою их оружия.
Я знаю, что эта высказываемая мною мысль и эта справедливое предвидение оскорбят большинство французов, даже в этот ужасный момент, даже среди настоящей катастрофы, которая так неожиданно обнаружила слабость и падение французской нации, как государства: „Как, мы сделаемся вице-королевством пруссаков, мы! Мы подпадем под иго пруссаков! Мы потерпим, чтобы они пришли к нам командовать, как хозяева! Но это смешно! Это невозможно!" Вот, что мне ответят, за немногими исключениями, все французы. А я им скажу. Нет, это не невозможно; это, наоборот, настолько верно, что, если вы не подниметесь сегодня же всей массой, чтобы уничтожить всех до последнего германских солдат, которые вторглись на территорию Франции, завтра это будет действительность. Несколько веков национального главенства до того приучили французов считать себя первым, самым сильным народом в мире, что самые умные не видят того, что бросается в глаза всем: что Франция, как государство, погибла и что она может вновь приобрести свое величие, — не прежнее, национальное, а новое, на этот раз международное — только путем массового восстания французского народа, т. е. путем социальной революции.
Вы говорите, что это невозможно, а на что же вы рассчитываете, вы, все неудавшиеся государственные люди и несчастные политические деятели Франции, на что рассчитываете вы для защиты против громадного и так хорошо руководимого вторжения германских армий, этих армий с таким большим количеством солдат, соединяющих в себе осторожность, систематическую расчетливость и отвагу, систематически разрушающих одну за другой все дезорганизованные силы, которые Франция, в отчаянии своем, противопоставляет им, идущих мерным, но победоносным шагом на Париж? Сегодня, 2 сентября, какие известия сообщил нам европейский телеграф? Армия Мак-Магона потерпела поражение и теперь в Седане; армия Базэна, после отчаянной битвы, продолжавшейся сутки, разбита и отброшена с громадными потерями за фортификации Меца. Завтра, после завтра, мы узнаем, может быть, что армии Базэна и Мак-Магона, отрезаны и окруженные со всех сторон превосходными силами противника, оставшиеся без провианта и без боевых снарядов, или сдадутся прусакам, или же геройски дадут себя истребить им до последнего солдата. А потом? Потом прусаки будут продолжать свой поход на Париж и окружат его со всех сторон своими армиями, численностью, по меньшей мере, в четыреста тысяч человек.
Но Париж окажет сопротивление. Да, надо надеяться, что парижские рабочие, стряхнув, наконец, с себя преступную инертность, возьмут в свои руки оружие, это оружие, которое подлое правительство, терпимое и в некотором роде протежируемое, по трусости и по глупости, республиканцами, заседающими в парламенте, не хотят им давать; нужно надеяться, что парижский народ, выйдя из своего глубокого оцепенения, скорее погибнет вместе с пруссаками под развалинами столицы Франции, чем впустит в нее, как победителя и хозяина, императора Германии. Никто не сомневается, что народ способен и готов это сделать и что он это сделает, если, однако, ему не изменят, с одной стороны, правительство, исключительно бонапартистское и изменническое, а с другой стороны, трусость, неспособность и бессилие, приводящие в отчаяние, республиканских краснобаев.
Но, если даже Париж будет защищаться сверх сил, будет ли спасена Франция? Да, скажут мне, потому что, в это время организуется третья армия, за Луарой, огромная армия. Франция может еще мобилизовать миллион солдат. Парламент уже издал приказ об этой мобилизации. А кто будет организовать эти армии? Паликао? Императрица Евгения, бегущая из Парижа и ищущая себе приют вместе со всем своим правительством, то в Туре, то в Бурже, или скорее не в большом каком нибудь городе, а в каком нибудь замке, среди добрых крестьян, столь преданных императору? Императрица Евгения, вызывающая во Франции реакционную гражданскую войну и поднимающая деревни против городов, в тот момент, когда Франция может быть спасена только совместным, единодушным действием деревень и городов? Бонапартистская измена распространяется по всей стране. Это будет смерть Франции.
Но предположим, что республиканцы радикалы — этот разумный республиканец, рационалист и позитивист, называющийся Леоном Гамбетта, со всей своей резонирующей компанией, откроют, наконец, глаза на ужасное положение, в каком очутилась Франция и которому они способствовали своей подлой уступчивостью, предположим, что, устыдившись и полные угрызений совести, они решатся, наконец, на мужественный акт (выражение Гамбетты), на революционный акт общественного спасения. Предположим, что они не выпустят из Парижа ни императрицу, ни ее двор, ни ее правительство и ни одного из членов правой парламентской фракции и что для того, чтобы спасти Францию от бонапартистской измены, они их всех повесят на парижских фонарях. Я клянусь, что они этого не сделают, они слишком галантны, слишком джентльмены, слишком буржуа, слишком адвокаты для этого. Но я предполагаю что за неимением достаточной энергии с их стороны, парижский народ, у которого, конечно, нет недостатка в ней, сделает это своими собственными руками. Кто тогда организует восстание во Франции? Республиканское правительство или Комитет общественного спасения, который народ сам образует в Париже. Но из каких людей будут состоять это правительство и этот Комитет? В них войдут, разумеется, Трошю, Тьер, Гамбетта и К°, т. е. те самые люди, которые своими трусливыми колебаниями—колебаниями, вызванными, главным образом, необычайными страхом и отвращением, какие внушает им всем в одинаковой степени революционный социализм, открытое народное восстание,—заставили Францию потерять целый месяц, и это при самых ужасных обстоятельствах, в каких когда либо находилась Франция. Нужно быть глупцем или слепым, чтобы надеяться на энергичное действие, чтобы ждать чего нибудь хорошего, действительного, реального, со стороны этих людей! Но допустим, наконец, что они будут энергичны или, что, если они не будут таковыми, то парижский народ поставит на их место людей неизвестных и новых, настоящих революционных социалистов. Что сможет сделать это правительство, чтобы организовать оборону Франции?
Первое затруднение состоит в следующем. Эта организация, даже при наиболее благоприятных обстоятельствах и тем более при настоящем кризисе может удастся только при условии, если власть будет находиться в прямых, регулярных, непрерывных сношениях со страной, в которой она предполагает организовать восстание. Но нет никакого сомнения, что через несколько дней после того, как Париж будет окружен иностранной армией, его регулярные сношения со страной будут прерваны. При этом условии ничего невозможно организовать. К тому же, правительство, которое будет находиться в Париже, будет до такой степени поглощено обороной Парижа и внутренним управлением этого города, что если бы даже оно было составлено из самых умных и самых энергичных в мире людей, ему будет совершенно невозможно заняться как следует в этот важный момент организацией восстания во Франции.
Правда, революционное правительство, избранное вооруженным населением Парижа, может перенестись из Парижа в какой нибудь крупный провинциальный город, напр., в Лион. Но тогда оно не будет иметь никакого авторитета во Франции, потому что состоящее из людей неизвестных или даже людей, которых деревня ненавидит, избранное не всеобщим голосованием, а только парижским населением, оно, в глазах народа и в особенности крестьян, не будет иметь никакого законного права управлять Францией. Если оно останется в Париже, поддерживаемое парижскими рабочими, оно может еще заставить с собой считаться Францию, по крайней мере, французские города, а, может быть, даже и деревни, несмотря на сильную враждебность крестьян. Ибо, как мне часто повторяли наши французские друзья, Париж обладает историческим престижем во Франции и оказывает такое сильное влияние на воображение французов, что все жители Франции, городов и деревень, в конце концов, всегда одни более, другие менее охотно, ему повинуются.
Но как скоро революционное правительство покинет Париж, оно потеряет свою силу. Предположим даже, что большой провинциальный город в который оно переедет, напр., Лион, примет его с восторгом и, таким образом, санкционирует власть, избранную парижским населением. Но вся остальная Франция и почти все деревни, не признают его, не будут ему повиноваться.
И какие средства употребит это новое правительство, чтобы заставить себе повиноваться? Нынешнюю административную машину? Но вся администрация бонапартистская: об'единившись с попами, она поднимет бунт в деревнях против него. Оно пошлет для подавления бунта в деревнях регулярные войска, которых, вместо того чтобы послать на фронт сражаться с врагом, употребляют в данную минуту для поддержания осадного положения в наиболее крупных центрах Франции? Но все генералы, все полковники, все офицеры также бонапартисты и ярые бонапартисты, по крайней мере, что касается высшего офицерства. Оно распустит весь командный состав и заставит солдат выбрать самим новых офицеров и новых генералов? Но, предположив даже, что солдаты охотно это сделают, эта реорганизация войск не может совершиться в один день, она возьмет много времени, и в продолжение этого времени пруссаки возьмут Париж и восстание деревень, сначала местное и частичное, поднятое иезуитами и бонапартистами, распространится по всей стране.
Я говорю и повторяю все это, потому что я считаю самым существенным в настоящий момент убедить всех французов, которым действительно дорого спасение Франции, что они не могут больше спастись правительственными средствами, что было бы безумием с их стороны надеяться на повторение чудес 1792 и 1793 г. г., которые к тому же были произведены не одним только крайним усилением власти государства, но еще, и в особенности, революционным энтузиазмом населения Франции; что государство, созданное людьми 1789 г., еще совсем молодое и, нужно прибавить, полное энтузиазма и само революционное, в 1792 и 1793 г. г. было способно создавать чудеса, но что с того времени оно сильно постарело и очень развратилось. Пересмотренное и исправленное и истрепанное до нельзя Наполеоном I, подновленное и несколько облагороженное реставрацией, обуржуазившееся потом при июльской монархии, и, наконец, окончательно превращенное в шайку каналий Наполеоном III, государство сделалось теперь самым большим врагом Франции, самым крупным препятствием к ее воскрешению и ее освобождению. Чтобы спасти Францию, вы должны разрушить его.—Но раз государство, оффициальное общество, будет разрушено, со всеми своими политическими, полицейскими, административными, юридическими, финансовыми учреждениями, возникнет естественное общество, народ вернет себе свои естественные права.—Это будет спасение Франции и создание новой Франции единением деревень и городов в социальной революции.
Единственно и самое лучшее что правительство, избранное парижским населением, может сделать для спасения Франции, это следующее:
1. Остаться в Париже и заниматься исключительно обороной Парижа;
2. Выпустить воззвание ко всей Франции, об'являя, от имени Парижа, все государственные учреждения и законы уничтоженными и предлагая населению Франции только один закон, закон спасения Франции, спасения каждого и всех, призывая его восстать, вооружиться, отняв оружие у тех, кто его держит, и сорганизоваться, вне всякой опеки, и оффициального руководства, государства, снизу вверх, для своей собственной защиты и для защиты всей страны против вторжения внешних пруссаков и против измены пруссаков внутренних;
3. Об'явить в этом воззвании всем коммунам и провинциям Франции, что Париж, поглощенный заботой о своей собственной обороне, не в состоянии больше управлять Францией. Что, следовательно, отказавшись от своего права и своей исторической роли управлять Францией, он приглашает провинции и коммуны, восставшие во имя спасения Франции, федерироваться между собою, опять таки снизу вверх, и послать своих делегатов в назначенное ими место, куда Париж тоже, конечно, пошлет своих делегатов.— И что собрание этих делегатов составит новое временное и революционное правительство Франции.
Если Париж этого не сделает, если, деморализованный республиканцами, Париж не выполнит этих условий, единственных условий спасения для Франции, тогда прямой и священный долг какого нибудь крупного провинциального города взять этот спасительный почин в свои руки, ибо, если никто не возьмет этого почина, Франция погибнет.
Предположим, что ни один из французских городов не возьмет на себя этот почин и что Франция на этот раз погибнет, т. е., что, отдав Париж пруссакам, она примет все условия мира, продиктованные ей Бисмарком. В каком положении будет тогда социализм во Франции и во всей Европе!
Посмотрим сначала, в каком положении будет французский народ. Какое правительство может согласиться подписать позорные и гибельные для Франции условия мира, какие прусский король—будущий император Германии, если он вернется победителем и живым из Франции, не преминет, будет вынужден ему навязать? С каким бы презрением я не относился к бессилию, ныне доказанному, радикальной партии, я не думаю, чтобы сами Жюль Симон и Жюль Фавр могли пасть так низко, чтобы подписать эти условия. Республиканцы не подпишут их, и если найдутся среди них некоторые, которые подпишут, то это могут быть только продажные республиканцы, как Эмиль Оливье, покойный министр. Республиканская анти-социалистическая партия, партия, состаревшаяся преждевременно, потому что, она провела всю свою жизнь в платонических стремлениях, вне всякой реальной и положительной деятельности, без сомнения отныне неспособна больше продолжать свое существование и спасти от смерти Францию, но она сумеет, по крайней мере, умереть с честью, не опозорив своих седых волос; и я считаю, что она достаточно горда, чтобы скорее дать себя похоронить под развалинами Парижа, чем подписать мирный договор, который сделает из Франции вицекоролевство Пруссии.
Согласятся ли их подписать Тьер и Трошю? Кто знает? Мы мало знаем генерала Трошю. Что касается Тьера, этого истинного представителя буржуазной политики и буржуазного парламентаризма, мы достаточно хорошо знаем его и знаем, что крупные грехи лежат на его совести. Это он, больше чем кто либо другой, был душою реакционного заговора в учредительном Собрании и способствовал избранию принца в президенты в 1848 г. Но в нем есть великий государственный патриотизм, которому он никогда не изменял и который собственно и составляет всю его политическую доблесть. Он искренно, страстно любит величие и славу Франции, и, я думаю, что и он также скорее умрет, чем подпишет падение Франции. К тому же, Тьер и Трошю оба орлеанисты, а Орлеанские принцы нелегко подпишут условия Бисмарка, так как это было бы с их стороны подлым и в то же время неполитическим актом. Впрочем, chi lo sa[30]? Им надоело оставаться так долго без короны, и „Париж стоит обедни", сказал их предок Генрих IV.
Но укажите мне, напр., на Эмиля Жирардэн. Укажите мне на господ сенаторов, государственных советников, дипломатов, членов приватного совета и кабинета императора. О, тогда другое дело. Эти господа изощрились во всяких подлостях, они с удовольствием продадутся; они все продажные, и их можно дешево купить. Что касается императрицы Евгении, она, без сомнения, способна отдаться всей прусской армии, лишь бы эта последняя захотела сохранить опозоренный венец Франции на голове ее сына.
Всего вероятнее, я думаю, что если будет заключен мир, то этот мир будет подписан бонапартистами. Несомненно, что какое бы ни было правительство, которое его подпишет, оно будет неизбежно, в силу вещей, вассалом Пруссии, униженным и преданным слугой графа Бисмарка; очень искренним слугою, так как, презираемое и ненавидимое Францией, оно будет иметь поддержку только со стороны Пруссии, будет существовать только благодаря ей.
Зная, что оно будет тем ненавистнее своей собственной стране, чем более действительной будет поддержка, оказанная ему извне, новое правительство Франции должно будет, столько же в своих собственных интересах, как и обязанное по отношению к своему властелину, организовать Францию и править ей таким образом, чтобы она не могла нарушать ни внутреннего спокойствия ни внешнего мира.
Административный гнет, который тяготит над ней и так глубоко деморализовал ее в продолжение последних двадцати лет, будет неизбежно усилен. Нынешняя административная централизация будет сохранена, с той только разницей, что действительный центр ее будет больше не в Париже, а в Берлине.
Сохранен будет также большей частью весь персонал этой администрации, потому что этот персонал слишком большие услуги оказал Пруссии. Разве все эти крупные и мелкие чиновники империи, которые усовершенствовались двадцатилетней практикой в искусстве угнетать, разорять и развращать население, не оставили без защиты свои префектуры и коммуны и не открыли двери их пруссакам?
Налоги будут значительно увеличены. Бюджет не будет уменьшен, наоборот, будут принуждены его увеличить. Потому что к дефициту, столь близкому к банкротству, который оставит в наследство Наполеон III, нужно будет прибавить проценты по всем военным займам, а также проценты на миллиарды, которые будут уплочены Пруссии. Обязательный курс французских банковых билетов, вотированный Палатой только, как временная мера и только на время войны, останется, и, также как в Италии, золото и серебро уступят место бумажным деньгам, которые никогда не достигнут своей номинальной стоимости.
Налоги должны быть увеличены уже по той простой причине, что увеличению цифры государственных расходов будет соответствовать не увеличение, а значительное уменьшение цифры плательщиков налогов, ибо Эльзас и Лотарингия будут отделены от Франции. Прямые налоги возрастут, вследствие уменьшения суммы косвенных налогов, а эта последняя должна необходимо уменьшиться, благодаря торговым договорам, выгодным для Германии, но раззорительным для Франции, которые Пруссия не минует навязать этой последней, как Французская империя в свое время сделала это по отношению к Италии.
Торговля и промышленность Франции, уже и без того раззоренные войной, еще ухудшатся от такого мира. Национальное производство уменьшится и вместе с ним понизится величина заработной платы, тогда как налоги, которые в конечном счете всегда падают на пролетариат, и, следовательно, цены на с'естные припасы возрастут. Французский народ станет беднее, а чем он будет беднее, тем необходимее будет удерживать его от взрыва.
Крестьян будут держать в повиновении, главным образом, при помощи морального воздействия иезуитов. Воспитанные в благочестии, вере в догматы римско-католической церкви, они легко поддаются влиянию последних, и их будут продолжать систематически возбуждать против либерализма и республиканизма буржуазии и против социализма городских рабочих. Сильно ошибаются те, кто думает, что Бисмарк и старик Вильгельм, король Пруссии, его ученик и господин, как протестанты, будут врагами иезуитов. В протестанских странах они будут продолжать оказывать поддержку протестанским лицемерам и ханжам, но в католических странах они будут продолжать поддерживать иезуитов; потому что те и другие одинаково ценны для проповеди народам терпения, подчинения и покорности.
Громадное большинство буржуа будут, конечно, недовольны. Оскорбленные в своем чувстве патриотизма и чувстве национального тщеславия, они, кроме того, будут еще раззорены. Многие семьи, принадлежащие к средней буржуазии, попадут в ряды мелкой буржуазии и многие мелкие буржуа очутятся в рядах пролетариата. Напротив, буржуазная олигархия еще больше завладеет всеми делами и всеми доходами торговли и национальной промышленности; и биржевые хищники будут спекулировать на несчастьях Франции.
Буржуазия будет недовольна. Но ее недовольство не будет представлять непосредственной опасности. Оторванная от пролетариата, благодаря своей ненависти, как сознательной, продуманной, так и инстинктивной к социализму, она бессильна, в том смысле, что она потеряла способность творить революцию. У нее остается еще некоторого рода медленно разлагающая деятельность, она может подрывать учреждения и, в конце концов вызвать их крушение, критикуя их и постоянно слегка воюя против них, как это замечается в настоящий момент в Италии, но она больше не способна ни на смелые идеи, ни на энергичные решения, ни на великие акты. Она кастрирована и пришла окончательно в состояние каплуна. Она может, стало быть, причинять беспокойство правительству, но не угрожать ему серьезной опасностью.
Серьезная опасность правительству может притти только со стороны городского пролетариата. Поэтому против него оно и направит, главным образом, все свои средства задушения и репрессии. Его первое средство будет состоять в том, чтобы совершенно изолировать пролетариат, возбуждая сначала против него, как я уже об'яснял, население деревень и затем мешая всеми способами, сильно помогаемое в этом крупной и средней буржуазией, присоединиться к пролетариату мелкой буржуазии на почве социализма. Его вторым средством будет деморализовать пролетариат и помешать ему всевозможными предварительными и принудительными мерами в его умственном, нравственном и общественном развитии: главной мерой будет, разумеется, запрещение и яростное преследование всех рабочих сообществ и, прежде всего, конечно великого, спасительного Международного Товарищества работников всего мира. Третьим и последним средством его будет подавлять всякое рабочее движение вооруженной силой.
Армия этого правительства превратится, наконец, совершенно в корпус жандармов, слишком слабый и слишком плохо организованный для защиты независимости страны, достаточно сильный, чтобы подавлять бунты его недовольного населения. Неизбежное и значительное сокращение французской армии, что Пруссия не минует потребовать от побежденной Франции, будет единственной выгодой, какая последует от этого позорного мира. Если бы Франция вышла из этой войны, по крайней мере, равной Пруссии в независимости, безопасности и силе, это сокращение армии могло бы стать для нее источником большой и полезной экономии. Но при Франции побежденной, ставшей вице-королевством Пруссии, французское население не извлечет из этого решительно никакой выгоды, ибо те деньги, которые будут сбережены на расходах по армии, нужно будет истратить на то, чтобы подкупить, умиротворить, приспособить к новому строю совесть и волю оффициального мира, общественное сознание и ум интеллигенции и привилегированных классов. Систематический подкуп этих классов стоит чрезвычайно дорого, и современная Италия, также как и императорская Франция, знает это по опыту.
Армия, стало быть, будет значительно сокращена, но в то же время усовершенствована в смысле жандармской службы, которую одну только она и призвана будет отныне выполнять. Что касается защиты Франции от внешних нападений со стороны Италии, Англии, России или Испании, или даже Турции, Бисмарк и его великодушный монарх, великодушный император Германии, не позволят, чтобы она занималась этим сама. Это отныне будет их делом. Они гарантируют и будут охранять могучими средствами целостность своего Парижского вице-королевства, как император Наполеон III гарантировал и охранял целостность своего флорентийского вице-королевства.
Таково, конечно, будет положение Франции, когда она примет и подпишет условия Пруссии. Посмотрим теперь, каково будет положение рабочих в этой новой Франции?
В экономическом отношении они будут бесконечно беднее. Это так ясно, что не требуется даже этого доказывать. В политическом отношении положение их также будет гораздо более худшим. Можно быть уверенным, что когда кончится эта война, главной заботой всех правительств Европы будет свирепствовать против рабочих сообществ, подкупать их, распускать, разрушать всеми способами и всеми средствами законными и незаконными. Это будет самым большим делом правительств, ибо, так как все другие классы общества перестанут быть опасными для существования государства, им останется только бороться с рабочим миром.
И, действительно, дворянство, потеряв совершенно всякую независимость своего положения, интересов и духа, давно уже связало себя с государством, даже в Англии. Духовенство и Церковь, несмотря на свои невинные мечты о духовном и даже мирском главенстве и господстве, несмотря на вновь провозглашенную непогрешимость папы, в действительности являются в настоящий момент лишь государственным институтом, нечто вроде черной полиции над душами в пользу государства, потому что вне государства они не могут больше иметь ни доходов ни силы. Наконец, буржуазия, я уже говорил и еще раз повторяю, буржуазия окончательно опустилась до состояния каплуна. Она была мужественной, смелой, геройской, революционной восемьдесят лет тому назад; она еще раз стала такой пятьдесят пять лет тому назад и оставалось такой, хотя уже в гораздо меньшей степени, во время Реставрации, с 1815 до 1830 г. Добившись своего, удовлетворенная июльской революцией, она хранила еще революционные мечты до июня 1848 г. В эту эпоху она стала окончательно реакционной. В настоящий момент государство ей приносит пользу, и, следовательно, она является самой заинтересованной, самой страстной его сторонницей.
Остаются, стало быть, крестьяне и городские рабочие. Но крестьяне почти во всех странах западной Европы, — за исключением Англии и Шотландии, где крестьян в собственном смысле слова не существует, за исключением Ирландии, Италии и Испании, где они находятся в нищенском состоянии и, следовательно, являются революционерами и социалистами, не зная этого сами,—в особенности во Франции и Германии, крестьяне полу-удовлетворены; они пользуются или думают, что пользуются, выгодами, которые, как они воображают, в их интересах сохранить против посягательств социальной революции; у них есть собственность, тщеславная мечта о собственности, которая, если не приносит им действительной пользы, то, по крайней мере, заманчиво рисуется в их воображении. Кроме того, они систематически поддерживаются правительствами и всеми оффициальными и оффициозными государственными Церквами в грубом невежестве. Крестьяне составляют в настоящий момент главную, почти единственную основу, на которой зиждятся безопасность и сила государств. Они, стало быть, являются предметом особенного внимания со стороны всех правительств. Ум крестьянина систематически обрабатывают, культивируя в нем нежные цветы христианской веры и верности монарху и сея спасительные растения ненависти к городу. Несмотря на все это, крестьян можно поднять, как я уже объяснял это в другом месте, и их поднимет, рано или поздно, социальная революция; и это по трем простым причинам: 1° Благодаря своей отсталой цивилизации или своему относительному варварству, они сохранили во всей неприкосновенности простой, здоровый темперамент и всю энергию, свойственную народной натуре; 2° Они живут трудом своих рук и у них вырабатывается своя мораль под влиянием этого труда, который воспитывает в них инстинктивную ненависть ко всем привилегированным паразитам государства, ко всем эксплоататорам чужого труда; 3° Наконец, так как они сами труженики, то у них с городскими рабочими общие интересы, их разделяют только предрассудки. Сильное действительно социалистическое и революционное движение может сначала поразить их, но их инстинкт и здравый смысл заставят их скоро понять, что социальная революция вовсе не стремится отобрать у них то, что они имеют, она стремится к торжеству и установлению везде и для всех священного права труда на развалинах всех видов привелигированного паразитизма. И когда рабочие, оставив претенциозный и схоластический язык доктринерского социализма, охваченные сами революционной страстью, скажут им просто, без обиняков и без лишних фраз, чего они хотят; когда они придут в деревню, не как учителя, а как братья, как равные, вызывая революцию, но не навязывая ее сельским труженникам; когда они предадут пламени все гербовые бумаги, судебные разбирательства, купчие крепости, государственные бумаги, частные векселя, ипотеки, своды уголовных и гражданских законов; когда они устроят фейерверк из всей этой кучи бумаг, являющихся показателем и оффициальной санкцией рабства и нищеты пролетариата, — тогда, будьте уверены, крестьянин их поймет и восстанет вместе с ними. Но, чтобы крестьяне поднялись, нужно непременно, чтобы почин революционного движения взяли на себя городские рабочие, потому что только эти последние соединяют в себе в настоящий момент инстинкт, ясное сознание, идею и осознанную волю социальной революции. Следовательно, вся опасность, угрожающая существованию государств сосредоточена в данный момент исключительно в городском пролетариате.
Все правительства Европы хорошо знают это, и поэтому, имея могучую поддержку со стороны богатой буржуазии, об'единенной плутократии всех стран, они употребят все усилия после войны, чтобы убить, извратить, чтобы подавить окончательно этот революционный элемент в городах. После войны 1815 г. был политический священный Союз всех государств против буржуазного либерализма. После настоящей войны, если она кончится торжеством Пруссии, т. е. торжеством международной реакции, будет Священный Союз, одновременно политический и экономический, тех же государств, ставших еще более сильными, благодаря заинтересованной помощи буржуазии всех стран, против революционного социализма пролетариата.
Таково, в общем, будет положение социализма во всей Европе. Я к этому вернусь еще. Но прежде я хочу рассмотреть, каково должно быть совершенно специальное, положение французского социализма после этой войны, если она кончится позорным и гибельным для Франции миром. Рабочие будут бесконечно более недовольны и в гораздо худшем экономическом положении, чем они были до сих пор. Это само собою понятно. Но следует-ли отсюда: 1°, что их настроение, их дух, их воля и решения станут более революционными? и 2°, что, если даже их настроение станет более революционным, им будет легче или, что у них будет такая же легкость, как в настоящий момент, совершить социальную революцию?
На каждый из этих вопросов я, не колеблясь, отвечу отрицательно, и вот почему. Primo, что касается революционного настроения рабочих масс,—я здесь не говорю, разумеется об отдельных личностях—оно не зависит только от большей или меньшей степени нищеты и недовольства, но еще и от веры рабочих масс в справедливость и необходимость торжества их дела. С тех пор как существуют политические общества, массы всегда были недовольны и всегда были бедны, потому что все политические общества, все государства, как республиканские, так и монархические, с начала истории и до наших дней, всегда и исключительно были основаны, лишь с различной степенью откровенности, на нищете и принудительном труде пролетариата. Стало быть, как материальными благами, так и политическими и общественными правами, всегда пользовались привелигированные классы; на долю же трудящихся масс во всех политически организованных обществах всегда выпадали материальные бедствия, презрение и насилие со стороны господствующих классов. Отсюда их вечное недовольство.
Но это недовольство лишь редко вызывало революции. Мы видим, что есть даже народы, доведенные до степени крайней нищеты, которые однако молчат. Отчего это происходит? Уж не довольны ли они своим положением? Нисколько. Это происходит оттого, что у них нет сознания своего права ни веры в свою собственную силу; и так как у них нет ни этого сознания ни этой веры, они в продолжение целых веков остаются беспомощными рабами. Каким образом то и другое рождается в народных массах? Сознание своего права является в индивиде следствием теоретической науки, но также и следствием его практического жизненного опыта. Первое условие, т. е. теоретическое умственное развитие еще нигде и никогда не осуществлялось для масс. Даже в европейских странах, где народное образование наиболее широко поставлено, как, напр., в Германии, оно до такой степени мизерно и в особенности так искажено, что не стоит почти о нем и говорить. Во Франции оно ничтожно. И, однако, нельзя сказать, чтобы рабочие массы последней не сознавали своих прав. Откуда же у них явилось это сознание? Единственно из их великого исторического опыта, который, развиваясь на протяжении столетий и передаваясь из века в век, постоянно возрастая и постоянно обогащаясь новыми несправедливостями, новыми страданиями и новыми несчастьями, просветила пролетарские массы. Пока народ не пришел в состояние упадка, всегда происходит прогресс в этом спасительном опыте, единственном учителе народных масс. Но нельзя сказать, что во все эпохи истории народа этот прогресс одинаков. Наоборот, он очень неровен. Иногда он идет быстрым темпом, очень чувствительный, размашистый, иногда замедляется или останавливается; иногда же кажется, что все идет вспять. Отчего так бывает?
Это, очевидно, зависит от характера событий данной исторической эпохи. Есть события, которые электризуют народ и толкают вперед; другие оказывают до такой степени плачевное, отчаянное, угнетающее действие на общее состояние народного сознания, что крайне подавляют его или совращают с пути, иногда совершенно извращают его. Можно, вообще, отличить в историческом развитии народов два противоположных движения, которые я позволю себе сравнить с морским приливом и отливом.
В некоторые эпохи, которые обыкновенно являются предвестниками великих исторических событий, великих побед человечества, кажется, что все идет ускоренным шагом, все дышит силой: умы, сердца, воля, все идет в униссон, все как будто идет к завоеванию новых горизонтов. Тогда появляется во всем обществе как бы электрический ток, который объединяет наиболее отдаленные друг от друга личности в одном общем чувстве, наиболее разнохарактерные умы в одной общей мысли и который сообщает всем одну и ту же волю. Тогда каждый полон веры, смел и бодр, потому что он чувствует себя движимым общим со всеми чувством. Таков был, чтобы оставаться в пределах современной истории, конец восемнадцатого века, накануне Великой Революции. Таков был, хотя в гораздо меньшей степени, характер эпохи, предшествовавшей революции 1848 г. Таков, наконец, я думаю, характер нашей эпохи, повидимому, возвещающей нам события, которые, может быть, превзойдут по своему величию события 1789 и 1793 г.г.
Разве то, что мы чувствуем, что мы видим в эти грандиозные, могучие эпохи, не может быть сравнено с приливом океана?
Но есть другие эпохи, мрачные, унылые, роковые, в которые все дышет упадком и смертью, и которые представляют настоящее затмение общественного и индивидуального сознания. Это отливы, которые постоянно следуют за великими историческими катастрофами. Такова была эпоха первой Империи и Реставрации. Таковы были девятнадцать или двадцать лет, которые следовали за июньской катастрофой 1848 г. Таковы будут, в еще более ужасной степени, двадцать или тридцать лет, которые последуют за победой над народной Францией армиями прусского деспота, если правда, что рабочие, что французский народ достаточно малодушен, чтобы отдать Францию.
Такая великая историческая подлость была бы доказательством, что господа профессора Германии и полковники короля Пруссии[31] правы, утверждая, что роль Франции в развитии общественных судеб человечества кончена, что яркий французский ум, этот светящий маяк новейших веков, окончательно затмился, что ему больше нечего сказать Европе, что он умер, и что, наконец, этот великий и благородный народный характер, эта энергия, этот героизм, эта французская смелость, которые бессмертной революцией 1793 г. разрушили средневековую гнусную тюрьму и открыли всем народам новый мир свободы, равенства и братства, не существуют больше; что французы до такой степени пали в настоящий момент и сделались такими неспособными хотеть, дерзать, бороться и жить, что им не остается ничего лучшего как лечь, как рабы, на пороге этого мира, у ног прусского министра.
Я вовсе не националист. Я даже ненавижу всей душой так называемый принцип национальностей и рас, который выставили Наполеоны III, Бисмарки и руские Императоры только для того, чтобы уничтожить во имя их свободу всех народов. Буржуазный патриотизм в моих глазах лишь весьма мелочная, весьма узкая, весьма корыстная в особенности и глубоко противочеловеческая страсть, имеющая целью лишь сохранение силы и мощи национального государства, т. е. сохранение всех эксплуататорских привилегий в среде данного народа. Когда народные массы патриотичны, они глупы, какова теперь часть народных масс в Германии, которые дают убивать себя десятками тысяч с глупым энтузиазмом, ради создания единства и ради установления германской империи, которая, если она когда нибудь появится на развалинах побежденной Франции, станет могилой всех надежд на будущее. Меня, стало быть, интересует в данный момент не спасение Франции, как великой политической державы, как государства, ни императорской Франции, ни королевской; ни даже французской республики.
Я считал бы громадным несчастьем для всего человечества гибель и смерть Франции, как великого национального характера; смерть этого последнего, этого французского духа, этих благородных, героических инстинктов и революционной смелости, которые дерзнули взять приступом, чтобы разрушить их, все освященные и упроченные историей авторитеты, все силы неба и земли. Если эта великая историческая натура, называемая Францией, исчезнет в данную минуту, сойдет с мировой сцены, или, что будет еще хуже если эта благородная и умная нация с своей величественной высоты, на какую ее поставили труд и героический гений прошлых поколений, упадет вдруг в грязь, продолжая жить рабом Бисмарка, громадная пустота образуется в мире. Это будет больше чем национальная катастрофа, это будет несчастье, падение всего мира.
Вообразите себе Пруссию, Германию Бисмарка, вместо Франции 1793 г., вместо той Франции, от которой мы все ждали, от которой мы еще ждем теперь почина социальной революции!
Мир до такой степени привык следовать за инициативной Францией, привык видеть ее всегда смело идущей вперед, что и теперь еще, в момент, когда она кажется погибшей, раздавленной бесчисленными армиями и когда ей изменили все оффициальные власти, также как и бессилие и очевидная глупость всех ее буржуазных республиканцев, мир, все страны Европы, удивленные, обеспокоенные, опечаленные ее видимым падением, ждут от нее еще своего спасения. Они ждут, чтобы она дала им сигнал освобождения, выбросила лозунг, подала пример. Все взоры обращены не на Мак-Магона или Базэна, а на Париж, Лион, Марсель. Революционеры всей Европы двинутся только тогда, когда двинется Франция.
Рабочая социал-демократическая партия этой великой германской нации, которая, повидимому, в настоящий момент послала всех сыновей своего дворянства и буржуазии, чтобы занять народную Францию; эта партия, которая, надо отдать ей вполне заслуженную справедливость, в самом начале войны, среди воинственного энтузиазма всей дворянской или буржуазной Германии, открыто протестовала против вторжения во Францию, ждет с тревогой и страстным нетерпением революционного движения Франции, сигнала к мировой революции. Все социалистические газеты Германии умоляют рабочих Франции провозгласить как можно скорее демократическую и социальную республику,— не ту жалкую рациональную или позитивистскую благоразумно практикуемую республику, какую рекомендует бедный Гамбетта, а великую Республику, мировую Республику пролетариата,—чтобы они могли, наконец, открыто и громко, словами и актами, протестовать вместе с настоящим германским народом против воинственной политики привилегированных классов Германии, не рискуя попасть в лагерь людей, защищающих сторону императорской Франции, Франции Наполеона III.
Таково, стало быть, теперь, и больше чем когда либо, ответственное положение революционной Франции, несмотря на все ее несчастья и, быть может, именно благодаря этим ужасным несчастьям, впрочем, вполне заслуженным. От поднятия, высоко и смело, ее знамени и торжества его, мир ждет своего спасения.
Но кто будет нести это знамя? Буржуазия? Я думаю, что достаточно уже сказал, чтобы доказать неоспоримым образом, что современная буржуазия, даже наиболее республиканская, наиболее красная, стала отныне трусливой, глупой, бессильной. Если ей в руки дадут знамя революционной Франции, она его уронит в грязь. Пролетариат Франции, городские рабочие и крестьяне, соединившись вместе, но в особенности первые, одни только могут держать высоко в своих могучих руках это знамя для спасения мира.
Такова в настоящий момент их великая миссия. Если они ее выполнят, они освободят всю Европу. Если они спасуют, они сами погибнут и осудят европейский пролетариат, по меньшей мере, на пятидесятилетнее рабство.
Они сами погибнут. Ибо не могут же они воображать, что если они согласятся теперь подпасть под иго пруссаков, они найдут в себе необходимые ум, волю и силу, чтобы совершить социальную революцию. Они очутятся, после этой постыдной катастрофы, в тысячу раз худшем положении, чем их предшественники, французские рабочие после июньской и декабрьской катастроф. Некоторые редкие рабочие могут сохранить революционные ум и волю, но у них не будет революционной веры, потому что эта вера возможна лишь, когда чувства индивида находят эхо, поддержку в инстинктах и единодушной воле масс; но они не найдут больше этого эхо и поддержки в массах: массы будут совершенно деморализованы, раздавлены, дезорганизованы и обезглавлены.
Да, дезорганизованы и обезглавлены, потому что новое правительство, это вице-королевство или вице-империя, которая будет установлена, охраняема и управляема из Берлина великим канцлером германской империи, графом Бисмарком, будет употреблять против пролетариата, и в гораздо больших еще размерах, меры общественного спасения, которые так удались сначала генералу Кавеньяку, диктатору республики, и потом этому подлому Роберу Макэр[32], который в звании принца-президента и потом французского императора спокойно убивал, грабил и позорил Францию в продолжение двадцати двух убийственных лет.
Каковы эти меры? Они очень просты. Прежде всего, чтобы окончательно дезорганизовать рабочие массы, будет совершенно уничтожено право союзов. Не только будет распущено это великое международное сообщество, которого так боятся и которое так ненавидят. Помимо мастерских , в которых французские рабочие будут подвергаться самой строгой дисциплине, им будут запрещены всякого рода союзы с какой бы целью они не создавались. Таким образом, убьют дух рабочих и всякую надежду создать в них, путем собраний и дискуссий, которые одни только могут развить их кругозор теперь, какую нибудь коллективную волю. Рабочие, как это было после декабрьских дней, будут интеллектуально и морально совершенно изолированы друг от друга и, благодаря этому изолированию, будут осуждены на полное бессилие.
В то же время, чтобы обезглавить рабочие массы, арестуют и отправят в Кайенну несколько сот, быть может, несколько тысяч самых энергичных, самых умных, самых убежденных и самых преданных рабочих, как это было сделано в 1848 и 1851 г.г.
Что будут делать тогда дезорганизованные и обезглавленные рабочие массы? Они будут щипать траву и, подгоняемые голодом, будут работать, как каторжные, чтобы обогатить своих хозяев. Ждите революций от народных масс, доведенных до подобного состояния!
Но если, несмотря на такое отчаянное положение, толкаемый этой французской энергией, которая никогда не может легко покориться смерти, толкаемый еще больше своим отчаянием, французский пролетариат восстанет, о! тогда для усмирения его будут пущены в ход старой и новой системы ружья, скорострельные и дальнобойные, и против этого опасного аргумента, против которого он не сможет выставить ни коллективный ум, ни организацию, ни коллективную волю, а лишь одно свое отчаяние, он будет в десять, во сто раз бессильнее, чем когда либо.
И тогда? — Тогда французский пролетариат перестанет считаться среди действенных сил, толкающих вперед развитие и освобождение европейского пролетариата. Могут еще быть писатели социалисты и социалистические газеты во Франции, если, однако, новое правительство и германский канцлер, граф Бисмарк, это позволят. Но ни писатели, ни философы, ни их творения, ни, наконец, социалистические газеты не составят еще живого и могучего социализма. Этот последний находит реальное существование лишь в сознательном революционном инстинкте, в коллективной воле и в собственной организации самих рабочих масс; и когда этот инстинкт, эта воля и эта организация отсутствуют, лучшие книги в мире являются лишь теориями в пустом пространстве, бессильными мечтами.
Ясно, стало быть, что если Франция подчинится Пруссии, если в этот ужасный момент, в которой ставится на карту все ее настоящее и вместе с тем все ее будущее, она не предпочтет смерть всех своих сыновей и уничтожение всех своих богатств, сожжение своих деревень, своих городов и всех своих домов — рабству под игом пруссаков, если она не поборет силою народного и революционного восстания силы бесчисленных германских армий, до сих пор побеждавших во всех пунктах, угрожающих ей в ее достоинстве, в ее свободе и даже в ее существовании, если она не станет могилою для всех этих шести сот тысяч солдат германского деспотизма, если она не противопоставит им единственное средство, способное победить их при существующих обстоятельствах, если она не ответит этому наглому вторжению социальной революцией, не менее беспощадной и в тысячу раз более грозной, — тогда, говорю я, нет сомнения, что Франция погибнет, ее рабочие массы будут рабами, и французский социализм покончит свой век.
Посмотрим, каково будет положение социализма в данном случае, каковы будут шансы рабочего освобождения в остальной Европе?
В каких странах, кроме Франции, социализм сделался действительной силой? В Германии, Бельгии, Англии и Испании.
В Италии социализм находится еще в детском состоянии. Боевая часть рабочих классов, в особенности в северной Италии, недостаточно еще освободилась от исключительных забот политического патриотизма, находясь в данном случае под могучим влиянием великого агитатора и патриота Италии, настоящего создателя итальянского единства, Джузеппе Мадзини. Итальянские рабочие—социалисты и революционеры инстинктивно и благодаря своему положению, как все без исключения рабочие в мире. Но итальянские рабочие находятся еще в почти абсолютном неведении настоящих причин жалкого положения рабочего и не знают, так сказать, истинного характера своих собственных инстинктов. Они изнемогают под бременем работы, которая едва прокармливает их, жен их и детей, с ними отвратительно обращаются, они умирают с голоду, и, слепо поддаваясь влиянию радикальной и либеральной буржуазии, они говорят о походе на Рим, точно камни Колизея и Ватикана дадут им свободу, отдых и хлеб; и они устраивают теперь по всем городам митинги, чтобы принудить своего короля послать своих солдат против папы; как будто этот король и солдаты, так же как и эта буржуазия, первые — оффициальные защитники, последняя — привилегированные эксплуататоры права собственности, не являются главными непосредственными причинами их нищеты и рабства!
Эта исключительно политическая и патриотическая забота без сомнения весьма благородна с их стороны, но нужно сознаться в то же время, что она очень глупа.
С известной точки зрения, однако, можно оправдать в некоторой степени это стремление итальянских рабочих устроить поход против Рима, так как „вечный город" является столицей интеллектуального и морального деспотизма, резиденцией непогрешимого папы. Уже века, как все итальянские города, и с большим основанием, считают власть и деятельность католического папы одной из постоянных и основных причин их несчастий и рабства, и они хотят с ним покончить, Это одно из тех самодовлеющих, исторических стремлений, которых никакие доводы, как бы справедливы они ни были, не могут преодолеть, и, может быть, необходим новый исторический опыт итальянским рабочим, новое горькое разочарование, чтобы они раскрыли, наконец, глаза, чтобы они поняли, что, посылая королевских солдат против папы, они не будут освобождены ни от солдат, ни от короля, ни от папы, и что для того, чтобы разрушить все это одним ударом вместе с дворянской и буржуазной собственностью и эксплуатацией — солдаты, король и папа лишь необходимое следствие, санкция и гарантия их—есть только одно средство: совершить сначала у себя, каждый в своем городе, но поднимая одновременно восстание во всех городах, настоящую социальную революцию. Ибо против такой революции, разразившейся одновременно во всех городах и во всех деревнях, не устоят ни папа, ни солдаты, ни дворянство, ни буржуазия.
В отношении социальной революции, можно сказать, что итальянские деревни даже идут впереди городов. Все этапы исторического развития, все политические движения прошли мимо итальянских деревень, которые до сих пор только расплачивались за них, и у них нет, поэтому, ни политических стремлений, ни патриотизма. Державшиеся всеми правительствами, сменявшими друг друга в различных частях Италии, в ужасном невежестве и нищете, они никогда не разделяли страстей, волнующих города. Находясь безраздельно под влиянием духовенства, они суеверны и в то же время очень мало религиозны. Сила духовенства в деревнях, стало быть, весьма эфемерная; она действительна только поскольку она совпадает с инстинктивной ненавистью крестьян против богатых собственников, против буржуазии и городов. Но разбудите только глубоко социалистический инстинкт, дремлющий в сердце каждого итальянского крестьянина; возобновите во всей Италии, только с революционной целью, пропаганду, какую кардинал Руффо вел в Калабрии в конце прошлого века; выбросьте только лозунг: земля принадлежит тем, кто обрабатывает ее своими руками! и вы увидите, что все итальянские крестьяне поднимутся, чтобы совершить социальную революцию; и если священники вздумают этому противиться, они их убьют.
Совершенно стихийное движение итальянских крестьян, движение, вызванное провозглашением закона о налоге на хлеб, привозимый на мельницы, показал силу природного революционного социализма итальянских крестьян. Они побили отряды регулярных войск и когда они толпою врывались в города, они всегда начинали с того, что сжигали все оффициальные бумаги, какие попадались им под руку.
Италия бесспорно находится накануне революции. Правительство Виктора Эммануила, все его министерства, сменявшие друг друга, воры, подлецы и мошенники, одни больше других, — так хорошо управляли ей, что ее политическое и финансовое положение стало теперь совершенно невозможным. Кредит государства, правительства, самого парламента, всего, что составляет оффициальный мир, подорван. Промышленность и торговля разрушены. Постоянно возрастающие налоги тяжелым бременем ложатся на страну и не в состоянии пополнить дефицит, который все увеличивается. Государство ждет банкротство. Нравственные устои не существуют больше в политическом и гражданском обществе, всякого рода взяточничество стало насущным хлебом. Нет больше ни правдивости ни добросовестности. Виктор Эммануил чувствует, что он катится вместе со своим властелином, Наполеоном III, в пропасть. Ждут только сигнала революции во Франции, революционного почина Франции, чтобы начать революцию в Италии.
Безразлично, с чего начнется эта революция. Вероятно, она начнется с этого вечного римского вопроса. Но всякая революция в Италии, каковы бы ни были ее характер и начало, неизбежно и быстро превратится в громадную, социальную революцию, ибо вопиющий, доминирующий, действительный вопрос, который скрывается за всеми другими, это ужасная нищета и рабство итальянского пролетариата. Это знают в Италии все политические деятели и все политические партии, также как и правительство. И по этому самому итальянские либералы и республиканцы колеблются. Они боятся этой социальной революции, которая грозит поглотить их.
И, однако, я не поместил Италию среди стран, в которых сознательный социализм находится в организованном виде. Эта сознательность и еще больше, организованность совершенно отсутствуют у итальянских рабочих и, конечно, еще больше у итальянских крестьян. Они социалисты, как буржуа-дворянин в одной из комедий Мольера писал прозой, не зная этого. Следовательно, почин социалистической революции не может итти от них; он должен притти к ним извне.
Я совершенно не говорю о Швейцарии. Если человеческий мир умрет, то не Швейцария его воскресит. Оставим ее.
Социализм начинает уже составлять настоящую силу в Германии. Три крупные рабочие организации: Всеобщий Союз немецких рабочих, или прежняя лассальянская организация, Allgemeiner deutscher Arbeiter Verein, Рабочая Социалдемократическая Партия (Sozial-demokratische Arbeiter Рartei), органом которой является Volksstaat, и многочисленные рабочие союзы, организованные в целях саморазвития (Arbeiter-Bildungs-Vereine) обнимают все вместе, по меньшей мере, пятьсот тысяч рабочих. Их разъединяют гораздо больше интриги и вопросы личного влияния, чем принципиальные вопросы. Первые две организации социалистические и революционные. Третья, которая остается еще наиболее многочисленной, продолжает еще отчасти находиться под влиянием либерализма и буржуазного социализма Однако, это влияние заметно уменьшается, можно надеяться что в непродолжительном времени, в особенности под впечатлением современных событий, рабочие этой третьей организации массами станут переходить в рабочую социал-демократическую партию, образовавшуюся всего лишь год тому назад после долгой борьбы между рабочими лассальянцами и рабочими Arbeiter-Bildungs-Vereine, посредством слияния части тех и других.
Господствующей организацией в данный момент бесспорно является рабочая социалдемократическая партия. Она находится в непосредственных Сношениях с Интернационалом, поскольку позволяют это нынешние законы Германии. Эти законы, конечно, очень ограничительные и строгие, имеющие главной целью помешать всеми способами образованию рабочей силы. Они запрещают и преследуют, как государственную измену, не только всякий организованный союз рабочих обществ Германии с рабочими организациями иностранных государств, но, — несмотря на великую идею германского единства, во имя которого прусский король послал соединенные армии Германии против бедной Франции, — они запрещают также рабочим организациям каждого государства, входящего в состав Германии, об'единяться с такими же организациями других государств той же самой единой Германии.
Под'ем немецких рабочих, тем не менее, слишком силен, чтобы его можно было сдерживать этими законами, и можно отметить в данный момент существование действительной, внушительной рабочей организации, об'единяющей все государства Германии и протягивающей братскую руку рабочим организациям всех других стран западной Европы,
также как и организациям Соединенных Штатов Америки.
Рабочая социалдемократическая партия и всеобщий Союз немецких рабочих, основанный Лассалем, - социалистические организации, в том смысле, что они добиваются социалистической реформы в отношениях между капиталом и трудом; лассальянцы как и партия Эйзенаха, единодушно утверждают, что для достижения этой реформы, нужно предварительно преобразовать государственный строй, и если это не удастся сделать мирным способом, путем широкой пропаганды и мирного легального рабочего движения, то надо будет произвести это изменение государственного строя силой, т. е. путем политической революции. По мнению, почти единогласному, немецких социалистов, политическая революция должна предшествовать социальной революции, — что является, по моему, громадной и роковой ошибкой, потому что всякая политическая революция, которая произойдет прежде и, следовательно, без социальной революции, необходимо будет буржуазной революцией, а буржуазная революция может самое большее способствовать проведению в жизнь только буржуазного социализма; т. е. она должна неизбежно привести к новой эксплуатации пролетариата буржуазией, более лицемерной и более искусной, может быть, но не менее давящей и угнетающей.
Эта несчастная идея политической революции, которая должна предшествовать социальной революции, как говорят немецкие социалисты, широко открывает двери рабочей социалдемократической партии всем политическим радикальным демократам Германии, у которых очень мало социализма. Таким образом, несколько раз рабочая социалдемократическая партия, увлекаемая главарями,— не своим собственным инстинктом, гораздо более народно - социалистическим, чем идеи этих главарей,— смешивалась и браталась с буржуазными демократами Народной Партии (Volkspartei) партии исключительно политической и не только чуждой но прямо враждебной всякому серьезному социализму. Это впрочем, она доказала ярким образом, как страстными патриотическими и буржуазными речами своих представителей на достопамятном народном собрании, состоявшемся в Вене в июле или августе месяце 1868 г., так и яростными нападками своих газет против венских рабочих, действительных революционных социалистов, которые во имя человеческой и всемирной демократии нарушили их патриотический и буржуазный мир и гармонию.
Эти страстные речи и нападки против социализма, этой вечной помехи, этого незванного гостя буржуазного радикализма, вызвали, можно сказать, всеобщее неодобрение со стороны рабочих Германии и поставили в крайне щекотливое и весьма затруднительное положение людей, как Либкнехт и другие, которые, желая оставаться во главе рабочих союзов, не хотели в то же время ссориться и порывать политических сношений с своими друзьями из буржуазной народной партии (Volkspartei). Главари этой партии вскоре заметили, что они совершили большую ошибку, ибо, несмотря на энергию, активность и революционную смелость, так хорошо известные и ныне вполне доказанные, буржуазии, они не могут, однако, надеяться, что, оставшись одни и без помощи пролетариата, они в состоянии совершить революцию или хотя бы составить только тень серьезной силы. Впрочем, самим делать революцию никогда не было системой буржуа. Их изобретательная система состояла в следующем: совершить революцию посредством всесильного народа и воспользоваться ее плодами для себя.Вышло, стало быть, так, что буржуа радикалы из Volkspartei должны были объясниться, извиниться в некотором роде и об'явить себя также социалистами. Их новый социализм, о котором они, впрочем, возвещали с большой помпой и трескучими фразами, не идет, конечно, дальше невинных мечтаний о буржуазной кооперации.
В продолжение целого года, с августа 1868 г. до августа 1869 г., шли дипломатические переговоры между главными представителями обеих партий, рабочей и буржуазной, и эти переговоры привели, наконец, к знаменитой программе, выработанной на конгрессе в Эйзенахе (7, 8 и 9 августа 1869 г.), на котором окончательно составилась рабочая социал-демократическая партия.
Эта программа—настоящая сделка между социалистической и революционной программой международного общества Рабочих, так ясно изложенной на Брюссельском и и Базельском с'ездах, и хорошо известной программой буржуазного демократизма.
Вот три главных пункта, в совершенстве рисующих политический характер новой социалдемократической рабочей партии:
Пункт I. — Рабочая социалдемократическая партия в Германии стремится к установлению свободного государства (die Einrichtung eines freien Volksstaats).
Пункт II. — Каждый член paбoчeй социалдемократической партии обязуется служить всеми средствами следующим принципам:
1. Современные политические и социальные условия в высшей степени несправедливы и следовательно, должны быть самым энергичным образом отвергнуты.
2. Борьба за освобождение рабочих не является борьбой за установление новых классовых привилегий, а борьбой за равенство прав и обязанностей и за уничтожение всякого классового господства.
3. Зависимость, в какой находится рабочий от капиталиста, есть главная основа рабства во всех его формах. Рабочая социалдемократическая партия стремится посредством уничтожения системы современного производства, завоевать для рабочего полный продукт его труда.
4. Политическая свобода есть необходимое предварительное условие (die unentbehrlichste Vorbedingung) экономической свободы рабочих классов. Следовательно, социальный вопрос тесно связан с политическим вопросом. Решение его возможно только в демократическом государстве.
5. Принимая во внимание, что политическое и экономическое освобождение рабочего класса возможно лишь при условии об'единения всех рабочих для одной общей цели, рабочая социалдемократическая партия в Германии образует единую организацию, которая, однако, позволяет каждому члену употреблять свое личное влияние для общего блага.
6. Принимая во внимание, что освобождение труда не является местным вопросом ни даже национальным вопросом, что это социальный вопрос, обнимающий все страны, в которых осуществлены условия современного общества, рабочая социалдемократическая партия, насколько позволяют существующие законы о союзах, считает себя ветвью Международного Общества Рабочих, стремления которого она разделяет. Комитет (Vorstand) партии будет, стало быть, оффициально сноситься с Генеральным Советом.
Пункт III. — Ближайшие требования (die nachsten Forderungen) за осуществление которых должна агитировать рабочая социалдемократическая партия, следующие.
1. Избирательное право, прямое и тайное, для всех мужчин, достигших двадцатилетнего возраста, для производства выборов как в федеральный парламент, так и в парламенты различных государств входящих в состав Германии а также для избрания членов провинциальных и коммунальных представительств и всех других представительных учреждений.
2. Прямое народное законодательство, с правом предлагать и отвергать законы.
3. Уничтожение всех привилегий, классовых, имущественных, сословных и связанных с принадлежностью к тому или иному вероисповеданию.
4. Введение народного вооружения, заменяющего постоянную армию.
5. Отделение Церкви от государства и отделение школы от Церкви.
6. Обязательное обучение в народных школах. Бесплатное обучение во всех общественных учебных заведениях.
7. Независимость трибуналов, учреждение суда присяжных и общественного разбирательства дела.
8. Упразднение всех законов, касающихся права собраний, товариществ и коалиции: полная свобода пpессы. Определение нормального рабочего дня. Запрещение детского труда и ограничение женского труда в промышленных заведениях.
9. Уничтожение всех косвенных налогов, введение прямого подоходного налога.
10. Государственная помощь рабочей кооперации и государственный кредит производительным товариществам.
Эти три пункта, в своем развитии, выражают в совершенстве, не полноту социалистических и революционных инстинктов и стремлений рабочих, входящих в состав этой новой социалдемократической организации в Германии, а стремления главарей, которые выработали программу и руководят теперь партией.
Первый пункт нас прежде всего поражает полным разногласием с духом и текстом основной программы Международного Общества. Социалдемократическая партия хочет создания свободного народного государства. Два последних слова, народное и свободное, звучат хорошо, но первое слово, государство должно коробить истинного революционного социалиста, решительного и искреннего врага всех буржуазных учреждений без исключения; оно находится в прямом противоречии с самой целью Международного Общества и совершенно уничтожает смысл двух слов, следующих за ним.
Международное Общество Рабочих означает отрицание государства, так как всякое государство должно необходимо быть национальным государством. Или, может быть, авторы программы подразумевали международное государство, мировое государство или, по крайней мере, в более ограниченном смысле государство, которое обнимало бы все страны западной Европы, где существует, употребляя излюбленное выражение немецких социалистов, „современное общество, или цивилизация", т. е. общество, в котором капитал, ставший единственным хозяином труда, сконцентрирован в руках привилегированного класса, буржуазии, и, благодаря этой концентрации, довел рабочих до рабского и нищенского состояния? Не стремятся ли вожди социалдемократической партии создать государство, которое, обняло бы всю западную Европу, Англию, Францию, Германию, все скандинавские страны, все славянские страны, подчиненные Австрии, Бельгию, Голландию, Швейцарию, Италию, Испанию и Португалию?
Нет, их воображение и политический аппетит не охватывают сразу столько стран. Они страстно хотят, не стараясь даже замаскировать этой силы желания, организации их германского отечества, великой германской единицы. Создание исключительно германского государства первый пункт их программы ставит главной и высшей целью рабочей демократической социалистической партии. Они прежде всего политические патриоты.
Но что же они тогда оставляют интернационализму? Что дают эти немецкие патриоты международному братству рабочих всех стран? Лишь социалистические фразы, без возможности их осуществить, так как главная, первая, исключительно политическая основа их программы, германское государство, уничтожает их.
В самом деле, раз немецкие рабочие должны прежде всего стремиться к созданию германского государства, солидарность, которая должна об'единить их и сплотить в одну массу с их братьями, эксплуатируемыми рабочими всего мира, и которая должна быть, по моему, главной и единственной основой рабочих союзов всех стран; эта международная солидарность должна необходимо быть принесена в жертву патриотизму, национальному патриотизму, национальному патриотическому чувству и может случиться, что рабочие, деля себя между этими двумя отечествами, между двумя противоположными стремлениями, — социалистическая солидарность труда и политический патриотизм национального государства, и жертвуя, как они должны, впрочем, это сделать, если они повинуются 1-му пункту программы немецкой социалдемократической партии, жертвуя, говорю я, международной солидарностью патриотизму, окажутся в неприятном положении быть заодно с своими соотечественниками буржуа против рабочих иностранного государства. Это, именно, и случилось в настоящий момент с немецкими рабочими.
Интересное зрелище представляла из себя борьба, поднявшаяся в начале войны среди рабочих масс Германии, между принципами германского патриотизма, к принятию которых их обязывает их партия, и их собственными глубоко социалистическими инстинктами. Вначале можно было думать, что их патриотизм возьмет верх над социализмом и бояться, что они поддадутся галлофобскому и воинственному энтузиазму громадного большинства германских буржуа[33]. На одном из рабочих собраний социалдемократической партии, состоявшемся в Брунсвике в конце июля месяца, было произнесено много речей, отдававших наичистейшим патриотизмом, но в то же время и по этому самому, совершенно лишенных чувства справедливости и международного братства.
На благородные, вполне социалистические и действительно братские приветственные письма рабочих парижского Интернационала и Интернационала других городов Франции было отвечено бранью против Наполеона III, — точно есть что нибудь общее между этим мерзким и преступным мошенником, который в продолжение двадцати лет носил титул французского императора, и французскими рабочими? — и ироническим советом свергнуть как можно скорее своего тирана, чтобы заслужить симпатии европейской демократии. Читая эти речи, можно было бы подумать, что перед вами люди свободные и гордые сознанием своей свободы, обращающиеся к рабам. Видя это гордое германское негодование против тирании и бесчестности Наполеона III, можно было бы вообразить, что мечта социалдемократий, народное и свободное государство, уже осуществлена в Германии и что немецким рабочим есть основание быть довольными своими правительствами!
Есть ли между политикой Наполеона III и политикой великого германского канцлера, графа Бисмарка, какая нибудь другая разница, кроме той, что первая была неудачная, а вторая счастливая? По существу, обе совершенно одинаково безнравственны, деспотичны, нарушающие все человеческие права. Или, может быть, немецкие рабочие имеют наивность думать, что Бисмарк, как политический деятель, нравственнее Наполеона III и что он остановится перед каким бы то ни было безнравственным актом, когда дело будет итти о достижении какой нибудь политической цели?
Если они могут это думать, значит, они не вникали в политику своего великого канцлера, в особенности, за эти последние годы, со времени последнего польского восстания, во время которого он играл роль немого соучастника московских палачей; и, значит, они никогда не думали о самой сущности политики. Если они могут еще верить в политическую нравственность, даже только относительную, графа Бисмарка, значит они мало читали свои собственные газеты и газеты буржуазной политической партии, в которых все преступные измены против свободы народов, вообще, и против германского отечества в частности в пользу прусской гегемонии, были вполне разоблачены.
Heт сомнения, что когда Бисмарк предпринял, заодно с бедной Австрией, которую он надул, свою национальную и политическую кампанию против маленькой Дании, он был уже в заговоре против Наполеона III. Нет сомнения также что когда он предпринял свою прусскую, анти-германскую кампанию против Австрии и против немецких монархов, союзников Австрии, он был с одной стороны в союзе с русским императором, а с другой—с Наполеоном III. Неожиданные обстоятельства, нежданный и быстрый триумф прусской армии позволили ему обмануть того и другого. Но, тем не менее, достоверно, что Бисмарк дал Наполеону III положительные обещания, в ущерб целости германской территории, также как и бельгийского королевства и что он сдержал бы свои обещания, если бы Наполеон III проявил себя более энергичным и более ловким. Вся разница между Наполеоном III и графом Бисмарком, как политическими деятелями, состоит, стало быть, в следующем: ловкость, т. е. шельмовство одного превзошло шельмовство другого. Против плута плут с половиной, вот и все. В остальном, все то же презрение к человечеству и ко всему, что называется человеческим правом, к человеческой морали и убеждение, не только теоретическое, но практическое, ежедневно практикуемое и проявляемое, что все средства хороши и все преступления позволены, когда дело идет о достижении высшей цели всякой политики: сохранение и усиление мощи государства. Граф Бисмарк, который прежде всего умный человек, должен смеяться, когда он слышит, что говорят о его нравственности и его политической добродетели. Если бы он принял в серьез эти похвалы, он мог бы даже обидеться, потому что с точки зрения государства добродетель и нравственность означают не что иное, как политическую тупостъ. Бисмарк—человек положительный и серьезный. Стремясь к цели, он хочет иметь все средства для достижения ее и, так как он в то же время человек энергичный и очень решительный, он не отступит ни перед каким средством, которое может служить величию Пруссии.
Я позволю себе привести здесь по этому поводу несколько слов из речи, которую я произнес ровно два года тому назад на конгрессе Лиги Мира и Свободы, происходившем в Берне в 1868 г. Это была в некотором роде моя прощальная речь, ибо, так как этот конгресс буржуазного радикализма отверг социалистическую программу, которую мы, мои друзья и я, представили ему, я вышел вместе с ними из Лиги. Отвечая на вопросы и скрытые нападки некоторых немецких демократов и даже социалистов, я кончил свою речь следующими словами:
„Наконец, резюмируя все сказанное, я повторяю энергично: Да, мы хотим радикального разложения Всероссийской Империи, полного уничтожения ее могущества и ее существования. Мы хотим этого столько же из чувства справедливости, сколько из патриотизма.
„И теперь, когда я достаточно ясно объяснился, не оставив места, как мне кажется, никаким недоразумениям, я позволю себе в свою очередь обратиться с вопросом к спрашивавшим меня немецким друзьям.
„Хотят ли они, в своей любви к справедливости и свободе, отказаться от всех польских провинций, завоеванных оружием, каковы бы ни были их географическое положение и стратегическое и коммерческое значение для Германии? Хотят ли они отказаться от всех тех польских провинций, население которых не хочет быть немцами! Хотят ли они отказаться от своих так называемых исторических прав на всю ту часть Богемии, которую немцам неудалось онемечить знакомыми нам невинными средствами; на всю территорию Силезии, Моравии и Чехии, в которой ненависть, увы! слишком законная, против немецкого господства не может подлежать сомнению? Хотят ли они отвергнуть, во имя справедливости и свободы, эту честолюбивую политику Пруссии, которая, во имя торговых и морских интересов Германии, хочет, силою, включить датское население, живущее в Шлезвиге, в состав северной великой германской конфедерации? Хотят ли они перестать требовать себе, во имя тех же торговых и морских интересов, город и территорию Триест, которые гораздо больше славянские, чем итальянские, и гораздо больше итальянские, чем немецкие? Одним словом, хотят ли они отказаться со своей стороны, как они требуют этого от других, от всякой государственной политики и принять для себя, как для других, все условия, как и все обязанности справедливости и свободы! Хотят ли они принять во всей их полноте и во всех их применениях следующие принципы, которые одни только могут сделать возможными мир и международную справедливость:
„1°. Уничтожение всего, что называется историческим правом, (правом завоевания) и политическими соображениями государства, во имя высшего права всех народностей (Европы и всего мира), малых или больших, слабых или сильных (цивилизованных или нецивилизованных), а также и всех индивидов, вполне свободно располагать собою и считаясь с нуждами и претензиями государств и без других ограничений этой свободы, кроме такого же права другого;
„2°. Уничтожение всех постоянных договоров между всеми личностями, также как и между всеми коллективными единицами: местными (коммунальными) сообществами, провинциями и народами; что означает признание за каждым народом, если он даже добровольно присоединился к другому народу, права порвать договор по удовлетворении всех взятых им на себя временных и ограниченных обязательств. Это право основано на том принципе—существенном условии свободы,—что прошлое не должно и не может связывать настоящего, как настоящее никогда не может связывать будущего, и что высшее право всегда пребывает в настоящих поколениях;
,,3°. Признание права отделения за личностью, также как за сообществом, коммунами, провинциями и народами, при одном условии, чтобы выходящая сторона не подвергала опасности остающуюся сторону новым союзом с иностранной враждебной и угрожающей державой?
„Вот настоящие и единственные условия справедливости и свободы. Хотят ли наши немецкие друзья принять их также чистосердечно, как принимаем их мы? Короче говоря, хотят ли они вместе с нами разрушения государства, всех государств!
„В этом весь вопрос, господа. Так как государство, это насилие, угнетение, эксплуатация, несправедливость, возведенные в систему и ставшие основными условиями самого существования общества. У государства, господа, никогда не может быть морали. Его мораль и его единственная справедливость, это высший интерес своего собственного сохранения и своего всемогущества, интерес, перед которым все, что есть человеческого, должно склоняться. Государство, это само отрицание человечества. Оно является таковым вдвойне: и как противоположность человеческой свободе и человеческой справедливости (внутри), и как насильственное нарушение всемирной солидарности человеческой расы (за своими пределами). Мировое государство, которое пробовали создать несколько раз, всегда оказывалось невозможным, так как, пока будет государство, будут государства. И так как каждое государство является как абсолютная самоцель, ставя культ своего существа, как высший закон, которому должны быть подчинены все другие законы, то отсюда следует, что пока будут государства, будет постоянно война. Всякое государство должно завоевывать другие или быть завоеванным. Всякое государство должно основывать свою силу на слабости и, если оно может это сделать без опасности для себя, на уничтожении других государств.
„Хотеть, господа, того, чего хочет конгресс, хотеть установления международной справедливости,—международной свободы и вечного мира, и в то же время хотеть сохранения государств было бы, стало быть, с нашей стороны смешным противоречием и наивностью. Заставить государства изменить свою природу невозможно, потому что именно ею они государства, и они не могут от нее избавиться, не перестав тотчас же существовать. Следовательно, господа, нет и не может быть хорошего, справедливого, добродетельного государства. Все государства плохи, в том смысле, что по своей природе, по своей сущности, всеми условиями и по высшей цели своего существование они противоположны человеческой свободе, нравственности и справедливости. И в этом отношении, что бы ни говорили, нет большой разницы между дикой Всероссийской Империей и самым цивилизованным европейским государством. Знаете, в чем заключается эта разница? Царская империя делает цинично то, что другие делают лицемерно. Царская империя с своими откровенным деспотическим образом действия и пренебрежительно относящаяся к человечеству, является единственным идеалом, к которому стремятся и которым втайне восхищаются все государственные деятели Европы. Все европейские государства делают то, что делает она, поскольку общественное мнение и, в особенности, поскольку новая, но уже могучая солидарность рабочих масс Европы позволяют это,—мнение и солидарность, которые содержат в себе зародыши разрушения государств. Добродетельные государства, господа, только бессильные государства. Да и они весьма преступны в своих мечтаниях.
,, Я кончаю: Кто хочет вместе с нами установления свободы, справедливости и мира, кто хочет торжества человечества, кто хочет радикального и полного освобождения (экономического и политического) народных масс, должен хотеть, как мы, растворения всех государств в мировой федерации , производительных и свободных товариществ всех стран."
Ясно, что пока цель немецких рабочих будет состоять в создании национального государства, каким бы свободным и народным они не воображали себе это государство,— а от воображения до осуществления далеко, в особенности, когда воображение предполагает невозможное примирение двух элементов, двух принципов, государство и народная свобода, которые взаимно уничтожают друг друга,—ясно, что они будут продолжать жертвовать всегда народную свободу величию государства, социализм политике и справедливость, международное братство, патриотизму. Ясно, что их собственное экономическое освобождение будет лишь прекрасной мечтой, вечно отсылаемой в отдаленное будущее.
Невозможно одновременно достигнуть двух противоположных целей. Так как социализм, социальная революция заключают в себе разрушение государства, то ясно, что тот, кто стремится к государственному устройству, должен отказаться от социализма, должен пожертвовать экономическим освобождением масс политическому могуществу какой нибудь привилегированной партии.
Германская социал-демократическая партия должна пожертвовать экономическим освобождением и, следовательно, также политическим освобождением пролетариата или, скорее, его освобождением от политики честолюбию и торжеству буржуазной демократии. Это ясно вытекает из 2-го и 3-го пунктов ее программы.
Первые три параграфа пункта 2 вполне согласны социалистическому принципу Международного Общества Рабочих, программу которого они воспроизводят почти в точности. Но четвертый параграф того же пункта, объявляющий, что политическая свобода есть предварительное условие экономического освобождения, совершенно уничтожает практическую цену этого признания принципа. Он может означать лишь следующее:
„Рабочие, вы—рабы, жертвы собственности и капитала. Вы хотите освободиться от этого экономического ига. Прекрасно, и ваши желания вполне законны. Но, чтобы осуществить их, вы должны нам сначала помочь совершить пoлитическую революцию. Впоследствии мы поможем вам совершить социальную Революцию. Дайте нам сначала создать, вашею силою, демократическое государство, хорошую буржуазную демократию, как в Швейцарии, а потом...—потом мы вам дадим такое же благосостояние, каким пользуются рабочие в Швейцарии. (см. женевскую и базельскую стачки).
Чтобы убедиться, что эта невероятная бессмыслица выражает действительно тенденции и дух немецкой социалдемократической партии,—как программы, а не как естественных стремлений входящих в ее состав немецких рабочих,—стоит только хорошенько прочесть пункт III, в котором перечислены все непосредственные и ближайшие требования, какие должна выставить партия, ведя в пользу их осуществления мирную и легальную агитацию. Все эти требования, за исключением десятого, которое не было даже предложено авторами программы, а было прибавлено позднее во время дискуссий, вызванных одним предложением одного из членов с'езда в Эйзенахе, — все эти требования имеют исключительно политический характер. Все эти пункты, предложенные, как главная цель непосредственной политической деятельности партии, есть ничто иное, как хорошо известная программа буржуазной демократии: всеобщее избирательное право с прямым народным законодательством; уничтожение всех политических привилегий; народное вооружение; отделение церкви от государства и школы от церкви; бесплатное и обязательное обучение; свобода прессы, союзов, собраний и коалиции; превращение всех косвенных налогов в один прямой, прогрессивный подоходный налог.
Вот, стало быть, что составляет в настоящий момент истинную, действительную цель этой партии: исключительно политические реформы в области государственных учреждений и законов. He прaв ли я был, говоря, что эта программа социалистическая лишь в мечтаниях, для отдаленного будущего, но что в действительности это чисто политическая и буржуазная программа, настолько буржуазная, что ни один из наших бывших коллег из Лиги Мира и Свободы, не колеблясь, подписал бы ее? Не вправе ли я также сказать, что если о социалдемократической партии немецких рабочих будут судить по ее программе,—чего я никогда не сделаю, так как я знаю, что действительные стремления рабочих идут гораздо дальше этой программы,—то будут иметь право думать, что создание этой партии имело целью лишь использовать рабочие массы, как слепое орудие, для достижения политических целей германской буржуазной демократии?
В этой программе есть только два пункта, которые будут не по вкусу буржуазии. Первый заключается во второй половине восьмого параграфа пункта III в котором требуется установление нормального рабочего дня, упразднение детского труда и ограничение женского труда, вещи, всегда вызывающие гримасу у буржуа потому что, страстные поклонники всех свобод, которые можно, обратить в свою пользу, они громко требуют для пролетариата свободы давать себя эксплуатировать, давить, обременять работой, и чтобы государство в это не вмешивалось. Однако, времена настали такие тяжелые для бедных буржуа, что они согласились на это вмешательство государства, даже в Англии, современная общественная организация которой, насколько я знаю, еще отнюдь не социалистическая.
Другой пункт, гораздо более важный и гораздо более определенного социалистического характера, содержится в десятом параграфе пункта III, параграфе, который, как я уже заметил, не был предложен самими редакторами программы, но был внесен после, по инициативе одного из членов с'езда в Эйзенахе и предложен во время прений по поводу программы. Этот пункт требует поддержки, помощи и кредита государства для рабочей кооперации и, в особенности, для производительных товариществ, со всеми желательными гарантиями свободы.
Это пункт, на который ни один буржуазный демократ не согласится добровольно, потому что он находится в абсолютном противоречии с тем, что буржуазная демократия и буржуазный социализм называют свободой. Действительно, свобода эксплуатации труда пролетариата, вынужденного продавать его капиталу по самой низкой цене, вынужденного не каким нибудь политическим или гражданским законом, а экономическим положением, в каком он находится, страхом и опасением голода; эта свобода, говорю я, не боится конкуренции каких бы то ни было рабочих товариществ, потребительных, взаимного кредита или производительных, по той простой причине, что рабочие организации, предоставленные своим собственным средствам, никогда ни будут в состоянии образовать капитал, способный бороться с буржуазным капиталом. Но когда рабочие товарищества будут поддерживаться государственной силой, громадным государственным кредитом, не только они будут в состоянии бороться, они, с течением времени победят буржуазные промышленные и торговые предприятия, основанные исключительно на частном капитале, даже если это будет колективный капитал, представленный акционерным обществом капиталистов, так как государство, конечно, является наиболее сильным из всех акционерных обществ.
Труд, кредитованный государством, таков основной принцип авторитарного коммунизма, государственного социализма. Государство, ставшее единственным собственником, —
по окончании некоторого периода, необходимого для перехода общества, без слишком больших экономических и политических потрясений, от современной организации буржуазной привилегии к будущей организации официального равенства всех, — государство будет также единственным капиталистом, банкиром, организатором, управляющим всем национальным трудом и распределителем его продуктов. Таков идеал, основной принцип новейшего коммунизма.
Выставленный в первый раз Бабефом к концу великой французской революции, со всем аппаратом античного патриотизма и революционного насилия, составлявших характер
той эпохи, он был воспроизведен в миниатюре около тридцати лет тому назад Луи Бланом, в его крошечной брошюрке об Организации труда, в которой этот почтенный гражданин, гораздо менее революционный и гораздо более снисходительный к буржуазным слабостям, чем Бабеф, старался позолотить и смягчить пилюлю, чтобы буржуа могли проглотить ее, не подозревая, что они принимают яд, который должен убить их. Буржуа не дали себя обмануть и, платя грубостью за вежливость, они выслали Луи Блана из Франции. Несмотря на это, с постоянством, достойным удивления, Луи Блан остается верным своей экономической системе и продолжает верить, что будущее заключается в его маленькой брошюрке об организации труда.
Коммунистическая идея с тех пор перешла в более серьезные руки. Карл Маркс, бесспорный глава социалистической партии в Германии,—крупный ум, вооруженный глубокими научными познаниями, и вся жизнь которого, можно сказать это без всякой лести, была исключительно посвящена величайшему делу данной эпохи, делу освобождения труда и рабочих, — Карл Маркс, который бесспорно также, если и не единственный, то, во всяком случае один из главных основателей Международного Товарищества Рабочих, написал серьезный труд о развитии коммунистической идеи. Его крупное произведение, Капитал, отнюдь не фантазия, не умозрительная концепция, родившаяся внезапно в мозгу какого нибудь юноши, более или менее невежественного в понимании экономических условий общества и современной системы производства. Он основан на очень широком, очень детальном знании и на глубоком анализе этой системы и ее условий. Карл Маркс — пучина статистических и экономических знаний. Труд его о капитале, хотя, к сожалению, испещренный формулами и метафизическими тонкостями, делающими его недоступным пониманию масс, в высшей степени позитивистское и реалистическое произведение, в том смысле, что он не допускает другой логики, кроме логики фактов.
Живя около тридцати лет почти исключительно среди немецких рабочих, политических эмигрантов, как и он, окруженный несколькими более или менее умными друзьями и учениками, принадлежащими по своему рождению и связям к буржуазному миру, Карл Маркс естественно пришел к созданию школы, нечто вроде небольшой коммунистической церкви, состоящей из горячих адептов его идеи и распространяющей свою деятельность на всю Германию. Эта церковь, как бы она ни была мала в численном отношении, умело и искусно организована и, благодаря своим многочисленным связям с рабочими организациями всех главных пунктов Германии, она уже составляет силу. Карл Маркс, конечно, пользуется в этой церкви почти верховным авторитетом и, надо ему отдать справедливость, он умеет управлять этой маленькой армией фанатических сторонников таким образом, что престиж и власть его все возрастают среди рабочих Гармании.
Коммунистическая идея Карла Маркса проглядывает во всех его писаниях, она также проявилась в предложениях, внесенных Генеральным Советом Международного Товарищества Рабочих, пребывающем в Лондоне, на Базельском с'езде, также как и в предложениях, которые он предполагал внести на с'езд, назначенный на сентябрь нынешнего года и отмененный, благодаря войне. Карл Маркс, член Лондонского Генерального Совета и секретарь-корреспондент для Германии, пользуется в Совете, как известно, большим, и нужно прибавить, законным влиянием, так что можно быть уверенным, что предложения, внесенные Генеральным Советом на с'езде, составлены, главным образом, Карлом Марксом в духе его системы.
На Базельском с'езде английский гражданин Люкрафт член Генерального Совета, выразил идею, что вся земля страны должна стать собственностью государства и что обработка ее должна находиться под управлением и административным надзором государственных чиновников, „что, прибавил он, возможно лишь в социалдемократическом государстве, в котором народ будет следить за хорошим управлением национального земельного хозяйства государством".
На том же с'езде, когда обсуждалось предложение об упразднении наследственного права, предложение, получившее относительное большинство голосов, все члены Генерального Совета, все английские делегаты и громадное большинство немецких делегатов голосовали против этого предложения, исходя из специальных соображений, развитых гражданином Эккариусом от имени Генерального Совета, „что когда коллективная собственность на землю, капиталы и, вообще, на все средства производства будет признана и установлена в какой нибудь стране, упразднение наследственного права станет лишним, так как оно должно отпасть само собой, когда нечего будет наследовать". Но по странному противоречию, тот же самый гражданин Эккариус, от имени того же Генерального Совета, внес контр-предложение о временном установлении налога на наследство в пользу рабочих масс, что показывает, что Генеральный Совет не надеется, чтобы коллективная собственность могла быть установлена теперь, посредством революции, но он надеется, что она установится постепенно, путем последовательных политических сделок с буржуазной собственностью.
Делегаты немецких рабочих союзов, которые появились в первый раз в большом количестве на с'езде Интернационала, внесли кроме того — сговорившись с делегатами немецкой Швейцарии — новое предложение, впрочем, совершенно согласное с их Эйзенахской программой, и стремящееся ни больше ни меньше, как ввести принцип национальной или буржуазной политики в программу Интернационала. Это предложение — о прямом народном законодательстве, как предварительном, абсолютно необходимом средстве для достижения социальных реформ,—было внесено гражданином Бюркли из Цюриха, и горячо поддерживалось гражданами Гег, Риттингаузеном, Бругином и Либкнехтом. Оно вызвало довольно оживленные дебаты, во время которых гражданин Либкнехт, один из главных вождей социалдемократической партии в Германии, заявил, что те, кто не хочет обсуждать этот вопрос, реакционеры, что он совершенно законен и не терпит отлагательства, так как само Международное Товарищество Рабочих на своих предыдущих с'ездах, а именно на с'езде в Лозанне (в 1867 г.) провозгласило, что политический вопрос неразрывно связан с социальным вопросом; и что, наконец, если это предложение не кажется имеющим большое значение в Париже, Вене, Брюсселе, где социальный вопрос не может обсуждаться в своей политической форме благодаря существующим политическим условиям, оно имеет большое значение для стран, в которых этой невозможности не существует.
Благодаря упорству французских, итальянских, испанских, бельгийских делегатов, и части делегатов романской Швейцарии, это предложение было отклонено. Вопрос этот больше не поднимался на Базельском с'езде. Inde irае.
…............
[Здесь текст прерывается. Дальнейшая часть рукописи представляет длинное неоконченное примечание к словам. Inde Irae]
Примечание. — Гнев немецкой партии, был, действительно, очень силен. Особенно он был силен против меня, так как они обвиняли меня, не знаю почему, что я был главным зачинщиком, если не главой энергичной оппозиции, какую встречала со всех сторон во время всего Базельского с'езда эта национальная и буржуазная политика, которую они нам предлагали, как политику Интернационала. Правда, я оспаривал ее со всей энергией, на какую только способен, потому что я считаю ее гибельной для Международного Товарищества, потому что она извращает, по моему, самый принцип этого великого Товарищества, потому, наконец, что она совершенно противоположна революционному социализму, этой международной политике пролетариата, которая по моему внутреннему убеждению одна может спасти его и дать ему победу.
Я бы решительно ничего не имел против, если бы мои противники, немецкие социалисты, ограничились нападением на мои принципы, с силою, даже с гневом. Так как эти принципы им кажутся плохими, то, нападая на них, они пользуются своим правом, они выполняют даже свой долг. Но я не понимаю, как люди уважающие себя и претендующие на уважение к себе других, могут употреблять в борьбе против своего противника подлые средства, гнусную ложь и клевету.
Вот уже год, как я подвергаюсь с их стороны самым гнусным сознательно ложными в то же время самым смешным обвинениям. Это вполне организованная и хорошо комбинированная кампания. Главный вдохновитель и главарь этой войны против меня мне известен. Он остается невидимым за лондонскими туманами, как Моисей за облаками горы Синая. Законодатель немецких евреев, социалистов наших дней, он является вдохновителем слова и действия своих учеников. На нем, стало быть, лежит большая часть ответственности за все, что они говорят и за все, что они делают. Это человек, достойный величайшего уважения во многих отношениях, но который часто заслуживает энергичное порицание. Тщеславный и легко поддающийся гневу, когда его тщеславие задето, он слишком часто отождествляет свою собственную личность, немного избалованную рабским поклонением своих учеников и друзей, с принципами и свою личную злобу против кого нибудь с служением делу, являясь, впрочем, одним из самых блестящих и самых полезных служителей его. Я не хочу еще его называть, но он принужден будет сам назвать себя. И тогда я об'яснюсь с ним прямо и публично. Я ограничусь в данный момент мелкой рыбешкой, этими мелкими негодяями, которые обыкновенно служат ему авангардом, когда под влиянием какой нибудь дурной мысли он хочет совершить дурной поступок.
Первый открыл против меня поход после Базельского с'езда г-н Мориц Гесс, когда то бывший честолюбивым и ревнивым соперником, а ныне, без сомнения из сознания своего бессилия, ставший рабски почтительным куртизаном современного Моисея. В статье, направленной против меня и помещенной 2 октября 1869 г. в парижской гезете Reveil, статье, которую Делеклюз имел несправедливость принять, —несправедливость, впрочем, благородна, исправленную им в сделанном им самим лойяльном заявлении в одном из последующих номеров Reveil (22 октября), — Мориц Гесс имел нахальство написать следующие строки, которые я не могу назвать иначе, как гнусными. Я приведу целиком статью Морица Гесс:
„Отрицательное голосование[34] Базельского с'езда (по вопросу об упразднении наследственного права), несмотря на его голосование, благоприятное коллективистическому принципу, остается загадкой для тех, кто не знаком с тайной историей этого с'езда. В Базеле произошло нечто аналогичное тому, что имело место за месяц раньше на с'езде в Эйзенахе[35].
„Известно, что это была оппозиция против прусского коммунизма г. фон Швейцера, который одержал победу в Эйзенахе. Правда, в Базеле не надо было бороться против прусской партии, которая не была даже там представлена. Но зато там была русская партия[36] близкая родственница прусской партии[37]. Нужно ли говорить? Сторонники Бакунина[38], главы русского коммунизма[39], не подозревали о той услуге, какую они оказывали панславистским интересам, как и простачки г. фон Швейцера не подозревали, что играют в руку прусского пангерманизма. Как бы там ни было, те и другие работали для короля Пруссии[40].
„Русская партия не существовала еще на предыдущих с'ездах Интернационала. Только в прошлом году была сделана попытка изменить организацию и принципы Интернационала, также как перенести резиденцию Генерального Совета из Лондона в Женеву русским патриотом Бакуниным[41], добросовестность которого мы не подозреваем...[42]
(Рукопись прерывается здесь)
Парижская Коммуна и понятие о государственности.
Этот труд, как и все, до сих пор написаное мною, вызван текущими событиями. Он служит естественным продолжением моих „Писем французу" (сентябрь 1870 г.), в которых мне на долю выпала не трудная, но скорбная честь предвидеть и предсказать ужасные бедствия, раздирающие ныне Францию, а с нею и весь цивилизованный мир; бедствия, против которых было и есть только одно лекарство: социальная революция.
Задача настоящего труда—доказать эту отныне неоспоримую истину, как доводами, почерпнутыми из истории, так и фактами, совершающимися на наших глазах в Европе, и таким образом заставить всех чистосердечных людей, искренно ищущих правды, принять эту истину и открыто без умолчаний и обиняков, признать как философские принципы, так и вытекающие из них практические действия, составляющие, так сказать, деятельную душу, основание и цель того, что мы называем социальной революцией.
Задача, взятая мною на себя, не легка. Я это знаю, и меня можно было бы обвинить в излишней самонадеянности, если бы я внес в этот труд хотя малейшее личное притязание. Но могу уверить читателя, что этого нет. Я не ученый, не философ и не писатель по профессии. В течение моей жизни я очень редко выступал в литературе, и всегда или в защиту себя, или вынужденный страстным убеждением, побеждавшим во мне инстинктивное отвращение ко всякому публичному проявлению моего „я".
Кто же я, и что побуждает меня выпустить в свет этот труд? Я — страстный искатель истины и не менее ожесточенный враг зловредных вымыслов, которыми и до ныне пользуется партия порядка, этот официальный представитель привилегированного меньшинства, в интересах которого отстаивать все религиозные, метафизические, политические, юридические, экономические и социальные гнусности, настоящие и прошедшие, имеющие целью — держать людей в невежестве и рабстве. Я — фанатический приверженец свободы, видящий в ней единственную среду, где может развиться и процвести ум, достоинство и счастье людей; не той формальной свободы, жалованной, размеренной и регламентированной государством, которая есть вечная ложь и которая в действительности представляет не что иное как привилегию избранных, основанную на рабстве всех остальных, не той индивидуалистической, эгоистичной, скудной и призрачной свободы, которая была провозглашена школой Ж . Ж . Руссо, и всеми другими школами буржуазного либерализма, и которая смотрела на так называемое общее право, выражаемое государством, как на ограничение прав каждого отдельного лица,— что всегда и неизбежно сводит к нулю право каждого отдельного индивида.
Нет я имею в виду одну свободу, достойную этого имен и , свободу, предоставляющую полную возможность развить все способности интеллектуальные и моральные, скрытые в каждом человеке, свободу, не признающую иных ограничений, кроме предписанных законами нашей собственной природы, что равносильно, собственно говоря, совершенному отсутствию ограничений, так как эти законы не изданы каким либо законодателем вне нас, рядом с нами или превыше нас стоящим: они нам присущи, неотделимы от нас, составляют самую основу нашего существа, как материального, так и интеллектуально-морального: вместо того, чтобы извращать их, мы должны их рассматривать, как необходимые условия и настоящую, действительную причину нашего стремления к свободе.
Я имею в виду такую свободу каждого, которая, входя в соприкосновение с свободой других людей, не останавливается перед ней, как перед предельным рубежом но, напротив, находит в свободе других свое подтверждение и возможность расширяться до бесконечности; я имею в виду свободу каждого отдельного индивида; не ограничиваемую свободой всех, свободу в солидарности, свободу в равенстве; свободу, восторжествовавшую над грубой силой и над самым принципом авторитета—неизменным идеалом этой силы; свободу, которая, ниспровергнув всех небесных и земных идолов, положит основание новому миру, — миру человеческой солидарности на обломках всех церквей и всех государств.
Я убежденный сторонник экономического социального равенства, так как, я знаю, что вне этого равенства свобода, справедливость, человеческое достоинство, нравственность и благосостояние отдельных лиц так же, как и процветание целых наций,—есть ложь. Притом, будучи приверженцем свободы, этого первого условия человечности, я думаю, что равенство должно быть установлено в мире путем добровольной организации труда и коллективной собственности, путем промышленных ассоциаций в коммунах и посредством добровольной же федерации коммун, — но отнюдь не через верховную и покровительственную властъ государства.
Это тот пункт, в котором принципиально расходятся социалисты-коллективисты, сторонники сильной власти и абсолютной инициативы государства, с федералистами и коммунистами. У них одна цель: и та и другая партия одинаково стремятся к созданию нового социального строя, основанного исключительно на коллективном труде, самою силою вещей равномерно распределенном между всеми без исключения членами общества, при равных для всех экономических условиях, т. е. при условии коллективной собственности на орудия труда. Только социалисты- коллективисты воображают, что они смогут придти к этому путем развития и организации политического могущества рабочих классов; в особенности городского пролетариата, рука об руку с буржуазным радикализмом, между тем как коммунисты-федералисты, враги всякого смешения и всякого двусмысленного союзничества, думают, наоборот, что они достигнут этой цели путем развития и организации не политического, но социального, следовательно, анти-политического могущества рабочих масс, как городских так и сельских, включая сюда также и людей, хотя и принадлежащих до рождению к высшим классам, но добровольно порвавших со всем своим прошедшим и открыто присоединившихся к пролетариату, приняв его программу.
Отсюда два различных метода. Социалисты-коллективисты думают, что нужно сорганизовать силы рабочих, чтобы овладеть политическим могуществом государств. Социалисты-федералисты организуются, имея целью уничтожение, или, если хотите более мягкое выражение, ликвидацию государств. Коллективисты-сторонники принципа и применения авторитета, социалисты же федералисты верят только в свободу. Те и другие — равно поклонники науки, долженствующей убить суеверие и заменить собою веру; но при этом первые находят возможным уничтожить предрассудки и насаждать знание посредством декрета, между тем как вторые непосредственно заботятся о распространении наук, из сокровищницы которых каждый черпает то, к чему чувствует склонность, пропагандируют добровольную и свободную организацию в группы и федерации, опять таки в полном согласии с природными склонностями и насущными интересами, но отнюдь не по заранее начертанному плану, предписанному невежественным массам несколькими высшими умами.
Социалисты-федералисты думают, что в инстиктивных стремлениях и в реальных нуждах народных масс гораздо больше осмысленного и практического разума, чем в глубоком уме всех этих благодетелей и учителей человечества, которые, имея перед собой печальный пример стольких неудавшихся попыток — сделать человечество счастливым, мечтают еще о возможности вложить в это дело свои усилия. Социалисты же федералисты думают, наоборот, что человечество достаточно долго, даже слишком долго позволяло управлять собой, и что источник его несчастья заключается не в той или иной форме правления, а в самом принципе и существовании правительства, каково бы оно ни было.
Это разногласие между коллективизмом, научно изложенным немецкой школой и американскими социалистами, с одной стороны, и прудонизмом, широко развитым и доведеным до последних выводов, принятым пролетариатом латинских стран, — с другой, стало под конец историческим[43]. Революционный социализм только что сделал попытку первого блестящего практического выступления в Парижской Коммуне.
* * *
Я—сторонник Парижской Коммуны, которая, будучи подавлена, утоплена в крови палачами монархической и клерикальной реакции, сделалась через это более жизненной, более могучей в воображении и в сердце Европейского пролетариата; я — сторонник Парижской Коммуны в особенности потому, что она была смелым, ясно выраженным отрицанием Государства.
Что это практическое отрицание Государства имело место именно во Франции, бывшей доселе по преимуществу страной политической централизации, и именно в Париже, в исторической центре той великой французской цивилизации, которая и положила начало отрицанию государства,—это факт громадной исторической важности. Париж, развенчивающий себя и с энтузиазмом отрекающийся от своей власти во имя свободы и жизни Франции, Европы, целого мира! Париж, снова ставший инициатором и тем снова подтвердивший свое историческое призвание; показав всем рабским народностям (а какие же из современных народов не находятся в рабстве!) единственный путь освобождения и спасения! Париж, нанесший смертельный удар политическим традициям буржуазного радикализма и положивший реальное основание революционному социализму! Париж, вновь заслуживший проклятия всех реакционеров Франции и целого мира! Париж, в смертельной ненависти к ликующей реакции похоронивший самого себя под дымящимися развалинами! Париж, спасший ценою своего разрушения честь и будущность Франции и доказавший человечеству, что если жизнь, ум, нравственная сила и исчезли в высших классах, то зато они, могучие и полные буущности, сконцентрировались в пролетариате! Париж, освятивший новую эру, эру решительного и полного освобождения народных масс, эру их солидарности, ныне вполне осуществленной помимо государств с их искуственными границами! Париж, провозгласивший себя гуманитарным и атеистичным, и заменивший божественные вымыслы великою реальностью социальной жизни и верой в науку, которая заменила ложь и неправду религиозной, политической и юридической морали принципами свободы, справедливости, равенства и братства, этими вечными основами всякой человеческой морали! Геройский, рациональный и верующий Париж, запечатлевший своим великодушным падением, своею смертью могучую веру в судьбы человечества и завещавший эту веру, еше более могучую и живую, грядущим поколениям! Париж, затопленный кровью своих самых благородных сынов,—это человечество, пригвожденное к кресту сплоченной Европейской международной реакцией с благословения всех христианских церквей и великого жреца неправды—папы! Будущая же международная и солидарная революция народов будет воскресением Парижа!
Таков истинный смысл и таковы великие, благодетельные последствия двухмесячного существования и навеки незабвенного падения Парижской Коммуны.
Парижская Коммуна существовала слишком недолго и была слишком стеснена в своем внутреннем развитии смертельной борьбою, которую ей приходилось выдерживать против Версальской реакции, чтобы быть в состоянии, я уже не говорю, применить, но хотя бы выработать теоретически свою социалистическую программу. К тому же большинство членов Коммуны не были социалистами по убеждению, а если они считались таковыми, то лишь потому, что они были вовлечены в социализм непреоборимой силою вещей, самою природою среды, в которой они вращались. Социалисты, во главе которых естественно пришлось стать нашему другу Варлену, составляли в Коммуне очень незначительное меньшинство; их было не более четырнадцати или пятнадцати человек. Остальные были по преимуществу якобинцы. Но нужно оговориться, есть якобинцы и якобинцы. Есть якобинцы адвокаты и доктринеры, как Гамбетта, позитивный республиканизм[44] которого, надменный, деспотический и педантичный, утративший бывшую революционную веру и сохранивший от якобинства только культ централизации и власти, предал народную Францию пруссакам, а позднее местной реакции. И есть якобинцы, непримиримые революционеры, герои, последние могиканы демократической веры 1793 года, готовые скорее пожертвовать единством власти ради нужд революции, чем поступиться своею совестью перед наглостью реакции. Эти великодушные якобинцы, во главе которых стоял Делеклюз, великая душа и сильный характер, хотят прежде всего торжества революции; а так как никакая революция невозможна без участия народных масс и так как эти массы, руководимые бессознательным социалистическим инстинктом, в настоящее время могут произвести только экономическую и социальную революцию, то правоверные якобинцы, постепенно увлекаемые логикой революционного движения, кончают тем, что делаются социалистами сами, не отдавая себе
в том отчета.
Именно таково было положение якобинцев, принявших участие в Парижской Коммуне. Делеклюз и многие другие вместе с ним подписывались под программами и прокламациями, общий смысл и обещания которых были положительно социалистичны. Но так как, несмотря на все свое чистосердечие и самоотверженность, они были социалистами поневоле, а не по убеждениям, и так как у них не было ни времени, ни возможности победить и уничтожить в себе массу буржуазных предрассудков, стоявших в роковом противоречии с их практическим социализмом, то само собой станет понятным, почему утомленные этой внутренней борьбой, они не оказались способными ни возвыситься над большинством, ни принять одну из тех решительных мер, которые порвали бы навсегда их солидарность и все их связи с миром буржуазии.
Это было величайшим несчастьем и для Коммуны и для них самих; они были обессилены этим противоречием и обессилили Коммуну. Но нельзя ставить им в упрек эту ошибку: люди не перерождаются в один день, не изменяют своей натуры и своих привычек по первому желанию. Они доказали свою искренность, отдав за Коммуну свою жизнь. Кто осмелится требовать большего?!
Им это тем более простительно, что сам парижский народ, под давлением которого они мыслили и действовали, был социалистом более по инстинкту, чем по примеру или по строго обдуманному убеждению.
Все его практические тенденции были в высшей степени социалистичны, но его идеи, его традиционные понятия стоят далеко ниже этого уровня. У пролетариата больших городов Франции так же, как и у парижского пролетариата, есть еще много якобинских предрассудков: о спасительности диктатуры и проч. Культ власти, роковой продукт религиозного воспитания, этот первоисточник всех исторических зол, народной испорченности и порабощения, еще не был дискредитирован и искоренен из его сознания. Это до такой степени верно, что даже наиболее интеллигентные сыны народа, самые убежденные социалисты не в состоянии окончательно отрешиться от этого предрассудка. Загляните поглубже в сердце каждого из них, и вы там найдете якобинца, сторонника государства, правда, скромно притаившегося в каком-нибудь темном уголке, но все же не совсем еще умершего. Как следствие этих причин, положение немногочисленных убежденных социалистов, принимавших участие в Коммуне, было чрезвычайно трудно. Не чувствуя, под собой почвы в поддержке значительного большинства парижского населения, секция международной ассоциации, плохо с'организованная, едва насчитывавшая в своих рядах несколько тысяч человек, должна была выдерживать ежедневную борьбу с якобинским большинством. И притом при каких обстоятельствах! Она должна была организовать, вооружать, давать работу и хлеб нескольким сотням тысяч рабочих на пространстве такого огромного города, как Париж, притом осажденного и угрожаемого с одной стороны голодом, а с другой — гнусными происками со стороны реакции, прочно утвердившейся в Версале с разрешения и по милости Пруссаков. Правительству и Версальскому войску они были вынуждены противопоставить революционное правительство и войско, т. е. чтобы одолеть монархическую и клерикальную реакцию, они должны были, забыв и поступившись первыми условиями революционного социализма, прибегнуть к якобинской реакции.
Не естественно ли, что при подобном стечении обстоятельств, якобинцы, составлявшие большинство Коммуны и обладавшие в несравненно большей степени чем социалисты политическим инстинктом, традицией и практикой правительственной организаций, имели, по сравнению с социалистами, огромные преимущества? Нужно еще удивляться тому, что они не воспользовались этими преимуществами в гораздо большей степени и не придали восстанию Парижа исключительно якобинского характера, а были силою вещей вовлечены в социальную революцию.
Я знаю, что многие социалисты, весьма последовательные в своих теориях, упрекают наших парижских друзей в том, что они выказали себя в недостаточной мере социалистами в своих революционых действиях; в то же время все крикуны буржуазной прессы, наоборот, обвиняют их в „преступной последовательности" в деле осуществления социалистической программы. Оставив пока в стороне гнусных доносчиков этой прессы, я должен заметить по адресу строгих теоретиков социализма, что они неправы по отношению к нашим парижским товарищам, потому что теории, даже самые разработанные, отделяются от их практического осуществления бесконечным пространством, которое в несколько дней не перешагнешь.
Если кто имел, например, счастие знать Варлена, в гибели которого теперь уже нельзя, к несчастью, сомневаться, тому достаточно только напомнить его имя, чтоб показать, сколько в нем и в его друзьях было пламенной, глубокой и продуманной социалистической убежденности. Для тех, кто знал их близко, это были люди, энтузиазм, самоотверженность и искренность которых были вне всякого сомнения. Но именно потому, что они были людьми честными, лишенными самомнения и высокомерия, их дееспособность и была парализована сознанием громадного дела, которому они посвятили и душу свою и жизнь! Кроме того, по их глубокому убеждению в деле социальной революции, диаметрально противоположной во всем революции политической, действия отдельных лиц были почти ничем, а самопроизвольная деятельность масс должна была быть всем. Разработать, осветить и распространить идеи, отвечающие народному инстинкту, и своими непрестнными усилиями придать революционной организации стихийную мощь народного движения—вот все, что могут сделать отдельные лица, и ничего более; все остальное должно и может быть сделано только самим народом. Думай они иначе, они неизбежно пришли бы опять к политической диктатуре, т. е. к восстановлению государства, к привилегиям, неравенству, и пришли бы хотя обратным, но логическим путем к восстановлению политического, социального и экономического рабства народных масс.
У Варлена и его друзей, как у всех искренних социалистов и, вообще, у всех тружеников, родившихся и выросших среди народа, было в высшей степени развито это вполне законное предубеждение против инициативы, исходящей от отдельных лиц, предубеждение против властвования высших индивидуальностей, и так как они были последовательны, то и распространяли это предубеждение и это недоверие и на самих себя так же, как и на других людей.
Вопреки убеждению авторитетных коллективистов,—по моему, совершено ошибочному, что социальная революция может быть предписана и организована при посредстве диктатуры или учредительного собрания, как естественное следствие политической революции, наши друзья, парижские социалисты, думали, что социальная революция может быть совершена и руководима самопроизвольным действием, исходящим из народных масс, групп и ассоциаций.
Наши парижские товарищи были тысячу раз правы. Потому что, в самом деле, какой ум настолько гениален, или — если хотят говорить о коллективной диктатуре, хотя бы состоящей из нескольких сотен лиц, одаренных высшими способностями,—какая комбинация интеллектов мозга могла бы быть настолько целесообразной, чтобы обнять бесконечное множество и разнообразие реальных интересов, убеждений, желаний и потребностей, составляющих в сумме коллективную волю народа, и чтобы изобрести социальную организацию, могущую удовлетворить всех? Эта организация будет всегда Прокрустовым ложем, на котором насилие, более или менее санкционированное государством, заставило бы улечься несчастное общество. Так было до сих пор. И именно этой старой системе организации, основанной на насилии, социальная революция должна положить конец, предоставив полную свободу массам, группам, коммунам, ассоциациям, a также и отдельным индивидам и, уничтожив раз навсегда историческую причину всякого насилия— самое существование государства, падение которого увлечет за собой все несправедливости юридического права и всю ложь различных культов, так как это право и эти культы никогда не были ничем иным, как услужливой санкцией всяких насилий, нравственных и физических, осуществляемых, поддерживаемых и поощряемых государством.
Очевидно, что только тогда человечество получит свободу, и только тогда истинные интересы общества всех групп, всех местных организаций а также и всех отдельных лиц, его составляющих, получат полное осуществление, когда государство не будет более существовать. Очевидно, что все так называемые общественные функции государства в действительности представляют не что иное, как решительное и беспрерывное отрицание насущнейших интересов отдельных областей, коммун, ассоциаций и огромнейшего числа людей, подчиненных государству. Эти общественные функции представляют нечто отвлеченное, фикцию, ложь, и государство в целом есть подобие обширной бойни или огромного кладбища, где незаметно, в тени, и прикрываясь этим отвлеченным нечто, этой абстракцией, с притворным сокрушением, приносятся в жертву и погребаются все лучшие стремления, все живые силы страны: и так как никакая абстрактность не существует сама по себе и для себя, не имея ни ног, чтобы ходить, ни рук, чтобы творить, ни желудка, чтобы переваривать ту массу жертв, которую ей предоставляется поглотить, то ясно, что, как религиозная или небесная абстрактность, Бог, представляет в действительности весьма положительные, весьма реальные интересы только привилегированной касты, духовенства, так и ее земное дополнение, политическая абстрактность, государство, представляет не менее положительные и реальные интересы буржуазии, того класса, который включая в себя и другие высшие классы, главным образом, если не исключительно, является эксплуатирующим.
Уничтожение церкви и государства должно быть первым и необходимым условием настоящего раскрепощения общества. Tолько после этого оно может и должно устроиться по-иному: но только произойти это должно не сверху вниз, и не по воображаемому плану, начертанному несколькими мудрецами и учеными, и не в силу декретов, изданных каким нибудь диктатором или даже национальным собранием, избранным посредством всеобщей подачи голосов. Реформа сверху вниз, как я уже не раз повторял, неизбежно привела бы к созданию нового государства, и, следовательно, к образованию новой правящей аристократии, т. е. целого класса людей, не имеющих ничего общего с народной массой и, конечно, этот класс опять бы начал эксплуатировать и порабощать массы под предлогом общего счастья и спасения государства.
Будущая социальная организация непременно должна быть реализована по направлению снизу вверх, посредством свободной ассоциации или федерации рабочих, начиная с союзов, коммун, областей, наций и кончая великой международной федерацией. И только тогда осуществится целесообразный, жизнеспособный строй, тот строй, в котором интересы личности, ее свобода и счастье не будут больше противоречить интересам общества, говорят, что интересы отдельных лиц несовместимы и несогласуемы с интересами общества, что их гармония никогда не будет фактически осуществлена, в силу их органической противоположности. На такое возражение я отвечу. Что если до настоящего времени эти интересы никогда и нигде не были во взаимной согласованности, причина этого было государство, жертвовавшее интересами большинства в пользу привилегированного меньшинства. И вся эта пресловутая несовместность и эта мнимая борьба личных интересов с интересами общества естъ не что иное, как политическое надувательство и ложь, получившая свое начало в теологической лжи, измыслившей доктрину первородного греха, чтобы обесславить, человека и уничтожить в нем сознание своей ценности. Эта ложная идея несовместимости интересов была усвоена и метафизикой, которая, как известно, состоит в близком родстве с теологией. Отрицая общественные инстинкты, прирожденные человеческой природе, метафизика смотрит на общество, как на механический и искуственно созданный аггрегат индивидов, соединившихся случайно, в силу какого-нибудь формального или безмолвно принятого договора, заключенного или свободно, или же под влиянием высшей силы. Предполагается, что до своего соединения в общество, эти индивиды, одаренные якобы бессмертной душой, наслаждались полной свободой.
Но если справедливо утверждение метафизиков, что люди, особенно те из них, которые верят в бессмертие души, вне общества могут быть свободными существами, то отсюда с неизбежностью следует вывод, что люди могут соединиться в общество при условии отрицания своей свободы, своей прирожденной независимости и предварительно отрекшись от всех своих интересов, как личных так и групповых. В подобном самоотречении и самопожертвовании должно быть тем более величия, чем многочисленнее общество и чем сложнее его организация. И в этом смысле государство есть выражение всех жертв личности. Имея столь отвлеченное и в то же время столь насильственное происхождение государство продолжает, разумеется, и доныне стеснять все более и более свободу личности во имя той лжи, которая носит название ,,общего счастья", а в действительности есть не что иное как благоденствие господствующего класса. Таким образом,в результате государство является систематическим отрицанием и могилой всякой свободы, всех интересов, как индивидуальных, так и общественных.
В метафизических и теологических системах все обстоит благополучно. Вот почему творцы и защитники этих систем могут и даже должны со спокойной совестью продолжать эксплоатировать народные массы при посредстве Церкви и Государства. Набивая свои карманы и не ставя никаких преград своим нечистым вожделениям, они могут в то же время утешать себя мыслью, что они трудятся во славу Божию, во имя торжества цивилизации и грядущего благоденствия пролетариата.
Но мы, другие, не верящие ни в Бога, ни в бессмертие души, ни в метафизическую свободу воли, мы утверждаем, что свобода должна быть понимаема в самом обширном смысле слова, понимаема как цель исторического развития человечества. По странному, хотя логически последовательному контрасту, наши противники, идеалисты теологии и метафизики, принимая принцип свободы за основу и базу их теории, выводят из него заключение о необходимости рабства людей. Мы же другие, материалисты в теории, стремимся на практике осуществить и упрочить разумный и благородный идеализм. Наши враги, божественные и трансцендентальные идеалисты, в силу логического закона, по которому всякое развитие приводит в конце концов к отрицанию своей исходной точки, нисходят до практического материализма, жестокого и подлого. Мы же убеждены, что все богатство умственного, нравственного и материального развития человека, точно так же, как и достигнутая им степень незавимости, все это — продукт общественной жизни. Bне общества человек не только не сделался бы свободным, но не стал бы человеком в истинном значении этого слова, т. е. единственным сознательным существом, мыслящим и владеющим словом. Только благодаря общению умов и коллективному труду, мог человек выйти из дикого и животного состояния, составляющего его первоначальную природу или же исходный пункт его развития. Мы глубоко убеждены в той истине, что все в жизни людей: интересы, стремления, потребности, иллюзии, самые глупости, так же как и насилие, несправедливости и все поступки, кажущиеся произвольными, являются следствием взаимодействия социальных инстинктов, присущих самой природе человека. Отрицание стихийной законосообразности в отношениях людей так же нелепо, как было бы нелепо отрицание этой законосообразности в проявлениях неодушевленной природы.
В природе эта удивительная, считавшаяся теологами предустановленной, гармония достигается непрерывной борьбой за существование и вымиранием неприспособленных; и как в природе, где нет борьбы и движения, нет ни жизни ни красоты, так и в обществе жизнь без борьбы есть смерть.
Если во вселенной царит гармония и закономерность, то это только потому, что вселенная не управляется по какой-либо системе, заранее придуманной и предписанной высшей волей. Теологическая гипотеза божественного законодательства ведет к очевидному абсурду и к отрицанию не только всякого порядка, но и к отрицанию даже самой природы. Законы реальны лишь постольку, поскольку они неотделимы от самих вещей, т. е. не предписаны какой-либо вне их стоящей властью. Эти законы не что иное, как простые проявления или неизменные свойства вещей и результаты их разнообразных комбинаций. В целом же все это
составляет то, что мы называем „природа". Человеческий ум и созданная им наука исследуют эти свойства и эти комбинации вещей, систематизируют и классифицируют их путем опытов и наблюдений, и подобные классификации и систематизации явлений и называют законами природы. Но сама природа не ведает вовсе законов. Она действует бессознательно, представляя собою бесконечную изменчивость явлений, проявляющихся и повторяющихся непредотвратимым, роковым образом. И только благодаря этой роковой неизбежности, порядок вселенной может существовать и фактически существует.
Та же стихийная зависимость и последовательность явлений проявляется и в человеческом обществе, которое, по теории, эволюционирует так называемым противоестественным образом, в действительности же подчиняется естественному и неизбежному ходу вещей. Только та высшая ступень, на которой стоят люди по сравнению с животными, и их способность мыслить внесли в развитие человека особый элемент, также совершенно естественный и являющийся продуктом материального взаимодействия сил. Этот особый элемент есть разум или, лучше сказать, способность к обобщению и отвлечению, благодаря которой человек может наблюдать и изучать самого себя наравне с предметами внешнего мира. Поднявшись затем мысленно еще выше над самим собою, а также и над окружающим его миром, он приходит к представлению полной абстракции к абсолютному ничто. Это „абсолютное" есть, в сущности, не что иное, как самоспособность к отвлечению, которая, пренебрегая всем, что существует, и дойдя до полного отрицания бытия, находит в этом свое успокоение. Это та последняя грань наивысшей отвлеченности, это абсолютное Ничто и было названо Богом.
Вот историческое происхождение и логическое основание всякой теологической доктрины. Не понимая природы и материальных причин своих собственных мыслей, не отдавая себе даже отчета в условиях их возникновения и развития, первые люди и общества, конечно, не могли подозревать, что их абсолютные познания абсолютного были не более как бесплодным раздражением способности к творчеству отвлеченных идей. Только в силу этого недоразумения они смотрели на эти идеи, как на высшие реальности, пред которыми сама природа обращалась в ничто. Потом они начинают обожать свои вымыслы, свои представления несуществующего абсолютного, начинают оказывать им всяческие почести. Затем является потребность как-нибудь более конкретно представить абстрактную идею этого Ничто, т. е. Бога, сделать ее более осязательной для чувств. С этою целью они расширяют понятие божества, наделяя его всеми добрыми и злыми свойствами, какие им были известны из наблюдения над природой и человеком.
Таково было происхождение и историческое развитие всех религий, начиная с фетишизма и кончая христианством. Мы вовсе не имеем намерения заниматься историей религиозных, теологических и метафизических абсурдов и еще менее собираемся распространяться о всех последовавших божеских воплощениях и явлениях, созданных веками варварства. Всем известно, что суеверие порождало всегда массу самых ужасных зол и заставляло проливать кровь и слезы целыми потоками. Мы отметим только, что все эти возмутительные заблуждения бедного человечества в процессе эволюции общественных организмов были исторически неизбежными фактами. Эти заблуждения зародили и распространили в обществе роковую идею, овладевшую воображением людей, будто вселенная управляется сверхъестественной силой и волей. Века сменяли века и общество до такой степени свыклось с этой идеей, что, наконец, убило в себе всякое стремление и даже самую способность к про
грессу.
Властолюбие сперва нескольких лиц, а затем целых общественных классов возвело в жизненный принцип рабство и покорность, и вкоренило в сознание порабощенных вреднейшую из всех идей, идею божества. С тех пор никакое общество не стало возможным без этих двух основных учреждений: Церкви и Государства. Эти два бича общества защищаются всеми доктринерами.
Как только появились в мире эти учреждения, сразу организовались две касты: каста духовенства и каста аристократов, которые, не теряя времени, озаботились вбить глубоко в голову порабощенному народу сознание необходимости, полезности и священности Церкви и Государства. Все это имело единственную цель — заменить рабство грубого насилия рабством законным, предусмотренным и освященным волею Высшего Существа.
Но сами аристократы и духовенство, верили-ли они в божественное происхождение институтов, как бы нарочно установленных для их пользы? Или же они были только лицемерами и обманщиками? Нет, я склонен думать, что они были в одно и то же время и искренно верующими, и лицемерами.
Они верили, потому что они естественно и неизбежно разделяли заблуждения масс, и только позднее, в эпоху упадка древнего мира, сделались скептиками и бесстыдными обманщиками. Кроме того, — есть одно обще-распространенное свойство человеческой психики, которое заставляет думать, что основатели государств были людьми искренними. А именно; человек всегда легко верит в то, чего он желает и что не противоречит его интересам. Независимо от ума и образования, из самолюбия, ради желания пользоваться уважением окружающих, он всегда будет верить в то, что ему полезно и приятно. Я убежден, например, что Тьер и версальское правительству усиленно, всячески старались убедить себя, что, убивая в Париже несколько тысяч человек, женщин и детей, они тем самым спасают Францию.
Но если священники, авгуры, аристократы и буржуа древних и новых времен и верили искренно, то все же они были одновременно и обманщиками. Ведь нельзя допустить, чтобы они верили в те абсурды, из которых состоит религия и политика. Я уже не говорю об эпохе, когда, по словам Цицерона, „два авгура не могли посмотреть друг другу в глаза, чтобы не рассмеяться". Трудно предположить, что позднее, хотя бы и во времена всеобщего невежества и суеверия, изобретатели средневековых чудес верили в их реальность. Точно также позволительно сомневаться и в искренности правителей позднейших времен, руководившихся в политике правилом: „порабощай и грабь народ так, чтобы он не сетовал слишком громко на свою судьбу, чтобы он не забывал о покорности и не имел времени на размышления, легко приводящие к протесту и возмущению".
И уж совсем нельзя допустить, чтобы люди, сделавшие из политики ремесло, искусившиеся в несправедливости, в насилии, во лжи и в измене, не останавливающиеся пред массовыми и одиночными убийствами, могли искренно верить в искусство политики и в государственную мудрость и считать государство источником общественного благополучия. Они подлы, но не так глупы. Церковь и государство были во все времена главнейшими рассадниками пороков. История может засвидетельствовать их преступления: повсюду и всегда священник и правитель были сознательными врагами народов и их систематичными, неумолимыми и кровожадными палачами.
Но как же всетаки согласить две, повидимому совершенно несогласимые вещи: низшие агенты правительства, они же обманщики и обманутые; другие, — всесильные властители земли, и в то же время лицемеры? Логически это кажется несовместимым, но фактически, т. е. в практической жизни, эти качества мирно уживаются одно с другим.
В подавляющем большинстве случаев люди живут в противоречии с самими собою и не замечают этого, пока какое-нибудь исключительное событие не разбудит их совесть от привычной спячки и не заставит оглянуться на себя и оккружающее.
В политике, как и в религии, большинство людей только марионетки в руках привилегированных эксплуататоров. Но грабители и ограбленные, поработители и порабощенные живут бок-о-бок друг с другом, управляемые горсточкой лиц, на которых, собственно, и следует смотреть, как на истинных эксплуататоров. Эти последние, свободные от всех предрассудков, политических и религиозных, сознательно угнетают и держат народ в невежестве. В наше время так же бесконтрольно, как и в XVII и в XVIII веках, до Великой Революции, они бесконтрольно и беспрепятственно владычествуют в Европе, но скоро-скоро их владычеству придет конец.
В то время, как главные вожаки обманывают и сознательно развращают народ, их приспешники, креатуры Церкви и Государства, усердно стараются поддерживать веру в святость и неприкосновенность этих гнусных учреждений. Если Церковь, по заявлению духовенства и большинства государственных людей, необходима для спасения души, то Государство, в свою очередь, так же необходима для поддержания мира, порядка и справедливости, и потому доктринеры всех школ восклицают: „Без Церкви и Правительства невозможны ни цивилизация ни прогресс".
Нам нечего заниматься обсуждением проблемы вечного спасения, потому, что мы не верим в бессмертие души. Мы убеждены, что самая вредная вещь для человечества, для истины, прогресса, есть Церковь. И может ли это быть иначе? Разве не на Церковь возложена обязанность развращать подрастающие поколения, и в особенности женщин? Разве не Церковь своими догматами, своею ложью своими глупостями и своими пошлостями старается убить логику разума и науки? Разве не она посягает на достоинство человека, извращая в нем понятие о правe и справедливости? Разве не она обращает живое в труп? Разве не она искажает свободу, разве не она проповедует вечное рабство масс в угоду тиранов и поработителей? Разве не она, эта неумолимая Церковь, стремится продолжить до бесконечности мрак невежества, нищету и преступления?
И если прогресс нашего века — не сон обманчивый. он должен положить конец этому учреждению.
Примечания
1
Впервые напечатана в газете „Egalite", в августе 1869 г.
(обратно)2
Куллери — главный редактор цитированной газеты, член Интернационала, хотя в социалистическом отношении очень неопределенная личность (Прим. изд.).
(обратно)3
В „Egalite", 1869.
(обратно)4
Под этим выражением „позитивной философии" Бакунин отнюдь не подразумевает позитивизм или контизм, недостатки которого он так прекрасно доказал в своем Приложении (Философские рассуждения о божественном призраке, действительном мире и человеке), напечатанном в т. III (франц. издание) его сочинений.. Он говорит о научной философии,
вообще, которая опирается на наблюдения и опыт.
Прим. Дж. Г.
(обратно)5
Мы уже сказали, что под свободой мы понимаем с одной стороны до возможности полное развитие всех естественных способностей каждого человека, а с другой—его независимость не по отношению законов естественных и социальных, а по отношению всех законов, налагаемых человеческой волей — коллективной или индивидуальной, все равно.
(обратно)6
Almanach du Peuple. Geneve, 1872.
(обратно)7
Женева, 23 февраля 1869 г. — Le Progres, No 6 ( 1 марта, 1869 г.), стр. 2-3.
(обратно)8
Женева, 28 марта 1869 г. — Le Progres, No 7 (3 апр. 1869 г.), стр. 2-3.
(обратно)9
Женева, 14 апреля 1869 г.- Le Рrogres, No 8 (17 апр. 1869 г., стр. 2—3).
(обратно)10
Женева, 28 апреля, 1869 г. — Le Progres, No 9 ( 1 мая 1869 г.) стр, 2-3.
(обратно)11
Женева 25 мая 1869 г. - Le Progres (29 мая 1890 г.), стр. 2—3.
(обратно)12
Le Progres, No 12, (12 июня 1869 г.) стр. 2—3.
(обратно)13
Le Progres No 14 (10 июня 1869 г.), стр. 2 и 3.
(обратно)14
Le Progres, 17 (21 августа. 1869 г.) стр. 2—4.
(обратно)15
Le Progres No 16 (18 сентября 1869 г.), стр. 4.
(обратно)16
Наполеон III.
(обратно)17
(Продолжение). Le Progres, No 20 (2 октября 1869 г.), стр. 3.
(обратно)18
За исключением страниц, посланных Озерову, о которых говорится в письме к Озерову от 11 августа 1870 г, и которые утеряны.- Дж. Г.
(обратно)19
Написав зто „1-е", Бакунин, очевидно имел в виду затем „2-е", но мы напрасно будем искать это „2-е" в дальнейшей части этого письма. Мы увидим в конце этого первого продолжения, что, доказав в первой части (утерянной) и во второй части (продолжение) своего письма, что „Францию может спасти только общее народное восстание", он заявляет, что в третьей части (которую он называет „третьим письмом") он докажет, что „инициатива и организация народного восстания не может больше принадлежать Парижу, она возможна только в провинции". Стало быть, эта третья часть (Продолжение III) и составляет это „2-е", обещанное „1-м", обозначенным на 1-й странице настоящего продолжения. — Дж. Г
(обратно)20
В начале даже войны, во всех немецких социалистических газетах, на всех митингах, устраиваемых в Германии, единодушно высказывалась и получала общее одобрение мысль,—что,, если бы французы свергли Наполеона и на развалинах империи воздвигли народное государство, весь германский народ был бы за них". (Примечание Бакунина).
(обратно)21
Здесь неразборчивое слово в рукописи и, может быть, не достает слово или два.—Дж. Г.
(обратно)22
Прочтите речь, признание Гамбетты на заседании 23 августа в законодательном Корпусе. Она в высшей степени интересна и подтверждает все, что я сказал:
„Гамбетта — Нет никакого сомнения, что когда какая нибудь страна, как Франция, переживает самый тяжелый момент в своей истории, бывают моменты, когда нужно молчать". (Смешное извинение своему непростительному бездействию). „Но ясно, что есть также моменты, когда нужно говорить". (Это, когда стало ясно, что Паликао, Трошю и Тьер, которых он глупо, изменнически поддерживал до сих пор, не хотят его принять в Комитет обороны. Прежде он находил, что полезно и хорошо обманывать парижский народ во имя патриотизма. Он замешан был в оффициальной лжи, теперь он протестует). „Что же, неужели думают, что прекращение прений, которое потребовал г. министр и которое мы покорно терпим несколько дней (Шум), есть настоящий ответ, достойный народа в его крайне тяжелом, тревожном, положении? (Сильный шум). Если вы не испытываете беспокойства, вы, привлекшие иностранцев на родную землю... (Одобрительные возгласы, слева. Бурные протесты и крики: к порядку! к порядку!)
„Председатель, — Г. Гамбетта слышит протесты, вызванные его словами.
„Жиро (крестьянин). — Да, мы хотим протестовать, наше молчание длилось слишком долго.
„Руксэн.— Это уже не прения, это оскорбление.
„Вандр.— И самое серьезное оскорбление какое можно нанести Палате...
„Чей то голос. — Это гражданская война!
„Председатель. — Нельзя позволять волновать страну подобными словами.
„Гамбетта. — Гражданская война, говорят. Я всегда клеймил и осуждал средства, не признанные законом! "(Вот, он адвокат и в то же время современный буржуа). „Патриотизм состоит не в том, чтобы усыплять население" (и, однако, в продолжении больше двух недель он поддерживал тех, кто его усыплял), „питать его иллюзиями, он состоит в том, чтобы подготовить народ принять врага, отбросить его или похоронить себя под развалинами. Довольно мы делали уступок" (слишком много!), „довольно долго молчали" (слишком долго, и теперь время господ Гамбетта прошло безвозвратно), „молчание набросило покрывало на события, которые стремительно надвигаются. Я убежден, что страна катится, не замечая этого, в пропасть! (К порядку! К порядку!)."
„Председатель. — Прошу г. Гамбетта не поднимать бесполезных прений, которые не могут привести ни к какому заключению.
„Гамбетта. — Не может быть более полезных прений, чем прения, цель которых дать себе мужественно отчет о положении вещей.
„Шампиньи. — И дать знать о нем врагу.
„Гамбетта. — Наши враги давно знают его. Это мы его не знаем.
„Араго. — У вас требуют оружия, а вы посылаете в департаменты членов Совета!
„Гамбетта. — Что касается меня, господа, то я чувствую свою ответственность. Моя совесть говорит мне, что парижское население нуждается в том, чтобы, ему открыли истину, и я хочу открыть ему истину. (Порядок дня! Порядок дня!)"
Ясно, что Гамбетта принял теперь решение, но слишком поздно, вести якобинскую политику. Занятно видеть, какой страх нагнал Гамбетта на все реакционные газеты Франции и также Италии. (Примечание Бакунина).
(обратно)23
Как русский, я нахожусь в неприятной необходимости предостеречь моих друзей, французских революционных социалистов, против вождей-поляков. Я знаю массу поляков и я встретил среди них лишь двух-трех искренних социалистов. Громадное большинство — отчаянные националисты. Громадное большинство польской эмиграции до последнего времени было предано Наполеонам, потому что оно безумно надеялось что Наполеоны освободят полякам их родину. Поляки—консерваторы по своему положению и по традициям. Самые передовые из них — военные демократы. Самые красные газеты их единодушно отвергают социализм, который почти все поляки ненавидят,—за исключением, разумеется, польского простонародья, которое еще никогда не имело голоса, никогда не было активным, и инстинкты которого—социалистические, как, вообще, инстинкты и интересы всех народных масс. (Примечание Бакунина).
(обратно)24
Кантон и округ Нонтрон. Отсюда название „Нонтронское преступление", какие дается дальше этому зверскому убийству — Дж. Г.
(обратно)25
Министерство, наконец, созналось, что оно не хочет давать оружия народу, на достопримечательном заседании 25 августа, по поводу предложения — не упразднить, а только отменить на время законы, запрещающие продажу и фабрикацию оружия и военных припасов и подвергающие штрафу за ношение оружия, без , разрешения правительства. После горячих прений, это предложение, отклоненное комиссией, конечно избранной бонапартистским большинством законодательного корпуса, было отвергнуто 184 голосами против 61 голоса. Во время этих прений были произнесены многозначительные слова и сделаны были очень интересные разоблачения.
„Жюль Ферри (автор предложения). — Доклад осуждает законы и в то же время рекомендует сохранить их временно, теперь, когда их отмена именно необходима и ясна для всех. Страна крайне нуждается в оружии для своей обороны. Что нужно сделать? Уничтожить запретительные меры для оружия, как для злаков во время голода... Не только не вооружают народ, но есть префекты, которые отказываются принять присланное им оружие. Я знаю одного, которой ответил: „Не надо ни ружей ни добровольцев. Я выслал всех здоровых мужчин из департамента". Если существуют политические причины, по которым не следует вооружать народ, пусть скажут. Если боятся, как бы оружие не попало в руки врагов правительства, надо это сказать. Нужно, чтобы знали, что, если что нибудь парализует национальную оборону, так это династический интерес.
"Пикар. — История не поймет этого спора. Мы требуем, чтобы вы отменили закон, который преследует хранение у себя оружия и военных припасов, и вы нам отказываете в этом в тот момент, когда враг приближается.
„Министр (председатель Государственного Совета). — Вы, вероятно, хотите организовать силы страны. Мы — тоже. Но мы хотим дать оружие, которым мы располагаем — и его очень много — тем, кто наиболее способен употребить его с пользой. Мы хотим кощентрацию, а вы разбросанность сил...
„Пикар. — Вооружайте боевые дружины. Вооружайте национальную гвардию. Пусть. Но видели ли вы какую нибудь страну, страну, в которую вступил враг, где бы говорили гражданам: „Вы не будете иметь права покупать оружие; если оружейник продаст вам его, он этим преступит закон"?
„Ж. Фавр. — Вы хотите чтобы можно было произносить против нас приговоры даже и теперь, если мы возьмемся за оружие для своей защиты. Что касается меня, то я заявляю, что, если вы сохраните этот закон, то я его нарушу.
„Министр. — Мне кажется, что вопрос не должен был бы вызывать такого возбуждения.
„Ж Фавр. — Вы хотите, чтобы мы оставались хладнокровными до тех пор, пока пруссаки не войдут в Париж?
„Предложение Жюля Ферри отвергнуто большинством 184 голосов против 61 (левые и левый центр)". (Примечание Бакунина)
(обратно)26
Во время великой французской революции, в сентябре 1792 г. произошло избиение политических заключенных (приверженцев старого режима) в парижских тюрьмах. Отсюда произошло слово septembriser — сентябризировать. Прим. переводч.
(обратно)27
Partageux,—так неправильно называли в то время социалистов во Франции, приписывая им стремление разделить поровну между всеми все народное богатство, а не обратить его в общественную собственность.
Прим. Перевод.
(обратно)28
Я не могу удержаться, чтобы не сделать несколько замечаний по поводу этого письма, которое я прочел с тем большим вниманием, что оно исходит от главы, почти всеми признанного теперь, республиканской партии в Париже, от человека, который, вместе с Тьером и Трошю, считается как бы арбитром судеб Франции, занятой пруссаками. Я никогда не придавал большого значения Гамбетте, но, признаюсь, это письмо мне показало его еще более незначительным и более бледным, чем я его себе представлял. Он принял совершенно в серьез свою роль умеренного, разумного и благоразумного республиканца, и в этот ужасный момент, переживаемый нами, в момент, когда Франция рушится и гибнет и когда она может быть спасена лишь в том случае, если все французы поднимутся, Гамбетта находит необходимые время и вдохновение, чтобы написать письмо, которое он начинает с заявления, что он предполагает „вести достойно роль правительственной демократической оппозиции". Он говорит о „программе, в одно и то же время республиканской и консервативной, которую он наметил себе с 1869 г.": „проводить главным образом политику, построенную на результатах всеобщего голосования" (но тогда это политика плебисцита Наполеона III), „доказать, что при настоящих условиях, Республика отныне есть условие спасения Франции и европейского равновесия, что гарантия безопасности, мира и прогресса только в республиканских учреждениях, благоразумно практикуемых" (как в Швейцарии). „Что нельзя управлять Францией, ведя политику против средних классов, нельзя править ей, не поддерживая великодушный союз с пролетариатом". (Великодушный с чьей стороны? Без сомнения, со стороны буржуазии). „Только при республиканской форме правления возможно гармоничное примирение между справедливыми стремлениями рабочих и уважением к священным правам собственности. Святая середина—политика отжившая. Цезаризм—самое вредное, самое гибельное решение. Божественное право окончательно упразднено. Якобинство отныне смешное и зловредное слово. Одна только рациональная, позитивистская демократия" (слышите вы шарлатана!) „может все примирить, все организовать, все сделать продуктивным" (Посмотрим как!) „1789 г. выставил принципы" (далеко не все!—Принципы буржуазной свободы, да, но принципы равенства, принципы свободы пролетариата— нет), „1792 г. дал торжество этим принципам" (и поэтому, вероятно, Франция так свободна!), „1848 г. дал им санкцию всеобщего голосования" (в июне, разумеется?). Настоящему поколению надлежит осуществить республиканскую форму правления" (как в Швейцарии) „и примирить на основе справедливости" (Какой справедливости? юридической, разумеется?) „и избирательного принципа права гражданина и функции государства в прогрессивном и свободном обществе. Чтобы, достигнуть этой цели, нужно сделать две вещи: уничтожить страх одних и успокоить недоверие другиx. Вызвать в буржуазии любовь к демократии и в народе доверие к своим старшим братьям". (Почему не доверие к дворянству, которое еще старше буржуазии?)
Когда Гамбетта писал это письмо, он, очевидно, хотел совершить политический акт: приучить буржуазию к слову республика. Но не было ли бы еще более политическим действием, вместо того, чтобы писать подобные письма в этот момент крайней опасности, совершить мужественный акт—низложить правительство, которое открыто изменяет Франции и губит ее, так что каждый лишний момент, проведенный им у власти, становится преступлением перед страной со стороны тех, чей долг, и кто имеет возможность, низвергнуть его и кто не делает этого, вероятно потому, что боится потерять свою репутацию мудрости?—Поистине, чем больше я смотрю на этих людей, тем больше я презираю их. Их патриотизм, их гражданственность, их негодование выливаются в словах, и они вкладывают столько энергии в слова, что им не остается больше силы для действия. Момент ужасен. Весьма вероятно, что Мак-Магон потерпел поражение и отступил в Бельгии. Еще несколько дней и Париж будет осажден армией в четыреста тысяч человек. И тогда? Если провинция не поднимется, Франция погибла. (Примечание Бакунина).
(обратно)29
Вот, что говорит о левых радикалах Volksstaat, орган рабочей социал-демократической партии в Германии (No29, от 27 августа): „Главная причина, мешавшая до сих пор провозглашению республики, это мелочная добросовестность честных республиканцев, которые движимые ужасной боязнью, внушаемой им демократическим социализмом, формально обещали министрам не заниматься переменой формы правления, пока враг будет на французской земле. Они называют это патриотизмом. Но за этим патриотизмом скрывается оставление своих принципов, измена им". (Примечание Бакунина).
(обратно)30
Кто знает.
(обратно)31
Прочтите наглое и характерное письмо, адресованное полковником Гольштейном Эмилю Жирардэн (Примечание Бакунина).
(обратно)32
Робер Макэр имя французского палача той эпохи. Бакунин здесь называет этим именем Наполеона III. Прим. переводчика.
(обратно)33
Так как прежде, всего нужно быть справедливым, то я должен отметить, что некоторые органы буржуазной демократии в Германии, и больше других берлинская газета Zukunft, энергично и благородно протестовали против этого бешеного шовинизма, охватившего германскую буржуазию. Они поняли, что вопрос между Бисмарком и Наполеоном III поставлен таким образом, что как поражение, так и победа германских армий могут навлечь на Германию лишь одни ужасные несчастья: в первом случае разграбление германских провинций, расчленение Германии и чужеземное иго; во второй случае не менее огромные потери деньгами и людьми и внутреннее, прусское, бисмарковское рабство, порабощение германского народа военной победоносной монархией „милостью Божией" и наглый произвол всех померанских лейтенантов. Но зачем протестовать, когда пользуешься славой принадлежать к великой торжествующей нации и когда перед тобой стоит дилемма — государство или свобода?
(Примечание Бакунина).
(обратно)34
Первая ложь. Это голосование вовсе не было отрицательным, так как необходимость упразднения наследственного права была признана и провозглашена относительным большинством, включающим в себя пять голосов германских делегатов (32 да против 23 нет — с 13 воздержавшимися) и так как предложение Генерального Совета имело против себя большинство не относительное, а абсолютное (19 да против 37 нет с 6 воздержавшимися).
(обратно)35
Если бы г. фон Швейцер не мог упрекнуть себя в другом грехе, кроме того, что он был энергичным противником буржуазного социализма и буржуазного радикализма, которые к сожалению восторжествовали на с'езде в Эйзенахе, то, что касается меня, я мог бы только похвалить его за это. Но противники г-на фон Швейцера утверждают, не без видимого основания, что г. фон Швейцер—тайный союзник монархической и прусской политики графа Бисмарка. Если это правда, то со стороны г-на фон Швейцара это гнусная измена по отношению к социализму и святому делу рабочих масс, которые доверяют ему. Вожди немецкой социалдемократической партии не совершают такой измены, которая, если она действительно есть, может быть только выгодной изменой; но они совершают другую измену самому делу, — не выгодную, разумеется, но не менее гибельную для освобождения рабочих, которые идут за ними, — заключая союз и связывая социалистическое и революционное движение рабочих своей партии с политикой радикальной буржуазии Германии. Это называется из огня да в полымя, это естественное следствие культа государства, который у них общий с г. фон Швейцер. КУЛЬТ государства является, вообще, главной чертой немецкого социализма. Лассаль, величайший социалистический агитатор и настоящий основатель практического социализма в Германии, был пропитан им. Он видел спасение рабочих только в государственной силе, которой рабочие должны овладеть по его мнению, путем всеобщего избирательного права. Его также обвиняли те же самые противники, — не знаю справедливо или нет, — в том, что он поддерживал тайные сношения с Бисмарком. Невозможно доверять словам и писаниям немецких публицистов, ибо первое, что они делают, нападая на какого нибудь своего противника, это обливают его грязью и, повидимому, у них неисчерпаемый запас ее.
(обратно)36
На Базельским с'езде я был единственным русским, и я не был даже там представителем от России, а от Лионской и Неаполитанской секций.
(обратно)37
Вот начинаются гнусные инсинуации.
(обратно)38
Вероятно те, с кем вместе я голосовал: большинство французских делегатов, испанские делегаты, итальянский делегат, несколько бельгийских делегатов, все делегаты (кроме двоих) романской Швейцарии и несколько немецких делегатов (пять), среди которых мой бывший друг гражданин Филипп Беккер, и гражданин Лесснер, член Генерального Совета. Гражданин Юнг, другой член Генерального Совета, сказал мне после голосования вопроса об упразднении наследственного права, что он раскаивался, видя как неглубоко обсуждался вопрос о коллективной собственности, что не голосовал вместе с нами. Большинство бельгийских делегатов воздержались, не желая, сказали они мне, голосовать против нас. И, вообще, я должен прибавить, что большинство тех, кого г. Гесс называет моими друзьями, я совершенно не знал раньше с'езда.
(обратно)39
Что должен был испытывать, читая эти слова, этот бедный русский еврейчик г. Утин, который интригует теперь в Женеве, стараясь во всю мочь и употребляя невероятные усилия, чтобы его называли главой, хотя бы мнимой русской секции, состоящей из четырех или пяти членов и из которых он был бы один говорящим членом?
(обратно)40
Бедный Филипп Беккер! быть так третированным другом!
(обратно)41
принимаю название патриота в том смысле, что я хочу полного разрушения русского государства, всероссийской империи, разрушения, необходимость которого я развивал и доказывал во всех своих речах, во всех своих писаниях, во всех актах своей жизни. Что касается панславизма, в котором меня обвиняют все эти евреи таким смешным и гнусным образом, то я вернусь к этому позднее.
(обратно)42
Недоконченная фраза Морица Гесса заканчивается так в Reveil: „революционную добросовестность которого мы не подозреваем, но который питает фантастические замыслы, достойные такого же порицания, как и способы действия, какие он употребляет для их осуществления!" Примечание Гильома к французскому изданию.
(обратно)43
Он также, принят славянскими народами, так как более соответствует их темпераменту и прирожденному отвращению к политике.
(обратно)44
См. его письмо к Литтре в „Le progres de Lyon".
(обратно)



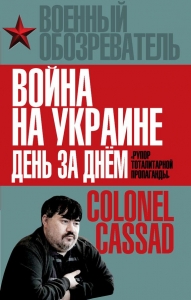
Комментарии к книге «Том 4. Политика Интернационала. Письма к французу. Парижская Коммуна», Михаил Александрович Бакунин
Всего 0 комментариев