Б. А. Исаев, А. С. Тургаев, А. Е. Хренов Политология: хрестоматия
Раздел I Предмет политологии
Изучение любой науки начинается с выявления предмета ее изучения. Определить предмет науки – значит понять, какие явления, проблемы включаются в круг ее интересов, какие методы наиболее подходят для их изучения. Именно поэтому мы включили в настоящее издание два отрывка из произведений классиков современной политической науки – Дэвида Истона и Габриэля Алмонда. Оба ученых показывают, как менялось понимание политологии с начала XX в. по настоящее время.
Д. Истон различает три периода в развитии политической науки: традиционный, бихевиоралистский и рациональный. «Методологической особенностью традиционного этапа, – отмечает американский политолог, – было стремление к описанию политических процессов и сбору соответствующей информации, а не к созданию всеобъемлющих теорий, объясняющих их закономерности». Истон подробно останавливается на специфике бихевиорализма и теории рационального выбора, которую он называет когнитивной политологией. Господство каждого из методологических направлений в науке знаменовало собой целую эпоху – этап в развитии политической науки. Переход к каждому новому этапу связывается им с неудовлетворенностью исследователей существующими методологическими подходами, которая стимулировала новое видение науки. Так, весьма интересно замечание Истона о кризисе бихевиорализма. Его методологические постулаты не были отвергнуты, но «скорее существенно изменилось... понимание того, какова природа науки». В постбихевиоралистский период, отмечает исследователь, изменилась не только тематика исследований, но и их метод. Ученые стали обращать внимание на поведение индивидов в политике, исходя из допущения об их рациональности.
Если Истон значительное внимание уделяет истории эволюции методологии политической науки, то в работе Алмонда затрагивается вопрос институционального развития политической науки – истории создания научных и учебных учреждений и организаций, специализирующихся на изучении политики, формирования научного сообщества, прежде всего в США и европейских странах, постановке проблем политологических исследований.
Д. Истон. Политическая наука в Соединенных Штатах: прошлое и настоящее[1]
Политологию определяли разнообразными способами – как науку к власти, о монополии на легитимное применение силы, о достойной жизни, о государстве и т. д. Если что-то и характеризует западную политологию в целом, так это отсутствие консенсуса по поводу исчерпывающего определения ее предмета. По причинам, подробно описанным в другой моей работе (Easton, 1981), я предпочитаю определять политологию как науку о том, каким образом принимаются решения, затрагивающие все общество, и почему эти решения считаются обязательными большинством людей в большинстве случаев. Нас, как политологов, интересуют все те действия и социальные институты, которые имеют более или менее прямое отношение к принятию, претворению в жизнь и последствиям властных решений (Easton, 1981). Чтобы понять политическую жизнь, следует обратиться к изучению властного распределения ценностей (ценных вещей) в обществе. <...>
К концу XIX в. в зарождавшейся политической науке господствовало убеждение, что стоит только описать законы, управляющие распределением власти в политических системах, и мы получим правильное понимание функционирования политических институтов. Политологи исходили из предположения о практически полном соответствии между конституционными и правовыми уложениями, касающимися прав и привилегий носителей государственных должностей, и их реальными политическими действиями. <...>
Методологической особенностью традиционного этапа было стремление к описанию политических процессов и сбору соответствующей информации, а не к созданию всеобъемлющих теорий, объясняющих их закономерности. В действительности, однако, исследовательская практика подспудно направлялась теоретическими соображениями. Во многом неосознанно большинство политологов того времени фактически проводили мысль о том, что политический процесс – это гигантский механизм принятия решений. Как выразился один из представителей данного направления М. Фэйнсод, решения есть производное «параллелограмма сил» (Fainsod, 1940). <...>
Термины «бихевиоризм» и «бихевиорализм», хотя и происходят от одного английского слова behavior, имеют мало общего между собой, и их не надо путать. Политология никогда не была «бихевиористской» – даже в период расцвета бихевиоралистского направления. Термин «бихевиоризм» относится к особой теории человеческого поведения в психологии, выдвинутой в работах Дж. Б. Уотсона. Я не знаю ни одного политолога, который придерживался бы этой доктрины. Мне не приходилось встречать среди своих коллег (хотя, возможно, таковые имеются) и сторонников психологической теории Б. Ф. Скиннера, основателя «оперантной» школы в психологии и современного наследника Уотсона. <...>
Бихевиоралистский этап в развитии политологии отличается от предшествовавших по целому ряду параметров (Easton, 1962). Во-первых, бихевиорализм исходит из того, что человеческое поведение имеет распознаваемые единообразные характеристики, которые, во-вторых, могут быть выявлены эмпирическим путем. В-третьих, ему присуще стремление к использованию более строгих методов сбора и анализа информации... В-четвертых, бихевиоралисты были в гораздо большей степени, чем их предшественники, склонны к теоретическим изысканиям. Поиск систематических объяснений, основанных на объективном наблюдении, привел к изменению самого понятия теории. В прошлом теория традиционно имела философский характер. Главной ее проблемой было достижение «достойной жизни». Позднее теория приобрела по преимуществу историческую окраску и ее целью стал анализ происхождения и развития политических идей прошлого. Бихевиоралистская же теория была ориентирована на эмпирическое применение и видела свою задачу в том, чтобы помочь нам объяснять, понимать и даже, насколько это возможно, предсказывать политическое поведение людей и функционирование политических институтов.
Основные усилия теоретиков бихевиоралистского периода были направлены именно на разработку эмпирически ориентированных теорий, которые могли бы применяться на разных уровнях анализа. Так называемая теория среднего уровня должна была, по их замыслу служить средством разработки теорий, охватывающих крупные разделы дисциплины. Например, теория плюрализма власти породила теории демократических систем, игр и общественного выбора (Riker, Ordeshook, 1973).
В то же время предпринимались усилия по разработке более широких, так называемых общих теорий. Они были призваны обеспечить наиболее всеобъемлющее понимание политической системы. Важнейшими попытками такого рода были структурно-функциональная теория и системный анализ (Easton, 1981). <...>
Постбихевиоралистский этап
То, что я называю постбихевиоралистской революцией (подобное определение следующего этапа развития политологии стало уже общепринятым), началось в 1960-е гг. и продолжается по сей день (Easton, 1969). Характерной чертой этого этапа стало глубокое разочарование в итогах бихевиорализма. Но научный метод в политологии не был отвергнут. Скорее, существенно изменилось наше понимание того, какова природа науки, и даже к нынешнему дню его нельзя признать устоявшимся. <...>
Снова была признана известная познавательная ценность нестрогих методов, применявшихся ранее, равно как и метода интерпретативного понимания (verstehen), разработанного на рубеже XIX–XX вв. Максом Вебером. Наблюдалось и возрождение марксизма как альтернативного подхода к развитию обществознания (Oilman, Vernoff, 1982; Poulantzas, 1973). <...>
Но сегодня трудно сказать, что это значит – изучать политику, да и сам этот вопрос волнует ученых куда меньше, чем в прошлом. Концепция политологии как науки о государстве, вытесненная после Второй мировой войны идеей политической системы, ныне возродилась снова. Параллельно, по крайней мере в американской политологии, произошло возрождение марксистских и постмарксистских подходов (Easton, 1981), в которых понятие государства, естественно, играет центральную роль. <...>
В основном, однако, американская политология движется в иных направлениях. По-прежнему сохраняется присущий бихевиоралистскому этапу интерес к поведению избирателей и носителей различных видов власти – судебной, законодательной, административной и исполнительной, а также к группам интересов, партиям, проблемам развития и т. д. Но в постбихевиоралистский период возникла и новая исследовательская тематика, отражающая растущее стремление осмыслить новые, свойственные этому периоду проблемы, такие как загрязнение окружающей среды, этническое, расовое и социальное равенство, равноправие полов, ядерная угроза и т. д. <...>
Наиболее бросающаяся в глаза инновация – не имеющее аналогов в прошлом изменение исследовательских подходов произошло недавно в другой области, которую я назвал бы когнитивной политологией. Возникновение этой отрасли политологии отражало стремление к отказу от интерпретации политических явлений как производных полностью бессознательного процесса, т. е. деятельности социальных сил, влияющих на решения и поступки политических акторов и институтов.
Исходное допущение когнитивной политологии состоит в том, что политическое поведение имеет важную рациональную составляющую. Это допущение можно толковать двояким образом: либо в том смысле, что люди действительно поступают рационально, либо в том смысле, что их поведение лучше поддается объяснению, если мы исходим из посылки о его рациональности.
В то время как результатами эмпирических социальных исследований являются основанные на наблюдениях обобщенные суждения о поведении, продукт когнитивной политологии – модели того, как люди действуют (или должны действовать) в различных обстоятельствах при условии рациональности их действий. Иными словами, результаты когнитивных исследований выражаются в виде моделей рационального выбора, теории игр или других вариаций так называемых моделей с рациональным актором (Downs, 1957; Kramer, Hertz-berg, 1975; Riker, Ordeshook, 1973; Taylor, 1975). Некоторые политологи считают, что эти построения отражают лишь гипотетически рациональное поведение индивидов. Значение моделей сводится, таким образом, к возможности сравнить реальное поведение с гипотетическим и попытаться объяснить отклонения. Другие ученые убеждены, что люди и в действительности ведут себя так, как следует из моделей. Тогда допущение о рациональности относится к реальности (Riker, Ordeshook, 1973). Есть и такие политологи, для которых предписанное рациональными моделями поведение соответствует определенным нормам, следование которым желательно само по себе. Таким образом, рациональные модели могут описывать чисто формальные структуры рационального поведения, реальные стратегии выбора или же желательные стратегии, если ценится рациональность как таковая.
Рациональный подход внес важный вклад не только в эмпирически ориентированные исследования, но и в политическую философию. Рациональное моделирование оживило ее. По причинам, о которых говорилось выше, на бихевиоралистском этапе развития политологии изучение моральных проблем практически сошло на нет. Ценности считались простым выражением предпочтений (подход, по сей день господствующий в экономической науке). На современном, постбихевиоралистском, этапе попытки показать, что у моральных доводов и суждений есть рациональные основы, возобновились. Толчком для возобновления усилий в этой области во многом послужила работа Джона Роулза «Теория справедливости» (Rawls, 1971), автор которой находился под сильным влиянием методик экономического моделирования и теории игр. Исходя из допущения о рациональности человеческих действий, Роулз попытался выделить достоверные и явные критерии справедливости. Сходные представления о рациональности послужили основой для разработки этических теорий, касающихся равенства, свободы, справедливости в международных отношениях, легитимности и т. д. (Beitz, 1979; Elster, 1986; Fishkin, 1982; Lehrer, Wagner 1981).
Новый подход получил распространение не только в политической философии. Его применению в этой области предшествовало – и способствовало – использование моделей с рациональным актором при изучении электорального поведения и общественного выбора. Как исследовательская техника он проник и в другие области политологии. По своей сути данный подход является слепком с теоретических подходов современной экономической науки и не гнушается прямым заимствованием экономических теорий для объяснения политических ситуаций (Downs, 1957; Kramer, Hertzberg, 1975).
Увлечение подобными методами анализа вызвало критику со стороны всевозрастающего числа ученых, и интенсивность этой критики усиливается. Часть критиков обрушилась на исходную посылку рационалистической концепции, доказывая, что политическое поведение как индивидов, так и их совокупностей в действительности нерационально или иррационально и неспособность принять этот факт во внимание подрывает достоверность исследования (Eckstein, 1988; Elster, 1989; Jarvie, 1984; Mansbridge, 1990; Quattrone, Tversky, 1988). В то же время рациональная модель иногда критикуется за чрезмерный редукционизм, т. е. за стремление объяснить все человеческое поведение через отдельные свойства, вроде рациональности. Такого рода модель, утверждают критики, не способна обеспечить систематический учет институционального и структурного контекстов, в которых действуют индивиды и которые определяют, или по меньшей мере ограничивают, поведение акторов как единичных, так и совокупных (Eastern, 1990; March, Olsen, 1989). К началу 1990-х гг. стало, однако, очевидно, что подобные оговорки относительно применимости рациональной модели не помешали ей занять заметную и, по всей видимости, долговечную нишу в политологии.
Г.Алмонд. Политическая наука: история дисциплины[2]
Профессионализация политической науки в XX в.
Во второй половине XIX в. и на протяжении первых десятилетий XX в. быстрый рост и процесс концентрации промышленного производства в Соединенных Штатах наряду с разрастанием крупных городов, население которых в основном составляли выходцы из небольших сельских населенных пунктов и иммигранты, привели к благоприятной ситуации для широкомасштабной коррупции. Она, в свою очередь, создала для дельцов от политики, обладавших изрядными материальными возможностями, ситуацию, при которой несложно было организовать и дисциплинировать значительные массы избирателей, заполонивших такие крупные города, как Нью-Йорк, Бостон, Филадельфия, Чикаго, Сент-Луис, Канзас-Сити и др. Слова «босс» и «машина», наряду с постоянной борьбой за реформы, стали знаками американской политической жизни конца XIX – начала XX в. Реформистские движения, вдохновленные идеологией эффективности и поддержанные городскими деловыми и профессиональными элитами, привлекали на свою сторону талантливых журналистов, лучшие средства массовой информации и ученых из академических кругов. Подкуп политиков представителями корпораций, стремившихся заключить выгодные контракты, добиться привилегий и защиты от государственных ограничений, стал центральной темой нараставшего вала публицистических «обличительных» материалов в прессе, которые раскрывали общественности неприглядную картину политической инфраструктуры, втянутой во всевозможные злоупотребления и махинации, и выявляли «группы давления» и «лобби», глубоко пронизавшие и коррумпировавшие политические структуры на местном, региональном и федеральном уровнях. <...>
Чикагская школа
<...> Если в период между Первой и Второй мировыми войнами решающую роль в развитии политической науки сыграл Чикагский университет, где была создана новаторская исследовательская школа, совершившая подлинную революцию в изучении политических процессов, то в послевоенные десятилетия основные функции в распространении политической науки в большинстве академических центров как в Соединенных Штатах, так и в других странах, взял на себя Институт социальных исследований при Мичиганском университете. Во время летних занятий несколько сотен американских и зарубежных молодых специалистов получили там навыки эмпирических и статистических методов исследования; его архивные материалы стали важными источниками для подготовки учеными многочисленных статей и книг. Проведенные в Мичигане исследования электоральных процессов признаны образцом международного уровня.
Распространение и совершенствование эмпирической политической теории затронуло не только техническую и теоретическую стороны изучения электоральных процессов. Такие области, как международные отношения и сравнительная политология, развивались столь же динамично, как и анализ американских внутриполитических процессов. В них также применялись количественные и междисциплинарные подходы. За несколько послевоенных десятилетий в основных университетских центрах, ведущих подготовку аспирантов, – Йеле, Калифорнийском университете в Беркли, Гарварде, Мичигане, Висконсине, Миннесоте, Стэнфорде, Принстоне, Массачусет-ском технологическом институте и других – сотни соискателей получили ученые степени по политической науке, после чего им была предложена работа во многих американских и зарубежных колледжах и университетах. В большинстве этих учебных заведений в послевоенные десятилетия аспиранты прошли курсы по количественным методам исследований. <...>
Именно в эти годы политическая наука как дисциплина приобретает характер современной «профессии». Факультеты политической науки, государственного управления и политики впервые возникли в конце XIX в. на основе сотрудничества и благодаря совместным усилиям историков, юристов и философов. В первые десятилетия XX в. во многих американских университетах такие факультеты уже существовали, однако считались «второстепенными». В 1903 г. была основана Американская ассоциация политической науки, в которую входило немногим более 200 специалистов. К концу Второй мировой войны численность Ассоциации достигла 3 тысяч человек, к середине 1960-х гг. превысила 10 тысяч, а в настоящее время она объединяет более 13 тысяч индивидуальных участников. В основном это преподаватели высших учебных заведений, организованные по секциям многочисленных субдисциплин. Большинство ассоциированных членов имеет ученую степень доктора политической науки, присвоенную в одном из ведущих центров подготовки соискателей. Как правило, для ее получения необходимо сдать определенное число экзаменов по специальности и методологии, а также осуществить крупный исследовательский проект. Научная репутация ученого оценивается по количеству публикаций, рекомендованных к изданию «мнением равных». Продвижение на научном поприще обычно зависит от положительных отзывов коллег, занимающихся изучением аналогичных проблем. Выходит несколько десятков периодических журналов по отдельным отраслям политической науки, материалы которых публикуются после одобрения другими специалистами в этой области.
За полвека со времени окончания Второй мировой войны преподавание политической науки и исследования в этой области привели к созданию масштабной академической дисциплины, в рамках которой успешно развиваются многие отрасли; ее неуклонное движение вперед позволило нам значительно лучше понять политические процессы и их проявления. Материалы региональных изысканий, проведенных в Западной и Восточной Европе, Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке тысячами квалифицированных специалистов, которые работают в центрах «региональных исследований» при университетах и колледжах (также имеющих собственные профессиональные объединения и печатные издания), послужили основой для научных библиотек по данной проблематике.
Мы уже говорили о распространении и усложнении электоральных исследований. Получаемые на их основании прогнозы в определенной степени можно сравнить с предсказаниями метеорологов или сейсмологов. Мы сделали большой шаг вперед в понимании политической культуры, ее воздействия на политические институты и их эффективность, а также субкультур отдельных элит и других социальных групп, играющих большую роль в общественной жизни. К эмпирическим исследованиям такого рода можно отнести работы Гэбриела Алмонда, Сиднея Вербы, Алекса Инкелеса, Рональда Инглхарта, Сэмюэля Барнса и Роберта Патнэма. По преимуществу описательно-аналитический подход к предмету представлен в трудах Люсьена Пая (1962,1985, 1988). Благодаря серии исследований, проведенных в последние десятилетия Вербой и его сотрудниками, существенно расширились наши представления о политическом участии.
Применение агрегированных статистических методов исследования позволило более полно описать процессы модернизации и демократизации, а также функционирование государственных институтов. Успешно и плодотворно ученые занимались проблемами групп интересов и феномена корпоративизма, а также оценкой роли политических партий в развитии демократического процесса.
В работах Роберта Даля, Арендта Лейпхарта и Джованни Сартори значительное развитие получила теория демократии. Концепция демократизации была разработана в трудах Хуана Линца, Лэрри Даймонда, Филиппа Шмиттера, Гильермо О'Доннелла, Сэмюэля Хантингтона и др. А подход к изучению демократии Роберта Даля (1989) являет собой пример того, как нормативная и эмпирическая политические теории могут обогатить друг друга. <...>
Современное рассмотрение судебной практики и публичного права, по мнению Мартина Шапиро (1993), также развивается в направлении более тесного взаимодействия юридических исследований с изучением политических институтов и процессов. Без правового анализа политическая наука в значительной степени утрачивает свою объясняющую способность, а правовой анализ, оторванный от институционального и процессуального политического контекста, формализуется и сущность его выхолащивается. Труды Шапиро и приумножающейся группы исследователей судебной практики и публичного права подтверждают справедливость такого вывода.
Развитие политической науки в Европе
Политическая наука зародилась и прошла первую стадию становления на средиземноморском побережье в эпоху Античности, продолжая развиваться при средневековом католицизме, Ренессансе, Реформации, Просвещении и в Европе XIX в.,[3] но этот процесс либо носил индивидуальный характер, либо происходил в замкнутых институциональных рамках – будь то греческие академии или европейские университеты Средневековья и более поздних периодов. До последнего времени типичным подразделением европейского университета была профессорская кафедра, возглавляемая ученым, вокруг которого группировались меньшие научные величины – доценты и ассистенты. В послевоенные десятилетия некоторые из таких университетских кафедр были расширены и преобразованы в факультеты, на которых преподавательскую и исследовательскую работу по разным направлениям ведут уже несколько профессоров.
Один из номеров European Journal of Political Research (1991) посвящен послевоенной истории развития западноевропейской политической науки. В его вступительной редакционной статье отмечается, что успехи политической науки в Европе по вполне очевидным причинам были связаны с процессом демократизации, а также со становлением государства всеобщего благосостояния, поскольку активистское, открытое государство, стремящееся к всестороннему охвату общественных проблем, нуждается во все большем объеме информации о политических процессах и эффективности деятельности властных структур. Признавая тот факт, что развитие американской политической науки оказало на европейцев весьма значительное влияние, авторы статьи отмечают, что в Европе еще до начала Второй мировой войны проводились «поведенческие» исследования электоральных процессов, например Дюверже (1951–1976) во Франции и Тингстеном (1936–1963) в Швеции. Как было сказано выше, выдающиеся ученые в области общественных наук, идеи которых легли в основу творческого развития научной мысли Америки, были европейцами. Ричард Роуз (1990) указывает, что хотя главный потенциал развития современной политической науки после Второй мировой войны принадлежал Соединенным Штатам, но основоположники американской политологии – Вудро Вильсон, Фрэнк Гудноуз, Чарльз Мерриэм – либо получали в Европе дипломы, либо после окончания высших учебных заведений в течение нескольких лет продолжали повышать квалификацию в европейских университетах, прежде всего в немецких. Образование, культура и профессиональное мастерство были качественно выше тогда в Старом Свете по сравнению с Новым. До Первой мировой войны американские ученые смотрели на себя как на провинциалов. В межвоенный период даже в таком новаторском центре образования, как Чикагский университет, Мерриэм все еще побуждал наиболее одаренных студентов после его окончания поехать на год в Европу для повышения уровня знаний и предоставлял им для этого материальную поддержку.
Захват власти нацизмом и фашизмом, опустошения, причиненные Второй мировой войной, почти на десятилетие затормозили научную жизнь в странах континентальной Европы. Значительная часть немецких ученых, занимавшихся общественными науками, переселилась в Соединенные Штаты, где они не только внесли посильный вклад в борьбу, которую вела Америка в годы войны, но и обогатили систему американского образования и исследований в области социологии, психологии и политической науки. В Новой школе общественных наук в Нью-Йорке из европейских «изгнанников» было сформировано целое подразделение для подготовки аспирантов; в Америке трудно было найти высшее учебное заведение, где бы на факультетах общественных наук не преподавали эмигрировавшие из Европы профессора. Такие ученые, как Пол Лазарсфелд, Курт Левин, Вольфганг Келер, Ганс Шпейер, Карл Дойч, Ганс Моргентау Лео Лоуенталь, Лео Стросс, Франц Нойманн, Генри Эрманн, Отто Киршмайер, Герберт Маркузе, внесли весомый вклад как в создание эффекта «поведенческой революции» в Соединенных Штатах, так и в ее критику. Таким образом, политическая наука, привнесенная в Европу после Второй мировой войны, в определенной степени явилась развитием тех ее направлений, которые восходили к истокам европейских традиций.
В первые послевоенные десятилетия после восстановления Европы, обновления ее институтов и обеспечения их кадрами, все новое в общественных науках было преимущественно американского происхождения. В американских университетах и исследовательских центрах размежевание с правовым и историческим принципами при изучении правительственных институтов, политических партий и электоральных процессов, групп интересов, общественного мнения и средств массовой информации уже завершилось. По аналогии с планом Маршалла, направленным на восстановление разрушенной войной европейской экономики, ученые из Нового Света, которых поддерживали американские благотворительные фонды, уезжали в Европу подобно миссионерам, стремившимся к обновлению и обогащению европейской науки с помощью разработанных в США эмпирического и количественного подходов. Десятки молодых европейских ученых, которым оказывал помощь Фонд Рокфеллера и другие благотворительные организации, получали стипендии и приезжали для продолжения образования в Соединенные Штаты. Для участия в работе над американскими программами, осуществлявшимися Комитетом по сравнительной политологии (подразделением Исследовательской комиссии по общественным наукам), Мичиганским центром электоральных опросов, проектом Инглхарта по политическим ценностям, приглашали специалистов из Европы, подготавливали их и нередко оказывали им материальную поддержку.
Такого рода односторонняя зависимость продолжалась недолго. Гуманитарные традиции и школы настолько глубоко укоренились в европейских национальных культурах, что уничтожить их в период нацистского господства оказалось просто невозможно. К 1960-м гг. были полностью восстановлены старые университеты и возникло много новых учебных и исследовательских центров. Европейские ученые вносили все более весомый вклад в развитие общественных наук. Комитет по политической социологии Международной социологической ассоциации состоял в основном из европейских ученых, хотя и объединял научные усилия континентальных и американских специалистов. Влияние его деятельности на динамику научной мысли в Европе во многих отношениях можно сравнить с той ролью, которую ранее играл Американский комитет по сравнительной политологии. Проводившиеся в Европе компаративные исследования (в частности, осуществлявшийся под руководством Даля, Лорвина, Даалдера и Роккана проект изучения демократических режимов небольших европейских государств) помогли существенно повысить профессиональный уровень специалистов, представлявших европейскую политическую науку. Центр эмпирических исследований при Мичиганском университете оказал заметное воздействие на внедрение самых современных методов электоральных исследований в Европе – в начале 1960-х гг. их начали проводить в Англии, а затем и в других европейских странах. После завершения каждого такого национального исследования в стране оставались подготовленные кадры специалистов, которые должны были и в дальнейшем заниматься электоральным анализом.
В 1970 г. на средства Фонда Форда был образован Европейский консорциум политических исследований (ECPR), ставивший перед собой примерно такие же цели, как комитеты по политической науке Американского совета по исследованиям в области общественных наук. Консорциум выделял средства на организацию обучения по научно-методологическим программам в обществоведении в летней школе (расположенной в Эссекском университете), на создание лабораторий при некоторых национальных центрах, где разрабатывались различные научные проблемы, а также на реализацию совместных исследовательских проектов. При его содействии был создан Архив осуществленных исследований и начало выходить профессиональное периодическое издание The European Journal of Political Research. Коллективными членами ECPR становятся факультеты и научно-исследовательские организации; в 1989 г. в его состав входило 140 таких учреждений. В справочнике 1985 г. о европейских ученых, занимающихся политической наукой, было перечислено почти 2,5 тысячи имен. Уровень развития политической науки в отдельных европейских государствах определяется количеством национальных научных организаций, являющихся членами ECPR. Из 140 входивших в Консорциум в 1989 г. научных организаций 40 приходилось на Великобританию, 21 – на Германию, 13 – на Нидерланды, 11 – на Италию и 5 – на Францию. Влияние американской политической науки как на европейскую, так и на мировую в определенной степени находит отражение в показателях численности зарубежных членов Американской ассоциации политических наук и, соответственно, подписчиков журнала American Political Science Review, в Великобритании, Германии и Японии их количество значительно превышает 100 человек в каждой стране; в Израиле, Южной Корее и Нидерландах – примерно по 50; в Норвегии, Швеции и на Тайване – около 30; во Франции – 27.
К 1990-м гг. ученые, профессионально изучающие разнообразные функциональные направления политической науки как дисциплины, имеющей общепринятую концепцию предмета исследования, и организованные в Международную ассоциацию политических наук и в различные национальные и региональные объединения, прочно утвердились в глобальном научном знании.
Раздел II История политической мысли
Политическая мысль Древнего мира развивалась по двум основным направлениям.
На Древнем Востоке в первых государствах Индии, Китая, Египта и Месопотамии политические учения пошли по пути апологетики единоличной, централизованной, деспотичной власти. Это часто объясняется тем, что первые государства Востока, возникавшие, как правило, на берегах полноводных, приносящих плодородный ил рек, образовывались из потребности в организации больших масс людей, разделения физического (работа на полях), управленческого (надсмотрщики, чиновники) труда и военного дела. Это вело к разделению людей на варны (Индия), созданию образа идеального управляющего, благородного мужа (Китай), возвеличивания или даже обожествления правителя (Египет, Китай, Вавилон и др.).
Политическая мысль Древней Греции и Рима развивалась иным путем. По многим причинам: географическим, экономическим, культурным (отсутствие больших, разливающихся рек, но близость моря и возможность развивать торговлю, другие связи, выводить излишнее население в колонии, умелое использование достижений своих и соседей для ускоренного развития наук и искусств) она пошла по пути поиска идеальной или лучшей формы правления, критического анализа или апологетики демократии и республики, оправдания необходимости императорской формы правления при формальном сохранении республиканских институтов в больших и сверхбольших государствах.
Политические учения Древней Греции и Рима
Платон (428 или 427–348 или 347 до н. э.)
Платон – великий древнегреческий философ, внесший большой вклад в разработку политических теорий. Политика, по мнению Платона, неразрывно связана с этикой, а следовательно, и общественная мораль совмещена с политической деятельностью, но последняя неизбежно ведет к нарушению нравственных норм и деградации государства. Наилучшим государственным устройством Платон считал идеальное государство, образ которого существует в другом, неземном, идеальном мире. Задачей философов-правителей и является «припоминание» этого образа (идеи), которую их души до земного воплощения наблюдали в мире идей. Реально существующие государства (формы правления) Платон подразделял на правильные (справедливые): монархия, аристократия и неправильные: тимократия (власть военных), олигархия (власть богачей), демократия (власть народных низов) и тирания (власть узурпатора). При этом демократический процесс и демократические процедуры (выборы, коллегиальность руководства, правление законов, а не людей) присущи всем правильным формам правления. Худшим правлением Платон считал тиранию.
Государство[4]
Книга седьмая
Справедливость воспитывается в человеке с детства.
<...> когда властителями в государстве станут подлинные философы, будет ли их несколько или хотя бы один, нынешними почестями они пренебрегут, считая их низменными и ничего не стоящими, и будут высоко ценить порядочность и ту честь, что с нею связана, но самым великим и необходимым будут считать справедливость; служа ей и умножая ее, устроят они свое государство.
– Но КЭ.К именно?
– Всех, кому в городе больше десяти лет, они отошлют в деревню, а остальных детей, оградив их от воздействия современных нравов, свойственных родителям, воспитают на свой лад, в тех законах, которые мы разобрали раньше. Таким-то вот образом всего легче и скорее установится тот государственный строй, о котором мы говорили, государство расцветет, а народ, у которого оно возникнет, для себя извлечет великую пользу. <...>
Книга восьмая
<...> в образцово устроенном государстве жены должны быть общими, дети – тоже, да и все их воспитание будет общим; точно так же общими будут военные и мирные занятия, а царями надо всем этим должны быть наиболее отличившиеся в философии и в военном деле.
– Да, мы в этом согласились.
– И договорились насчет того, что как только будут назначены правители, они возьмут своих воинов и расселят их по тем жилищам, о которых мы упоминали ранее; ни у кого не будет ничего собственного, но все у всех общее. Кроме жилищ, мы уже говорили, если ты помнишь, какое у них там будет имущество.
– Помню, мы держались взгляда, что никто не должен ничего приобретать, как это все делают теперь. За охрану наши стражи, подвизающиеся в военном деле, будут получать от остальных граждан вознаграждение в виде запаса продовольствия на год, а обязанностью их будет заботиться обо всем государстве.
– Ты правильно говоришь. Раз с этим у нас покончено, то, чтобы продолжить наш прежний путь, давай припомним, о чем у нас была речь перед тем, как мы уклонились в сторону.
– Нетрудно припомнить. Ты закончил свое рассуждение об устройстве государства примерно теми же словами, что и сейчас: а именно, что ты считаешь хорошим рассмотренное нами тогда государство и соответствующего ему человека, хотя мог бы указать на государство еще более прекрасное и соответственно на такого человека. Раз подобное государственное устройство правильно, сказал ты, все остальные порочны.
[Четыре вида государственного устройства]
<...> – А мне и в самом деле не терпится услышать, о каких это четырех видах государственного устройства ты говорил.
– Услышишь, это нетрудно. Я говорю как раз о тех видах, которые пользуются известностью. Большинство одобряет критско-лакедемонское устройство.[5] На втором месте, менее одобряемая, стоит олигархия: это государственное устройство, преисполненное множества зол. Из нее возникает отличная от нее демократия. Прославленная тирания отлична от них всех – это четвертое и крайнее заболевание государства.
Аристотель (384–322 до н. э.)
Великий древнегреческий философ. Основные политологические сочинения: «Политика», «Афинская полития», «Никомахова этика». В отличие от Платона Аристотель выдвинул теорию естественного происхождения государства, которое, подобно живому организму, образуется из естественного стремления людей («политических особей») к общему благу, объединяя семьи в селения, а селения в единый полис. Поэтому государство не нуждается в радикальной искусственной трансформации в соответствии с потусторонним образцом (как у Платона), предполагающим изменение природы человека. Из реальных форм правления наилучшей Аристотель считал политию, сочетающую положительные черты олигархии и демократии.
Политика[6]
Книга третья
Государственное устройство означает то же, что и порядок государственного управления, последнее же олицетворяется верховной властью в государстве, и верховная власть непременно находится в руках либо одного, либо немногих, либо большинства. И когда один ли человек, или немногие, или большинство правят, руководясь общественной пользой, естественно, такие виды государственного устройства являются правильными, а те, при которых имеются в виду выгоды либо одного лица, либо немногих, либо большинства, являются отклонениями. Ведь нужно признать одно из двух: либо люди, участвующие в государственном общении, не граждане, либо они все должны быть причастны к общей пользе. Монархическое правление, имеющее в виду общую пользу, мы обыкновенно называем царской властью; власть немногих, но более чем одного, – аристократией (или потому, что правят лучшие, или потому, что имеется в виду высшее благо государства и тех, кто в него входит); а когда ради общей пользы правит большинство, тогда мы употребляем обозначение, общее для всех видов государственного устройства, – полития. И такое разграничение оказывается логически правильным: один человек или немногие могут выделяться своей добродетелью, но преуспеть во всякой добродетели для большинства – дело уже трудное, хотя легче всего – в военной доблести, так как последняя встречается именно в народной массе. Вот почему в такой политии верховная власть сосредоточивается в руках воинов, которые вооружаются на собственный счет. Отклонения от указанных устройств следующие: от царской власти – тирания, от аристократии – олигархия, от политии – демократия. Тирания – монархическая власть, имеющая в виду выгоды одного правителя; олигархия блюдет выгоды состоятельных граждан; демократия – выгоды неимущих; общей же пользы ни одна из них в виду не имеет. <...>
Тирания, как мы сказали, есть деспотическая монархия в области политического общения...<...>
...Олигархия – такой вид государственного устройства, при котором должности занимают люди состоятельные, по количеству своему немногочисленные; демократия – тот вид, при котором должности в руках неимущих, по количеству своему многочисленных. Получается другое затруднение: как мы обозначим только что указанные виды государственного устройства – тот, при котором верховная власть сосредоточена в руках состоятельного большинства, и тот, при котором она находится в руках неимущего меньшинства, если никакого иного государственного устройства, кроме указанных, не существует? Итак, из приведенных соображений, по-видимому, вытекает следующее: тот признак, что верховная власть находится либо в руках меньшинства, либо в руках большинства, есть признак случайный и при определении того, что такое олигархия, и при определении того, что такое демократия, так как повсеместно состоятельных бывает меньшинство, а неимущих большинство; значит, этот признак не может служить основой указанных выше различий. То, чем различаются демократия и олигархия, есть бедность и богатство; вот почему там, где власть основана – безразлично, у меньшинства или большинства – на богатстве, мы имеем дело с олигархией, а где правят неимущие, там перед нами демократия. А тот признак, что в первом случае мы имеем дело с меньшинством, а во втором – с большинством, повторяю, есть признак случайный. Состоятельными являются немногие, а свободой пользуются все граждане; на этом же и другие основывают свои притязания на власть в государстве. <...>
Если конечной целью всех наук и искусств является благо, то высшее благо есть преимущественная цель самой главной из всех наук и искусств, именно политики. Государственным благом является справедливость, т. е. то, что служит общей пользе. По общему представлению, справедливость есть некое равенство; это положение до известной степени согласно с теми философскими рассуждениями, в которых разобраны этические вопросы. Утверждают, что справедливость есть нечто имеющее отношение к личности и что равные должны иметь равное. Не следует, однако, оставлять без разъяснения, в чем заключается равенство и в чем – неравенство; этот вопрос представляет трудность, к тому же он принадлежит к области политической философии. <...>
Книга четвертая
Каким образом возникает наряду с демократией и олигархией так называемая полития и каково должно быть ее устройство... <...>
Вместе с тем станут ясными и отличительные признаки демократии и олигархии. Прежде всего следует установить разграничение этих видов государственного устройства, а затем поступить так, как поступают со знаками гостеприимства, – взяв от каждого из них по половине, сложить их вместе. <...>
Теперь мы сказали о том, как должна быть устроена полития... <...> В каждом государстве есть три части: очень состоятельные, крайне неимущие и третьи, стоящие посредине между теми и другими. Так как, по общепринятому мнению, умеренность и середина – наилучшее, то, очевидно, и средний достаток из всех благ всего лучше. При наличии его легче всего повиноваться доводам разума; напротив, трудно следовать этим доводам человеку сверхпрекрасному сверхсильному, сверхзнатному, сверхбогатому или, наоборот, человеку сверхбедному, сверхслабому, сверхуниженному по своему общественному положению. Люди первого типа становятся по преимуществу наглецами и крупными мерзавцами. Люди второго типа часто делаются злодеями и мелкими мерзавцами. А из преступлений одни совершаются из-за наглости, другие – вследствие подлости. Сверх того, люди обоих этих типов не уклоняются от власти, но ревностно стремятся к ней, а ведь и то и другое приносит государствам вред. Далее, люди первого типа, имея избыток благополучия, силы, богатства дружеских связей и тому подобное, не желают, да и не умеют подчиняться. И это наблюдается уже дома, с детского возраста: избалованные роскошью, в которой они живут, они не обнаруживают привычки повиноваться даже в школах. Поведение людей второго типа из-за их крайней необеспеченности чрезвычайно униженное. Таким образом, одни не способны властвовать и умеют подчиняться только той власти, которая проявляется у господ над рабами; другие же не способны подчиняться никакой власти, а властвовать умеют только так, как властвуют господа над рабами. Получается государство, состоящее из рабов и господ, а не из свободных людей, государство, где одни исполнены зависти, другие – презрения. А такого рода чувства очень далеки от чувства дружбы в политическом общении, которое должно заключать в себе дружественное начало. Упомянутые ми люди не желают даже идти по одной дороге со своими противниками.
Государство более всего стремится к тому, чтобы все в нем были равны и одинаковы, а это свойственно преимущественно людям средним. Таким образом, если исходить из естественного, по нашему утверждению, состава государства, неизбежно следует, что государство, состоящее из средних людей, будет иметь и наилучший государственный строй. Эти граждане по преимуществу и остаются в государствах целыми и невредимыми. Они не стремятся к чужому добру, как бедняки, а прочие не посягают на то, что этим принадлежит, подобно тому как бедняки стремятся к имуществу богатых. <...>
Итак, ясно, что наилучшее государственное общение – то, которое достигается посредством средних, и те государства имеют хороший строй, где средние представлены в большем количестве, где они – в лучшем случае – сильнее обеих крайностей или по крайней мере каждой из них в отдельности. Соединившись с той или другой крайностью, они обеспечивают равновесие и препятствуют перевесу противников. Поэтому величайшим благополучием для государства является то, чтобы его граждане обладали собственностью средней, но достаточной; а в тех случаях, когда одни владеют слишком многим, другие же ничего не имеют, возникает либо крайняя демократия, либо олигархия в чистом виде, либо тирания, именно под влиянием противоположных крайностей. <...>
Фукидид (ок. 460–400 до н. э.)
Фукидид – известный древнегреческий историк и политик, родился в Афинах в аристократической семье. Учился у лучших педагогов своего времени: Анаксагора, Протагора, Горгия. Несмотря на принадлежность своих родственников к олигархической партии, примкнул к демократической группировке Перикла. Был участником Пелопонесской войны (431–404 гг. до н. э.) между Пелопонесским союзом во главе со Спартой и Афинским морским союзом. В ходе одного из сражений (423 г. до н. э.) Фукидид, будучи командующим эскадрой кораблей, не смог вовремя оказать помощь союзному фракийскому полису Амфиополь, который пал под ударами спартанцев. За это он был приговорен к пожизненному изгнанию из Афин, в которые смог вернуться только через двадцать лет. В изгнании Фукидид написал «Историю», повествующую о войне спартанцев и афинян за гегемонию в Элладе. Он стал первым из древнегреческих историков, который, отрешившись от мифов (как писали до него Гомер и Геродот), представил историю как цепь политических событий и военных столкновений, как политический процесс.
История[7]
[Речь Перикла]
Начну прежде всего с предков. Ведь и справедливость, и пристойность велят нам в этих обстоятельствах воздать дань их памяти. Наши предки всегда неизменно обитали в этой стране и, передавая ее от поколения к поколению, своей доблестью сохранили ее свободу до нашего времени. И если они достойны хвалы, то еще более достойны ее отцы наши, которые, умножив наследие предков своими трудами, создали столь великую державу, какой мы владеем, и оставили ее нам, ныне живущему поколению. И еще больше укрепили ее могущество мы сами, достигшие ныне зрелого возраста. Мы сделали наш город совершенно самостоятельным, снабдив его всем необходимым как на случай войны, так и в мирное время. Военные подвиги, которые и мы и отцы совершили, завоевывая различные земли или стойко обороняясь в войнах с варварами или эллинами, общеизвестны, и я не стану о них распространяться. Но прежде чем начать хвалу павшим, которых мы здесь погребаем,[8] хочу сказать о строе нашего города, о тех наших установлениях в образе жизни, которые и привели его к нынешнему величию. Полагаю, что и сегодня уместно вспомнить это, и всем собравшимся здесь гражданам и чужеземцам будет полезно об этом услышать.
Для нашего государственного устройства мы не взяли за образец никаких чужеземных установлений. Напротив, мы скорее сами являем пример другим, нежели в чем-нибудь подражаем кому-либо. И так как у нас городом управляет не горсть людей, а большинство народа, то наш государственный строй называется народоправством. В частных делах все пользуются одинаковыми правами по законам. Что же до дел государственных, то на почетные государственные должности выдвигают каждого по достоинству, поскольку он чем-нибудь отличился не в силу принадлежности к определенному сословию, но из-за личной доблести. Бедность и темное происхождение или низкое общественное положение не мешают человеку занять почетную должность, если он способен оказать услуги государству. В нашем государстве мы живем свободно и в повседневной жизни избегаем взаимных подозрений: мы не питаем неприязни к соседу, если он в своем поведении следует личным склонностям, и не выказываем ему хотя и безвредной, но тягостно воспринимаемой досады. Терпимые в своих частных взаимоотношениях, в общественной жизни не нарушаем законов, главным образом из уважения к ним, и повинуемся властям и законам, в особенности установленным в защиту обижаемых, а также законам неписаным, нарушение которых все считают постыдным.
Полибий (ок. 201 – ок. 120 до н. э.)
Полибий – древнегреческий оратор и историк, родился в семье известного политика и военачальника в полисе Магаполь в Южной Аркадии (северная часть Греции). Занимался политической деятельностью в то время, когда Греция утратила независимость и стала римской провинцией (после битвы под Пидной в 168 г. до н. э.). В числе нескольких сотен наиболее влиятельных политиков и военачальников Полибий был интернирован в Рим, где формально на положении раба, а фактически как образованный эксперт и советник попал в окружение Сципиона Эмилиана, будущего победителя Карфагена.
Но наиболее всего Полибий прославился своей «Всеобщей историей», в которой не только описал события как очевидец, но и дал картину превращения Рима в мировую державу. С политической точки зрения, по его мнению, этому способствовала смешанная система правления, когда власть одного (монархию) осуществляют консулы, власть немногих (аристократию) – сенат, а власть народа (демократию) – народное собрание.
Всеобщая история в сорока книгах[9]
<...> Различают три формы государственного устройства, из которых одна именуется царством, другая – аристократией, третья – демократией. Мне кажется, всякий в полном праве спросить их, считают ли они эти формы вообще единственными или же только наилучшими. Но и в том и в другом случае они, как я полагаю, заблуждаются, ибо несомненно совершеннейшей государственной формой надлежит признавать такую, в которой соединяются особенности всех форм, поименованных выше. Подтверждается это не соображениями только, но и самым опытом, ибо Ликург первый построил государство лакедемонян именно по такому способу. Равным образом нельзя считать эти формы и единственными. Ибо мы знаем несколько монархических и тиранических государств, которые при всех своих отличиях от царства представляются кое в чем и сходными с ним. По этой же причине все самодержцы, если только можно, присваивают себе всуе название царей. Далее, существуют весьма многие олигархические государства, которые при кажущемся сходстве с аристократиями сильно, можно сказать, и разнятся от них. То же рассуждение применимо и к демократии. <...>
Итак, в государстве римлян были все три власти, поименованные мною выше, причем все было распределено между отдельными властями и при помощи их устроено столь равномерно и правильно, что никто, даже из туземцев, не мог бы решить, аристократическое ли было все управление в совокупности, или демократическое, или монархическое. Да это и понятно. В самом деле: если мы сосредоточим внимание на власти консулов, государство покажется вполне монархическим и царским, если на сенате – аристократическим, если, наконец, кто-либо примет во внимание только положение народа, он, наверное, признает римское государство демократией. Вот то значение, каким пользовалась тогда и, за немногими исключениями, пользуется до сих пор каждая из этих властей в римском государстве. Консулы, пока не выступают в поход с легионами и остаются в Риме, вершат все государственные дела; ибо все прочие должностные лица, за исключением трибунов, находятся в подчинении у них и покорности; они также вводят посольства в сенат. Кроме того, консулы докладывают сенату дела, требующие обсуждения, и блюдут за исполнением состоявшихся постановлений. Ведению консулов подлежат и все государственные дела, подлежащие решению народа: они созывают народные собрания, вносят предложения, они же исполняют постановления большинства. Далее, они имеют почти неограниченную власть во всем, что касается приготовлений к войне и вообще военных походов, ибо они властны требовать по своему усмотрению войска от союзников, назначать военных трибунов, производить набор солдат и выбирать годных к военной службе. Кроме того, они властны подвергнуть наказанию всякого, кого бы ни пожелали, из подчиненных им в военном лагере. Они вправе расходовать государственные деньги сколько угодно, так как за ними следует квестор, готовый исполнить каждое их требование. Поэтому всякий, кто обратит свой взор только на эту власть, вправе будет назвать римское государство истинной монархией или царством. Высказанное здесь мнение сохранило, пожалуй, свою силу и тогда, если в том, что мы сказали или скажем ниже, наступит какая-либо перемена.
Что касается сената, то в его власти находится прежде всего казна, ибо он ведает всяким приходом, равно как и всяким расходом. Так, квесторы не могут производить выдачи денег ни на какие нужды без постановления сената, за исключением расходов, требуемых консулами. Да и самый большой расход, превосходящий все прочие, тот, который употребляют цензоры каждые пять лет на исправление и сооружение общественных зданий, производится с соизволения сената, который и даст цензорам разрешение. Равным образом всеми преступлениями, совершаемыми в пределах Италии и подлежащими расследованию государства, каковы: измена, заговор, изготовление ядов, злонамеренное убийство, ведает сенат. Ведению сената подлежат также все те случаи, когда требуется решить спор по отношению к отдельному лицу или городу в Италии, наказать, помочь, защитить. На обязанности сената лежит отправлять посольства к какому-либо народу вне Италии с целью ли замирения, или для призыва к помощи, или для передачи приказания, или для принятия народа в подданство, или для объявления войны. Равным образом от сената зависит во всех подробностях и то, как принять явившееся в Рим посольство и что ответить ему. Ни в одном деле из поименованных выше народ не принимает ровно никакого участия. Таким образом, государство представляется совершенно аристократическим, если кто явится в Рим в отсутствие консула. В этом убеждены многие эллины и цари, ибо все почти дела римлян решаются сенатом.
По этой причине не без основания можно спросить, какая же доля участия в государственном управлении остается народу, да и остается ли какая-нибудь, если сенату принадлежит решение всех перечисленных нами дел, если – и это самое важное – сенат ведает всеми доходами и расходами, если, с другой стороны, консулы имеют неограниченные полномочия в деле военных приготовлений и в военных походах. При всем этом остается место и для участия народа, даже для участия весьма влиятельного. Ибо в государстве только народ имеет власть награждать и наказывать, между тем только наградами и наказаниями держатся царства и свободные государства, говоря вообще, все человеческое существование. В самом деле там, где или не сознается разница между наградою и наказанием, или, хотя сознается, но они распределяются неправильно, никакое предприятие не может быть ведено правильно. Да и мыслимо ли это, если люди порочные оцениваются наравне с честными? Часто народ решает и такие дела, которые влекут за собою денежную пеню, если пеня за преступление бывает значительна, особенно если обвиняемыми бывают высшие должностные лица; смертные приговоры постановляет только народ. В этом отношении у римлян существует порядок, достойный похвалы и упоминания, а именно: осуждаемым на смерть в то время, как приговор постановляется, они дозволяют согласно обычаю уходить явно, осудить себя на добровольное изгнание, хотя бы одна только треть из участвующих в постановлении приговора не подала еще своего голоса. Местами убежища для изгнанников служат города: Неаполь, Пренест, Тибур и все прочие, состоящие в клятвенном союзе с римлянами. Народ же дарует почести достойным гражданам, а это – лучшая в государстве награда за доблесть. Он же властен принять закон или отвергнуть его и – что самое важное – решает вопросы о войне и мире. Потом народ утверждает или отвергает заключение союза, замирение, договоры. Судя по этому, всякий вправе сказать, что в римском государстве народу принадлежит важнейшая доля в управлении и что оно – демократия.
Цицерон (106-43 до н. э.)
Марк Туллий Цицерон – римский оратор, политик и ученый. Как философ и политолог сформировался под воздействием древнегреческой философии. Учился у эпикурейцев Филона и Антиоха. В своей научной и политической деятельности большое внимание уделял просвещению римлян, популяризации идей (в том числе политических) греческих философов.
Основные политические сочинения: диалоги (сказалось влияние Платона) «О государстве», «О законах».
В политической теории опирался на идеи естественного права (влияние Аристотеля). Наилучшей, вслед за Полибием, считал смешанную форму правления. Дал определение республике («дело народа»). Идеи Цицерона оказали заметное влияние на политическую теорию Средневековья и Возрождения.
О государстве[10]
Итак, государство есть достояние народа, а народ – не любое соединение людей, собранных вместе каким бы то ни было образом, а соединение многих людей, связанных между собою согласием в вопросах права и общностью интересов. Первой причиной для такого соединения людей является не столько их слабость, сколько, так сказать, врожденная потребность жить вместе. Ибо человек не склонен к обособленному существованию и уединенному скитанию, но создан для того, чтобы даже при изобилии всего необходимого не... [удаляться от подобных себе. ] <...>
[Ибо не будь у человека], так сказать, семян [справедливости], не возникло бы ни других доблестей, ни самого государства. Итак, эти объединения людей, образовавшиеся по причине, о которой я уже говорил, прежде всего выбрали для себя в определенной местности участок земли, чтобы жить на нем. Использовав естественную защиту и оградив его также и искусственно, они назвали такую совокупность жилищ укреплением, или городом, устроили в нем святилища и общественные места. <...>
И я говорю это о трех видах государственного устройства, если они не нарушены и не смешаны один с другим, а сохраняют черты, свойственные каждому из них. Прежде всего каждый из этих видов государственного устройства обладает пороками, о которых я уже упоминал; далее, ему присущи и другие пагубные пороки; ибо из указанных видов устройства нет ни одного, при котором государство не стремилось бы по обрывистому и скользкому пути к тому или иному несчастью, находящемуся невдалеке от него. Ведь в упомянутом мною царе, терпимом и, если хотите, достойном любви, – Кире (назову именно его) скрывается, так как он волен изменять свои намерения, всем известный жесточайший Фаларид, по образцу правления которого единовластие скользит вниз по наклонному пути и притом легко. К знаменитому управлению государством, осуществлявшемуся в Массилии малым числом первенствовавших людей, близко стоит сговор клики тридцати мужей, некогда правившей в Афинах. Что полновластие афинского народа, когда оно превратилось в безумие и произвол толпы, оказалось пагубным... [показали дальнейшие события. ] <...> [государственное устройство] наихудшее, и из этой [формы правления] обыкновенно возникает правление оптиматов, или тиранической клики, или царское, или (даже весьма часто) народное, и опять-таки из него – один из видов правления, упомянутых мною ранее, и изумительны бывают круги и как бы круговороты перемен и чередований событий в государстве. Если знать их – дело мудрого, то предвидеть их угрозу, находясь у кормила государства, направляя его бег и удерживая его в своей власти, – дело, так сказать, великого гражданина и, пожалуй, богами вдохновленного мужа. Поэтому я и считаю заслуживающим наибольшего одобрения, так сказать, четвертый вид государственного устройства, так как он образован путем равномерного смешения трех его видов, названных мною ранее. <...>
...Когда в народе находился один или несколько более богатых и более могущественных человек, тогда – говорят они – из-за их высокомерия и надменности и создавалось вышеуказанное положение, так как трусы и слабые люди уступали богатым и склонялись перед их своеволием. Но если народ сохраняет свои права, то – говорят они – это наилучшее положение, сама свобода, само благоденствие, так как он – господин над законами, над правосудием, над делами войны и мира, над союзными договорами, над правами каждого гражданина и над его имуществом. По их мнению, только такое устройство и называется с полным основанием государством, т. е. достоянием народа. Поэтому, по их словам, «достояние народа» обычно освобождается от владычества царей и «отцов», но не бывает, чтобы свободные народы искали для себя царей или власти и могущества оптиматов. И право, говорят они, ввиду пагубных последствий, связанных с необузданностью народа, не следует отвергать вообще всего этого вида свободы для народа; нет ничего более неизменного и более прочного, чем народ согласный и во всем сообразующийся со своей безопасностью и свободой; но легче всего согласие это достижимо в таком государстве, где всем полезно одно и то же; из различия интересов, когда одному подходит одно, а другому другое, возникают раздоры; поэтому, когда властью завладевали «отцы», государственный строй никогда не бывал прочен; но еще менее бывает так при царской власти... <...>
Ты с полным основанием спрашиваешь, какой из трех видов государственного устройства наиболее одобряю я; ведь ни одного из них самого по себе, взятого в отдельности, я не одобряю и предпочитаю каждому из них то, что как бы сплавлено из них всех, взятых вместе. Но если бы понадобилось выбрать какой-нибудь один строй в чистом виде, то я одобрил бы царскую власть [и поставил бы ее на первое место. ] [Если говорить о видах власти, ] названных здесь, то имя царя напоминает мне как бы имя отца, заботящегося о согражданах как о своих детях и охраняющего их тщательнее, чем... вас поддерживает заботливость одного наилучшего и выдающегося мужа. Но вот встают оптиматы, чтобы заявить, что они делают это же самое лучше, и сказать, что мудрости будет во многих больше, чем в одном, а справедливость и честность та же. А народ, оглушая вас, кричит, что он не согласен повиноваться ни одному, ни немногим, что даже для зверей нет ничего сладостнее свободы и что ее лишены все те, кто находится в рабстве, независимо от того, чьи они рабы – царя или оптиматов. Так благоволением своим нас привлекают к себе цари, мудростью – оптиматы, свободой – народы, так что при сравнении трудно выбрать, чего можно желать больше всего. <...>
Политическая мысль Средневековья, эпохи Возрождения и Реформации
Политические учения Средневековья (не только европейского, но и арабского) базировались на античных источниках, среди которых наиболее авторитетными считались труды Аристотеля, а также Платона, греческих и римских историков (Фукидида, Ксенофонта, Плутарха, Арриана, Тацита, Светония, Ливия), географов (Эратосфена, Посидония, Страбона, Птолемея), писателей (Гомера, Эсхила, Софокла, Овидия, Горация, Вергилия). В то же время средневековые политические идеи обязательно освящались христианской (или мусульманской) догматикой. Так, происхождение власти, государства и социального неравенства велось от Бога, а наилучшей формой правления признавалась монархия (Бог на небе един, и правитель на земле должен быть один). Это послужило началом теократических теорий (от греч. «теос» – бог, «кратос» – власть), оправдывающих социальную иерархию человеческого общества иерархией небесной, признававших святость монарха – помазанника Божия, династического (а не национального, как стало в Новое время) принципа построения государства и нерушимость политического порядка, поддерживаемого церковью.
В эпоху Возрождения с накоплением знания и политического опыта, а также в связи со «вторым» прочтением античных теорий человека как общественного, политического существа, естественного происхождения полиса (государства), естественного (т. е. данного природой) права происходит отделение социально-политического от религиозного поведения человека, христианской морали от политики. Реальный человек, действующий в политической жизни, не склонен подчиняться заповедям христовым, а активно борется за власть, применяя при этом приемы и методы, не всегда оправданные христианской этикой. Изучением такого человека и реальных, а не трансцендентных социальных отношений и политических институтов и занялась зародившаяся политическая наука. Кроме того, теоретиков Реформации волновали проблемы обюрокрачивания и коррупции римско-католической церкви, ее несоответствия требованиям освобождения личности, представлениям нового нарождавшегося строя – капитализма.
Ф. Аквинский (1225 или 1226–1274]
Средневековый итальянский философ, теолог и политолог. Родился в Южной Италии в замке Роккасекка, близ Акуино. Основное политическое сочинение: «О правлении государей». Политические идеи Аквината вытекают из учения Аристотеля о человеке как существе общественном, политическом, о естественном происхождении государства и его цели, заключающейся в общем благе. Политическое учение Аристотеля Аквинский согласовывает с христианской догматикой, доктриной верховенства, но непротиворечивости божественного закона по отношению к естественному праву. Отсюда вытекает, с некоторыми оговорками, право восстания народа против государя, если тот нарушает естественный принцип справедливости.
О правлении государей.[11] Книга I
Глава «О том, что нужно, чтобы вместе живущими людьми кто-то правил»
Человек нуждается в чем-либо, направляющем его к цели. Существует ведь естественно присущий каждому из людей свет разума, благодаря которому он в своих действиях направляется к цели. И если бы только человеку подобало жить одному, как живут многие животные, он не нуждался бы ни в чем ином, направляющем его к цели, но каждый сам был бы себе царем под властью Бога, наивысшего царя, поскольку в своих действиях человек сам направлял бы себя данным ему по воле Бога светом разума.
Для человека, однако, так как он – существо общественное и политическое, естественно то, что он живет во множестве, даже еще боле, чем все другие существа, ибо этого требует естественная необходимость. Ведь все другие существа от природы обеспечены пищей, покровом из шерсти, защитой, например клыками, рогами, когтями или по крайней мере проворством в беге. Человек, напротив, создан так, что природа не наделила его ни одним из этих качеств, но вместо всего этого ему дан разум, благодаря которому он мог бы обеспечить себя всем этим при помощи рук. Один человек, однако, не в состоянии справиться со всем тем, что должно быть обеспечено. Поистине, один человек сам по себе не смог бы выжить. <...>
Поскольку человеку приходится жить во множестве, так как он не может обеспечить себя жизненно необходимым, если останется один, то общество многих будет тем более совершенно, чем более оно сможет обеспечить себя жизненно необходимым. Ведь в одной семье, живущей в одном доме, имеются какие-то вещи, необходимые для жизни, а именно столько, сколько нужно для естественных процессов – питания, продолжения рода и прочего в этом смысле; на одной улице – столько, сколько нужно для одного ремесла; в городе-государстве же, которое является совершенной общностью, столько, сколько нужно для всех жизненно важных потребностей, но еще более – в одной провинции вследствие необходимости борьбы и взаимной помощи против врагов. Поэтому тот, кто царит в доме, зовется не царем, а отцом семейства. Он, однако, имеет некоторое сходство с царем, из-за чего царей иногда именуют отцами народов. <...>
Глава «Заключение о том, что правление одного всецело является наилучшим. Показывается, каким образом множество должно себя вести по отношению к нему, чтобы исключить возможность тирании, но даже в случае возникновения тирании ее должно терпеть, чтобы избежать большего зла»
Итак, действительно следует предпочесть правление одного, так как оно наилучшее, но случается, что оно превращается в тиранию, т. е. наихудшее, так что из сказанного следует: необходимо стараться с усердием и рвением, чтобы заранее было предусмотрено у множества то, как бы царь не стал тираном. Прежде всего необходимо, чтобы из тех, кого ожидает эта обязанность, был выдвинут в цари человек такого характера, для которого было бы невозможно склониться к тирании... Затем так должно быть устроено управление царством, чтобы у царя уже не было возможности установить тиранию. Вместе с тем его власть должна быть умерена настолько, чтобы он не мог с легкостью обратиться к тирании... Если царь стремится к тирании, нужно следить только за тем, как ее избежать. <...>
И если бремя тирании нетерпимо, некоторым представляется, что убить тирана и подвергнуть его жизнь опасности ради освобождения множества было бы доблестным делом для храброго человека... В самом деле, если кто-то незаслуженно претерпит страдание, это будет для него благодатью. <...>
Глава «О том, какой способ правления подобает царю, поскольку он должен следовать божественному способу правления. Этот способ управления показан на примере управления судном, тут и дается сравнение власти священнослужителя и власти короля»
...Итак, люди объединяются затем, чтобы хорошо жить вместе, чего не может достичь никто, живя в одиночестве; но благая жизнь следует добродетели, ибо добродетельная жизнь есть цель человеческого объединения... Но жить, следуя добродетели, не является конечной целью объединенного множества, цель – посредством добродетельной жизни достичь небесного блаженства... Итак, служение царству поскольку духовное отделено от земного, вручено не земным правителям, а священникам и особенно высшему священнику, наследнику Петра, наместнику Христа, Папе Римскому, которому все цари христианского лица должны подчиняться как самому Господу Иисусу Христу. Ведь те, кому принадлежит забота о предшествующих целях, должны подчиняться тому, кому принадлежит забота о конечной цели, и признавать его власть.
Глава «О том, что царь, направляющий своих подданных к добродетельной жизни, следует по пути как к конечной цели, так и предшествующим целям. (Здесь показано, что направляет к благой жизни, и что ей препятствует, и какие средства царь должен употребить для устранения этих препятствий)»
...Итак, в связи с установленной триадой царю предстоит тройная задача. Во-первых, заботиться о преемственности людей и назначении тех, кто возглавляет различные службы. Подобным образом божественное управление относительно того, что тленно (ведь эти вещи не могут оставаться неизменными вечно), предусматривает, чтобы, рождаясь, одно приходило на место другого, ибо именно так сохраняется целостность вселенной, так и попечением царя сохраняется добро подчиненного множества, пока он заботливо следит, чтобы другие вступали на покинутые места. Во-вторых, чтобы своими законами и предписаниями, наказаниями и наградами он удерживал подчиненных себе людей от греха и побуждал к доблестным делам, восприняв пример Бога, давшего людям закон, воздающего тем, кто его соблюдает, вознаграждение, а тем, кто его преступает, – наказание. Третья задача, стоящая перед царем, – чтобы все подчиненное ему множество могло отразить врагов. Ведь ничто не поможет избежать внутренних опасностей, если нельзя оборониться от опасностей внешних...
Н. Макиавелли (1469–1527)
Выдающийся политический деятель и ученый-гуманист, один из первых политологов. Родился в дворянской, образованной семье. Учился и жил во Флоренции – одном из главных центров Возрождения. Принадлежал, как и большинство флорентийцев, к партии гвельфов, поддерживавшей папу в его борьбе с императором Священной Римской империи германской нации, который в Италии опирался на партию гибеллинов. Макиавелли наблюдал смену режимов во Флоренции: тирания Пьеро Медичи, попытка французского короля Карла VIII установить монархию, теократия Савонаролы, установление республики (1498). Флорентийской республике Макиавелли служил в качестве секретаря, ведавшего внутренними делами (или второго канцлера) вплоть до ее падения в 1512 г., после чего занялся научной и литературной деятельностью. Наиболее известные работы: «Государь», «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», «История Флоренции».
Государь[12]
Глава I
Скольких видов бывают государства и как они приобретаются
Все государства, все державы, обладавшие или обладающие властью над людьми, были и суть либо республики, либо государства, управляемые единовластно. Последние могут быть либо унаследованными – если род государя правил долгое время, либо новыми... Новые государства разделяются на те, где подданные привыкли повиноваться государям, и те, где они искони жили свободно; государства приобретаются либо своим, либо чужим оружием, либо милостью судьбы, либо доблестью. <...>
Глава VIII
О тех, кто приобретает власть злодеяниями
...Тот, кто овладевает государством, должен предусмотреть все обиды, чтобы покончить с ними разом, а не возобновлять изо дня в день; тогда люди понемногу успокоятся и государь сможет, делая им добро, постепенно завоевать их расположение. Кто поступит иначе, из робости или по дурному умыслу, тот никогда уже не вложит меч в ножны и никогда не сможет опереться на своих подданных, не знающих покоя от новых и непрестанных обид. Так что обиды нужно наносить разом: чем меньше их распробуют, тем меньше от них вреда; благодеяния же полезно оказывать мало-помалу, чтобы их распробовали как можно лучше. Самое же главное для государя – вести себя с подданными так, чтобы никакое событие – ни дурное, ни хорошее – не заставляло его изменить своего обращения с ними, так как, случись тяжелое время, зло делать поздно, а добро бесполезно, ибо его сочтут вынужденным и не воздадут за него благодарностью. <...>
Глава XVIII
О том, как государи должны держать слово
Излишне говорить, сколь похвальна в государе верность данному слову, прямодушие и неуклонная честность. Однако мы знаем по опыту, что в наше время великие дела удавались лишь тем, кто не старался сдержать данное слово и умел кого нужно обвести вокруг пальца; такие государи в конечном счете преуспели куда больше, чем те, кто ставил на честность.
Надо знать, что с врагом можно бороться двумя способами: во-первых, законами, во-вторых, силой. Первый способ присущ человеку, второй – зверю; но так как первое часто недостаточно, то приходится прибегать и ко второму. Отсюда следует, что государь должен усвоить то, что заключено в природе и человека, и зверя. Не это ли иносказательно внушают нам античные авторы, повествуя о том, как Ахилла и прочих героев древности отдавали на воспитание кентавру Хирону, дабы они приобщились к его мудрости? Какой иной смысл имеет выбор в наставники получеловека-полузверя, как не тот, что государь должен совместить в себе обе эти природы, ибо одна без другой не имеет достаточной силы?
...Из всех зверей пусть государь уподобится двум: льву и лисе. Лев боится капканов, а лиса – волков, следовательно, надо быть подобным лисе, чтобы уметь обойти капканы, и льву, чтобы отпугнуть волков. Тот, кто всегда подобен льву, может не заметить капкана. Из чего следует, что разумный правитель не может и не должен оставаться верным своему обещанию, если это вредит его интересам и если отпали причины, побудившие его дать обещание. Такой совет был бы недостойным, если бы люди честно держали слово, но люди, будучи дурны, слова не держат, поэтому и ты должен поступать с ними ТЭ.К уКС А благовидный предлог нарушить обещание всегда найдется. Примеров тому множество: сколько мирных договоров, сколько соглашений не вступило в силу или пошло прахом из-за того, что государи нарушали свое слово, и всегда в выигрыше оказывался тот, кто имел лисью натуру. Однако натуру эту надо еще уметь прикрыть, надо быть изрядным обманщиком и лицемером, люди же так простодушны и так поглощены ближайшими нуждами, что обманывающий всегда найдет того, кто даст себя одурачить.
...Государь, особенно новый, не может исполнять все то, за что людей почитают хорошими, так как ради сохранения государства он часто бывает вынужден идти против своего слова, против милосердия, доброты и благочестия. Поэтому в душе он всегда должен быть готов к тому, чтобы переменить направление, если события примут другой оборот или в другую сторону задует ветер фортуны, т. е., как было сказано, по возможности не удаляться от добра, но при надобности не чураться и зла.
Итак, государь должен бдительно следить за тем, чтобы с языка его не сорвалось слова, не исполненного пяти названных добродетелей. Пусть тем, кто видит его и слышит, он предстает как само милосердие, верность, прямодушие, человечность и благочестие, особенно благочестие. Ибо люди большей частью судят по виду, так как увидеть дано всем, а потрогать руками – немногим. Каждый знает, каков ты с виду, немногим известно, каков ты на самом деле, и эти последние не посмеют оспорить мнение большинства, за спиной которого стоит государство. О действиях всех людей, а особенно государей, с которых в суде не спросишь, заключают по результату, поэтому пусть государи стараются сохранить власть и одержать победу. Какие бы средства для этого ни употребить, их всегда сочтут достойными и одобрят, ибо чернь прельщается видимостью и успехом, в мире же нет ничего, кроме черни, и меньшинству в нем не остается места, когда за большинством стоит государство. <...>
Ж. Кальвин(1509–1564)
Известный французский деятель церкви и ее реформатор. Основатель течения, получившего название «кальвинизм» (во Франции последователей Кальвина называли гугенотами, в Голландии, Англии, Шотландии – пуританами). Под влиянием агитации М. Лютера примкнул к протестантскому движению (1531), но через пять лет основал свою кальвинистскую церковь, разошедшись с учителем в толковании доктрины оправдания верой и предопределения, утверждавшей путь к спасению только избранникам божьим. Отсюда главной в кальвинизме стала не вера, а Божья благодать, которая дается людям деятельным и проявляется в том числе в политической и деловой активности.
Эмигрировав от преследований католической церкви в Швейцарию, Кальвин основал в Женеве теократическую республику, введя в качестве обязательных норм общественной жизни исполнение закона Божия, упростив при этом церковные обряды. Кальвинистское вероучение оказало сильное воздействие на развитие капиталистических отношений в Северо-Западной Европе и Северной Америке.
О христианской жизни[13]
Глава II
О сущности христианской жизни, или О том, чтобы отрешиться от самих себя
...Для того чтобы верующие не попадали в такого рода западни, они должны держаться вот какого пути.
Главное, нельзя желать, или надеяться обрести, или воображать иной способ благоденствия, чем Божье благословение, поэтому люди должны безбоязненно полагаться и опираться на него.
Разумеется, плоть может сама осуществить свой замысел, когда изобретательно добивается почестей и богатства, либо прилагая к тому собственные усилия, либо с помощью благосклонных людей; тем не менее очевидно, что все это – ничто, и мы никогда не сможем преуспеть ни смекалкой, ни трудолюбием, если Господь не будет помогать нам в том и другом.
И напротив, одно Его благословение проложит путь через все преграды, чтобы привести нас к счастливому завершению всех дел.
Более того, даже если бы мы могли приобрести богатство или добиться почестей без благословения, тем не менее там, где тяготеет Божье проклятие, невозможно вкусить и малой толики блаженства; и мы не получим ничего, что не принесло бы беды, если над нами нет Его благословения. Следовательно, было бы крайним безумием домогаться того, что может принести нам лишь несчастье.
Поэтому если мы верим, что единственный способ преуспеть заключен в Божьем благословении и без него нас ожидают нищета и бедствия, то мы обязаны не жаждать богатства и почестей слишком страстно, полагаясь на свой ум, рвение или покровительство людей либо случая; мы обязаны всегда взирать на Бога, чтобы под Его водительством занять то положение, которое угодно Ему.
...Божье благословение – словно узда, сдерживающая нас, чтобы нас не спалила неумеренная страсть к обогащению и чтобы мы не старались тщеславно возвыситься. Разве не бесстыдство полагать, что Бог должен помочь приобрести то, чего мы желаем вопреки Его Слову? <...>
В конце концов, даже если дела не пойдут в соответствии с нашими надеждами и желаниями, эта мысль не позволит нам отчаяться и проклясть судьбу. Ибо мы будем знать, что это ропот на Бога, по воле которого распределяются и бедность, и богатство, и презрение, и почести.
В общем, всякий, кто положится на Божье благословение (как было сказано выше), не станет дурными и окольными путями искать ничего из того, что люди жаждут с безудержной алчностью, так как он будет знать, что это не пошло бы ему на пользу. А если ему выпадет удача, то он не припишет ее своему рвению, умению, случаю, но признает, что это – от Бога.
Политические теории Нового времени и эпохи Индустриализма
Эпоха Нового времени началась в Европе с открытия Колумбом Америки (1492), перемещения торговых путей сначала в Атлантику а затем – вокруг Африки (Васко да Гама, 1497–1499), освоения европейцами Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, Австралии. Бурный рост науки, промышленности, торговли, кораблестроения оказал существенное влияние на изменение социальных отношений. Ученые-гуманитарии в это время выдвинули идеи естественного права и вытекающих из него прав и свобод человека, народного суверенитета и общественного договора между властью и народом, разделения властей с целью предотвратить деспотическое правление и установить демократию.
В эпоху Индустриализма, начавшуюся с Первой промышленной революции (60-е гг. XVIII в. – 10-20-е гг. XIX в. – в Великобритании, затем – в США, Франции, Германии), заключавшейся в переходе от мануфактурного производства к машинному, эти идеи и теории развиваются, закрепляются в конституциях, правовых актах, становятся нормами жизни народов индустриальных стран.
В России Новое время начинается с царствования Петра Великого и его реформ, т. е. фактически с начала XVIII в. Эпоха Индустриализма, т. е. промышленный переворот, – с первой половины XIX в.
Ж. Боден (1530–1596)
Жан Боден – французский правовед, политический мыслитель и историк. Боден был сторонником так называемой партии «политиков», которая выступала против крайностей и радикализма, за умеренность и терпимость в отношениях католиков и гугенотов, королевской власти и аристократов – фрондеров, выступавших за децентрализацию страны.
В своих сочинениях, в том числе в главном – «Шесть книг о государстве», Боден проявил себя сторонником сильного централизованного государства, абсолютной монархии, способной поддерживать законный порядок, уберечь общество от распрей и религиозного фанатизма, систематических претензий феодалов. Именно для этих целей Боден обосновывает концепцию суверенитета – неограниченной, постоянной, единоличной власти, имеющей пять прерогатив (издание законов, решение вопросов войны и мира, назначение должностных лиц, осуществление суда и помилование), но в соответствии с теорией естественного права не вмешивающейся вдела семьи, соблюдающей веротерпимость и взимающей подати только с согласия подданных. Суверенитетом обладает народ, и он передает его монарху. Так образуется наилучшая форма государства – абсолютная (суверенная) монархия, в которой суверенитет принадлежит монарху, а управление носит аристократический и демократический характер.
Шесть книг о государстве[14]
Государство есть осуществление суверенной властью справедливого управления многими семьями и тем, что находится в их общем владении.
Всякое государство либо происходит от семьи, которая постепенно размножается, либо сразу учреждается посредством собирания народа воедино, либо образуется из колонии, происшедшей от другого государства подобно новому пчелиному рою или подобно ветви, отделенной от дерева и посаженной в почву, ветви, которая, пустив корни, более способна плодоносить, чем саженец, выросший из семени. Но и те и другие государства учреждаются по принуждению сильнейших или же в результате согласия одних людей добровольно передать в подчинение других людей всю свою свободу целиком, с тем чтобы эти последние ею распоряжались, опираясь на суверенную власть, либо без всяких законов, либо на основе определенных законов и на определенных условиях. Государство должно обладать достаточной территорией и местностью, пригодной для жителей, достаточно обильным плодородием страны, множеством скота для пропитания и одежды подданных, а чтобы сохранять их здоровье – мягкостью климата, температуры воздуха, доброкачественной водой, а для защиты народа и пристанища для него – материалами, пригодными для строительства домов и крепостей, если местность сама по себе не является достаточно укрытой и естественно приспособленной к защите. Это первые вещи, которым больше всего уделяется забот во всяком государстве. А уж затем ищут удобств, как лекарства, металлы, краски. <...> А поскольку желания людей чаще всего ненасытны, они хотят иметь в изобилии не только вещи полезные и необходимые, но и приятные бесполезные вещи. <...> Так как мудрый человек есть мера справедливости и истины и так как люди, почитаемые мудрейшими, согласны между собой в том, что высшее благо частного лица то же, что высшее благо государства, и не делают никакого различия между добродетельным человеком и хорошим гражданином, то мы так и определим истинную вершину благоденствия и главную цель, к которой должно быть направлено справедливое управление государством.
Народ или властители государства могут без каких-либо условий отдать суверенную и вечную власть какому-нибудь лицу, с тем чтобы он по своему усмотрению распоряжался имуществом [государства], лицами и всем государством, а затем передал все это кому захочет совершенно так же, как собственник может без всяких условий отдать свое имущество единственно лишь по причине своей щедрости, что представляет собой подлинный дар, который не обставлен никакими условиями, будучи однажды совершен и завершен, принимая во внимание, что все прочие дары, сопряженные с обязательствами и условиями, не являются истинными дарами. Так и суверенитет, данный государю на каких-то условиях и налагающий на него какие-то обязательства, не является собственно ни суверенитетом, ни абсолютной властью, если только то и другое при установлении власти государя не происходит от закона Бога или природы. Что касается законов божеских и естественных, то им подчинены все государи земли, и не в их власти нарушать эти законы, если они не хотят оказаться повинными в оскорблении божественного величества, объявив войну Богу, перед величием которого все монархи мира должны быть рабами и склонять голову в страхе и почтении. Следовательно, абсолютная власть государей и суверенных властителей никоим образом не распространяется на законы Бога и природы. Если мы скажем, что абсолютной властью обладает тот, кто не подчиняется законам, то на всем свете не найдется суверенного государя, так как все государи на земле подчинены законам Бога и природы и многим человеческим законам, общим всем народам. <...>
Каким бы способом ни были разделены земли, не может быть сделано так, чтобы все имущество, вплоть до женщин и детей, стало общим, как хотел в своем первом проекте государства сделать Платон с целью изгнать из своего города слова «твое» и «мое», которые, по его мнению, являются причиной всех зол, происходящих в государствах, и гибели последних. Но он не учел, что, если бы этот его проект был осуществлен, был бы утрачен единственный признак государства: если нет ничего, принадлежащего каждому, то нет и ничего, принадлежащего всем; если нет ничего частного, то нет и ничего общего. <...> Насколько же было бы такое устройство государства прямо направлено против закона Бога и природы, против закона, которому ненавистны не только кровосмешение, прелюбодеяние, отцеубийство, неизбежные при общности жен, но и всякая попытка похитить что-либо, принадлежащее другим, и даже зариться на чужое добро, откуда явствует с очевидностью, что государства устроены Богом также и для того, чтобы предоставить государству то, что является общественным, а каждому – то, что является его собственностью. Кроме того, подобная общность всего имущества невозможна и несовместима с семейным правом. Ведь если семья и город, собственное и общее, частное и общественное смешиваются, то нет ни государства, ни семьи. Достаточно известно, что общее достояние всех не может вызывать чувства привязанности и что общность влечет за собой ненависть и раздоры. <...> Еще больше обманываются те, кто полагает, что благодаря общим делам и общности имущества им будет уделяться больше забот. Ведь обычно наблюдается, что каждый пренебрегает общими делами, если из них нельзя извлечь выгоды лично для себя.
Если случится, что суверенный государь, вместо того чтобы играть роль высшего судьи, создаст себе партию, он будет лишь главой партии. Он подвергнется опасности потерять жизнь также и тогда, когда причина мятежей коренится не в государстве, как это происходит вот уже пятьдесят лет во всей Европе, где войны ведутся из-за вопросов религии. Несомненно, что государь, проявляющий благосклонность к одной секте и презирающий другую, уничтожит последнюю без применения силы, принуждения или какого бы то ни было насилия, если только Бог ее не сохранит...
Г. Гроций (1583–1645)
Гуго Гроций – нидерландский правовед, политический мыслитель и политик. Главный труд знаменитого голландца «О праве войны и мира» главным образом посвящен проблемам международного права. Но политологов в нем более интересует теория естественного права, на которой базируется в первую очередь гражданское право.
О праве войны и мира[15]
Три книги, в которых объясняются естественное право и право народов, а также принципы публичного права
...Мать естественного права есть сама природа человека, которая побуждала бы его стремиться ко взаимному общению, даже если бы мы не нуждались ни в чем; матерью же внутригосударственного права является самое обязательство, принятое по взаимному соглашению; а так как последнее получает свою силу от естественного права, то природа может слыть как бы прародительницей внутригосударственного права <...>
Однако, чтобы уже более не возвращаться к сказанному, согласимся, что право существует не ради одной только пользы; нет столь могущественного государства, которое порою не испытывало бы нужды в содействии извне, со стороны других государств, как в области торговли, так и для отражения соединенных сил многих чужеземных народов; оттого мы видим, как даже самые могущественные народы и государи ищут заключения союзных договоров, которые лишены какой-либо силы по мнению тех, кто ограничивает справедливость пределами каждого государства. Оттого-то, в самом деле, верно, что нельзя рассчитывать ровно ни на что, если только отклониться от права.
Если же нет такого общественного союза, который мог бы сохраняться в безопасности без права, – что Аристотель доказывал ярким примером шайки разбойников, – то не подлежит сомнению, что и тот союз, в который объединяется род человеческий или же несколько народов, нуждается в праве; это было ясно тому, кто сказал, что не следует совершать бесчестные поступки даже ради блага отечества. Аристотель сурово порицает тех, которые не терпят над собой никакой власти, кроме законной, и между тем нисколько не заботятся о том, правы они или нет в своих внешних сношениях с чужеземцами...
Итак, пусть же умолкнут законы на время военных действий, но только лишь законы внутригосударственные, а именно судебные, свойственные мирному времени, но не вечные и свойственные всяким временам. <...>
[Право собственности]
Имущество же одно принадлежит нам сообща, другое – в отдельности каждому. Начнем с имущества, принадлежащего людям сообща. Это право простирается или непосредственно на телесную вещь, или же на некоторые действия. <...>
[Право пользования в случае нужды]
...Что в состоянии крайней необходимости возрождается первоначальное право пользования вещами, как если бы они оставались в общем владении; потому во всех человеческих законах, а оттого и в законе о собственности, существует изъятие для такой крайней необходимости.
Отсюда же вытекает и то правило, что если во время плавания на корабле окажется недостаток в средствах питания, то каждый должен предоставить в общее пользование все, что он имеет. <...>
[Право передвижения по земле и рекам]
Точно так же, если земли, реки или какая-нибудь часть моря поступят в собственность какого-либо народа, они должны быть доступны для тех, кто имеет надобность пройти по ним с благими намерениями; так, например, для тех, кто, будучи изгнан из своих пределов, ищет свободных земель, или же для тех, кто стремится завязать торговые сношения с отдаленным народом, или даже для тех, кто домогается своего путем справедливой войны. <...>
[Право временного пребывания]
Проезжающим и проходящим должно быть также разрешено останавливаться на некоторое время для поправки здоровья или по какой-нибудь иной уважительной причине; ибо и это относится к числу безопасных удобств. <...>
[Право лиц, изгнанных из места своего постоянного жительства, проживать под властью любого государства]
Но и в длительном водворении изгнанным из места их постоянного пребывания и ищущим убежища иностранцам не должно быть отказано, раз они готовы подчиниться установленной власти и всем прочим условиям, необходимым для предотвращения возмущений.
[Право занятия пустопорожних мест, и как это следует понимать]
Если же посреди территории, занятой народом, имеется пустынная и бесплодная почва, то ее следует уступить пришельцам по их просьбе. Они даже могут ею просто овладеть, потому что нельзя считать занятым то место, которое не обрабатывается, это не касается власти над ним, которая остается неприкосновенной у прежнего народа. <...>
[Право на совершение действий, необходимых для приобретения средств существования]
За правом общего пользования на вещи следует такое же общее право на действия. Это или признается непосредственно, или вытекает из общего предположения. Непосредственно подобное право признается в отношении таких действий, которыми можно доставить вещи, без коих невозможна благоустроенная жизнь. Однако такого рода необходимость нельзя приравнять к необходимости воспользоваться чужой вещью, потому что здесь дело идет не о чем-нибудь противном воле хозяина, но исключительно о способе приобретения с согласия последнего, лишь бы только этому не препятствовал закон или тайный сговор.
Б. Спиноза (1632–1677)
Бенедикт (Барух) Спиноза – выдающийся нидерландский философ и политический мыслитель. Родился в семье зажиточного еврейского купца. После смерти отца вел его дело, но все время стремился к образованию и научной деятельности. В конце концов порвал со своей общиной и принял протестантизм (поэтому и сменил имя на латинское – Бенедикт). Наставником в науке молодого Спинозы стал Ван дер Эстен, прививший ему демократический и республиканский образ мышления. Свои философские и политические взгляды Спиноза изложил в «Богословско-политическом трактате» (1670), «Этике» (1675) и «Политическомтрактате», закончить который помешала смерть. Спиноза считается первым политологом, теоретически доказавшим в Новое время возможность построения демократической республики.
Богословско-политический трактат[16]
Глава XVI. Об основах государства, о естественном и гражданском праве каждого и о праве верховной власти
Под правом и установлением природы я разумею не что иное, как правила природы каждого индивидуума, сообразно с которыми мы мыслим каждого человека естественно определенным к существованию и деятельности определенного рода... Высший закон природы состоит в том, что каждая вещь стремится, поскольку от нее зависит, оставаться в своем состоянии, и притом не считаясь ни с чем другим, a только с собой, то отсюда следует, что каждый индивидуум имеет верховное право на это, т. е. (как я сказал) на то, чтобы существовать и действовать сообразно с тем, как он к тому естественно был определен. <...>
...Что люди для того, чтобы жить в безопасности и наилучшим образом, необходимо должны были войти в соглашение и потому сделали так, что они коллективно обладают правом, которое каждый от природы имел на все, и что оно больше не определяется на основании силы и желания каждого, но на основании мощи и воли всех вместе. Однако они напрасно проделали бы это, если бы они хотели следовать только тому, что подсказывает желание (ведь по законам желания все стремятся в разные стороны); стало быть, они должны были весьма твердо постановить и договориться направлять все только по указанию разума (которому никто не смеет открыто противоречить, чтобы не показаться безумным) и обуздывать желание, поскольку оно советует что-нибудь во вред другому, и никому не делать того, чего не желаешь себе, и наконец, защищать право другого как свое. Посмотрим теперь, каким же образом должен быть совершен этот договор, чтобы быть основательным, прочным. <...>
...Всякий договор может иметь силу только по отношению к пользе, по устранении которой договор сразу прекращается и остается недействительным; и что поэтому глупо требовать себе от другого верности навек, если в то же время не стараться сделать так, чтобы от нарушения заключаемого договора не последовало для нарушителя более вреда, нежели пользы; это, конечно, больше всего должно иметь место при установлении государства. <...>
Итак, этим способом общество может быть создано без всякого противоречия с естественным правом, а всякий договор может быть соблюдаем всегда с величайшею верностью, если, конечно, каждый перенесет на общество всю мощь, какую он имеет; оно, стало быть, одно будет иметь высшее естественное право на все, т. е. высшее господство, которому каждый будет обязан повиноваться или добровольно, или под страхом высшего наказания. Но право такого общества называется демократиею, которая поэтому определяется как всеобщее собрание людей, сообща имеющее верховное право на все, что оно может. <...>
Т. Гоббс (1588–1679)
Выдающийся английский философ и политический мыслитель. Родился в семье приходского священника. Благодаря недюженным способностям в пятнадцать лет поступил в Оксфордский университет, который окончил в 1608 г. Был гувернером в семье влиятельного в обществе барона Кавендиша.
Мировоззрение Гоббса формировалось в обстановке напряженной политической борьбы как внутри страны (предреволюционные годы правления Якова I (1603–1625), период революции 1640–1660 гг.), так и на международной арене (борьба с Испанией, создание колониальной империи).
Отсюда твердая убежденность Гоббса в необходимости строго централизованной власти, его монархически-абсолютистские воззрения на государство. В религиозно-политическом и общественном смысле Гоббс был сторонником пуританизма – течения, оппозиционного официальной англиканской церкви. В то же время он резко выступал против максималистских устремлений радикально настроенных индепендентов, боровшихся против любой общегосударственной религии, за полную свободу совести.
Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского[17]
Введение
<...> Ибо искусством создан тот великий Левиафан, который называется Республикой, или Государством (Commonwealth, or State), по-латыни – Civitas, и который является лишь искусственным человеком, хотя и более крупным по размерам и более сильным, чем естественный человек, для охраны и защиты которого он был создан. В этом Левиафане верховная власть, дающая жизнь и движение всему телу, есть искусственная душа, должностные лица и другие представители судебной и исполнительной власти – искусственные суставы; награда и наказание (при помощи которых каждый сустав и член прикрепляются к седалищу верховной власти и побуждаются исполнить свои обязанности) представляют собой нервы, выполняющие такие же функции в естественном теле; благосостояние и богатство всех частных членов представляют собой его силу, salus populi, безопасность народа, его занятие; советники, внушающие ему все, что необходимо знать, представляют собой память; справедливость и законы – суть искусственный разум (reason) и воля; гражданский мир – здоровье, смута – болезнь и гражданская война – смерть. Наконец, договоры и соглашения, при помощи которых были первоначально созданы, сложены вместе и объединены части политического тела, похожи на то fiat, или «сотворим человека», которое было произнесено Богом при акте творения.
Глава XIII. О естественном состоянии человеческого рода в его отношении к счастью и бедствиям людей
Люди равны от природы. Природа создала людей равными в отношении физических и умственных способностей, ибо хотя мы наблюдаем иногда, что один человек физически сильнее или умнее другого, однако если рассмотреть все вместе, то окажется, что разница между ними не настолько велика, чтобы один человек, основываясь на ней, мог претендовать на какое-нибудь благо для себя, а другой не мог бы претендовать на него с таким же правом. <...>
<...> Таким образом, мы находим в природе человека три основные причины войны: во-первых, соперничество; во-вторых, недоверие; в-третьих, жажду славы.
Первая причина заставляет людей нападать друг на друга в целях наживы, вторая – в целях собственной безопасности, а третья – из соображений чести. Люди, движимые первой причиной, употребляют насилие, чтобы сделаться хозяевами других людей, их жен, детей и скота; люди, движимые второй причиной, употребляют насилие в целях самозащиты; третья же категория людей прибегает к насилию из-за пустяков вроде слова, улыбки, из-за несогласия во мнении и других проявлений неуважения, непосредственно ли по их адресу или по адресу их родни, друзей, их народа, сословия или имени.
При отсутствии гражданского состояния всегда имеется война всех против всех. Отсюда видно, что пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется войной, и именно в состоянии войны всех против всех. Ибо война есть не только сражение, или военное действие, а промежуток времени, в течение которого явно сказывается воля к борьбе путем сражения. Вот почему время должно быть включено в понятие войны. <...>
Неудобство подобной войны. Вот почему все, что характерно для времени войны, когда каждый является врагом каждого, характерно также для того времени, когда люди живут без всякой другой гарантии безопасности, кроме той, которую им дают их собственная физическая сила и изобретательность. В таком состоянии нет места для трудолюбия, так как никому не гарантированы плоды его труда, и потому нет земледелия, судоходства, морской торговли, удобных зданий, нет средств движения и передвижения вещей, требующих большой силы, нет знания земной поверхности, исчисления времени, ремесла, литературы, нет общества, а, что хуже всего, есть вечный страх и постоянная опасность насильственной смерти, и жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковре-менна. <...>
В подобной войне ничто не может быть несправедливым. Состояние войны всех против всех характеризуется также тем, что при нем ничто не может быть несправедливым. Понятия правильного и неправильного, справедливого и несправедливого не имеют здесь места. Там, где нет общей власти, нет закона, а там, где нет закона, нет несправедливости. Сила и коварство являются на войне двумя основными добродетелями. <...>
Глава XIV. О первом и втором естественных законах и о договорах
Что такое естественное право (right of nature). Естественное право, называемое обычно писателями jus naturale, есть свобода всякого человека использовать собственные силы по своему усмотрению для сохранения своей собственной природы, т. е. собственной жизни, и, следовательно, свобода делать все то, что, по его суждению, является наиболее подходящим для этого.
В естественном состоянии каждый человек имеет право на все. Так как состояние человека (как было указано в предыдущей главе) есть состояние войны всех против всех, когда каждый управляется своим собственным разумом и нет ничего, чего он не мог бы использовать в качестве средства для спасения от врагов, то отсюда следует, что в таком состоянии каждый человек имеет право на все, даже на жизнь всякого другого человека. Поэтому до тех пор, пока сохраняется право всех на все, ни один человек (как бы силен или мудр он ни был) не может быть уверен в том, что сможет прожить все то время, которое природа обычно предоставляет человеческой жизни. Следовательно, предписание, или общее правило, разума гласит, что всякий человек должен добиваться мира, если у него есть надежда достигнуть его; если же он не может его достигнуть, то он может использовать любые средства, дающие преимущество на войне.
Основной естественный закон. Первая часть этого правила содержит первый и основной естественный закон, гласящий, что следует искать мира и следовать ему. Вторая часть есть содержание естественного права, сводящегося к праву защищать себя всеми возможными средствами.
Второй естественный закон. От этого основного естественного закона, согласно которому люди должны стремиться к миру, происходит другой закон, гласящий, что в случае согласия на то других человек должен согласиться отказаться от права на все вещи в той мере, в какой это необходимо в интересах мира и самозащиты, и довольствоваться такой степенью свободы по отношению к другим людям, которую он допустил бы у других людей по отношению к себе. <...>
Дж. Локк (1632–1704)
Джон Локк – английский философ и политический мыслитель. Окончил Оксфорд, где потом преподавал почти 25 лет. На его мировоззрение и на интерес кестественно-научным и политическим дисциплинам большое влияние оказала философия Бэкона, Ньютона, Декарта, Оккама.
После 1668 г. Локк сближается с графом Шефтсбери, лидером оппозиции королю Карлу II. Вместе с другими членами оппозиционной партии Локк отправляется в эмиграцию (Франция, Нидерланды).
После революции 1688 г. возвращается на родину. Публикует свои работы, в числе которых – главный политический труд: «Два трактата о правлении», в котором Локк, исходя из теории естественных прав, разрешает проблему защиты демократического образа правления от трансформации его в абсолютную монархию и тиранию. Для этого власть, по мнению Локка, должна быть разделена на три ветви: законодательную (ответственную за принятие разумных законов), исполнительную, действующую на основе этих законов, и федеративную, ведающую международными отношениями.
Два трактата о правлении[18]
Глава XII. О законодательной, исполнительной и федеративной власти в государстве
Законодательная власть – это та власть, которая имеет право указывать, как должна быть употреблена сила государства для сохранения сообщества и его членов. Но так как те законы, которые должны постоянно соблюдаться и действие которых непрерывно, могут быть созданы за короткое время, то нет необходимости, чтобы законодательный орган действовал все время и тогда, когда ему нечего будет делать. И кроме того, поскольку искушение может быть слишком велико при слабости человеческой природы, склонной цепляться за власть, то те же лица, которые обладают властью создавать законы, могут также захотеть сосредоточить в своих руках и право на их исполнение, чтобы таким образом сделать для себя исключение и не подчиняться созданным ими законам и использовать закон как при его создании, так и при его исполнении для своей личной выгоды; тем самым их интересы становятся отличными от интересов всего сообщества, противоречащими целям общества и правления. Вот почему в хорошо устроенных государствах, где благо целого принимается во внимание так, как это должно быть, законодательная власть передается в руки различных лиц, которые, собравшись должным образом, обладают сами или совместно с другими властью создавать законы; когда же они это исполнили, то, разделившись вновь, они сами подпадают под действие тех законов, которые были ими созданы; это для них новая и непосредственная обязанность, которая побуждает их следить за тем, чтобы они создавали законы для блага общества.
Но так как законы, которые создаются один раз и в короткий срок, обладают постоянной и устойчивой силой и нуждаются в непрерывном исполнении или наблюдении за этим исполнением, то необходимо, чтобы все время существовала власть, которая следила бы за исполнением тех законов, которые созданы и остаются в силе. И таким образом, законодательную и исполнительную власть часто надо разделять.
Существует еще одна власть в каждом государстве, которую можно назвать природной, так как она соответствует той власти, которой по природе обладал каждый человек до того, как он вступил в общество. Ведь хотя в государстве члены его являются отличными друг от друга личностями и в качестве таковых управляются законами общества, все же по отношению к остальной части человечества они составляют одно целое, которое, как прежде каждый из его членов, все еще находится в естественном состоянии по отношению к остальной части человечества. Отсюда следует, что все споры, которые возникают между кем-либо из людей, находящихся в обществе, с теми, которые находятся вне общества, ведутся народом; и ущерб, нанесенный одному из его членов, затрагивает в вопросе о возмещении этого ущерба весь народ. Таким образом, принимая это во внимание, все сообщество представляет собой одно целое, находящееся в естественном состоянии по отношению ко всем другим государствам или лицам, не принадлежащим к этому сообществу.
Следовательно, сюда относится право войны и мира, право участвовать в коалициях и союзах, равно как и право вести все дела со всеми лицами и сообществами вне данного государства; эту власть, если хотите, можно назвать федеративной. Лишь бы была понята сущность, а что касается названия, то мне это безразлично. <...>
Хотя, как я сказал, исполнительная и федеративная власть в каждом сообществе в действительности отличается друг от друга, все же их вряд ли следует разделять и передавать одновременно в руки различных лиц. Ведь обе эти власти требуют для своего осуществления силы общества, и почти что невыполнимо сосредоточивать силу государства в руках различных и друг другу не подчиненных лиц или же создавать такое положение, когда исполнительная и федеративная власть будут доверены лицам, которые могут действовать независимо, вследствие чего сила общества будет находиться под различным командованием, а это может рано или поздно привести к беспорядку и гибели.
Глава XIII. О соподчиненности властей в государстве
Хотя в конституционном государстве, опирающемся на свой собственный базис и действующем в соответствии со своей собственной природой, т. е. действующем ради сохранения сообщества, может быть всего одна верховная власть, а именно законодательная, которой все остальные подчиняются и должны подчиняться, все же законодательная власть представляет собой лишь доверенную власть, которая должна действовать ради определенных целей, и поэтому по-прежнему остается у народа верховная власть устранять или заменять законодательный орган, когда народ видит, что законодательная власть действует вопреки оказанному ей доверию. <...>
В этом последнем случае право созывать законодательный орган обычно дается исполнительной власти и имеет одно из следующих двух ограничений в отношении срока: либо первоначальная конституция требует, чтобы представители собирались и действовали через определенные промежутки, и тогда исполнительная власть не делает ничего, кроме официального издания руководств к их выбору и созыву в соответствии с должными формами, или же благоразумию исполнительной власти предоставляется выносить решение об их созыве путем новых выборов... <...>
Здесь могут спросить: что произойдет, если исполнительная власть, обладая силой государства, использует эту силу, чтобы воспрепятствовать созыву и работе законодательного органа, в то время как первоначальная конституция или народные нужды требуют этого?
Я утверждаю, что применение силы в отношении народа без всякого на то права и в противоречие доверию, оказанному тому, кто так поступает, представляет собой состояние войны с народом, который обладает правом восстановить свой законодательный орган, чтобы он осуществлял его власть. <...>
Право созывать и распускать законодательный орган – право, которым обладает исполнительная власть, – не дает исполнительной власти верховенства над законодательной, а является просто доверенным полномочием, данным ей в интересах безопасности народа в том случае, когда неопределенность и переменчивость человеческих дел не могут вынести постоянного установленного правила. <...>
Ш. Монтескье (1689–1755)
Шарль Монтескье – известный французский правовед, философ и политолог. Получил юридическое образование в Бордо и Париже. Занимал должности советника и президента парламента (до революции 1789 г. это был судебный орган) в Бордо, затем путешествовал по Европе.
По возвращении на родину написал ряд политико-правовых трактатов. Наибольшую известность из них получило сочинение «О духе законов» (1748). Под духом законов он понимал совокупность политических, правовых, нравственных и религиозных отношений в обществе, которые базируются на естественных законах, обусловленных окружающей природной средой и историческим развитием общества. Отсюда и происхождение государства Монтескье выводил не из общественного договора, а из постепенно развивающегося «духа нации», который может быть рационально осмыслен и разумно изменен. Для обеспечения свободы и исключения возможности узурпации власти последняя, по мнению Монтескье, должна быть разделена на законодательную, исполнительную и судебную. Самостоятельность судебной власти необходима для сдерживания двух первых, обсуждения и принятия разумных законов.
О духе законов[19]
Книга одиннадцатая
О законах, устанавливающих политическую свободу в ее отношении к государственному устройству.
Чтобы не было возможности злоупотреблять властью, необходим такой порядок вещей, при котором различные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга. Возможен такой государственный строй, при котором никого не будут понуждать делать то, к чему его не обязывает закон, и не делать того, что закон ему дозволяет. <...>
Глава VI. О государственном устройстве Англии
В каждом государстве есть три рода власти: власть законодательная, власть исполнительная, ведающая вопросами международного права, и власть исполнительная, ведающая вопросами права гражданского.
В силу первой власти государь или учреждение создает законы, временные или постоянные, и исправляет или отменяет существующие законы. В силу второй власти он объявляет войну или заключает мир, посылает или принимает послов, обеспечивает безопасность, предотвращает нашествия. В силу третьей власти он карает преступления и разрешает столкновения частных лиц. Последнюю власть можно назвать судебной, а вторую – просто исполнительной властью государства.
Для гражданина политическая свобода есть душевное спокойствие, основанное на убеждении в своей безопасности. Чтобы обладать этой свободой, необходимо такое правление, при котором один гражданин может не бояться другого гражданина.
Если власть законодательная и исполнительная будут соединены в одном лице или учреждении, то свободы не будет, так как можно опасаться, что этот монарх или сенат станет создавать тиранические законы для того, чтобы так же тиранически применять их.
Не будет свободы и в том случае, если судебная власть не отделена от власти законодательной и исполнительной. Если она соединена с законодательной властью, то жизнь и свобода граждан окажутся во власти произвола, ибо судья будет законодателем. Если судебная власть соединена с исполнительной, то судья получает возможность стать угнетателем.
Все погибло бы, если бы в одном и том же лице или учреждении, составленном из сановников, из дворян или простых людей, были соединены эти три власти: власть создавать законы, власть приводить в исполнение постановления общегосударственного характера и власть судить преступления или тяжбы частных лиц.
В большинстве европейских государств установлен умеренный образ правления, потому что их государи, обладая двумя первыми властями, предоставляют своим подданным отправление третьей. У турок, где эти три власти соединены в лице султана, царствует ужасающий деспотизм. <...>
Поэтому государи, стремившиеся к деспотизму, всегда начинали с того, что объединяли в своем лице все отдельные власти, а многие короли Европы – с того, что присваивали себе все главные должности в своем государстве. <...>
Судебную власть следует поручать не постоянно действующему сенату, а лицам, которые в известные времена года по указанному законом способу привлекаются из народа для образования суда, продолжительность действия которого определяется требованиями необходимости.
Таким образом, судебная власть, столь страшная для людей, не будет связана ни с известным положением, ни с известной профессией; она станет, так сказать, невидимой и как бы несуществующей. Люди не имеют постоянно перед глазами судей и страшатся уже не судьи, а суда.
Необходимо даже, чтобы в случае важных обвинений преступник пользовался по закону правом самому избирать своих судей или по крайней мере отводить их в числе настолько значительном, чтобы на остальных можно было бы уже смотреть как на им самим избранных.
Обе же другие власти можно поручить должностным лицам или постоянным учреждениям ввиду того, что они не касаются никаких частных лиц, так как одна из них является лишь выражением общей воли государства, а другая – исполнительным органом этой воли. <...>
Если исполнительная власть не будет иметь права останавливать действия законодательного собрания, то последнее станет деспотическим, так как, имея возможность предоставить себе любую власть, какую оно только пожелает, оно уничтожит все прочие власти.
Наоборот, законодательная власть не должна иметь права останавливать действия исполнительной власти. Так как исполнительная власть ограничена по самой своей природе, то нет надобности еще как-то ограничивать ее; кроме того, предметом ее деятельности являются вопросы, требующие быстрого решения. <...>
Но если в свободном государстве законодательная власть не должна иметь права останавливать власть исполнительную, то она имеет право и должна рассматривать, каким образом приводятся в исполнение созданные ею законы... <...>
Но к чему бы ни привело это рассмотрение, законодательное собрание не должно иметь власти судить лицо, а следовательно, и поведение лица, отправляющего исполнительную власть. Личность последнего должна быть священна, так как она необходима государству для того, чтобы законодательное собрание не обратилось в тиранию; свобода исчезла бы с того момента, как исполнительная власть подверглась бы обвинению или была бы привлечена к суду. <...>
Итак, вот основные начала образа правления, о котором мы ведем речь. Законодательное собрание состоит здесь из двух частей, взаимно сдерживающих друг друга принадлежащим им правом отмены, причем обе они связываются исполнительной властью, которая в свою очередь связана законодательной властью.
Казалось бы, эти три власти должны прийти в состояние покоя и бездействия. Но так как необходимое течение вещей заставит их действовать, то они будут вынуждены действовать согласованно.
Так как исполнительная власть участвует в законодательстве только посредством своего права отмены, она не должна входить в самое обсуждение дел. Нет даже необходимости, чтобы она вносила свои предложения; ведь она всегда имеет возможность не одобрить заключения законодательной власти и потому может отвергнуть любое решение, состоявшееся по поводу нежелательного для нее предложения. <...>
Армия, после того как она создана, должна находиться в непосредственной зависимости не от законодательной, а от исполнительной власти; это вполне согласуется с природой вещей, ибо армии надлежит более действовать, чем рассуждать.
Т. Джефферсон (1743–1826)
Томас Джефферсон – американский политик, политический философ и президент США, создатель Демократической партии. После войны за независимость (1775–1783) в 26 лет он был избран членом законодательного собрания колонии Виргиния, в качестве которого подготовил проект Конституции (1783) штата Виргиния. По поручению Континентального конгресса составил проект знаменитой Декларации независимости. После провозглашения Соединенных Штатов Америки Джефферсон был губернатором штата Виргиния, послом во Франции, государственным секретарем (министром иностранных дел), вице-президентом. В 1801–1809 гг. дважды избирался президентом США.
Декларация представителей Соединенных Штатов Америки, собравшихся на общий конгресс[20]
Мы считаем очевидными следующие истины: все люди сотворены равными, и все они одарены своим Создателем «прирожденными и неотчуждаемыми» очевидными правами, к числу которых принадлежат жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав учреждены среди людей правительства, заимствующие свою справедливую власть из согласия управляемых. Если же данная форма правительства становится гибельной для этой цели, то народ имеет право изменить или уничтожить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и с такой организацией власти, какие, по мнению этого народа, всего более могут способствовать его безопасности и счастью. Конечно, осторожность советует не менять правительств, существующих с давних пор, из-за маловажных или временных причин. И мы, действительно, видим на деле, что люди скорее готовы терпеть зло до последней возможности, чем восстановить свои права, отменив правительственные формы, к которым они привыкли. Но когда длинный ряд злоупотреблений и узурпации, начатых в известный период и неизменно преследующих одну и ту же цель, обнаруживает намерение предать этот народ во власть неограниченного деспотизма, то он не только имеет право, но и обязан свергнуть такое правительство и на будущее время вверить свою безопасность другой охране. Эти колонии также долго и терпеливо переносили разные притеснения, и только необходимость заставляет их теперь перечеркнуть, изменить свою прежнюю форму правления. История нынешнего короля Великобритании полна неослабных беспрестанных несправедливостей и узурпации, среди которых не было ни одного факта, противоречившего общему направлению остальных, но прямо клонившихся к тому, чтобы ввести неограниченную тиранию в этих штатах. <...>
В силу всего этого мы, представители Соединенных Штатов Америки, собравшиеся на общий конгресс, «от имени и по уполномочию народа этих Штатов отвергаем и не признаем какую бы то ни было зависимость от королей Великобритании и подчинение им, а также от всех других, кто до сих пор мог претендовать на это при их помощи, посредстве или по их указанию. Мы полностью расторгаем всякую политическую связь, какая до сих пор могла существовать между нами и народом и парламентом Великобритании. И наконец, мы утверждаем и провозглашаем эти колонии свободными и независимыми Штатами, призывая верховного судию мира в свидетели правоты наших намерений, объявляем от имени и по уполномочию народа, что эти соединенные колонии суть и по праву должны быть свободные и независимые Штаты. <...>
Ж-Ж. Руссо (1712–1778)
Жан-Жак Руссо – французский просветитель, философ, педагог и политолог. Родился в Женеве в семье ремесленника-гугенота, бежавшего из Франции в Швейцарию от религиозных преследований.
Много занимался самообразованием, работал гувернером в дворянских семьях. Приехав в Париж, встречался с известными просветителями: Вольтером, Дидро, Кондорсе и др., занимался научной деятельностью. Опубликовал несколько работ, наиболее существенной из которых с точки зрения развития политических идей считается трактат «Об общественном договоре». В нем Руссо не только обосновал принцип народного суверенитета, но и разработал основы непосредственной демократии, в соответствии с которыми народ не только имеет право самоуправления, но и может непосредственно участвовать в управлении государством.
Об общественном договоре[21]
Глава VI. Об общественном соглашении
Я предполагаю, что люди достигли того предела, когда силы, препятствующие им оставаться в естественном состоянии, превосходят в своем противодействии силы, которые каждый индивидуум может пустить в ход, чтобы удержаться в этом состоянии. Тогда это изначальное состояние не может более продолжаться, и человеческий род погиб бы, не измени он своего образа жизни.
Однако поскольку люди не могут создавать новых сил, а могут лишь объединять и направлять силы, уже существующие, то у них нет иного средства самосохранения, как, объединившись с другими людьми, образовать сумму сил, способную преодолеть противодействие, подчинить эти силы одному движителю и заставить их действовать согласно.
Эта сумма сил может возникнуть лишь при совместных действиях многих людей; но – поскольку сила и свобода каждого человека – суть первые орудия его самосохранения – как может он их отдать, не причиняя себе вреда и не пренебрегая теми заботами, которые есть его долг по отношению к самому себе? Эта трудность, если вернуться к предмету этого исследования, может быть выражена в следующих положениях.
«Найти такую форму ассоциации, которая защищает и ограждает всею общею силою личность и имущество каждого из членов ассоциации, и благодаря которой каждый, соединяясь со всеми, подчиняется, однако, только самому себе и остается столь же свободным, как и прежде». Такова основная задача, которую разрешает Общественный договор.
Статьи этого договора определены самой природой акта так, что малейшее видоизменение этих статей лишило бы их действенности и полезности; поэтому, хотя они, пожалуй, и не были никогда точно сформулированы, они повсюду одни и те же, повсюду молчаливо принимаются и признаются до тех пор, пока в результате нарушения общественного соглашения каждый не обретает вновь свои первоначальные права и свою естественную свободу, теряя свободу, полученную по соглашению, ради которой он отказался от естественной.
Эти статьи, если их правильно понимать, сводятся к одной-единственной, именно: полное отчуждение каждого из членов ассоциации со всеми его правами в пользу всей общины; ибо, во-первых, если каждый отдает себя всецело, то создаются условия, равные для всех; а раз условия равны для всех, то никто не заинтересован в том, чтобы делать их обременительными для других.
Далее, поскольку отчуждение совершается без каких-либо изъятий, то единение столь полно, сколь только возможно, и ни одному из членов ассоциации нечего больше требовать. Ибо если бы у частных лиц оставались какие-либо права, то, поскольку теперь не было бы такого старшего над всеми, который был бы вправе разрешать споры между ними и всем народом, каждый, будучи судьей самому себе в некотором отношении, начал бы вскоре притязать на то, чтобы стать таковым во всех отношениях; естественное состояние продолжало бы существовать, и ассоциация неизбежно стала бы тиранической или бесполезной.
Наконец, каждый, подчиняя себя всем, не подчиняет себя никому в отдельности. И так как нет ни одного члена ассоциации, в отношении которого остальные не приобретали бы тех же прав, которые они уступили ему по отношению к себе, то каждый приобретает эквивалент того, что теряет, и получает больше силы для сохранения того, что имеет.
Итак, если мы устраним из общественного соглашения то, что не составляет его сущности, то мы найдем, что оно сводится к следующим положениям: каждый из нас передает в общее достояние и ставит под высшее руководство общей воли свою личность и все свои силы, и в результате для нас всех вместе каждый член превращается в нераздельную часть целого.
Немедленно вместо отдельных лиц, вступающих в договорные отношения, этот акт ассоциации создает условное коллективное Целое, состоящее из стольких членов, сколько голосов насчитывает общее собрание. Это Целое получает в результате такого акта свое единство, свое общее «Я», свою жизнь и волю. Это лицо юридическое, образующееся следовательно в результате объединения всех других, некогда именовалось Гражданскою общиной, ныне же именуется Республикою, или Политическим организмом: его члены называют этот Политический организм Государством, когда он пассивен, Сувереном, когда он активен, Державою – при сопоставлении его с ему подобными. Что до членов ассоциации, то они в совокупности получают имя народа, а в отдельности называются гражданами как участвующие в верховной власти и подданными как подчиняющиеся законам Государства. Но эти термины часто смешиваются и их принимают один за другой; достаточно уметь их различать, когда они употребляются во всем их точном смысле.
И. Кант(1724–1804)
Иммануил Кант – немецкий философ, педагоги политолог. Родился в городе Кенигсберге (в котором практически прошла вся его жизнь) в семье ремесленника. По окончании Кенигсбергского университета работал гувернером, а затем – преподавателем в альма-матер, став в дальнейшем деканом и ректором. Среди политических работ Канта наиболее известен и актуален сегодня трактат «К вечному миру» (1795), в котором он создает проект поддержания мира и международной безопасности при помощи международного органа. Взгляды Канта на государство и право изложены в «Метафизике нравов» (1797). Государство, по мнению Канта, должно опираться на закон, а его граждане – руководствоваться категорическим императивом, который предполагает не только соблюдение определенных норм и правил, но ведет каждого к моральному идеалу, без которого не может состояться гражданин.
К вечному миру[22]
Раздел первый, который содержит прелиминарные статьи договора о вечном мире между государствами
«Ни один мирный договор не должен считаться таковым, если при его заключении тайно сохраняется основа новой войны».
Ибо иначе это было бы только перемирие, временное прекращение военных действий, а не мир, который означает окончание всякой вражды. <...>
«Ни одно самостоятельное государство (большое или малое, это безразлично) ни по наследству, ни в результате обмена, купли или дарения не должно быть приобретено другим государством».
Дело в том, что государство (в отличие, скажем, от земли, на которой оно находится) не представляет собой имущества. Государство – это общество людей, повелевать и распоряжаться которыми не может никто, кроме его самого. Поэтому всякая попытка привить его, имеющее подобно стволу собственные корни, как ветвь, к другому государству означала бы уничтожение первого как моральной личности и превращение моральной личности в вещь и противоречила бы идее первоначального договора. <...>
«Постоянные армии со временем должны полностью исчезнуть».
Ибо, будучи постоянно готовы к войне, они непременно угрожают ею другим государствам. Они побуждают их к стремлению превзойти друг друга в количестве вооруженных сил, что не знает никакого предела, и поскольку связанные с миром расходы становятся в конце концов обременительнее короткой войны, то сами постоянные армии становятся причиной военного нападения с целью избавиться от этого бремени. <...>
«Государственные долги не должны использоваться для целей внешней политики».
Поиски средств внутри страны или вне ее не внушают подозрений, если это делается для экономических нужд страны (улучшения дорог, устройства новых населенных пунктов, создания запасов на случай неурожайных лет и т. д.). Но кредитная система как орудие борьбы держав между собою, при которой долги могут непомерно увеличиваться, оставаясь в то же время гарантированными (поскольку кредиторы не предъявляют свои требования одновременно), – остроумное изобретение одного торгового народа в этом столетии – являет собой опасную денежную силу, а именно фонд для ведения войны. <...>
«Ни одно государство не должно насильственно вмешиваться в политическое устройство и управление другого государства».
«Ни одно государство во время войны с другим не должно прибегать к таким враждебным действиям, которые сделали бы невозможным взаимное доверие в будущем, в мирное время, как, например, засылка тайных убийц, нарушение условий капитуляции, подстрекательство к измене в государстве неприятеля и т. д.».
Раздел второй, содержащий окончательные статьи договора о вечном мире между государствами. Первая окончательная статья договора о вечном мире
«Гражданское устройство каждого государства должно быть республиканским».
Устройство, основанное, во-первых, на принципах свободы членов общества (как людей), во-вторых, на основоположениях зависимости всех (как подданных) от единого общего законодательства и, в-третьих, на законе равенства всех (как граждан государства), есть устройство республиканское – единственное, проистекающее из идеи первоначального договора, на которой должно быть основано всякое правовое законодательство народа.
Вторая окончательная статья договора о вечном мире
«Международное право должно быть основано на федерализме свободных государств».
Народы в качестве государств можно рассматривать как отдельных людей, которые в своем естественном состоянии (т. е. вне зависимости от внешних законов) уже своим совместным существованием нарушают право друг друга и каждый из них в целях своей личной безопасности может и должен требовать от другого совместного вступления в устройство, подобное гражданскому, где каждому может быть обеспечено его право. Это был бы союз народов, который, однако, не должен быть государством народов. Последнее означало бы противоречие, ибо всякое государство содержит в себе отношение высшего (законодателя) к низшему (повинующемуся, т. е. народу). Многие народы в государстве (так как здесь мы рассматриваем право народов по отношению друг к другу, поскольку они образуют отдельные государства и не должны быть слиты в одно государство) образовали бы только один народ, что противоречит предпосылке. <...>
Должен существовать особого рода союз, который можно назвать мирным союзом и который отличался бы от мирного договора тем, что последний стремится положить конец лишь одной войне, тогда как первый – всем войнам и навсегда. Этот союз имеет целью не приобретение власти государства, но лишь поддержание и обеспечение свободы каждого государства для него самого и в то же время для других союзных государств, причем это не создает для них необходимости подчиниться (подобно людям в естественном состоянии) публичным законам и их принуждению. Можно показать осуществимость (объективную реальность) этой идеи федерации, которая должна охватить постепенно все государства и привести таким путем к вечному миру. <...>
Г. Гегель (1770–1831)
Великий немецкий философ и политический мыслитель Георг Гегель родился в Штутгарте в семье чиновника. Окончил Тюбингеский университет. Большое влияние на его становление кроме курсов лекций, которые он слушал, и окружающей его действительности оказали идеи Великой французской революции. С восторгом приняв идеи свободы и прогресса, Г Гегель всегда отрицательно относился к якобинскому террору и деспотизму. Преподавал в гимназии, в Йенском, Гейдельбергском, Берлинском университетах. Его вклад в политическую науку заключается в развитии теории естественного права и государства, которое он представлял идеалистически и трактовал как «действительность нравственной идеи», «сама по себе существующая и самодостаточная» общая воля. Важным достижением великого философа явилось определение гражданского общества как выразителя частных интересов и выявление соотношения между государством и гражданским обществом.
Философия права[23]
Раздел второй
Гражданское общество
§ 182
Одним принципом гражданского общества является конкретное лицо, которое есть для себя как особенная цель, как целостность потребностей и смешение природной необходимости и произвола, но особенное лицо как существенно соотносящееся с другой такой особенностью, так что каждое из них утверждает свою значимость и удовлетворяется только как опосредованное другой особенностью и вместе с тем как всецело опосредованное только формой всеобщности, другим принципом гражданского общества.
Прибавление. Гражданское общество есть дифференция, которая выступает между семьей и государством, хотя развитие гражданского общества наступает позднее, чем развитие государства; ибо в качестве дифференции оно предполагает государство, которое оно, чтобы пребывать, должно иметь перед собой как нечто самостоятельное. Гражданское общество создано, впрочем, лишь в современном мире, который всем определениям идеи предоставляет их право. Если государство представляют как единство различных лиц, как единство, которое есть лишь общность, то имеют в виду лишь определение гражданского общества. Многие новейшие специалисты по государственному праву не сумели прийти к другому воззрению на государство. В гражданском обществе каждый для себя – цель, все остальное для него ничто. Однако без соотношения с другими он не может достигнуть своих целей во всем их объеме: эти другие суть поэтому средства для цели особенного. Но особенная цель посредством соотношения с другими придает себе форму всеобщего и удовлетворяет себя, удовлетворяя вместе с тем стремление других к благу. Так как особенность связана с условием всеобщности, то целое есть почва опосредования, на которой дают себе свободу все единичности, все способности, все случайности рождения и счастья, из которой проистекают волны всех страстей, управляемые только проникающим в них сиянием разума. Особенность, ограниченная всеобщностью, есть единственная мера, при помощи которой каждая особенность способствует своему благу.
§ 187
Индивиды в качестве граждан этого государства – частные лица, целью которых является их собственный интерес. Поскольку же эта цель опосредована всеобщим, которое тем самым представляется им средством, то она может быть ими достигнута только постольку, поскольку они сами определяют свои желания, воление и действование всеобщим образом и делают себя звеном этой связующей цепи. Интерес идеи, не присутствующий в сознании этих членов гражданского общества как таковых, состоит в процессе, назначение которого состоит в том, чтобы поднять их единичность и природность через естественную необходимость и через произвол потребностей до формальной свободы и формальной всеобщности знания и воления, чтобы формировать субъективность в ее особенности.
§ 188
Гражданское общество содержит в себе три следующих момента:
a) опосредствованно потребности и удовлетворение единичного посредством его труда и посредством труда и удовлетворения потребностей всех остальных, систему потребностей;
b) действительность содержащегося в этом всеобщего свободы, защиты собственности посредством правосудия;
c) забота о предотвращении остающейся в этих системах случайности и внимание к особенному интересу как к общему с помощью полиции и корпораций.
Раздел третий
Государство
§ 257
Государство есть действительность нравственной идеи – нравственный дух как очевидная, самой себе ясная, субстанциальная воля, которая мыслит и знает себя и выполняет то, что она знает и поскольку она это знает. В нравах она имеет свое непосредственное существование, а в самосознании единичного человека, его знании и деятельности – свое опосредованное существование, равно как самосознание единичного человека посредством умонастроения имеет в нем как в своей сущности, цели и продукте своей деятельности свою субстанциальную свободу...
§ 258
Государство как действительность субстанциальной воли, которой оно обладает в возведенном в свою всеобщность особенном самосознании, есть в себе и для себя разумное. Это субстанциальное единство есть абсолютная, неподвижная самоцель, в которой свобода достигает своего высшего права, и эта самоцель обладает высшим правом по отношению к единичным людям, чья высшая обязанность состоит в том, чтобы быть членами государства.
Примечание. Если смешивать государство с гражданским обществом и полагать его назначение в обеспечении и защите собственности и личной свободы, то интерес единичных людей как таковых оказывается последней целью, для которой они соединены, а из этого следует также, что в зависимости от своего желания можно быть или не быть членом государства. Однако на самом деле отношение государства к индивиду совсем иное; поскольку оно есть объективный дух, сам индивид обладает объективностью, истиной и нравственностью лишь постольку, поскольку он член государства. Объединение как таковое есть само истинное содержание и цель, и назначение индивидов состоит в том, чтобы вести всеобщую жизнь; их дальнейшее особенное удовлетворение, деятельность, характер поведения имеют своей исходной точкой и результатом это субстанциальное и общезначимое...
Прибавление. Государство в себе и для себя есть нравственное целое, осуществление свободы, и абсолютная цель разума состоит в том, чтобы свобода действительно была. Государство есть дух, пребывающий в мире и реализующийся в нем сознательно, тогда как в природе он получает действительность только как иное себя, как дремлющий дух. Лишь как наличный в сознании, знающий самого себя в качестве существующего предмета, он есть государство.
А. де Токвиль (1805–1859)
Алексис де Токвиль – французский правовед и политолог – родился в аристократической семье, но с пяти лет воспитывался в католическом колледже. В двадцать лет окончил юридический факультет Сорбонны и несколько лет прослужил судьей – аудитором в Версале. В 1831 г. отправился в Америку, чтобы своими глазами убедиться, что дает демократия и республиканский строй личности, обществу и государству. Результатом этой поездки стало знаменитое исследование «Демократия в Америке» (1835), прославившее де Токвиля в Новом и Старом Свете. Вершиной его политической карьеры стал пост министра иностранных дел в кабинете, сформированном в результате победы на выборах Луи Бонапарта. Политические взгляды де Токвиля можно охарактеризовать как либерально-республиканские, ведь после провозглашения Луи Бонапартом империи он немедленно ушел в отставку. Токвиль возвратился к научной деятельности. Он взялся за свою вторую большую книгу – «Старый режим и революция», закончить которую помешала смерть.
Демократия в Америке[24]
Глава VIII. Что сдерживает тиранию большинства в Соединенных Штатах?
Отсутствие административной централизации
Большинство не может все делать само. Его суверенную волю в общинах и округах выполняют должностные лица.
Ранее я выделил два вида централизации: правительственную и административную.
В Америке существует только первая, вторая несвойственна этой стране.
Если бы американская государственная власть имела в своем распоряжении оба вида правления и к своему праву всем командовать присоединила бы способность и привычку все исполнять самой; если бы, установив общие принципы правления, она стала вникать в детали его осуществления в жизни и, определив главные нужды страны, дошла бы до ограничения индивидуальных интересов, тогда свобода была бы вскоре изгнана из Нового Света.
Но в Соединенных Штатах большинство, у которого часто вкусы и наклонности деспота, пока не владеет самыми совершенными средствами тирании.
Американское правительство всегда занималось только небольшим количеством тех внутренних проблем своих республик, значимость которых привлекала его внимание. Оно никогда не пыталось вмешиваться во второстепенные дела своих штатов. У него даже и намерения такого не было. Большинство, став почти абсолютным, не увеличило функций центральной власти, оно лишь сделало ее всемогущей в пределах отведенной ей сферы деятельности. Деспотизм может быть крайне тяжелым, но он не может распространяться на всех...
О законности в Соединенных Штатах и как она служит противовесом демократии
Когда познакомишься с американским обществом, изучишь его законы, то видишь, что власть, данная здесь законоведам, их влияние на правительство служат сегодня самой мощной преградой нарушениям демократии. Это, на мой взгляд, является следствием какой-то общей причины, которую полезно рассмотреть, ибо она может снова появиться в каком-нибудь другом месте. <...>
В Соединенных Штатах законоведы не представляют собой силы, внушающей страх, их едва замечают, у них нет собственного знамени, они легко приспосабливаются к требованиям времени, не сопротивляясь, подчиняются всем изменениям социальной структуры страны. А между тем они проникают во все слои общества, обволакивают его полностью, работают изнутри, воздействуют на него помимо его воли. И все кончается тем, что они лепят это общество в соответствии со своими намерениями.
Раздел III Политическая власть
Политическая власть – одна из краеугольных тем политической науки. В данном разделе мы приводим отрывок из работы американских социологов Петра Бергера и Бриджит Бергер, посвященный анализу веберовской теории власти. Как отмечал М. Вебер, «власть – это возможность одного социального субъекта реализовать свою волю вопреки сопротивлению других участников политического действия» (курсив наш. – А. X.). Американские социологи обращают внимание именно на возможность преодоления сопротивления как главный признак власти. Однако констатацией этого факта их исследование не ограничивается. Привычка к повиновению власти приводит, по их мнению, к формированию длительной дисциплины как на индивидуальном, так и на социетальном уровне. Власть опирается не только на привычку, но и на легитимность, под которой немецкий социолог понимал поддержку власти со стороны общества.
В хрестоматию вошли отрывки из произведений М. Вебера, посвященные традиционному, харизматическому и рационально-легальному типам легитимного господства. Исследование легитимности продолжается и в наши дни, о чем свидетельствует работа французского политолога Маттеи Догана. В фрагменте его исследования, посвященного легитимности власти в развитых демократиях, проводится различие между легитимностью режима, легитимностью институтов власти и доверием к конкретным лицам, обличенным властью.
П. Бергер, Б. Бергер. Личностно-ориентированная социология[25]
Веберовский анализ
Вероятно, достаточно сказать, что базовыми категориями... анализа власти все еще являются те, что первоначально были сконструированы Вебером. Ключевыми категориями, которые конструируют этот аналитический каркас, являются авторитет и легитимность.
Первое: ВЛАСТЬ ДАЖЕ ВОПРЕКИ СОПРОТИВЛЕНИЮ
Власть определяется Вебером как вероятность того, что индивид или группа будет способна выполнять свою волю даже вопреки сопротивлению. Это не зависит от средств, которыми преодолевается сопротивление. Предмет сопротивления здесь очень важен. Он служит тому, чтобы отличать феномен власти от того, что обычно именуется лидерством. Это различие становится особенно очевидным с точки зрения повседневной жизни. Почти все человеческие группы имеют того или иного типа лидеров. Предположим, что группа студентов в общежитии обсуждает, как провести вечер. Могут выдвигаться различные идеи. Вероятно, в такой группе будут один или два индивида, чьим идеям будет отдано большее предпочтение. Вероятно даже, что идеи, предлагаемые другими, фактически выдвигаются как предложения (бывший президент Никсон назвал бы их «опционами»), обращенные к лидерам. В большинстве случаев в конечном итоге решение лидеров будет тем, что реально приведет группу в движение. Имеет смысл назвать такого рода процесс выражением власти. Совершенно иная ситуация возникает в том случае, когда, скажем, один из членов группы упорно придерживается своей собственной идеи вопреки решению, принятому лидерами. В этом случае предложению непокорного члена группы будет тонко (или во многих случаях не очень тонко) противопоставлено обещание «а не то...». Затем он должен будет подчиниться решению лидерства, «а не то» ему придется столкнуться с различными реальными или воображаемыми последствиями своего несогласия, которые могут простираться от угрозы быть избитым или изгнанным из группы до вербальной атаки. В этом пункте и имеет смысл поговорить о власти. Фраза «реальными или воображаемыми» в связи с последствиями продолжающегося сопротивления указывает на разнообразие средств, которые могут лежать в основании восприятия власти. Некоторые из них действительно могут быть весьма реальными, включая в качестве последнего прибежища применение физической силы. Однако вполне возможно, что власть покоится на средствах принуждения, которые имеются лишь в воображении...
Второе: ПРИВЫЧКА К ПОВИНОВЕНИЮ И АВТОРИТЕТ
Авторитет определяется Вебером опять же с точки зрения такого типа вероятности, а именно – это вероятность того, что какой-то конкретный порядок встретит повиновение со стороны конкретных индивидов и групп. Сущностное различие между властью и авторитетом заключается в продолжительности последнего. Власть, даже в самых высших ее проявлениях может быть внезапной и кратковременной вещью: задается порядок, он подлежит повиновению вопреки сопротивлению, и с таким же успехом он может быть прекращен. Такое восприятие власти, очевидно, не может оказывать сколько-нибудь продолжительного воздействия на общество. Чтобы оказать такое воздействие, необходимо, чтобы власть испытывалась длительным и систематическим образом. Это означает, что люди привыкают к этому восприятию власти или, другими словами, на человеческое поведение накладывается длительная дисциплина. В этом случае власть становится не только моментальным господством или общей угрозой, что такое господство будет навязано, но упорядоченным восприятием, посредством которого конкретные люди привыкают к послушанию конкретным командам.
Конечно, это опять же не вполне надежная вещь. Как совершенно ясно показывает история, авторитет может в один прекрасный день рухнуть (т. е. оказаться свергнутым или встретить успешное сопротивление), даже после весьма продолжительного существования. Авторитет, как и сама власть, ненадежен. И все же, если авторитет успешно навязывался конкретной человеческой группе на протяжении длительного периода времени, вероятность его самоподдержания возрастает. Причиной этого является привычка. Привычка выступает важным фактором именно тогда, когда старый авторитет свергнут, а на его месте стремится утвердиться новый. Так, революционные правительства бывают крайне слабыми в своей способности к удержанию власти в период, следующий непосредственно за ее захватом. Естественно, важно, что именно они делают в этот период. Но даже если они не делают ничего, кроме удержания власти (т. е., с точки зрения Вебера, если они продолжают развивать свою авторитарность), их шанс на выживание со временем возрастает; люди привыкают к ним. Любой, кто пожелает использовать свою власть, на чем бы она ни базировалась, для того чтобы оказывать продолжительное воздействие на общество, сталкивается с основной проблемой трансформирования этого авторитета во власть.
Третье: ЛЕГИТИМНОСТЬ
Привыкание – это не единственный фактор, с помощью которого авторитет становится властью. Другим решающим фактором является легитимность. Под легитимностью Вебер имеет в виду убежденность людей, что стоящий над ними авторитет – это не только простой факт, но факт, наполненный моральным содержанием. Другими словами, когда мы говорим, что конкретный авторитет «легитимен», это означает, что их восприятие власти именно таково, что те, кто обладают властью, обладают ею по праву. Процесс, посредством которого приобретается легитимность, называется легитимацией.[26] Если авторитет не сумеет успешно легитимировать себя, его выживание невероятно. Авторитет, лишенный легитимности, должен постоянно вновь и вновь подтверждать свою власть путем применения физической силы. Это очень неэкономично. Нормальное течение дел в обществе не может быть очень хорошим, если каждого нужно бить по голове. По таким практическим причинам те, кто удерживают власть, вероятно, будут стараться завербовать восприятие по крайней мере большинства людей, над которыми они осуществляют власть. Однако продолжительное использование физической силы не только неэкономично, оно также направлено против себя. Оно порождает сопротивление. Выражаясь более точно, если оно не может облечь себя в легитимность по крайней мере в глазах большинства населения, то порождает сопротивление. Только при таком условии оно может противостоять какому бы то ни было меньшинству, продолжающему оказывать сопротивление.
Легитимность очень четко отражается в сознании. <...> Легитимность существует лишь пока существуют те, кто в нее верит. <...>
Легитимация для авторитарности
Вебер дифференцировал различные типы авторитарности с точки зрения различий в авторитарности. Он проводит различия между тремя главными типами: традиционным, харизматическим и легально-рациональным. В каждом из случаев основной вопрос может быть сформулирован следующим образом: на какой базе действуют авторитеты, имеющие право отдавать команды той части населения, которая находится под их властью? В традиционном типе авторитарности на этот вопрос отвечают просто с точки зрения прецедента. Другими словами, легитимность покоится на том факте, что такого рода вещи всегда делались таким образом. К примеру, почему фараон Египта, и только он, имел право жениться на своей сестре? Ответ: потому что египетские фараоны поступали так всегда. Харизматическая авторитарность, напротив, покоится на экстраординарной претензии по части того, кто практикует это. С помощью достоинств этого экстраординарного качества харизматические лидеры аннулируют или модифицируют традицию. Многократно повторяемая фраза Иисуса в Новом Завете «Вы слышали, что это было сказано – но истинно говорю я вам...» конституирует претензию на харизматическую авторитарность в чистой форме. Вопрос: по какому праву делает этот человек столь экстраординарные заявления? Ответ: он имеет право, потому что его устами говорит Бог. Харизматическая авторитарность всегда проявляется в противопоставлении какой-то традиционной авторитарности. Она бросает вызов последней, стремясь модифицировать или, в крайнем случае, свергнуть ее.
Харизматической авторитарности внутренне присуща революционность. Она прорывается сквозь привычки, на которых покоится традиционная власть. По тому же признаку харизматическая авторитарность крайне ненадежна, и ее могущество недолговечно. Она может утверждаться только в атмосфере интенсивного возбуждения. Вероятно, по самой природе человека возбуждение не может быть слишком продолжительным. Когда оно начинает ослабевать, харизматическая авторитарность должна быть видоизменена или осуществляться в каких-то других формах авторитарности. Наконец, легально-рациональная авторитарность базируется на законе и рационально объяснимых процедурах. Вопрос: по какому праву может губернатор собирать этот налог? Ответ: он обладает таким правом в силу закона, прошедшего через легислатуру штата такого-то числа такого-то года. В отличие от первых двух типов, эта форма авторитарности не окутывает себя покровом таинственности. Каждое проявление власти как бы опирается на особое легальное обеспечение. По крайней мере, в принципе, это обеспечение может быть рационально объяснено, и поэтому может показать стоящую за ним социальную цель. Этот третий тип авторитарности является наиболее общим в современном мире, и наиболее подходящей для него формой администрирования выступает бюрократия, как мы обсуждали выше.
М.Вебер. Традиционное господство[27]
Господство называется традиционным, если его легитимность опирается на святость давно установившихся порядков и господского управления. Господин (или несколько господ) стоит у власти в силу установившейся традиции. Господствующий – это не «начальник», a господин собственной персоной; его штаб управления – в основном не «чиновники», а личные «слуги», подчиненные – это не «члены» союза, а:
1) либо «традиционные товарищи»;
2) либо «подданные». Не объективный служебный долг, а личная преданность слуги определяет отношение штаба управления к господину. Подчиняются не уставу, а личности, призванной для этого по традиции... приказы которой легитимны по двум причинам:
? отчасти в силу традиции, прямо определяющей содержание распоряжений (в смысле, продуманном этой традицией);
? отчасти в силу свободного произвола господина, которому традиция предоставляет соответствующую возможность. Этот традиционный произвол покоится в основном на безграничном почитании.
Таким образом, существует две области действия господина:
1) материально связанная с традицией;
2) материально свободная от традиции.
В рамках последней господин может оказывать «благосклонность» в форме милости или немилости, личной симпатии или антипатии и личного произвола, нуждающегося, в частности, в оплате подарками... Так как он поступает в известной мере согласно принципам, то они являются принципами материальной этической справедливости, правосудия или утилитаристской целесообразности, а не формальными принципами, как при легальном господстве. Фактическое осуществление господства означает то, что обычно может позволить себе господин и его штаб управления по отношению к традиционно повинующимся подданным, не вызывая у них отпора. Возможное сопротивление направляется против личности господина (или слуги), которые не уважают традиционные границы власти, а не против системы как таковой («традиционалистическая революция»).
Господин правит без или со штабом управления. Типичный штаб управления может быть набран из:
? «патримониально набранных» людей, связанных с господином традиционно, узами почитания: из членов рода, из невольников, из зависимых домашних служащих (Hausbeamte), в особенности из «министериалов» («слуг господина»), из людей, зависимых от господина (клиентела), из колонов, из вольноотпущенных и
? «экстрапатримониально набранных»:
? в силу личных отношений доверия (свободные «фавориты» всех видов) или
? из законно подчиненного господину союза (вассалы), наконец, Ф из свободных чиновников, почитающих господина.
«Бюрократия» возникла впервые в патримониальных государствах как чиновничество, призванное экстрапатримониально. Но эти чиновники (как вскоре будет сказано) были прежде всего личными слугами господина.
В штабе управления традиционного господства в чистом виде отсутствуют:
а) объективно распределенная устойчивая «компетенция»;
б) устойчивая рациональная иерархия;
в) упорядоченное определение на службу по свободному контракту и упорядоченное продвижение по службе;
г) профессиональное обучение (как норма);
д) постоянное и выплачиваемое в деньгах содержание...
[Комментарии]
К а): Вместо прочной деловой компетенции существует конкуренция между действующими поручениями и полномочиями, данными господином сначала произвольно, а затем делающимися постоянными, наконец, часто традиционно стереотипными.
К б): Отсутствует определение того, как и кем должно быть исполнено решение дела или жалобы:
? либо 1) урегулировано традиционными нормами...
? либо 2) полностью оставлено на усмотрение господина...
Наряду с традиционалистской системой «высшего двора» существует принцип немецкого права, согласно которому в присутствии господина вся юриспруденция работает вхолостую...
К в): Продвижение осуществляется... только по произволу и милости господина.
К г): У всех домашних чиновников и фаворитов господина, как правило, отсутствует квалификация на основе рационального профессионального обучения. Начало профессионального обучения служащих... означает повсеместно новую эпоху в управлении, несмотря на то, что эмпирическая выучка некоторых чиновников возникла довольно рано...
К д): Домашние чиновники и фавориты кормятся в основном за столом господина и экипируются из его кладовой.
1. К основным типам традиционного господства при отсутствии личного штаба управления господина относятся:
? геронтократия и
? ранний патриархализм.
Геронтократией называется такое положение, при котором господство в союзе и священную традицию исполняют старейшие (первоначально в буквальном смысле, по возрасту) как лучшие ее знатоки. На традиции часто основаны непервичные экономические или семейные союзы.
Патриархализмом называется положение, когда внутри первичного (в большинстве случаев) экономического и семейного (домашнего) союза господство осуществляет один человек, согласно непоколебимому праву наследования. Геронтократия и патриархализм нередко стоят рядом... При этом типе господства полное отсутствие чисто личного («патримониального») штаба управления господина является определяющим... поэтому товарищи – все еще «товарищи», а не «подданные». Они являются «товарищами» в силу традиции, а не «членами» в силу устава. Они должны повиноваться господину, а не установленному правилу, правда, и господину только согласно традиции. Господин, со своей стороны, также строго связан традицией.
2. Вместе с созданием чисто личного управленческого (и военного) штаба господина каждое традиционное господство имеет склонность к патримониализму, а в случае наивысшей власти господина – к султанизму.
«Товарищи» впервые становятся теперь «подданными», право господина, толковавшееся до сих пор как преимущественное право товарища, становится его личным правом, захваченным им точно так же, как какой-либо объект собственности, который можно... использовать как угодно (продать, заложить, передать как долю в наследстве). Внешне патримониальная власть господина опирается на подданных-невольников (часто заклейменных), или подданных-колонов, или подданных, находящихся под гнетом, или... на личную охрану и армию (патримониальная армия), получающую денежное довольствие. Благодаря этой власти господин... увеличивает долю произвола, благосклонности и милости, свободную от традиции.
Патримониальным следует считать всякое султанистское господство, ориентированное в основном на традицию, но осуществляемое благодаря полному личному праву и правящее в основном с помощью свободного, не связанного традицией произвола. Это различение совершенно нечеткое. От раннего патриархализма патримониализм и султанизм отличает существование личного штаба управления...
3. Сословным господством следует называть такую форму патримониального господства, при которой господином апроприируется власть, определенная штабом управления, и соответствующие экономические возможности. Присвоение может осуществляться (как и во всех подобных случаях):
? со стороны союза или категории лиц, имеющих свои отличительные черты, или
? лично (и в действительности только пожизненно), или по наследству, или в качестве свободной собственности.
Сословный обладатель господской власти покрывает издержки управления из собственных и присвоенных им средств управления. Обладатель военной господской власти или сословный член рода – военный экипируют себя сами и при случае экипируют контингенты, набранные ими патримониально или сословно (сословная армия). Или же средства управления и штаб управления присваиваются просто как попытка заработать помимо общего дохода со склада или кассы господина, как это происходило главным образом (но не только) в армии XVI и XVII вв. в Европе (капиталистическая армия), находящейся на денежном довольствии. Общая власть в случаях полного сословного присвоения закономерно разделена между господином и членами штаба управления по их личному праву или каждый обладает собственной властью, отрегулированной господином лично или особыми договорами с апроприаторами... Традиционное господство влияет на экономику, как правило, путем укрепления традиционных взглядов, причем сильнее всего – геронтократическое и чисто патриархальное господство... При этом типично:
? правление господина с полным или преимущественно натуральным обеспечением (оброки и барщины). В этом случае экономические отношения строго связаны традициями, развитие рынка замедлено, денежное обращение в основном натуральное и ориентировано на потребление, возникновение капитализма невозможно. Наряду с этим имеется возможность:
? сословно привилегированного обеспечения. Развитие рынка и здесь... ограничено таким обеспечением, «покупательной способностью»... господствующего союза.
Однако патримониализм может быть и монополистическим с частично экономически-трудовым обеспечением, частично – с налоговым обеспечением. В этом случае развитие рынка ограничено сильнее монополией, но слабее – иррационально. У господина и его штаба управления больше шансов трудиться, но капитализм в своем развитии
? либо 1) замедлен,
? либо 2) в случае налоговой аренды, аренды или покупки служебного места и капиталистической армии или управления существует как финансовое хозяйство и отклонен в направлении политически ориентированного капитализма.
Финансовое хозяйство патримониализма, и в частности султа-низма, даже там, где оно является денежно-экономическим, действует иррационально... Для рационализации экономики не хватает не только расчета, но и личной свободы трудиться.
М.Вебер. Харизматическое господство[28]
«Харизмой» следует называть качество личности, признаваемое необычайным, благодаря которому она оценивается как одаренная сверхъестественными, сверхчеловеческими или, по меньшей мере, особыми силами и свойствами, недоступными другим людям. Оно рассматривается как посланное богом или как образец. (Первоначально это качество обусловлено магически и присуще как прорицателям, так и мудрецам-исцелителям, толкователям законов, предводителям охотников, военным героям.) Как бы «объективно» правильно ни было оценено соответствующее качество с этической, эстетической или иной точки зрения, по существу совершенно неважно. Важно одно, как оно фактически оценивается подчиненными харизме, «приверженцами». <...>
1. Вопрос о значимости харизмы решает признание подчиненных – изначально всегда посредством чуда. Это подтверждаемое доказательством свободное признание рождено из склонности к откровению, из почитания героев, из упования на вождя. Но такое признание (при настоящей харизме) не является основой легитимности, оно – долг тех, кто обязан признать это качество в силу своего места и приведенного доказательства. Такое «признание» психологически является целиком личной, основанной на вере склонностью, рожденной из воодушевления или нужды и надежды.
Ни один пророк не считает свое качество независимым от мнения масс о нем, ни один венценосный король или харизматический герцог не рассматривал противодействие или пассивность иначе, как противное долгу: неучастие в формально-волюнтаристски организованном вождем походе высмеяно во всем мире.
2. Если доказательства долго не приходят, то это свидетельствует о том, что одаренный харизматической милостью покинут своим богом или потерял свою магическую или героическую силу. Если продолжительное время ему изменяет успех, и, в первую очередь, если его руководство не приносит облегчения подчиненным, то его харизматический авторитет может исчезнуть. В этом состоит подлинный смысл харизматической «божественной благодати». <...>
3. Господствующий союз – эмоциональная общность. Управленческий штаб харизматических лидеров – это не специально обученное «чиновничество». Штаб подбирается не с учетом сословной принадлежности, не с точки зрения происхождения или личной зависимости, он подбирается по харизматическим качествам: «пророку» соответствуют «ученики», «военному князю» – «свита», «вождю» вообще – «доверенные люди». Не существует ни «устройства на службу» или «смещения с должности», ни «карьеры», ни «продвижения». Есть только призвание, соответствующее интуиции вождя на основе харизматического качества призываемого. Не существует никакой «иерархии», но только содействие вождя в случае, если обнаруживается харизматическая недостаточность управленческого штаба для задачи, к решению которой он призван. Не существует не только никакой «служебной епархии» и «компетенции», но также никакой апроприации должностной власти посредством «привилегии». Но есть (по возможности) местные или предметные границы харизмы и «послания». Нет никакого «содержания» и никакого «дохода». Но ученики или последователи живут (изначально) с господином в отношениях любви или товарищеской коммуны на средства меценатов. Не существует никаких постоянно закрепленных «ведомств», а только харизматически, в соответствии с важностью поручения господина и в соответствии с собственной харизмой, доверенные посланцы. Не существует никакого регламента, нет никаких абстрактных правовых положений, никаких ориентированных на них правовых форм, никаких ориентированных на традиционные прецеденты правовых премудростей и судебных решений. Но по форме своей право актуально творится от случая к случаю, первоначально в соответствии с божественными изречениями и откровениями. Но по существу для всех форм харизматического господства имеет значение: «Здесь написано – но я говорю вам». <...>
Харизматическое господство, будучи внеобыденным, резко противопоставлено как рациональному, особенно бюрократическому так и традиционному, в особенности патриархальному и патримониальному или сословному. Два последних – специфические формы обыденности в господстве, истинно харизматическое являет собой специфически противоположное. Бюрократическое господство специфически рационально в смысле связанности дискурсивно анализируемыми правилами, харизматическое специфически иррационально в смысле отчужденности от правил. Традиционное господство связано прецедентами прошлого, и постольку ориентировано на правила. Харизматическое господство разрушает прошлое (внутри своей области), и в этом смысле оно специфически революционно. Оно не знает апроприации власти по образцу владения товарами ни хозяевами, ни сословными силами. Но легитимно оно лишь постольку и до тех пор, пока личная харизма в силу доказательства «значима», т. е. находит признание и используется доверенными людьми, учениками, последователями только на время харизматической доказательности. <...>
4. Чистая харизма специфически чужда экономике. Там, где она выступает, она организует «призвание» в эмоционально-напряженном смысле слова: как «миссию» или внутреннюю «задачу». Она отвергает в чистом типе использование материальных пожертвований как источника дохода – что, правда, нередко остается скорее требованием, чем фактом. Это не означает, что харизма всегда отказывалась от собственности и приобретения, как это делают в известных обстоятельствах пророки и ученики. Военный герой и его свита ищут добычи, плебисцитарный лидер или харизматический партийный вождь ищут материальные средства для своей власти. Первый, кроме того, ищет материального блеска своего господства для утверждения престижа власти. То, чем они все пренебрегают, – это традиционная или обыденная рациональная экономика, получение регулярных «доходов» с помощью направленной на эту цель последовательной экономической деятельности. Меценатское в больших размерах (дары, взятки, крупные подачки) или нищенское снабжение, с одной стороны, добыча, насильственное или (формально) мирное вымогательство, с другой стороны, – типичные формы покрытия потребностей в харизматическом господстве. С точки зрения рациональной экономики, такое удовлетворение потребностей есть типическая власть «неэкономичности», ибо она отклоняет любое втягивание в будни. Она может только, в состоянии полного внутреннего безразличия, «прихватывать», так сказать, случайные доходы. «Рента» как форма освобождения от экономики может в ряде случаев быть экономической основой существования харизмы. Но для нормальных харизматических «революционеров» эта форма обыкновенно не имеет значения. <...>
5. Харизма есть великая революционная сила в связанных традициями эпохах. В отличие от революционизирующей силы ratio, которая действует или извне (путем изменения жизненных обстоятельств и жизненных проблем и посредством этого изменения отношения к ним), или путем интеллектуализации, харизма может быть преобразованием изнутри, которое, будучи рожденным из нужды или воодушевления, означает изменение главных направлений мышления и действия при полной переориентации всех установок ко всем отдельным формам и к «миру» вообще. В дорационалистических эпохах традиция и харизма разделяли между собой общность ориентации действия.
Харизматическое господство представляет собой сугубо личностное, связанное с личными качествами, относимыми к харизме, и их подтверждением, социальное отношение. Но если это отношение не остается чисто эфемерным, оно принимает характер стабильного отношения: «община» единоверцев, воинов или учеников; партийный союз, партийная или иерократическая общность. Тогда харизматическое господство, которое только in statu nascendi («в момент образования») существует в идеально-типической чистоте, должно значительно изменить свой характер: оно становится традиционным или рациональным (легальным), или и тем и другим одновременно, но в различных аспектах. Движущие мотивы для этого следующие:
? идейная и материальная заинтересованность сторонников в продолжении существования и постоянном оживлении общины;
? еще более сильные идейные и материальные интересы управленческого штаба: последователей, учеников, партийной свиты из доверенных лиц, чтобы:
? продолжить существование отмеченного отношения;
? так его продолжить, чтобы при этом собственная позиция идейно и материально была бы поставлена на стабильную обыденную платформу: внешнее восстановление семей и нормальное их существование вместо отрешенности от мира и чуждых экономике «посланий».
Эти интересы типически актуальны при падении влияния личности носителя харизмы и при встающем здесь вопросе о преемнике. Способ, каким он решается – если он решается и, следовательно, харизматическая общность продолжает существовать (или только что появляется), очень важен и является определяющим для всей природы возникающих социальных отношений.
Выделенный вопрос обычно решается следующими способами:
? новые поиски носителя харизмы, определяемого в соответствии с признаками быть лидером. Затем легитимность нового носителя харизмы связывается признаками, т. е. «правилами», для которых возникает традиция; следовательно, чисто личностный характер уничтожается;
? с помощью откровения: оракул, жребий, божественное решение или другая техника отбора. Тогда легитимность нового носителя харизмы является производной от легитимности техники (легализация);
? путем выдвижения нового носителя харизмы предшествующим и через признание его общиной. Тогда легитимность становится легитимностью, приобретенной в силу назначения;
? через назначение преемника харизматическим управленческим штабом и через признание общиной. Трактовка как «выбор»... далека от этого процесса в его подлинном значении. Речь идет не о свободном отборе, а об отборе, строго связанном долгом, не о голосовании большинства, но о правильном обозначении, отборе правильного, истинного носителя харизмы, которого и меньшинство также может выделить. Единогласие – это постулат, осознание ошибки – долг, упорство в ней – тяжкий промах, «ложный» выбор – считающаяся грехом (изначально магическая) несправедливость;
? тем не менее легитимность легко представляется легитимностью правового промысла, при всех мерах предосторожности соответствующего истинности, в основном с определенными формальностями (возведением на трон и т. д.);
? через представление, что харизма есть свойство крови и распространяется на род, в особенности из ближайших родственников носителя харизмы: наследственная харизма...
Тогда вера относится больше не к харизматическим качествам личности, а к легитимному промыслу в силу порядка наследования, (традиционализация и легализация). Понятие «божья милость» полностью изменяет свой смысл и теперь означает: хозяин собственного права, независимо от признания подчиненных. Личностная харизма может совершенно отсутствовать. <...>
6. Через представление, что харизма есть такое (изначально магическое) качество, которое с помощью ритуального средства, примененного носителем харизмы, можно перенести на или вызвать у других. Это овеществление харизмы, прежде всего должностная харизма. Вера в легитимность больше не относится к личности, а к приобретенным качествам и действенности ритуальных актов. <...>
Важнейший пример: харизма священника через миропомазание, посвящение в сан, возложение рук; харизма короля, переносимая или укрепляемая через миропомазание и коронование. <...>
Авторитарный по своему смыслу харизматический принцип легитимности может быть пересмотрен в антиавторитарном направлении. Ибо фактическая значимость харизматического авторитета, по сути, целиком покоится на признании подчиненных, которое обусловлено «доказательством». Однако это признание по отношению к лидеру, квалифицируемому как харизматический и потому легитимный, равносильно долгу. При возрастающей рационализации отношений в союзах напрашивается мысль, что это признание, вместо того чтобы считаться следствием легитимности, принимается за ее основу (демократическая легитимность); выдвижение (возможное) управленческим штабом для занятия должности рассматривается как «предвыборы», предшественником – как «предложение», а признание общностью – даже как «выбор». Легитимный в силу собственной харизмы лидер становится тогда лидером по милости подчиненных, которого они (формально) свободно по своему усмотрению выбирают и ставят, а при случае также и отстраняют – ведь утрата харизмы и ее доказательства влечет за собой утрату истинной легитимности. <...>
М.Вебер. Легальное господство с бюрократическим штабом управления[29]
Легальное господство основывается на значимости следующих взаимосвязанных представлений о том, что:
1) любой закон может устанавливаться путем заключения договора, ориентированного рационально, целерационально или ценностно-рационально, с правом на последующее уважение со стороны товарищей по союзу, а также (что является закономерным) со стороны личностей, которые находятся или действуют внутри сферы влияния союза;
2) каждый закон по своей сущности есть абстрактные, специально установленные правила, за применением которых имеется судебный надзор;
3) легальный господин – начальник, который, распоряжаясь и приказывая, сам подчиняется безличному порядку, ориентирует на него свои распоряжения. Это справедливо и для легального господина, который не является «чиновником», например избранного президента государства;
4) подчиняющийся подчиняется только как товарищ или только «закону». Это может быть товарищ по союзу, товарищ по общине, член церковной общины, в государстве – гражданин;
5) в соответствии с п. 3 товарищи по союзу, подчиняясь господину, подчиняются не его личности, а безличному порядку и поэтому обязаны повиноваться только в рамках деловой компетенции, рационально разграниченной этим порядком.
Таким образом, основными категориями рационального господства являются:
1. Непрерывная, связанная правилами, работа служебного предприятия в рамках компетенции, которая означает:
? объективно разграниченную (в силу разделения труда) сферу должностных обязанностей;
? расстановку необходимого для этого начальства;
? распределение допустимых средств принуждения и возможностей их применения.
Предприятие, организованное таким образом, называется «органом власти». «Органы власти» в этом смысле есть на крупных частных предприятиях, в партиях, в армии и, подобно «государству», в «церкви». «Органом власти» в указанном смысле является избранный президент государства (и коллегия министров, и избранные «уполномоченные представители народа»)...
2. Принцип чиновничьей иерархии, т. е. устройство постоянных органов контроля и надзора за каждым органом власти с правом апелляции или жалобы подчиненных на вышестоящих в иерархической лестнице...
3. «Правила», согласно которым действуют, могут быть:
? техническими правилами;
? нормами.
Для их применения в обоих случаях необходимо специальное обучение. Следовательно, для работы в штабе управления человек должен иметь хорошую квалификацию, быть хорошо обученным специальности, – только такой человек может быть принят на службу в качестве чиновника. «Чиновники» образуют типичный штаб управления рационального союза...
принцип полного отчуждения штаба управления от средств управления и средств приобретения. Чиновники, служащие, рабочие штаба управления сами не владеют средствами управления и приобретения, но получают их в натуральной или денежной форме и обязаны вести их учет. Выдерживается принцип полного отделения служебного имущества (имущества предприятия или капитала) от личного имущества (домашнее хозяйство) и служебного рабочего места (бюро) от места жительства.
5. В случае полной рациональности отсутствует какое бы то ни было личное присвоение места службы...
6. Важен принцип аккуратности в документах управления, и даже там, где, как правило, принято устное обсуждение вопросов, по меньшей мере письменно должны быть зафиксированы предложения и заключительные решения, постановления и распоряжения. Деловые бумаги и непрерывная работа чиновников представляют собой бюро в качестве основы деятельности современного союза...
...Повседневное господство – это прежде всего управление. Самым чистым типом легального господства является господство посредством бюрократического штаба управления... Штат штаба управления в самом чистом виде состоит из отдельных чиновников (монократия), которые:
1) подчиняются только объективным служебным обязанностям;
2) определены на службу (а не выбраны) в неизменной чиновничьей иерархии;
3) имеют постоянные служебные компетенции;
4) работают по контракту, т. е. на основе свободного отбора;
5) работают по профессиональной квалификации, в наиболее рациональном случае – определенной с помощью экзамена, удостоверенной дипломом;
6) оплачиваются постоянным денежным содержанием;
7) считают свою службу единственной или главной профессией;
8) усматривают для себя карьеру: «продвижение» по сроку службы или по успехам в работе;
9) работают в полном «отчуждении от средств управления» и без присвоения рабочего места;
10) подчиняются строгой единообразной служебной дисциплине и контролю.
Исходя из всего опыта, можно сказать, что чисто бюрократическое, т. е. бюрократическо-монократическое, управление делами в чисто техническом отношении приближается к наиболее совершенному труду в смысле точности, постоянства, дисциплины, подтянутости и надежности, интенсивности и экстенсивности труда, в его формально-универсальной применимости к любым задачам. Во всех этих смыслах оно является самой рациональной формой господства. Развитие «современных» форм союзов во всех областях (государство, церковь, армия, партия, хозяйственное предприятие, союз по интересам, общество, учреждение и пр.) просто означает развитие и постоянное усиление бюрократического управления: к примеру, его возникновение является зародышем современного западного государства... Вся непрерывная работа происходит благодаря чиновнику в бюро. И если бюрократическое управление является повсеместно самым рациональным в формально-техническом отношении (ceteris paribus!), то оно сегодня просто необходимо для личного или делового управления массами. Существует выбор лишь между «бюрократизацией» и «дилетантизацией» управления, и преимуществом бюрократического управления являются профессиональные знания, полная незаменимость которых обусловливается современной техникой и экономикой... Постоянно возникает вопрос: кто управляет существующим бюрократическим аппаратом? Управление непрофессионала этим аппаратом ограниченно: профессиональный тайный советник в большинстве случаев превосходит временного министра-неспециалиста в проведении своей воли. Потребность в постоянном, строгом, интенсивном и просчитанном управлении, каким его создал прежде всего капитализм (без которого он не может существовать), – и каким его должен был просто перенять и усилить всякий рациональный социализм, обусловливает необходимость бюрократии как ядра управления массами. Только маленькое (политическое, иерократическое, общественное, хозяйственное) предприятие могло бы в значительной степени обойтись без него. Капитализм требует на своей сегодняшней стадии развития бюрократию, и несмотря на то, что они выросли из разных исторических корней, капитализм также является самым рациональным экономическим основанием (так как поставляет в распоряжение государственной казны необходимые денежные средства), на котором государство может существовать в самой рациональной форме.
Бюрократическое правление означает господство на основе знания – в этом заключается его специфически рациональная основа. Свое могущественное положение у власти на основе профессионального знания бюрократия лишь усиливает за счет должностного (служебного) знания: знания фактов, приобретенного при продвижении по службе или «из документов».
Превосходит бюрократию по профессиональному знанию и знанию фактов в своей области интересов лишь частное лицо, заинтересованное в прибыли, а именно: капиталистический предприниматель. Он является единственной инстанцией, действительно невосприимчивой (хотя бы относительно) к необходимости бюрократического рационального господства на основе знаний...
В социальном отношении бюрократическое господство в общем означает:
? тенденцию к усреднению набора из числа наиболее профессионально квалифицированных в целях универсальности;
? тенденцию к плутократизации в целях профессионального обучения, длящегося довольно долго (часто до конца третьего десятилетия жизни);
? господство формализованной обезличенности: идеальный чиновник управляет своим делом «без уважения к личности», формально одинаково для «каждого»...
М. Доган. Эрозия доверия в развитых демократиях[30]
В мире нет ни одной страны, где все воспринимают существующий в ней режим как абсолютно легитимный. Легитимность имеет свои степени. Позволяя ранжировать тот или иной режим в градации от минимума до максимума, она является обоснованным мерилом при сравнительном анализе политических систем. Многие ученые признают необходимость такого измерения: «Легитимность колеблется в пределах от полного восторженного одобрения до полного неприятия режима... градуируясь от поддержки, согласия, желания до ослабления, эрозии и потери доверия. В случае осознанного неприятия позволительно говорить о нелегитимности режима» (Дж. Херц).[31]
Как подчеркивает X. Линц, «ни один политический режим не легитимен в глазах 100 % населения, как и все его декреты, не легитимен навсегда, и – возможно – очень немногие абсолютно нелегитимные режимы держатся исключительно на насилии».[32]
Легитимность никогда не доходит до единодушия граждан в одобрении режима. Все группы населения и все индивиды отнюдь не одинаково оценивают авторитет политической власти. В обществе есть апатичные слои и протестные субкультуры, миролюбивые оппоненты и вооруженные террористы, а между этими крайностями – большинство, только отчасти убежденное в правоте притязаний правительства на легитимность. Д. Истон полагает, что частые нарушения законов и диссидентские движения являются показателем уровня легитимности. Однако в эмпирических исследованиях трудно идентифицировать и квантифицировать этот феномен.
Нередко легитимность смешивают с законностью. В демократической стране происходит периодическая смена правительств. Она считается легитимной именно потому, что существуют нормы, касающиеся замены субъектов политической власти. Враждебность к политической партии, находящейся у власти, вполне совместима с верой в разумность режима. Случающиеся время от времени нарушения конституционных норм не подрывают легитимности режима. Что теряется в такой ситуации – так это доверие к отдельным институтам и тем, кто их возглавляет. Нужно различать легитимность режима и доверие граждан к определенным институтам или руководителям, ибо ни один институт не может полностью избежать критики со стороны той или иной части населения. Единодушие – нелепая претензия тоталитарных режимов.
Имеющиеся материалы опросов не позволяют утверждать, что легитимность демократии поставлена под вопрос. Как уже говорилось, большинство граждан благосклонны к совершенствованию политических режимов путем реформ в согласии с нормами демократии, но между общепринятыми реформами и революционной агитацией есть еще многие другие формы действий и давления. Еще один вопрос (в декабрьском опросе 1994 г., проведенном Евробарометром) состоял в том, удовлетворена ли большая часть граждан тем, как функционирует демократия. Во всех западноевропейских странах каждый второй заявил, что он недоволен тем, как работает демократия в его стране. В большинстве случаев это означает пожелание улучшений в этой работе. Неудовлетворенность тем, как функционируют институты, не бросает вызов легитимности режима. Много раз в различных странах перед респондентами ставился соответствующий вопрос, связанный с проблемой легитимности, ответ на который предполагал выбор одной позиции из следующих трех:
1. Принимаю в общем и целом существующие законодательство, систему правления и общественное устройство.
2. Вижу многие недостатки существующей системы. Верю в постепенное улучшение системы правления.
3. Совершенно не приемлю существующие законодательство, систему правления и общественное устройство; единственным решением проблемы считаю полную смену общественного устройства.
Первая позиция подразумевает веру в легитимность режима; вторая свидетельствует об убеждении, что, несмотря на все недостатки, существующий режим – лучший из тех, которые можно себе представить, и что он, кроме того, поддается усовершенствованию. Третья позиция показывает, что существующий режим воспринимается как нелегитимный. В большинстве стран доля выбравших последний вариант ответа была незначительна: 9 % – в США, 3 – в Германии, 7 – в Канаде и 10 % – в Австралии. В некоторых странах доля эта относительно велика: 26 % – во Франции, 24 – в Англии, а в одной стране – Индии – она достигла такой величины (41 %), при которой легитимность режима оказывается под вопросом.
Сколь низко может упасть уровень доверия, прежде чем это подорвет основы демократии? Италия может служить здесь наглядным эмпирическим примером. Между 1991 и 1994 г. эта страна пережила внутреннее потрясение, которое было вызвано целым рядом скандалов, связанных с коррупцией, что привело к удалению с политической сцены больших политических партий, перемене идеологии и названия некоторых партий, а также гекатомбе в рядах политического класса. Этот пример со всей очевидностью свидетельствует, что коррупция разъедает легитимность. Тем не менее итальянская демократия не рухнула, она спонтанно реконструировалась. Даже в этом, крайнем, случае демократия показала себя неискоренимой.
Сегодня большинство граждан не могут представить себе альтернативу демократическому режиму. Имеющиеся данные не позволяют нам сделать вывод об их отказе от базовых элементов гражданской культуры. Единственное исключение, приходящее на ум, – Россия, но именно оно подтверждает правило: сегодня Россия беременна демократией, она еще не развитая демократия.
С. М. Липсет и У. Шнейдер приходят к такой же оценке. Они ставят вопрос: существует ли кризис легитимности в США? По их мнению, «доверие к руководителям теряется гораздо легче, чем к системе» и «граждане все более и более критически относятся к работе основных институтов». Липсет и Шнейдер делают вывод, что «утрата доверия имеет позитивную и негативную стороны, что вне сомнений, поскольку американцы, с одной стороны, не удовлетворены функционированием их институтов и, с другой, данная констатация в определенном смысле поверхностна, ибо они еще не дошли до отрицания этих институтов».
Основные эмпирические данные, касающиеся примерно 20 западных демократий, обязывают нас делать четкое различие между легитимностью режима, доверием к институтам и популярностью правительства. В демократической стране, даже если численность неудовлетворенных граждан велика в течение длительного времени, легитимность режима не подлежит сомнению, исключая случаи экономических, военных и политических потрясений. Демократические режимы не погибают, потому что им нет более приемлемой альтернативы, чем реформировать демократию демократическим путем. Достоинство демократии в том, что она предоставляет возможность изменений по правилам политической игры. Ошибок избежать легче, когда можно предсказать действия других. Это то, что К. Фридрих называет «правилами предсказуемой реакции».
Раздел IV Политическая система
Системный подход получил широкое распространение в политической науке в 60-е гг. XX в. Использование его методологии стало основой создания и разработки теорий политической системы.
Родоначальником системного подхода в политической науке считается американский политолог Дэвид Истон. Часть его работы, посвященная применению системного анализа к исследованию политических процессов, представлена в хрестоматии. С точки зрения Истона, политическую жизнь можно представить как поведенческую систему, взаимодействующую с окружающей средой. Для обозначения суммарных воздействий на политическую систему Истон использует понятие «вход», а для обозначения решений и действий, осуществляемых системой, – категорию «выход». Функционирование системы предстает как реакция на требования и поддержку, которые обозначаются как «вход», в то время как действия политической системы составляют содержание «выхода». Условием выживания политической системы становятся обратные связи и способность политической системы адекватно реагировать на поступающие воздействия.
Если Истон определял политическую систему как «совокупность тех взаимодействий, посредством которых ценности авторитарным способом приносятся в общество», то Габриель Алмонд характеризует ее как совокупность «институтов и органов, формулирующих и воплощающих в жизнь коллективные цели общества или составляющих его групп». Его дефиниция основывается на методологическом подходе Толкотта Парсонса. Заслуга Г. Алмонда заключается в том, что он проанализировал функции тех структур, которые входят в политическую систему. Соотнесение структур и функций представляет собой применение метода структурно-функционального анализа, господствовавшего в политической науке в 60-70-е гг. XX в.
Теория политической системы помогла представить политику во всей ее целостности. Она стала методологической основой для проведения сравнительных исследований и изучения развивающихся стран. Данная теория позволяет выявить основы стабильности и устойчивости политических систем, а также охарактеризовать условия, при которых равновесное состояние нарушается.
Д. Истон Д. Истон. Категории системного анализа политики[33]
Вопрос, придающий смысл и цель строгому анализу политической жизни как поведенческой системы, следующий: каким образом политическим системам удается выживать как в стабильном, так и в меняющемся мире? Поиск ответа в конечном счете позволяет нам понять то, что можно назвать жизненными процессами политических систем, т. е. фундаментальные функции, без которых никакая система не может длительное время существовать, а также типичные способы реакций, с помощью которых системам удастся их поддерживать. Анализ этих процессов, а также природы и характера реакций политических систем я считаю центральной проблемой политической теории.
...Хотя в итоге я приду к заключению, что полезно рассматривать политическую жизнь как сложный комплекс процессов, с помощью которых определенные типы «входов» (inputs) преобразуются в «выходы» (outputs) (назовем их властными решениями и действиями), вначале полезно применить более простой подход. Правомерно начать изучение политической жизни как поведенческой системы, находящейся в определенной среде (environment), с которой эта система взаимодействует. При этом необходимо учитывать несколько существенных моментов, имплицитно присутствующих в этой интерпретации.
Во-первых, такая точка отсчета теоретического анализа предполагает без дальнейшего исследования, что политические взаимодействия в обществе представляют собой систему поведения. Это утверждение разочаровывает своей простотой. Но дело в том, что, если понятие системы используется с достаточной строгостью и с учетом всех внутренне ему присущих следствий, оно представляет исходную точку, двигаясь из которой, можно получить множество выводов в дальнейшем анализе.
Во-вторых, в той мере, в какой мы можем эффективно рассматривать политическую жизнь как систему, ясно, что ее не следует изучать как существующую в вакууме. Ее следует рассматривать в физическом, биологическом, социальном и психологическом окружениях (environments). Здесь опять эмпирическая тривиальность этого утверждения не должна заслонять от нас ключевое теоретическое значение. Если бы мы игнорировали кажущееся столь очевидным утверждение, было бы невозможно заложить основу анализа феномена выживания политических систем в стабильном или меняющемся мире. <...>
Здесь мы переходим к третьему пункту. Уточнение того, что представляют собой различные виды окружения, полезно и необходимо, поскольку политическая жизнь является открытой системой. Вследствие ее собственной природы как социальной системы, выделенной из других социальных систем, она подвержена их постоянному воздействию. И наконец, тот факт, что некоторые политические системы выживают, как бы на них ни воздействовало окружение, означает, что они должны обладать способностью реагировать на возмущающие воздействия (disturbances) и тем самым адаптироваться к изменяющимся условиям. Как только мы признаем, что политические системы могут быть адаптивными, а не просто пассивно воспринимающими воздействие среды, появляются новые возможности теоретического анализа.
Во внутренней организации политической системы ключевым свойством, характерным и для других социальных систем, является исключительно гибкая способность реакции на условия своего функционирования. Действительно, политические системы включают самые разнообразные механизмы, с помощью которых им удается справляться с возмущающими воздействиями среды. Посредством этих механизмов они могут регулировать свое поведение, трансформировать внутреннюю структуру и даже изменять фундаментальные цели. В отличие от социальных систем немногие типы систем обладают этим свойством. На практике изучающие политическую жизнь должны просто исходить из этого, даже анализ на уровне здравого смысла требует признания этой посылки. Однако указанная особенность политических систем редко учитывается в теоретических построениях в качестве центрального компонента; ее последствия для внутреннего поведения политических систем никогда явно не формулировались и не исследовались.
...Важнейшим недостатком анализа равновесных состояний, превалирующего в политологическом исследовании типа анализа, является то, что он фактически пренебрегает способностью систем справляться с возмущающим воздействием среды. Хотя равновесный подход редко разрабатывается в явном виде, он пронизывает значительную часть политологических исследований, особенно при изучении политики групп и международных отношений. Естественно, что подход, основанный на том, что политическая система стремится поддерживать состояние равновесия, должен предполагать наличие внешних воздействий. Именно они приводят к тому, что отношения власти в политической системе выходят из предполагаемого стабильного состояния. Затем обычно система исследуется в рамках допущения, нередко имплицитного, ее возврата к исходному стабильному состоянию. Если системе этого не удается, ее рассматривают как движущуюся к новому состоянию равновесия, которое должно быть указано и описано. Тщательный анализ используемого языка показывает, что равновесие и стабильность (stability) означают при этом одно и то же. <...>
Даже если понятие «состояние равновесия» использовалось только как никогда не достижимая на практике теоретическая норма, оно позволило бы создать менее полезные теоретические аппроксимации реальности, чем когда принимаются во внимание другие возможности. Мне представляется более эффективным подход, в рамках которого признается, что отдельные элементы системы могут иногда осуществлять действия, способствующие разрушению предшествующего состояния равновесия, или даже поддерживать перманентное состояние неравновесия. Типичным случаем подобного рода является, например, тот, когда власть стремится сохранить свое положение, поддерживая внутреннюю нестабильность или преувеличивая внешнюю угрозу.
Далее, общим свойством всех систем является их способность амортизировать спектр внешних воздействий позитивного, конструктивного и инновативного плана, устранять или абсорбировать влияние любых возмущающих сил. Система отнюдь не обязательно реагирует на внешнее возмущение лишь путем колебания вблизи исходной точки равновесия или двигаясь к точке нового равновесия. Она может справляться с возмущающим воздействием, стремясь изменить свое окружение таким образом, чтобы взаимодействие между ней и этим окружением не приводило к росту напряжения; элементы подвергшейся внешнему воздействию системы могут даже настолько существенно трансформировать отношения между собой, модифицировать собственные цели и способы действий, что система сможет значительно лучше справляться с воздействием среды. С помощью этого и других способов система способна творчески и конструктивно отвечать на внешние возмущающие воздействия.
Совершенно очевидно, что принятие анализа равновесных состояний в качестве методологической основы, хотя бы и в неявной форме, затрудняет обнаружение тех целей системы, которые не могут быть сведены к достижению состояния равновесия. При этом столь же трудно указывать и анализировать пути достижения этих альтернативных целей. Для любых социальных систем, включая политические, адаптация представляет собой нечто большее, чем простое приспособление к меняющейся ситуации. Она включает множество разнообразных действий, ограниченное только человеческим мастерством, изобретательностью, ресурсами, с помощью которых происходит модификация, осуществляются фундаментальные изменения и контроль внешней среды, самой системы или того и другого вместе. В итоге система приобретает способность успешно парировать или амортизировать любые потенциально стрессовые для нее воздействия.
...Системный анализ позволяет разработать более гибкую и эффективную теоретическую структуру, чем тот уровень теоретического анализа, который достижим в рамках хорошо развитого равновесного подхода. Однако вначале необходимо описать основные системные понятия. Мы можем определить систему как некоторое множество переменных независимо от степени их взаимосвязи. Причина, по которой такое определение является предпочтительным, заключается в том, что оно освобождает нас от необходимости спорить по поводу того, можно ли считать политическую систему действительно системой. Единственно важным вопросом в этом случае будет, является ли множество, рассматриваемое нами в качестве системы, по-настоящему интересным для анализа. Сможем ли мы с помощью такой системы понять и объяснить определенные существенные для нас аспекты человеческого поведения?
Как я уже отмечал в The Political System, политическая система может быть определена как совокупность тех взаимодействий, посредством которых ценности авторитарным способом приносятся в общество, это именно то, что отличает политическую систему от других взаимодействующих с ней систем. Окружение политической системы можно разделить на две части: интрасоциетальную и экстрасоциетальную. Первая состоит из трех систем, которые не являются политическими в соответствии с нашим определением природы политических взаимодействий. Интрасоциетальные системы включают такие множества типов поведения, отношений, идей, как экономика, культура, социальная структура, межличностные отношения. Они являются функциональными сегментами общества, компонентом которого является и сама политическая система. В данном конкретном обществе системы, отличные от политической, выступают источником множества влияний, в совокупности определяющих условия действия политической системы. В мире, где постоянно формируются новые политические системы, мы можем найти немало примеров того, когда меняющиеся экономика, культура или социальная структура могут оказывать воздействие на политическую жизнь.
Другая часть окружения политической системы, экстрасоциетальная, включает все системы, являющиеся внешними по отношению к данному обществу. Они выступают функциональными компонентами международного сообщества, суперсистемы, элементами которой можно считать конкретные общества. Межнациональная система культуры – пример экстрасоциетальной системы.
Оба эти класса систем – интра– и экстрасоциетальные, – которые мы рассматриваем как внешние по отношению к политической системе, образуют полное окружение политической системы. Они могут служить источником стрессов политической системы. Возмущающие воздействия – понятие, с помощью которого можно эффективно описывать влияния полного окружения на политическую систему и вызываемые ими изменения этой системы. Не все возмущающие воздействия создают напряжение в политической системе: некоторые благоприятствуют выживанию системы, другие являются нейтральными в смысле способности вызывать стресс. Но многие воздействия можно считать способными приводить политическую систему к стрессу.
Когда следует говорить о том, что стресс наступил? Этот вопрос достаточно сложен, ответ на него предполагает введение нескольких дополнительных понятий. Все политические системы как таковые, поскольку они обладают определенной живучестью, обязательно выполняют две следующие функции. Во-первых, они должны быть способны предлагать обществу ценности и, во-вторых, вынуждать большинство его членов признавать их в качестве обязательных, по крайней мере почти всегда. Эти два свойства выделяют политические системы среди других типов социальных систем.
Следовательно, эти два отличительных свойства – предложение ценностей обществу и относительная частота их признания последним – являются существенными переменными (essentials variables) политической жизни. Их наличие можно считать необходимым условием того, что последняя существует.
Одной из важных причин для введения этих существенных переменных является то, что они позволяют более точно установить, где и как возмущающие воздействия на систему угрожают вызвать ее стресс. Можно сказать, что стрессовая ситуация возникает, когда появляется опасность, что существенные переменные могут выйти за пределы своих критических значений. Это может быть связано с тем, что происходит в окружении системы: она может подвергнуться полному военному разгрому или суровый экономический кризис вызывает общую дезорганизацию политической системы и резкий рост нелояльности к ней. Предположим, что, как следствие такой ситуации, или власти окажутся не в состоянии принимать необходимые решения, или эти решения не будут выполняться. В этом случае внесение властью ценностей в общество окажется невозможным, и, как следствие, общество взорвется из-за неспособности политической системы выполнять одну из своих важнейших функций, связанную с регулированием поведения его членов.
Указанный случай как раз и будет соответствовать стрессу политической системы, настолько сильному, что любые возможности для выживания в данном обществе практически исчезнут. Но нередко разрушение политической системы не является столь полным и необратимым и система, пережившая стресс, в той или иной форме выживает. Несмотря на кризис, власти могут сохранить способность принимать определенные решения и хотя бы с некоторой минимальной частотой добиваться их выполнения. При этом какая-то часть проблем, требующих политического решения, будет находиться под контролем. Иными словами, не всегда существенные переменные полностью выходят за границы нормального диапазона изменений. Случается, что область этих изменений как бы несколько смещена по сравнению с нормальной ситуацией, когда власти, например, частично не способны принимать требуемые решения и добиваться их выполнения с нужной регулярностью. В таких условиях существенные переменные в целом не выходят за границы допустимого диапазона изменений, они подвергаются стрессу, но остаются в пределах критических точек. И до тех пор пока политическая система способна удерживать свои существенные переменные в этих пределах, можно утверждать, что она обладает способностью к выживанию.
Как мы показали выше, каждая политическая система характеризуется свойством в той или иной степени справляться со стрессом своих существенных переменных. Это не значит, что результат поведения системы всегда именно таков; система может разрушиться именно по той причине, что оказалась неспособной принять адекватные и эффективные меры в отношении надвигающегося стресса. Но именно способность системы отвечать на стресс имеет решающее значение. Тип ответа системы позволяет оценить вероятность того, что она сумеет преодолеть ситуацию стресса. Вопрос о характере реакции политической системы на стресс может продуктивно исследоваться в рамках системного анализа политической жизни. Особенно перспективным можно считать изучение поведения элементов политической системы в том отношении, насколько будет усугублять или смягчать стресс ее существенных переменных это поведение.
...Однако остается нерешенной фундаментальная проблема: как именно потенциально способные вызывать стресс условия в окружении политической системы соотносятся и взаимодействуют с ней? В конечном счете даже с позиций здравого смысла представляется очевидным, что существует огромное множество внешних воздействий на систему. Следует ли рассматривать каждое изменение в окружении системы как изолированное единичное возмущение, конкретные последствия которого должны изучаться независимо от действия других возмущений?
Если бы такой способ исследования был единственно возможным и приемлемым, то трудности системного анализа проблемы могли бы оказаться непреодолимыми. Но если искать эффективный метод изучения воздействия окружения на политическую систему, надо стремиться к максимально возможной редукции огромного множества воздействий к ограниченному числу индикаторов. Я считаю, что следует пытаться делать это, используя понятия «входы» и «выходы».
Как можно описывать эти «входы» и «выходы»? Поскольку я провожу аналитическое разграничение между политической системой и параметрическими в отношении ее или окружающими ее системами, то полезно интерпретировать взаимодействия, связанные с поведением элементов этих систем, как обмены, или трансакции, которые могут пересекать границы политической системы. Об обменах мы будем говорить, если необходимо подчеркнуть взаимную связь политической системы с ее окружением. С помощью термина «трансакция» будет подчеркиваться факт однонаправленного действия окружения на политическую систему или обратного действия при условии пренебрежения временем обратной реакции соответствующих систем.
До этого момента все представляется достаточно бесспорным. Если бы системы не были взаимосвязаны, то все аналитически фиксируемые аспекты поведения в обществе были бы независимы друг от друга, что на самом деле не так. Однако констатация факта взаимодействия различных систем в обществе – нечто большее, чем простой трюизм. Дело в том, что здесь указывается способ, с помощью которого огромное число сложных взаимодействий оказывается возможным редуцировать к теоретически и эмпирически обозримым величинам.
Завершая рассмотрение этого вопроса, отмечу, что мною предложен метод суммирования наиболее значимых и существенных воздействий на политическую систему и представления их в виде нескольких индикаторов. Анализируя последние, мы получаем возможность оценивать ближайшие и более отдаленные влияния событий, происходящих во внешней среде, на политическую систему. Имея в виду эту задачу, я обозначил эффекты, переносимые через границу одной системы на некоторую другую систему, как выходы первой системы и – симметрично – входы второй. Трансакция, или обмен между системами, при этом рассматривается как взаимосвязь между ними в форме отношения «вход – выход».
...Значение понятия «входы» состоит в том, что с его помощью мы получаем возможность характеризовать суммарный эффект действия множества разнородных условий и событий, происходящих в окружении политической системы, на саму эту систему. Без использования данного понятия было бы трудно определить в точном операциональном смысле, какое влияние поведение различных секторов общества оказывает на события в политической сфере. «Входы» могут выполнять функции суммарных переменных, которые обобщают в концентрированном виде все происходящее в среде, окружающей политическую систему, что может способствовать политическому стрессу. Поэтому понятие «входы» служит мощным аналитическим инструментом.
...Потенциально любое минимально значимое событие или изменение условий в окружении политической системы могут оказать некоторое воздействие на нее. Столь широкое использование понятия «входы» фактически может привести к тому, что его функции, связанные с более адекватным, отвечающим задачам исследования моделированием политической реальности, не будут выполнены.
Как уже отмечалось, мы можем существенно упростить анализ воздействия со стороны внешней среды, если ограничим наше внимание несколькими видами «входов», которые могут рассматриваться в качестве индикаторов, суммирующих наиболее важные эффекты в плане их вклада в стресс системы. Речь о тех эффектах, которые пересекают границу, отделяющую параметрические системы от политических и влияющих па последние. Таким путем мы избавляемся от необходимости изучать и прослеживать отдельно последствия каждого из многих типов событий в окружении политической системы.
В качестве эффективного теоретического инструмента может быть полезным рассмотрение основных воздействий со стороны среды на политическую систему в форме двух главных входов: требований и поддержки. С их помощью широкий спектр событий и видов активности в среде может быть суммирован, отражен и изучен в плане их воздействия на политическую жизнь. Следовательно, существуют ключевые индикаторы, указывающие, каким путем воздействия внешнего окружения влияют на политическую систему и придают иную форму происходящему в ней. Можно это выразить и так, что, изучая флуктуации входов, являющихся комбинацией требований и поддержки, мы получаем возможность эффективного описания результата воздействия внешнего окружения на политическую систему.
...Аналогичным образом понятие выходы помогает нам изучать все множество следствий поведения элементов политической системы для ее окружения. Наша первая задача, конечно, состоит в том, чтобы исследовать функционирование политической системы. Для понимания политических явлений как таковых мы не должны концентрировать наши усилия на тех следствиях, которые политические действия производят в окружающих системах. Эта проблема может более глубоко анализироваться теориями функционирования экономики, культуры или любой другой параметрической системы.
Но активность элементов политической системы может иметь некоторое значение для ее собственного состояния в будущем. В той степени, в какой это именно так, мы не можем полностью отвлечься от тех действий, которые выходят из системы в ее окружение. Как и в случае «входов», однако, существует огромное множество типов активности внутри политической системы. Каким образом тогда выделить именно те типы активности, которые важны для понимания способов выживания этих систем?
Полезным методом упрощения и организации эмпирических данных о проведении элементов системы (что отражается в их требованиях и поддержке) является их представление в терминах того, как «входы» преобразуются в то, что можно назвать политические выходы. Таковыми являются решения и действия властей. «Выходы» не только воздействуют на окружение политической системы, но и позволяют определять, корректировать в каждом новом цикле взаимодействия соответствующие «входы» системы. При этом образуется контур обратной связи (feedback loop), играющий важную роль в объяснении процессов, помогающих системе справляться со стрессом. Эта связь дает возможность системе использовать свой предшествующий и сегодняшний опыт для того, чтобы пытаться усовершенствовать свое будущее поведение.
Когда мы говорим о политической системе как действующей, то надо помнить, что не следует представлять ее как нечто монолитное. Для того чтобы обеспечить возможность коллективного действия, в ней существуют те, кто выступает от имени или во имя системы. Мы можем определить их как власти. Если необходимо осуществить действия по удовлетворению некоторых требований или создать условия для такого удовлетворения, информация о результативности «выходов» должна достигать хотя бы этих властей. При отсутствии информационной обратной связи о происходящих в системе процессах власти будут действовать вслепую.
Если отправной точкой нашего исследования является способность системы к выживанию и если мы считаем одним их существенных источников стресса падение уровня ее поддержки ниже некоторого минимального уровня, то следует признать чрезвычайную важность информационной обратной связи для властей. <...>
Контур обратной связи сам содержит ряд элементов, заслуживающих детального изучения. Он включает в себя производство «выходов» властями, реакцию членов общества на эти «выходы», передачу информации об этой реакции властям и, наконец, возможные последующие действия властей. Таким образом постоянно приходят в движение новые циклы выходов, ответов, информационной обратной связи и реакций властей, создавая непрерывную цепь взаимосвязанных действий. Наличие обратной связи оказывает тем самым существенное влияние на способность политической системы справляться со стрессом и выживать.
Из вышеизложенного очевидно, что применяемый тип анализа позволяет и даже требует от нас исследовать политическую систему используя динамические переменные. Мы не только приходим к пониманию того, как политическая система действует посредством своих «выходов», но становится ясным тот факт, что все происходящее в системе может иметь последствия для каждой последующей стадии ее поведения. Поэтому представляется насущной задачей интерпретация политических процессов как непрерывного и взаимосвязанного потока поведения.
Если бы мы удовлетворились в целом статичной моделью политической системы, то на этом можно было бы поставить точку. Действительно, в большинстве политологических сочинений именно это и делается. В них исследуются сложные процессы и механизмы принятия и реализации решений. Следовательно, до тех пор, пока мы интересуемся тем, какие факторы и как именно влияют на выработку и осуществление политических решений, модель можно считать адекватной в качестве первого минимального приближения.
Однако ключевой проблемой политической теории является не просто разработка концептуального аппарата для понимания факторов, влияющих на все типы решений, принимаемых в системе, иначе говоря, формулировка теории аллокации политических ресурсов. Как я уже отмечал, теория должна объяснить, с помощью каких механизмов системе удается выживать в течение длительного времени и как она преодолевает стресс, который может наступить в любой момент. По этой причине недостаточно рассматривать «выходы» политической системы в качестве некоего абсолютного завершения политических процессов и соответственно нашего анализа. В этом плане можно отметить, что частью модели являются обратные связи, выступающие как важнейший фактор, определяющий поведение системы. Именно наличие обратной связи совместно со способностью политической системы осуществлять конструктивные действия создает предпосылки для адаптации системы или преодоления возможного стресса.
Таким образом, системный анализ политической жизни опирается на представление о системе, находящейся в некоторой среде и подвергающейся внешним возмущающим воздействиям, угрожающим вывести существенные переменные системы за пределы их критических значений. В рамках этого анализа важным является допущение о том, что для того, чтобы выжить, система должна быть способна отвечать с помощью действий, устраняющих стресс. Действия властей имеют ключевое значение в этом отношении. Поэтому для действий, причем осмысленных и эффективных, власти должны иметь возможность получать необходимую информацию о происходящем. Обладая информацией, власти могут быть способными обеспечивать в течение некоторого времени минимальный уровень поддержки системе.
Системный анализ позволяет поставить ряд ключевых вопросов, ответы на которые помогли бы сделать более насыщенной конкретным содержанием представленную здесь схематичную модель. Какова в действительности природа тех воздействий, которым подвергается политическая система? Как они передаются системе? Какими способами, если таковые существуют, системы чаще всего стремятся преодолевать стрессы? Какие типы процессов обратной связи должны существовать в любой системе, если сами условия ее функционирования вынуждают систему приобретать и накапливать потенциал, позволяющий действовать в направлении ослабления стресса? Как различные типы политических систем – современные и развивающиеся, демократические и авторитарные – отличаются типами своих входов и выходов, своими внутренними процессами и обратными связями? Как эти различия влияют на способности системы к выживанию, когда она подвергается воздействию стресса?
Задача построения теории состоит, конечно, не в том, чтобы уже в начале исследования получить достоверные и полные ответы на эти вопросы. Скорее, задача заключается в том, чтобы правильно ставить проблемы и намечать эффективные пути их решения.
Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. Стром, Р. Далтон. Сравнительная политология сегодня: мировой обзор[34]
Системы: структура и функция
...Политическая система есть совокупность институтов и органов, формулирующих и воплощающих в жизнь коллективные цели общества или составляющих его групп. Правительства, или государства, – это части политической системы, обеспечивающие выработку политического курса. Решения правительств обычно подкрепляются легитимным насилием, и подчинение им может быть вынужденным...
Правительства занимаются многими вещами – от создания систем школьного образования и управления ими до поддержания общественного порядка и ведения войн. Осуществление всех этих многочисленных форм правительственной деятельности происходит через специализированные органы, или структуры, – парламенты, бюрократии, административные учреждения и суды. Данные структуры выполняют функции, которые в свою очередь позволяют правительству формулировать и проводить свой политический курс, а также обеспечивать его претворение в жизнь. Политические курсы отражают цели; специализированные органы предоставляют средства. <...>
Как видно из рис. 1, политическая система существует как во внутреннем, так и во внешнем окружении, формируя это окружение и сама формируясь под его влиянием. Система получает из этого окружения сигналы входа и пытается воздействовать на него посредством своих сигналов выхода. На представленном ниже рисунке – весьма схематичном и простом – в качестве центрального фактора выступают Соединенные Штаты Америки, а в качестве примеров окружения взяты некоторые другие страны, рассматриваемые в этой книге, – Россия, Китай, Великобритания, Германия, Япония, Мексика и Египет. Взаимообмены сигналами и между странами могут различаться по многим параметрам. Так, они бывают «плотными» или «разреженными» (американско-канадские отношения могут служить примером «плотного» взаимообмена, тогда как отношения между Соединенными Штатами и Непалом расположены в «разреженной» части континуума). Типы взаимоотношений между политическими системами также значительно варьируются. США имеют разветвленные торговые связи с некоторыми нациями и относительно скромные – с другими. В одних странах импорт превышает экспорт, в других наоборот. Во взаимоотношениях со странами НАТО, Японией, Южной Кореей, Израилем и Саудовской Аравией крайне важными для США являются военный взаимообмен и поддержка. В последние десятилетия взаимозависимость наций – объемы (в физическом и денежном выражении) импорта и экспорта, перемещение капиталов, распространенность путешествий за границу и размах международных коммуникаций – чрезвычайно возросла. Данный процесс может быть отражен за счет утолщения входных и выходных стрелок на рис. 1. Колебания в этом потоке международных трансакций и торговли, связанные с депрессией, инфляцией, введением протекционистских тарифов, войной и т. п., способны нанести серьезный ущерб экономикам соответствующих стран.
Рис. 1. Политическая система и ее окружение
Источник: Алмонд Г, Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор. С. 77
В случае Америки взаимодействие политической системы с внутренним окружением может быть проиллюстрировано через возникновение «экономики, основанной на высоких информационных технологиях», и громадное увеличение международной торговли. За последнее столетие структура американской рабочей силы, а соответственно, и население США резко изменились. Доля сельскохозяйственных рабочих среди работающих по найму упала до 3 %. Значительно сократилась занятость в добывающих и обрабатывающих отраслях тяжелой промышленности, а пропорция тех, чья деятельность связана с высокими технологиями, свободными профессиями и сферой услуг, в составе рабочей силы существенно возросла. Во второй половине XX в. мы стали свидетелями существенных сдвигов в образовательном уровне американцев, хотя в последние годы качество образования, особенно в начальной и средней школе, подвергается серьезной критике.
Эти и другие изменения в социальной структуре США привели к трансформации социальных основ партийной системы страны. В настоящее время среди американских избирателей доля тех, кто не поддерживает ни одну из партий, практически сравнялась с долей лояльных демократов и республиканцев. Рабочие, принадлежащие к традиционным, преимущественно европейским, этническим группам, перестали быть твердой опорой Демократической партии; их голоса делятся сегодня между двумя партиями примерно в равной пропорции. В целом описанные изменения в структуре рабочей силы ассоциируются с более консервативным экономическим курсом и попытками сократить социальные программы и другие расходы. Более образованное и культурно утонченное общество озабочено скорее качеством жизни, красотой и здоровьем окружающей среды и тому подобными вопросами. Рассматривая произошедшее с точки зрения сигналов входа и выхода, можно констатировать, что социоэкономические изменения трансформировали политические требования электората и характер поддерживаемой ими политики.
Таким образом, новая структура общества ведет к иным политическим курсам на выходе, к иным типам и уровням налогообложения, смене моделей регулирования и изменениям в расходах на социальное обеспечение. Преимущество подхода система/окружение заключается в том, что он привлекает наше внимание к взаимозависимости происходящего внутри наций и между ними и обеспечивает нас терминологией для описания, сравнения и объяснения этих взаимодействующих процессов. Если мы хотим правильно судить о политических событиях, мы должны иметь возможность помещать политические системы в их окружение, осознавая, в какой мере оно ограничивает и одновременно открывает пути для политических альтернатив. Такой подход удерживает нас от поспешных и пристрастных политических оценок. Если страна бедна природными ресурсами и не имеет достаточно квалифицированных кадров, чтобы использовать даже те ресурсы, которыми обладает, мы не вправе порицать ее за низкие объемы промышленного производства или за плохие системы образования и социального обслуживания населения. Аналогичным образом, мы не можем осуждать за отказ от проведения социальных реформ страну, если та порабощена и эксплуатируется другой страной, осуществляющей консервативный курс.
Диапазон политических курсов, которым могут следовать политические лидеры и активисты, ограничен системой и ее институтами. Однако в эпоху быстрых перемен, которую переживает современный мир, при изменении целей руководства и политических активистов на смену одному набору политических институтов может незамедлительно прийти другой. Одним из наиболее ярких примеров подобной институциональной трансформации является крушение коммунистических режимов в Восточной Европе и замена их многопартийными системами, как только руководство Советского Союза утратило свою веру в советскую систему и будущее социализма. Потеряв уверенность в легитимности Коммунистической партии СССР, советское руководство не имело иного выбора, кроме как перейти к политике терпимости и примиренчества по отношению к своим бывшим сателлитам.
Понятие взаимозависимости описывает не только такого рода взаимосвязь между политическим курсом и институтами. Различные структурные составляющие политической системы также взаимозависимы. Если правительство основано на избранных народом представителях в законодательных органах, должна быть установлена система выборов. Когда правом голоса обладает значительное число людей, политикам, стремящимся получить государственную власть, приходится мобилизовывать электорат и учреждать политические партии для проведения электоральных компаний. Если органы политической системы, занимающиеся выработкой политических курсов, принимают законы, им требуются администраторы и государственные служащие, чтобы претворять эти законы в жизнь, а также судьи, которые бы определяли, не нарушаются ли эти законы, и устанавливали бы меру наказания для нарушителей.
Структуры и функции
Рисунок 2 размещает внутри политической системы шесть типов политических структур – политические партии, группы интересов, органы законодательной власти, органы исполнительной власти, чиновничество и суды. Такие структуры имеются практически во всех современных политических системах. Кому-то может показаться, что, поняв, как эти структуры действуют в одной политической системе, мы узнаем, как они функционируют в любой другой. К сожалению, это не всегда так и подобная шестичленная классификация не слишком далеко продвигает нас в сопоставлении политических систем. Проблема заключается в том, что в разных политических системах сходные структуры могут выполнять совершенно разные функции. И Великобритания, и Китай обладают, по крайней мере номинально, всеми этими шестью типами институтов, однако эти институты организованы и функционируют там абсолютно по-разному. В Великобритании есть монарх (в настоящее время королева Елизавета II), который выполняет церемониальные функции, в частности открывает парламент и жалует рыцарское звание и другие почетные титулы. В Китае нет специализированного церемониального исполнительного органа. Однако там есть президент, который избирается Всекитайским собранием народных представителей и осуществляет как церемониальные, так и некоторые политические функции. В состав высшего политического руководства Великобритании входят премьер-министр, министры, назначенные в Кабинет, и члены более широкого кабинета, состоящего из руководителей департаментов и управлений. Все эти должностные лица обычно отбираются из депутатов парламента. В Китае существует сходная структура – Государственный Совет, возглавляемый премьер-министром и включающий различных министров и правительственные комиссии. Но если британский премьер-министр и Кабинет наделены значительной властью в области определения политического курса, то Государственный Совет Китая плотно контролируется Генеральным секретарем, Политбюро и Центральным комитетом Коммунистической партии.
Рис. 2. Политическая система и ее структуры
Источник: Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор. С. 80.
Как в одной, так и в другой стране имеются законодательные органы: палата общин – в Великобритании и Всекитайское собрание народных представителей – в Китае. Но если палата общин играет ключевую роль в процессе выработки политического курса, Всекитайское собрание собирается лишь на короткий период для ратификации решений, принятых преимущественно руководством Коммунистической партии.
Еще больше различий существует между политическими партиями двух стран. В Великобритании действует конкурентная партийная система. Большинству в палате общин и Кабинету постоянно противостоит оппозиционная партия (или партии), конкурирующая за общественную поддержку и ожидающая очередных выборов, в ходе которых она может сместить нынешнее парламентское большинство, как, скажем, произошло в 1997 г., когда Лейбористская партия сменила у власти Консервативную партию. В Китае Коммунистическая партия (КПК) контролирует весь политический процесс. Там нет других политических партий. Наиболее важные решения принимаются Политбюро и до некоторой степени – Центральным комитетом Коммунистической партии. Правительственные учреждения осуществляют политику, инициированную или одобренную высшим руководством КПК.
Британские группы интересов являются независимыми организациями, играющими важную роль в политической жизни и экономике страны. Китайские профсоюзы и другие профессиональные организации должны рассматриваться как части официальной государственной машины, действующие под руководством Коммунистической партии, выполняющие мобилизационные, социализационные и вспомогательные функции. Таким образом, сугубо институциональное сравнение британской и китайской политики, не раскрывающее подробно ее функциональные аспекты, мало что даст для понимания существенных различий в политической жизни этих двух стран.
Рисунок 3 показывает пути соотнесения структуры и функций, процесса и политического курса и его исполнения. Под «шапкой» «Функции процесса» на рисунке перечислены различные формы активности, необходимые для выработки и осуществления политического курса в политической системе любого типа: артикуляция интересов, агрегация интересов, выработка политического курса, осуществление политического курса и вынесение судебных решений. Мы называем эти формы активности функциями процесса, поскольку они играют прямую и необходимую роль при формулировании политического курса. Прежде чем такой курс может быть определен, какие-то индивиды и группы в правительстве или обществе должны решить, что они хотят и надеются получить от политики. Политический процесс начинается, когда указанные интересы получают выражение, или артикулируются. Множество стрелок в левой части рисунка отражают эти исходные выражения интересов.
Рис. 3. Политическая система и ее функции
Источник: Алмонд Г, Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор. С. 82.
Однако чтобы стать действенными, такие требования, как, скажем, больший или меньший уровень налогообложения, большие или меньшие пособия в рамках социального обеспечения, способные получить существенную общественную поддержку, должны быть объединены (агрегированы) в политические альтернативы. Поэтому по мере перехода процесса от стадии артикуляции интересов к стадии их агрегации стрелки в левой части рисунка сближаются. Затем происходит обсуждение альтернативных политических курсов. Те, кто контролирует правительство, высказываются в пользу одного из них, и осуществляется властное определение политического курса. Политический курс должен соблюдаться и претворяться в жизнь, если же он оспаривается или нарушается, должен существовать некий процесс вынесения судебных решений по этому поводу. Каждый политический курс может влиять одновременно на разные аспекты жизнедеятельности общества, что отражено в появлении нескольких стрелок на реализационной стадии процесса.
Описываемые здесь функции процесса выполняются такими политическими структурами, как партии, законодательные органы, политические исполнительные органы, чиновничество и суды. Структурно-функциональный подход подчеркивает то обстоятельство, что хотя конкретный политический институт (скажем, законодательный орган) может особым образом соотноситься с конкретной функцией (например, с принятием законов и норм), он не имеет монополии на эту функцию. Так, в реализации законодательной функции могут участвовать президенты и губернаторы (право вето), а также верховные суды (право судебной власти пересматривать и отменять законодательные акты в случае их неконституционности).
Три функции, перечисленные в верхней части рисунка, – социализация, рекрутирование и коммуникация – прямо не связаны с формулированием и осуществлением государственной политики, однако они крайне важны для политической системы. Мы говорим о них как о системных функциях, поскольку они определяют, сохранится ли система, либо изменится (скажем, будет ли процесс выработки политического курса по-прежнему контролироваться одной авторитарной партией или военной хунтой, либо на смену им придут состязательные партии и законодательный орган). Стрелки, расходящиеся от них в направлении всех составляющих политического процесса, говорят о решающей роли, которую играют в нем данные функции, подкрепляя и делая его возможным. В политической социализации задействованы семья, школа, средства массовой информации, церковь и все многообразие политических структур, которые вырабатывают, закрепляют и трансформируют политически значимые установки в обществе. Политическое рекрутирование подразумевает отбор людей для политической деятельности и государственных постов. Политическая коммуникация означает движение информации в обществе и внутри различных структур, образующих политическую систему.
Третья совокупность функций (обозначенная в правой части рисунка) относится к сигналам выхода – к воплощениям политического процесса. Мы называем их функциями политического курса, сущностными воздействиями на общество, экономику и культуру. К ним относятся всевозможные виды регулирования поведения, извлечение ресурсов в форме налогов и т. п. и распределение благ и услуг между различными группами населения. Результаты всей этой политической активности в свою очередь порождают новые сигналы входа, новые требования в области законодательства или административной деятельности и усиливают либо снижают поддержку политической системы и находящихся у власти должностных лиц.
Рассмотренные функциональные понятия описывают формы активности, осуществляемые в любом обществе вне зависимости от того, как организована его политическая система и какого рода политические курсы оно производит. Используя эти функциональные категории, мы можем установить, какие комбинации институтов участвуют в выработке и осуществлении различных видов государственной политики в различных странах.
Раздел V Политические институты
Обращение к политическим институтам – распространенная в политической науке традиция. В начале XX в. под политическими институтами понимались государственные учреждения, партии, бюрократия. Однако уже в середине того же века политологи отказались от понятия «институт», заменив институциональный анализ структурно-функциональным. В определенном смысле понятие института «вернулось» в теорию политики из социологии. Социологи, в отличие от правоведов, трактовали институты не столько как формально-юридические организации, а как устойчивые верования, традиции и нормы, воплощенные в различных социальных организациях. Морис Дюверже определил институт и как организационные структуры, и как модели отношений, формирующие эти структуры. «Модели отношений» – это определенные правила и определенные «рамки». Макс Вебер трактовал институты как рациональные установления, на которые обязан ориентироваться в своем поведении индивид.
Такое понимание института проникло как в экономическую, так и в политическую науку в 1970-1980-е гг. В этот период происходит становление нового направления в политической науке – неоинституционализма. Неоинституционализм трактует институты как «правила игры в обществе или, выражаясь формально, созданные людьми правила, ограничивающие их взаимодействие» (Дуглас Норт). Вольфганг Меркель и Аурель Круассан полагают, что институты – это «относительно долговечные и нормативные образцы социальных связей, которые считаются легитимными и обладают потенциалом для решения проблем и регулирования человеческих отношений». Значение политических институтов заключается в том, что они, обеспечивая стабильность и порядок, снижают трансакционные издержки взаимодействий между политическими акторами.
В предлагаемых в хрестоматии отрывках из работ Г. О'Доннелла и В. Меркеля и А. Круассана содержится характеристика институтов. Значение институтов Г. О'Доннелл видит в том, что они помогают поддерживать взаимодействие между людьми на рациональной основе. Американский политолог обращает внимание на институциональный характер демократии и роль демократических институтов в демократическом процессе. В. Меркель и А. Круассан указывают на отличия формальных и неформальных институтов, причем отмечают, что неформальные институты могут находиться как внутри, так и вне формальных. Специфический вид сочетания этих институтов определяет характер политического процесса и тип политического режима.
Д. Норт. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики[35]
Глава I
Введение в проблему институтов и институциональных изменений
Институты – это «правила игры» в обществе, или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми. Следовательно, они создают структуру побудительных мотивов человеческого взаимодействия – будь то в политике, социальной сфере или экономике. Институциональные изменения определяют то, как общества развиваются во времени, и таким образом являются ключом к пониманию исторических перемен. <...>
Институты уменьшают неопределенность, структурируя повседневную жизнь. Они организуют взаимоотношения между людьми, так что когда мы хотим поздороваться с друзьями на улице, поехать на автомобиле, купить апельсины, занять деньги, организовать свой бизнес, похоронить близких или совершить любые другие действия, мы знаем (или можем легко научиться), как это сделать. Нетрудно заметить различия в институтах, если бы мы попытались совершить подобные же действия с участием других людей в другой стране – например в Бангладеш... Институты определяют и ограничивают набор альтернатив, которые имеются у каждого человека.
Институты включают в себя все формы ограничений, созданных людьми для того, чтобы придать определенную структуру человеческим взаимоотношениям. Являются ли институты формальными или неформальными? Они бывают формальными и неформальными. <...>
Институциональные ограничения включают как запреты индивидам совершать определенные действия, так и, иногда, указания, при каких условиях отдельным индивидам разрешены некоторые действия. Поэтому, как уже было сказано, институты представляют собой рамки, в пределах которых люди взаимодействуют друг с другом. Они абсолютно аналогичны правилам игры в командных спортивных играх. Иными словами, они состоят из формальных писаных правил и обычно неписаных кодексов поведения, которые лежат глубже формальных правил и дополняют их – например, запрещают сознательное нанесение травмы ведущему игроку противника. И как следует из этой аналогии, правила и неформальные кодексы иногда нарушаются, и тогда нарушитель подвергается наказанию. Поэтому важный элемент механизма функционирования институтов состоит в том, что установление факта нарушения не требует специальных усилий и что нарушитель подвергается суровому наказанию.
Продолжая спортивные аналогии, можно сказать, что формальные и неформальные правила наряду со способом и эффективностью обеспечения их соблюдения образуют в совокупности весь характер игры. Некоторые команды добиваются успеха, постоянно нарушая правила и таким образом устрашая противника (и имеют соответствующую репутацию). Насколько результативна такая стратегия, это зависит от эффективности контроля за соблюдением правил, даже если нарушения сулят им успех в игре.
В настоящей работе проводится принципиальное различие между институтами и организациями... С теоретической точки зрения важно четко отделить правила от игроков. Правила призваны определять то, как ведется игра. Но цель команды, которая действует по этим правилам, – выиграть игру, сочетая умение, стратегию и взаимодействие игроков, пользуясь честными приемами, а иногда – и нечестными. Моделирование стратегий и навыков, складывающихся по мере развития команды, – это совсем другой процесс, нежели моделирование создания и развития правил и последствий их применения.
В понятие «организация» входят политические органы и учреждения (политические партии, Сенат, городской совет, контрольное ведомство), экономические структуры (фирмы, профсоюзы, семейные фермы, кооперативы), общественные учреждения (церкви, клубы, спортивные ассоциации) и образовательные учреждения (школы, университеты, центры профессионального обучения). Организация – это группа людей, объединенных стремлением сообща достичь какой-либо цели. Чтобы смоделировать организацию, необходимо проанализировать ее руководящие органы, умения и навыки членов, а также влияние обучения в процессе деятельности на достижение организацией успеха к определенному времени. Институциональные рамки оказывают решающее влияние на то, какие именно организации возникают, и на то, как они развиваются. Но в свою очередь и организации оказывают влияние на процесс изменения институциональных рамок... Организации создаются для достижения определенных целей благодаря тому, что существующий набор ограничений (как институциональных, так и тех, которые традиционно рассматриваются экономической теорией) создает возможности для соответствующей деятельности; поэтому в процессе движения к цели организации выступают главными агентами институциональных изменений.
Главная роль, которую институты играют в обществе, заключается в уменьшении неопределенности путем установления устойчивой (хотя и необязательно эффективной) структуры взаимодействия между людьми. Но устойчивость институтов ни в коей мере не противоречит тому факту, что они претерпевают изменения. Развиваются все институты – начиная от традиционных условностей, кодексов и норм поведения до писанного права, обычного права и контрактов между индивидами. Таким образом, имеющийся в нашем распоряжении набор выборов непрерывно меняется. Изменения на переферии институциональной системы могут быть такими медленными и плавными, что их способны увидеть только историки, хотя в современном мире быстрота институциональных изменений очевидна.
Институциональные изменения – это сложный процесс, потому что предельные изменения могут быть следствием изменений в правилах, неформальных ограничениях, в способах и эффективности принуждения к исполнению правил и ограничений. Более того, процесс институциональных изменений обычно носит инкрементный, а не дискретный характер. Объяснение того, как и почему происходят инкрементные изменения и почему даже дискретные изменения (такие как революции и завоевания) никогда не являются абсолютно дискретными, состоит в укорененности неформальных ограничений в обществе. Хотя формальные правила можно изменить за одну ночь путем принятия политических или юридических решений, неформальные ограничения, воплощенные в обычаях, традициях и кодексах поведения, гораздо менее восприимчивы к сознательным человеческим усилиям. Эти культурные ограничения не только связывают прошлое с настоящим и будущим, но и дают нам ключ к пониманию пути исторического развития. <...>
Институты, наряду со стандартными ограничениями... формируют возможности, которыми располагают члены общества. Организации создаются для того, чтобы использовать эти возможности, и по мере своего развития организации изменяют институты. Результирующее направление институциональных изменений формируется, во-первых, «эффектом блокировки», возникающим вследствие симбиоза (сращивания) институтов и организаций на основе побудительных мотивов, создаваемой этими институтами, и, во-вторых, обратным влиянием изменений в наборе возможностей на восприятие и реакцию со стороны индивидов. <...>
Инкрементные изменения происходят оттого, что руководители политических и экономических организаций приходят к мнению, что они могут добиться большего успеха, если привнесут в действующие институциональные рамки некие предельные изменения.
Г. О'Доннелл. Делегативная демократия[36]
Об институтах
В понятие «институты» входят систематизированные, общеизвестные, практически используемые и признанные (хотя и не всегда формально утвержденные) формы взаимодействия социальных агентов, имеющих установку на поддержание взаимодействий в соответствии с правилами и нормами, которые так или иначе закреплены в этих формах. Иногда – но не всегда – институты становятся официальными организациями: имеют физические признаки, такие как здание, печать, процедуру деятельности, а также лиц, уполномоченных «говорить» от имени организации.
Хотелось бы особо остановиться на демократических институтах. Ввиду расплывчатости этого понятия, я расширю тему, прибегнув к некоторым приближениям. Прежде всего демократические институты являются политическими институтами. Они имеют выраженную прямую связь с основными категориями политики: принятием решений, обязательных для данной территории, каналами доступа к ролям, связанным с принятием решений, и к формированию интересов и субъектов, претендующих на этот доступ. Границы между понятиями политических и иных институтов размыты и изменяются в разные периоды времени и в разных странах.
Необходимо и второе приближение. Определенные политические институты являются официальными организациями, которые принадлежат к конституционной структуре полиархии: к ним относятся конгресс, судебно-правовая система, политические партии. Другие институты, такие как справедливые выборы, получают лишь периодическое организационное оформление, однако они столь же обязательны. Главный вопрос – качество функционирования всех этих институтов: действительно ли они являются важными очагами принятия решений в структуре влияния, власти и политики? И когда они не являются таковыми, какое влияние это оказывает на общий политический процесс?
Другие неотъемлемые факторы демократии в современном обществе, а именно факторы, относящиеся к формированию и представительству коллективных интересов и субъектов, могут быть институционализированными или не быть таковыми; кроме того, их действие может ограничиваться узкими сферами. В представительных демократиях эти варианты имеют высокую степень институционализа-ции и организационного оформления посредством плюрализма и неокорпоративизма.
Функционирующий институциональный уклад имеет следующие характеристики:
Институты как принимают в свои члены, так и отвергают. Институты определяют, каких агентов допускать в качестве полноправных членов в систему принятия и выполнения решений, а также необходимые для этого ресурсы, основания и процедуры. Эти критерии носят строго избирательный характер: они устраивают (и особо выделяют) одних агентов; других агентов они ставят перед необходимостью трансформироваться с тем, чтобы соответствовать этим критериям; наконец, по ряду причин определенные агенты не могут или не хотят им соответствовать. Мощь института – это присущая ему степень принятия или отвода потенциальных агентов.
Институты формируют вероятностное распределение результатов. Как отмечает Адам Прзеворски (Adam Przeworski), институты работают лишь с определенными действующими лицами и ресурсами, и лишь по определенным правилам. Этим и определяется диапазон вероятных результатов и вероятность их получения в данном диапазоне. Так, демократические институты исключают использование или угрозу использования силы и связанные с этим результаты. С другой стороны, по мнению Филиппа Шмиттера (Philippe Schmitter) и Вольфганга Стрика (Wolfgang Streek), разновидность демократических институтов, основанных на всеобщем праве голоса, мало ориентирована на учет интенсивности интересов. Институты представительства интересов более эффективно работают с интенсивностью интересов, хотя и в ущерб всеобщему праву голоса и гражданства, а зачастую и «демократичности» решений.
Институты имеют тенденцию концентрировать сферу действий и организации взаимодействующих с ними агентов и сохранять эту концентрацию. Исходящие от институтов установления оказывают влияние на стратегические решения агентов, определяя степень концентрации, которая наиболее оптимальна для получения ими положительных результатов. Институты, или, точнее говоря, лица с функциями принятия решений в этих институтах, имеют ограниченные возможности обработки и отслеживания информации. В связи с этим такие лица предпочитают взаимодействовать с относительно небольшим числом агентов и проблем в определенный момент времени. Эта тенденция к концентрации служит дополнительным объяснением функции отторжения, характерной для любого института.
Институты формируют способы представительства. По этим же причинам институты стимулируют сокращение многочисленных потенциальных голосов своих избирателей до небольшого числа представителей, которые могут заявить, что выступают от имени институтов. Представительство дает признанное право выступать от имени других, а кроме того, возможность обеспечить подчинение других избирателей решениям представителей. При соблюдении правил игры у институтов и их различных представителей возникает заинтересованность в существовании друг друга как взаимодействующих агентов.
Институты стабилизируют агентов/представителей и их ожидания. Институциональные лидеры и представители рассчитывают на то, что поведение определенной группы лиц, с которыми им предстоит и в дальнейшем взаимодействовать, будет оставаться в относительно узком диапазоне возможностей. Определенные агенты могут быть против подобного сужения рамок ожидаемого от них поведения, но они предвидят возможные нежелательные следствия, которые влечет за собой несоответствие указанным ожиданиям. Именно здесь следует подчеркнуть силу института (возможно, ставшего официальной организацией). Институт находится в состоянии равновесия, в нарушении которого никто не заинтересован, не считая постепенных и в целом согласованных перемен.
Институты расширяют временные горизонты агентов. Стабилизация агентов и ожиданий имеет и временной аспект: предполагается продолжение институционализированных взаимодействий в будущем среди одной и той же группы агентов (или медленное и предсказуемое их видоизменение). Этот фактор наряду с высоким уровнем концентрации представительства и контроля избирателей составляет основу «конкурентной кооперации», характерной для институциональных демократий: возникают возможности преодоления «дилеммы заключенного».
«Дилемма заключенного» состоит в том, что даже при возможности улучшить свое положение путем взаимодействия, для каждого участника оказывается более выгодным отказаться от взаимодействий, невзирая на намерения других. В этом плане институты можно рассматривать как социальное изобретение, направленное на то, чтобы подвести взаимодействие к рациональному выбору.
Перспективы договорных отношений (включая взаимные услуги) и поэтапный подход к проблемам позволяют справиться с комплексом проблем, не разрешимых иными путями. Внедрение этой практики увеличивает готовность всех агентов признать друг друга равноправными собеседниками и повышает в их глазах ценность института, формирующего их связи. Этот непорочный круг завершается, когда большинство демократических институтов достигает достаточного размера и силы, а также большой плотности многочисленных и стабильных взаимодействий. Это выдвигает институты на роль важных мест принятия решений в общем политическом процессе, и таким образом возникает крепкая институционализированная демократия.
Таким образом, в деятельности современного сложного общества демократические политические институты обеспечивают важнейший уровень взаимодействия и концентрации, с одной стороны, структурных факторов, с другой – не только индивидуумов, но и различных групп; общество же организует свои многочисленные интересы и субъекты на этом уровне. Этот промежуточный, т. е. институциональный, уровень оказывает большое влияние на особенности организации общества, наделяя представительством одних участников политического процесса и отторгая других. Безусловно, за институционализацию платится большая цена – это не только отчуждение, но и повторяющийся кошмар бюрократизации и скуки. Однако иная альтернатива погружает общественно-политическую жизнь в колоссально тяжкую «дилемму заключенного».
Разумеется, это идеализированная типовая схема, но мне представляется полезным проанализировать в сопоставительном аспекте особенности ситуации, связанной с малочисленностью демократических институтов. Неинституционализированная демократия характеризуется редкостью и слабостью имеющихся институтов. Место, не занятое активно функционирующими институтами, занимают активно действующие силы – клановость и коррупция.
В. Меркель,[37] А. Круасан Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях
Формальные и неформальные институты
...Под институционализацией мы понимаем процесс образования специфического набора социальных норм и правил, задающих контекст человеческого сосуществования и взаимодействия. Совокупность таких правил эффективно связывает поведение акторов, гарантирует соответствие реальности ожиданиям и одновременно развивает «силу действия» (Lepsius, 1990). В данной перспективе принятие конституции и политически управляемые процессы формирования институтов (политическая инженерия, или целенаправленное институциональное строительство) создают только одну модель политической институционализации. В ее рамках возникают формальные структуры политических систем третьей волны демократизации.
Другая модель – установление и институционализация неформальных практик и правил политической игры. В дефектных демократиях подобная модель не просто дополняет формально легитимированный процесс институционализации. Она может даже – в зависимости от характера неформальных институтов – противоречить формальной институционализации. Мы утверждаем, что причиной повреждения либерально-конституциональных, легитимных и легально установленных норм часто является вытеснение формальных институтов неформальными правилами. Такая «деформализация» политических процедур и правил принятия решений возникает прежде всего вследствие сочетания двух факторов, уходящих корнями в додемократическое прошлое: а) авторитарного наследия неформальных практик и б) аккумуляции экономических и политических проблем поставторитарной системы, перенесенных из авторитарной фазы. Оба этих фактора создают благоприятные условия для нелиберальной трансформации либерально-демократических институтов, которая осуществляется, как правило, неформальным образом и ведет к преобладанию неформальных практик. Они существуют параллельно и усиливают друг друга.
Авторитарное наследие неформальных практик
Неформальные политические сети, которые не увеличивают, а уменьшают действенность формальных демократических институтов в дефектных демократиях, нередко бывают результатом эволюции институтов автократического режима. Для целого ряда таких режимов Восточной Азии (Южная Корея, Тайвань, Китай) (Cheng, Womack, 1996; Kim, 1997; Heilmann, 1998) и Восточной Европы (Россия, Венгрия) (von Beyme, 1994; Kurtan, 1998; Stykow, 1998) характерны плотное сплетение клиентелистских и персоналистских сетей, неформальные «режимы давления» (Brie, Stykow, 1995) и лоббирование внутри государственного аппарата. Подобные неформальные механизмы в какой-то мере играли роль «функциональных эквивалентов». Они, по крайней мере отчасти, обеспечивали эффективные формы коммуникации, опосредования интересов и реализации решений. Они компенсировали, соответственно, неэффективность формальных структур и институтов авторитарных режимов. Функциональная слабость формальных институтов создавала благоприятные условия для развития неформальных институтов.
В связи с этим в молодых демократиях растет конфликтный потенциал между старыми (передающимися из поколения в поколение) и новыми институтами. Как следствие подобной проблемы институциональной адаптации (Sreit, Mummert, 1996) повышаются затраты на установление институтов либерально-демократического правового государства. Такие институты частично разрушаются сразу же после их введения. Институциональные реформы во многом не срабатывают, поскольку политические акторы «не принимают их как реформы правил, а выбирают альтернативные типы координации взаимодействия между государственными и негосударственными партнерами (в том числе между собой)» (Brie, Stykow, 1995).
Таким образом, политические и экономические акторы в новых демократиях вместо соблюдения формальных правил нередко предпочитают следовать известным неформальным нормам и практикам. Функционированию молодых институтов мешает «длинная рука прошлого» (Offe, 1995). Чем быстрее старым политическим и экономическим элитам удается закрепиться на значимых позициях в новой политической и экономической жизни и организовать в ней мощные группы интересов, тем вероятнее подобный сценарий (Kaufman, 1997).
Неформальные институты как результат рациональных действий
...Неформальные институты, отвечающие доминирующим нелиберальным тенденциям молодых демократий, становятся не прямым следствием автократического наследия, а скорее итогом рациональных стратегий акторов. Речь идет о таких практиках, как персонализм, клиентелизм, всеобъемлющая коррупция или картели акторов, возникающие вне конституционных рамок. Это происходит прежде всего тогда, когда недавно возникшие демократии оказываются в экономическом, политическом и/или социальном кризисе и акторы вынуждены действовать в условиях высокой экономической и политической неопределенности. В ситуации неопределенности неформальные правила позволяют акторам снизить издержки непрогнозируемых акций. Для подобных ситуаций характерны, в частности, отсутствие у бюрократии технологий эффективного осуществления, толкования и санкционирования новых (установленных законом) правил, неспособность политических партий создавать стабильное большинство, неготовность парламентов, правительств и администраций действовать при рутинизации механизмов принятия решений, коррумпированность или беспомощность правовой системы. Когда неясно, насколько результативны новые демократические и конституционно-правовые институты, стимулы для создания неформальных правил оказываются особенно сильными, а затраты на действия, разрушающие нормы правового и конституционного государства, – особенно низкими.
Подобные правила могут установиться как вне рамок формальных институтов («параллельные институты»), так и внутри них. Неформальные действия в рамках формальных демократических институтов позволяют акторам комбинировать выгоды от неформального устройства (исключение внешних акторов, гарантированность ожиданий и высокая гибкость при принятии решений) с выгодами формальных демократических институтов (демократическая легитимность) (Brie, 1996; 1997). В конечном итоге напряжение между формальными институтами и неформальными правилами может достичь такого уровня, что возникнут иные формальные правила, более соответствующие уже существующим неформальным практикам и отвечающие потребностям и интересам значимых акторов...
Чтобы пояснить наш аргумент, определим используемое нами понятие институтов. Мы придерживаемся широкой институциональной концепции, которая вбирает в себя различные течения неоинституционализма (в основном Riker, 1980; Williamson, 1985; North, 1992). Институты представляют собой относительно долговечные и нормативные образцы социальных связей, которые считаются легитимными и обладают потенциалом для решения проблем и регулирования человеческих отношений: «Институты – это правила игры в обществе или, выражаясь формально, созданные людьми правила, ограничивающие их взаимодействие» (North, 1992). В качестве политических институтов можно рассматривать любые регулятивные эталоны, которые служат «становлению и осуществлению связанных и распространяющихся на все общество решений» (Goehler, 1994). Институты могут быть закреплены законом, т. е. быть правилами, установленными в результате государственной монополии на применение силы, иначе говоря – формальными институтами. В этом случае для их быстрого изменения требуется политическое или судебное решение (North, 1992). Однако политические институты возникают не только через политические, административные или судебные решения. Они могут возникать и эволюционно, на основе регулярных взаимодействий между индивидуальными, коллективными или корпоративными акторами без обязательного формального правового предписания («неформальные институты»). Тем самым общества, преднамеренно или нечаянно, воспроизводят существующую институциональную модель. В любом случае институты служат для установления стабильного порядка, где они снизят неопределенность взаимодействия между людьми, сделав политические и социальные трансакционные издержки поддающимися учету и минимизации (North, 1992; Richter, Furubotn, 1996).
Итак, формальные и неформальные правила можно определить и разграничить следующим образом. Формальные институты – это конституции, уставы, законы и административные нормы. Они детерминируют формальные структуры политической системы и механизмы легитимной власти. Государственные институты гарантируют соблюдение формальных правил средствами убеждения (в идеале) или же угроз и санкций. К неформальным институтам относятся традиции, обычаи, моральные ценности, религиозные убеждения, сети и другие нормы общения долгосрочного характера. Если формальные правила возникают, изменяются и внедряются путем насаждения извне, неформальные вырастают на основе самоорганизующейся динамики социального взаимодействия (см. Pejovich, 1998; Brie, 1998). В случае формальных институтов установлением и внедрением правил, а также преследованием за их нарушение, занимается государство. Неформальные институты, напротив, генерируются социально. Неодинаковы и их притязания на значимость. Формальные институты претендуют на общую значимость, неформальные – лишь на партикулярную (North, 1992; Brie, 1996). Формальные процессы принятия решений протекают в бюрократизированных инстанциях и в соответствии с установленными процедурами. Неформальные – перемещаются из этих инстанций в параллельные структуры и осуществляются в виде «системы переговоров» участвующих акторов (Mayntz, 1998).
Неформальные правила политической игры существуют внутри и вне формальных институтов, устанавливающих границы для принятия обязательных решений. Общность неформальных кодексов и формальных (письменно кодифицированных) правил игры образует рамки политического взаимодействия. Эти рамки, как правило, известны его акторам и поэтому, по крайней мере временно, принимаются ими...
В либеральных конституционно-правовых демократиях обе формы институтов дополняют друг друга в том смысле, что формальные институты опираются на дополнительную поддержку институтов неформальных (Brie, 1996). Это придает формальным институтам демократии гибкость и эластичность, которые позволяют им приспосабливаться к требованиям общества и политического процесса (Schulze-Fielitz, 1998). Такая деформализация процесса переговоров и трактовки правил не нарушает либерального конституционно-правового содержания демократии до тех пор, пока «только компетентные и легитимированные конституционно-правовым образом органы принимают окончательные решения» (Schulze-Fielitz, 1998). Неформальные механизмы здесь «подпитывают» демократические институты, подкрепляя формализованные политические процедуры и реагируя на социальные изменения.
В дефектных демократиях неформальные правила и образцы подрывают и ограничивают порядок функционирования формальных, демократически легитимированных институтов. Они нарушают функциональные коды формальных институтов, искажают или вытесняют их как значимые процедуры и практики принятия решений. Неформальные институты внедряются в оболочку формальных институтов и заполняют ее согласно своей функциональной логике. На уровне принятия решений демократия тогда функционирует в соответствии с нелегитимированными неформальными институтами и правилами, которые находятся в противоречии с принципами демократического правового государства. Подобное замещение формальных и демократически легитимированных институтов неформальными правилами действий может осуществляться как сверху, так и снизу. Оно происходит сверху, когда избранная демократическим путем исполнительная власть расширяет свои прерогативы за счет конституционных сдержек и противовесов. Когда же слабое гражданское общество со слабо аккумулированным «социальным капиталом» (Putnam, 1993), но высоким потенциалом насилия, взаимным недоверием и широким распространением коррупции и традиций клиентелизма пренебрегает институциональными правилами, лишает институты их влияния или «колонизирует» их в частных интересах, данный процесс идет снизу.
Это разделение не только аналитическое. Вместе с тем на практике неформальные ограничения «сверху» зачастую смешиваются с теми, что появляются «снизу», и наоборот. Результатом такого смешения могут стать дефектные демократии, в которых сегменты политических элит сосуществуют с сегментами общества посредством неформальных, но стабильных символическо-клиентелистских связей. Конституционно предписанные механизмы представительства оказываются выхолощенными и частично либо временно утрачивают силу. В этом случае деформализация принятия политических решений лишает демос его суверенитета, гарантированного представительством.
Раздел VI Государство как политический институт
Государство – важнейший из политических институтов. В современной политической науке ученые обращают внимание как на различные способы распределения компетенции между центральными и региональными органами власти, которые порождают разные административно-территориальные способы организации государственной власти (формы государственного устройства), так и на различные способы формирования центральных органов власти и распределения полномочий между ними, что приводит к возникновению различных форм правления.
В представляемом разделе нашего издания мы приводим фрагмент работы Д. Дж. Элейзера – директора Центра по изучению федерализма Темплского университета и президента-основателя Международной ассоциации центров по исследованию федерализма. Американский политолог считается авторитетнейшим специалистом в области исследования федерализма. Предлагаемая вниманию читателя работа интересна прежде всего детальным анализом принципов федеративного государственного устройства и моделей федерализма. Интерес представляет и анализ угроз и вызовов федерализму, среди которых Элейзер называет как политические силы, выступающие с унитаристских позиций, так и силы, ориентированные на фрагментизацию государства.
В сборник вошли отрывки из работ Мэттью С. Шугарта и Джона М. Кэрри, Фреда Риггса, Хуана Дж. Линца, посвященные анализу различных форм правления. Точки зрения известных политологов отражают ту дискуссию, которая развернулась в политической науке по вопросу критериев, достоинств и недостатков президентской, парламентской и полупрезидентской республик. В работах X. Линца, М. Шугарта и Дж. Кэрри непосредственно отмечаются институциональные недостатки президентской формы правления. Методология их анализа позволяет обнаружить плюсы и минусы других форм правления. Достоинством данных работ является то, что они не просто фиксируют те или иные факты, но позволяют прогнозировать политические последствия конституционного строительства, особенно в странах, идущих по пути демократизации.
Д. Дж. Элейзер. Сравнительный федерализм[38]
Долгие годы федерализм считался объектом, не заслуживающим внимания политологов, разве что в качестве системы взаимоотношений между правительствами различных уровней в особых – федеративных – образованиях, в первую очередь в Соединенных Штатах. Однако в последнее время он превратился в важнейшую проблему мировой политики и, соответственно, политической науки. Понятие «федерализм» имеет два значения. В узком смысле оно обозначает взаимоотношения между различными правительственными уровнями, в более широком – сочетание самоуправления и долевого правления через конституционное соучастие во власти на основе децентрализации.
Типология федерализма
Становится все более очевидным, что сам федерализм, если использовать взятую из биологии аналогию, является родовым понятием и включает в себя несколько подвидов. Первый из них (именно его, как правило, имеют сегодня в виду, когда говорят о федерализме) – федерация (federation) – представляет собой форму организации государственной власти, главные принципы которой были сформулированы отцами-основателями Соединенных Штатов в Конституции 1787 г. Федерация предполагает учреждение единого центрального правительства, в пределах охвата которого формируется поли-тия, а составляющие ее единицы получают право, с одной стороны, на самоуправление, с другой – на соучастие в общем конституционном управлении образованием в целом. Полномочия центрального правительства делегируются ему населением всех составляющих политик» единиц. Оно имеет прямой выход на граждан страны и верховную власть в сферах, отнесенных к его компетенции. Для роспуска федерации требуется согласие всех или большинства входящих в нее единиц. К классическим современным федерациям можно отнести США, Швейцарию и Канаду.
Второй подвид – конфедерация (confederation) – был общепризнанной формой федерализма до 1787 г. При конфедеративном устройстве объединившиеся единицы образуют союз, но в значительной степени сохраняют свои суверенитет и законодательные полномочия. Они устанавливают и поддерживают постоянный контроль над центральным правительством, которое может достичь уровня простых граждан, только действуя через эти единицы. Для выхода из состава конфедерации каких-то ее членов не требуется согласия остальных – подобное право фиксируется при заключении изначального конституционного соглашения. Классические образцы конфедерации – Ахейский союз[39] и Республика Соединенных провинций.[40] Лучшим примером современной конфедерации может служить Европейский Союз.
Третий подвид – федератизм (federacy) – асимметричные взаимоотношения между федерированным государством и более крупной федеративной державой. В этом случае основой поддержания союза является сохранение федерированным государством широкой внутренней автономии при отказе от некоторых форм участия в управлении федеративным образованием. В Соединенных Штатах подобное устройство называется «содружеством» (commonwealt). Именно таким образом построены взаимоотношения этой страны с Пуэрто-Рико и Гуамом.
Четвертый подвид – ассоциированная государственность (associated statehood) – сходен с описанным выше в той же степени, в какой конфедерация сходна с федерацией. И в том и в другом случае отношения асимметричны, но при ассоциированной государственности федерированное государство в меньшей степени связано с федеративной державой, и в конституции, оформляющей взаимоотношения сторон, как правило, предусмотрена возможность разрыва существующих между ними уз при каких-то специально оговоренных условиях. Подобного рода взаимоотношения установлены между Соединенными Штатами, с одной стороны, и Федерированными Штатами Микронезии и Маршалловыми островами – с другой.
Помимо уже названных существуют и другие – квазифедеративные – формы, в том числе:
1) унии (например, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
2) лиги (например, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии);
3) кондоминиумы (например, Андорра под совместным протекторатом Франции и Урхельского епископа (Испания);
4) конституциональная регионализация (например, Италия);
5) конституциональное самоуправление (например, Япония).
Каждая из данных форм или конкретных их вариаций предлагает свое собственное решение неких специфических проблем управления, встающих в этом мире, но все они призваны найти пути, позволяющие обеспечить сочетание единого управления политией в целом с достаточным уровнем самоуправления ее частей и/или добиться создания системы соучастия во власти с тем, чтобы способствовать демократическому самоуправлению всего государства либо его составляющих. В XX столетии (начало этому процессу было положено Октябрьской революцией в России) некоторые тоталитарные режимы, стремясь укрепить свою власть, воспользовались тем, что они называли федерализмом, предоставив минимально необходимый уровень культурной автономии проживающим на их территории этническим группам. В последующие годы между исследователями федерализма развернулись дискуссии о том, есть ли действительные основания рассматривать подобные формы в рамках тоталитарных систем в качестве федеративных. Часть ученых утверждала, что поскольку по самой своей сути федерализм – это средство укрепления демократического республиканизма, предполагающего разделение властей, тоталитарные системы, неотъемлемой чертой которых является неприятие разделения властей в какой бы то ни было форме, не могут быть подлинно федеративными. Другие, не отрицая справедливости подобных утверждений, доказывали, что воздействие федерализма, даже если тот был задуман в качестве ширмы, придает определенного рода институционально-конституционную силу местным этническо-территориальным интересам, позволяя им сохраняться хотя бы в ограниченном виде. Как показало дальнейшее развитие событий, правы были и те и другие.
Стоило пасть тоталитарным режимам, СССР, Чехословакия и даже Югославия, где режим был относительно мягким, раскололись, и по меньшей мере в двух случаях из трех этот раскол повлек за собой кровопролитие. В то же самое время формирование на территории распавшихся образований новых государств происходило в рамках установленных ранее федеральных границ и преподносилось как обретение каждой из входивших в состав федерации этнических единиц суверенитета и независимости. Несомненно также, что для установления и/или поддержания мира – по крайней мере в двух случаях из трех названных – потребуются какие-то альтернативные федералистские решения.
Из всего вышесказанного следует, что в своей основе федерализм – это вопрос взаимоотношений. Он воплощается в конституциях и институтах, структурах и функциях, но в конечном счете имеют значение именно взаимоотношения.
Сравнительный анализ федерализма
...Хорошо известно, что не бывает абсолютно одинаковых федеративных систем; в каждой из них достигнуто свое соотношение соучастия во власти и ее разделения. Так, в отличие от германоязычных стран, где широта полномочий центральных правительств обычно уравновешивается передачей институтам федерированных единиц функций управления непосредственной реализацией этих полномочий, в англоязычных федеративных системах важнейшие конституционные функции, как правило, осуществляются раздельными для каждого уровня управления институтами. Это одна из причин, почему институты, механизмы и процедуры одной федеративной системы так трудно пересадить в другую, предварительно не внеся в них существенные изменения, которые позволили бы приспособить их к иным условиям.
Весьма разнятся между собой и типы общего баланса или искомого соотношения соучастия во власти и ее разделения, присущие федерациям и конфедерациям, симметричным и асимметричным федеративным образованиям, а также иным формам федеративного устройства. Другими словами, сильный Европейский Союз – это не Соединенные Штаты Европы. В первом случае мы имеем дело с конфедерацией, во втором – речь шла бы о федерации, т. е. о совсем ином типе федеративного устройства. Более того, в свете европейской политической культуры Соединенные Штаты Европы были бы гораздо более бюрократизированным и ориентированным на исполнительную власть государством, чем Соединенные Штаты Америки. Этот факт должен сыграть свою роль при решении вопроса о том, преобразовывать ли ЕС в федерацию или нет.
Что мы уже знаем о федерализме
Что же удалось узнать в ходе проведения международных сравнительных исследований федерализма? Набор общепризнанных на сегодня положений в этой области можно свести примерно к следующему.
1. Жизненно важным для идеи федерализма является наличие гражданского общества. Подтверждением может служить тот факт, что современный федерализм не проявлялся до тех пор, пока идея гражданского общества не стала основополагающей для политической жизни Запада. Под гражданским обществом в данном случае понимается политическое и общественное устройство, при котором государство обрамляет общество, но одно коренным образом отделено от другого. Область общественного ограничивает сферу распространения государства, и при этом имеется достаточное поле, где главенствует частная жизнь, легитимная по своему собственному праву и огражденная от необоснованного вмешательства государства. Следствием всего вышесказанного является ограниченное государство, где граждане могут сами добиваться для себя счастья, как они его понимают. У правительства имеется достаточно власти для регулирования тех сфер общественной жизни, в которых может потребоваться принудительное вмешательство, но еще большая часть общественной жизни организуется индивидами, добровольно объединяющимися для сотрудничества в достижении общих целей. Гражданское общество состоит из индивидов и их ассоциаций; федеративное гражданское общество предполагает наличие широкого спектра таких ассоциаций, обслуживающих многообразие полей большей или меньшей протяженности, на которые делится гражданское общество. Наиболее развитые федеративные гражданские общества отвергают идею материализованного государства. Государство рассматривается как наиболее всеохватывающая ассоциация, но не более того.
2. В политической теории англоязычных стран, и в первую очередь в американской теории федерализма, отсутствует понятие государства как такового. Политически полновластный народ (как правило, о нем говорят как о политически полновластном волей Божьей) заключает договор о формировании политического сообщества (body politic) или государства (commonwealth) и посредством этого или дополнительного договора учреждает всевозможные правительства и передает им столько власти, сколько считает нужным. Ни одно правительство не является полностью суверенным, оно обладает только теми полномочиями, которые делегированы ему суверенным народом, и потому возможно одновременное существование – рядом друг с другом – нескольких правительств сразу. Их компетенции могут частично совпадать, либо для каждого из них может быть выделен собственный сегмент властных полномочий в рамках общего целого, очерченных правительствами с наиболее широким полем охвата. Но в любом случае их взаимоотношения должны быть организованы на основе надлежащих принципов и соответствующей практики межправительственных отношений.
Федеративные системы континентальной Европы и стран, находящихся под влиянием континентально-европейской политической мысли, строятся на несколько иных постулатах. Предполагается, что политически полновластный народ путем договора создает свое гражданское общество, а также учреждает государство, которое призвано служить этому народу и его гражданскому обществу. Континентально-европейское «государство» более отделимо по своей структуре от гражданского общества, нежели описанная выше всеобъемлющая политическая ассоциация, и более централизовано, чем простая совокупность правительств. Тем не менее его предназначение также заключается в том, чтобы быть орудием в руках учредившего его суверенного народа и подчиняться ему.
И в одном, и в другом случае результатом должна быть полития, организованная в виде своеобразной матрицы, включающей в себя правительства с большим или меньшим полем охвата, где федеральное правительство служит формообразующей структурой, обрамляющей наиболее широкое поле – гражданское общество, а правительства федерированных единиц в очерченных таким образом границах обрамляют свои соответствующие сегменты и обслуживают их. Такого рода матрица заметно контрастирует с иерархической моделью властной пирамиды, при которой государство стоит над правительствами среднего и низшего уровня (для обозначения последних чаще всего употребляется понятие «власти», тогда как термин «правительство» используется исключительно по отношению к государству как носителю суверенной власти в гражданском обществе) и над народом, фактически составляющим основание пирамиды. Принципиально отличается она и от олигархической модели, при которой существует единый центр власти, окруженный периферией, в большей или меньшей степени связанной с этим центром и оказывающей на него большее или меньшее воздействие.
И иерархическая, и олигархическая модели являются «нормальными» в том смысле, что при естественном течении событий власть самоорганизуется в виде пирамиды или вокруг единого центра и элиты стремятся занять свое место либо на вершине такой пирамиды, либо во властных центрах. Федерализм можно рассматривать как конституциональное средство вмешательства в естественный ход вещей с целью предотвратить подобную иерархизацию и централизацию. Структурная децентрализация, утвержденная посредством внедрения федералистских принципов и осуществления соответствующих мероприятий, использует силу институтов, сознательно учрежденных именно для того, чтобы предотвратить или, по крайней мере, значительно ослабить воздействие «железного закона олигархии». Выявление и анализ возможных форм структурной децентрализации с точки зрения того, что возможно провести в жизнь и что в действительности уже существует, относятся к числу важнейших задач, стоящих при исследовании федерализма.
Один из возможных путей определения типа структурной децентрализации (федерация или конфедерация) – выяснение соотношения властной нагрузки различных единиц внутри матрицы. При федеративном устройстве правительство с самым широким полем охвата является также наиболее всеобъемлющим и потенциально наиболее сильным, контролирующим выполнение тех жизненно важных задач, которые придают политии ее форму, тогда как при конфедерации основные составляющие ее единицы несут главную властную нагрузку и являются, с точки зрения решения жизненно важных задач, наиболее сильными. По своему внутреннему строению входящие в состав конфедерации единицы могут даже напоминать иерархическую или центр-периферийную модели, а предполагаемое федеративной матрицей относительное равенство может быть сведено к области отношений между институтами с наиболее широкой сферой охвата, т. е. к взаимоотношениям между локальными полями в рамках общей матрицы. Однако если нет самой такой матрицы, говорить о федерализме полностью бессмысленно.
3. По существу, в основе федеративной матрицы лежит территориальный принцип. Федерализм может быть расширен или усилен путем официального признания консоциативных институтов или других форм нетерриториального соучастия во власти, все они должны найти надлежащую территориальную основу. В нынешние времена федерализм, строящийся на какой-то иной основе, оказывается весьма недолговечным (в отличие от досовременного племенного федерализма). Причина, вероятно, заключается в том, что добиться установления устойчивого конституционального порядка возможно для территорий и населяющих их народов, но не на внетерриториальной основе, поскольку в этом случае крайне трудно очертить границы, без которых невозможно внутреннее разделение власти и долевое участие в ее отправлении.
4. Чтобы федеративная система могла успешно функционировать, вся территория данной политии должна быть федерализирована. В политиях, где каким-то территориям, населенным конкретными меньшинствами, предоставлена автономия (даже если она реальна), a контроль над другими полностью остается в руках центрального правительства, происходит периферизация получивших особые полномочия регионов. Там, где центральное правительство должно осуществлять как центральную, так и местную власть, оно в состоянии не только запугать федерированные регионы, но и задавить их. В любом случае подобная ситуация скорее всего закончится конфликтом, тем более что такие формы выборочной автономизации, как правило, используются для сглаживания этнических противоречий, вне зависимости от всего другого крайне опасных для федерализма.
Составные части, на которые делится территория политического сообщества, не обязательно должны быть полностью равными: они могут весьма сильно различаться между собой при том, однако, условии, что ни одна из этих частей не будет столь обширной или доминирующей, чтобы это угрожало (или создавало впечатление, что угрожает) единству или полномочиям остальных. Во времена второго рейха Пруссия просто-напросто подавляла все другие государства, входившие в состав германской федерации, подавляла до такой степени, что прусские институты даже выполняли функции общегерманских. В свою очередь Соединенные Штаты, в состав которых входят и столь громадные штаты, как Калифорния и Нью-Йорк, и столь маленькие, как Род-Айленд (и весь набор промежуточных вариантов), от существующих неравенства и многообразия, возможно, даже выигрывают, поскольку, когда начинают действовать факторы, связанные с географическим положением и политической культурой, подобные неравенство и многообразие выступают в качестве стабилизирующих элементов.
Аналогичные территориальные деления могут существовать в рамках так называемого форалистического устройства (от испанского fuero[41] ), т. е. двусторонних соглашений между центральным правительством и конкретными составными единицами. Так, с принятием Конституции 1978 г. в современной Испании были заложены основы федеративной системы. Согласно новой конституции вся Испания делилась на автономные региональные сообщества. Одновременно предусматривалось, что Страна Басков и Каталония, а любая другая региональная общность, которая того пожелает (в конечном итоге ими оказались Галисия и Андалусия), могут в индивидуальном порядке вести переговоры с Мадридом относительно устройства своих управленческих механизмов и объема передаваемой региональным правительствам власти. Большинство других регионов страны предпочло удовольствоваться тем базовым разделением власти, которое устанавливалось конституцией и введенными в соответствии с ней законами. Во всех случаях, однако, каждая входящая в состав страны территориальная единица должна была иметь собственное региональное правительство, обладающее переданным ему и гарантированным конституцией определенным минимумом реальных властных полномочий.
5. Все эти элементы структурной композиции и строения институтов, возводимые с целью обеспечить создание относительно сложной системы разделения власти и полномочий и соучастия в их отправлении, будут эффективными лишь в том случае, если они обслуживают население с соответствующей или по крайней мере близкой политической культурой. Тот факт, что имеется особая федералистская политическая культура, к настоящему времени признается уже всеми специалистами в области сравнительного федерализма, хотя вопрос о ее составляющих до сих пор не до конца выяснен. Очевидно, что наиболее эффективными являются те федеративные системы, которые подкрепляются соответствующими политическими культурами. Наиболее федералистской является, наверное, политическая культура Швейцарии, но элементы, подкрепляющие федеративное устройство, обнаруживаются в политических культурах и других «классических» федераций.
Если политическая культура не соответствует полностью федеративному устройству, то она должна быть по меньшей мере достаточно близкой, способной принять федеративные композиционно-институциональные механизмы и отношения и сделать их дееспособными. Прийти к какой-то форме федеративного устройства можно и в том случае, если политическая культура нейтральна или если в рамках потенциального федеративного образования имеется несколько политических культур, уравновешивающих друг друга. Но если политическая культура враждебна по отношению к федерализму, возможности существования федеративной системы в какой бы то ни было форме резко сокращаются.
6. Жизненно важным в этом отношении является стремление к федерализации. В идеале такое стремление порождается самой политической культурой. Однако иногда оно может развиться независимо от политической культуры, в результате определенного стечения обстоятельств. Разумеется, в первом случае возможность успешного проведения в жизнь принципов федерализма значительно усиливается, но и при втором варианте развития стремление к федерализации может послужить противовесом неблагоприятному политико-культурному окружению.
7. Чтобы быть дееспособными, любые федеративные системы и их механизмы должны возводиться обеспечивающим широкое общественное согласие образом. Обычно федеративные системы возникают тогда, когда имеется согласие народов ряда политий на создание общих структурообразующих институтов, как правило, на основе «комплексной сделки» путем взаимных уступок, именуемой «конституцией». Раз возникнув, большинство федеративных систем могут, используя какие-то специально установленные конституционные процедуры, включать в свой состав новые единицы. Правда, в конфедерациях «старого образца», образованных из ранее независимых политий, набор входящих в систему членов чаще всего определялся изначально; случаи, когда в уже готовое объединение входили новые члены, были крайне редкими. Однако другие федеративные образования, и особенно конфедерации «нового типа», создаются на основе скорее сети соглашений, чем единовременного акта объединения. Так, в частности, создавались Европейский Союз и Вест-Индийская Федерация. Аналогичным образом в средние века и на заре нового времени строилась Швейцария, в XIX в. сменившая – путем заключения новой конституционной «сделки» – свое конфедеративное устройство на основе сети соглашений на федеративное. Движется ли Европейский Союз в том же направлении или нет, сказать пока трудно, однако если его цель – сохранение конфедеративного (или равноценного конфедеративному) устройства, его сегодняшняя политика использования сети соглашений представляется вполне удачной.
8. Чтобы успешно функционировать, федеративная система должна найти надлежащий баланс между сотрудничеством центрального правительства и федерированных единиц и конкуренцией между ними. Это предполагает соответствующее сочетание раздельных структур с отношениями функционального сотрудничества, культуру взаимопризнания законов в административной и судебной практике, а также открытость процесса взаимоторговли. Пользуясь принятой в Америке терминологией, можно сказать, что требуется определенная доля как двухуровневого федерализма, так и федерализма сотрудничества, позволяющего правительствам объединенными усилиями добиваться достижения общих целей. В то же самое время, если каждое правительство не будет сохранять за собой право на принятие решений и свободу сказать «нет», данное «сотрудничество» окажется лишь прикрытием насилия со стороны центральной власти. Мы не раз могли наблюдать подобное развитие событий. Установление иерархической юридическо-административной системы в Австрии; аккумуляция центральным правительством громадных полномочий в сфере налогообложения в ущерб правам штатов и манипулирование этими полномочиями через Дотационную комиссию в Австралии; широкое использование президентского правления в Индии – вот лишь три из огромного множества примеров, которые здесь можно было бы привести.
9. При обсуждении федеративных образований в центре внимания нередко оказываются различия между системами, основанными на разделении властей, и парламентскими системами, особенно вест-минстерского образца. В системах, основанных на разделении властей, огромную роль играют конституционные суды и межправительственное административное сотрудничество, тогда как в парламентских системах отчетливо заявила о себе тенденция к превращению коллегиальных органов, образуемых первыми министрами, министрами юстиции или какими-то другими должностными лицами, в неформальный, но важнейший механизм принятия решений. Хотя оба типа механизмов используются как при одной, так и при другой форме организации власти, в XX столетии исполнительная власть обрела более полный контроль над законодательной именно в рамках парламентской системы, где она, используя свое парламентское большинство, вне сомнения, в состоянии выступать от имени последней; и потому при такой системе коллегиальные органы на деле способны говорить за свои политии. Воспрепятствовать этому может лишь сопротивление, идущее из внепарламентских источников (так фактически и произошло при решении конституционных вопросов в Канаде). При системе, основанной на разделении властей, исполнительная власть не может обязать законодательную выполнять свои указания, поэтому такие системы менее пригодны для использования коллегиальных органов, разве что для принятия технических решений. В то же время конституционные суды подобных систем будут склонны поддерживать структурообразующие институты, если, конечно, в состав самих этих судов не будут введены представители федерированных единиц.
Системы, строящиеся на разделении властей, в большей степени, чем парламентские, опираются на обстоятельные писаные конституции, которые принимаются на основе всеобщего согласия и в которых оговорены конституционные проблемы (хотя парламентские системы эволюционируют в том же направлении). Конституционные документы федеративных образований англоязычных стран, как правило, бывают достаточно гибкими, в то время как в германоязычных федеративных образованиях подобные документы сформулированы более четко и менее поддаются неформальной модификации через интерпретацию. Они гораздо длиннее, чем конституции англоязычных стран, и в них чаще вносятся формальные изменения.
Проводившиеся в последние годы исследования позволяют нам также лучше понять существо противостоящих федерализму сил. Одни из них выступают с унитаристских позиций, другие стремятся к фрагментаризации. К первой категории относятся силы, исповедующие якобинский, тоталитарный и технократический подходы. Эгалитаризм якобинцев принимает столь радикальные формы, что любого рода отклонения от единого образца становятся фактически неприемлемыми и лишь самые незначительные – допустимыми, в то время как для тоталитаризма неприемлема сама идея легитимности разделения властных полномочий, которая противоречит его основным принципам. Противодействие, которое встречает федерализм со стороны административных иерархий, не носит столь всеобъемлющего характера. Административные иерархии по самой своей природе неидеологичны, но они также порождают идеологию – технократизм, которая в целом направлена против федералистской децентрализации и разделения властных полномочий. На протяжении первых двух третей XX столетия утверждению федерализма препятствовали прежде всего унитаристские тенденции в обществе.
Среди второй категории сил наиболее опасным для федерализма является, скорее всего, этнический национализм. Бытует представление, что федерализм может быть эффективным средством решения проблем, связанных с межэтническими конфликтами. На деле же полиэтнические федерации относятся к числу тех, которые труднее всего поддерживать; они имеют наименьшие шансы на сохранение, поскольку образованные по этническому принципу единицы, как правило, не хотят сливаться в подразумеваемые федерацией тесные объединения. Не исключено, что гораздо больше шансов на успех имеют конфедерации разноэтнических государств. Полиэтнические федерации несут с собой угрозу гражданской войны, разноэтнические конфедерации – лишь угрозу распада на составные части. Необходимость обуздать этнический национализм является на сегодняшний день не только самым распространенным, но и самым труднореализуемым основанием для федерализма.
Этнический национализм – наиболее эгоцентричная форма национализма; на его основе труднее всего возвести систему конституционализированного соучастия во власти. Теория федерализма предполагает национализм на базе согласия, каким бы ни было его демографическое содержание, согласия, которое делает возможным как разделение властных полномочий, так и соучастие в их отправлении. В свою очередь, современный национализм по большей части делает упор на то, что разъединяет людей: язык, религию, национальные мифы и т. п. На деле успешно функционирующими являются, как правило, те полиэтнические федеративные системы, в которых границы федерированных единиц не полностью совпадают с границами этнических образований. С федерализмом согласуется лишь тот тип национализма, который формулируется через договор или согласие сообщества индивидов и затем оформляется в соответствующих конституционных документах, разграничивающих сферы, отводимые федеративной системе, с одной стороны, и входящим в нее единицам – с другой.
В целом этнический национализм, восходящий к образцам XIX в., стремится навязать любому свободному правительству собственную бескомпромиссность. Федерализм – это демократическая «золотая середина», предполагающая переговоры и компромиссы. Любые проявления бескомпромиссности в жизнедеятельности общества делают его осуществление более сложным, а то и в принципе невозможным.
Многие ожидания, связанные с использованием федеративных принципов и механизмов, весьма часто оказываются иллюзорными. И все же никогда прежде эти принципы и механизмы ни применялись столь широко и успешно, как в настоящее время. Федерализм имеет свойство привлекать на свою сторону тех, кто занят поиском панацей. Эти поиски, конечно, бессмысленны – панацей не бывает, однако принципы, механизмы и практика федерализма, как и демократии в целом, даже когда они воплощаются не в полном объеме, нередко способствуют укреплению сил демократии и мира на планете. При проведении сравнительных исследований федерализма все это следует иметь в виду.
M. Шугарт, Дж. Кэрри. Президентские системы[42]
Современные определения: институциональные критерии
Используемое в настоящей работе определение президентской формы правления (или «чисто» президентской системы) включает следующие положения:
? всенародное избрание носителя верховной исполнительной власти;
? сроки полномочий носителя верховной исполнительной власти и законодательного органа – фиксированы и не зависят от доверия сторон друг к другу;
? выборная исполнительная власть назначает правительство, определяет его состав.
Данная трехчленная дефиниция, наряду с констатацией того, что президент должен избираться либо непосредственно гражданами, либо избираемой гражданами специальной коллегией выборщиков, указывает на раздельность источников формирования и поддержания правительства (исполнительной власти) и законодательной ассамблеи. Можно выделить также четвертый критерий, логически вытекающий из предыдущих:
? президент имеет известные, определенные конституцией права в законодательной сфере. <...>
Премьер-президентская система
...Премьер-президентская система характеризуется тем, что:
? президент избирается всенародно;
? президент наделен существенными полномочиями;
? одновременно с президентом существуют и выполняют функции исполнительной власти премьер-министр и кабинет, ответственные перед законодательным собранием (Duverger, 1980).
Первый критерий предполагает наличие всенародно избранного носителя исполнительной власти, но, в отличие от президентской системы, президент не является обязательно «верховным» носителем этой власти, а должен сосуществовать с премьером – главой правительства. Относительные объемы полномочий сторон могут существенным образом варьировать в зависимости от страны, а также от конкретных обстоятельств в рамках одной и той же страны.
Второй критерий – наличие у президента неких политических полномочий. Отличие от президентской системы состоит в данном случае в том, что в условиях премьер-президентского режима эти полномочия не обязательно должны быть законодательными. Они могут включать, к примеру, возможность вынести законопроект на референдум или оспорить его в судебном порядке. Предоставление президенту иных законодательных полномочий, таких как право вето или право издавать указы, легко может привести к конфликту между ним и другой частью исполнительной власти, зависящей от доверия законодательного собрания. Однако в некоторых премьер-президентских системах президент наделялся и наделяется подобными полномочиями. Более типичны – и более соответствуют характеру рассматриваемого режима – полномочия, связанные с формированием правительства: например, право выдвигать кандидатуры министров и делать назначения на неправительственные должности. В премьер-президентских системах президенты обычно располагают также правом распускать парламент. Важно отметить, что данная система не обеспечивает президенту возможность контролировать правительство или ассамблею законодательными средствами. Чертой, при пересечении которой режим перестает быть премьер-президентским, является предоставление президенту права единолично решать вопрос о смещении министров. Наличие такого права противоречило бы третьему из выделенных нами критериев – зависимости кабинета от законодательного собрания. <...>
Другие типы режимов
Если президент имеет право назначать и смещать министров, но при этом министры зависят от доверия законодательного собрания, можно говорить об особом режиме. Такие режимы, представленные в мировой практике несколькими примерами, мы будем называть президентско-парламентскими. Подобно тому как термины «президентская» и «парламентская система» указывают на то, какой выборный институт уполномочен определять состав правительства, а термин «премьер-президентская система» фиксирует ведущую роль премьер-министра при наличии президента, наделенного значительными полномочиями, предложенный нами термин схватывает сущностную характеристику президентско-парламентских систем – главенство президента в сочетании с зависимостью кабинета от парламента. Отсюда вытекает определение режима:
? наличие всенародно избранного президента;
? президент назначает и смещает членов кабинета;
? члены кабинета должны пользоваться доверием парламента;
? президент имеет право распустить парламент (законодательную ветвь власти в целом).
Данное определение показывает, что выделенный режим отличается от основных идеальных типов – президентской и премьер-президентской систем – в двух отношениях. Во-первых, если в условиях президентской и премьер-президентской систем и президент, и законодательное собрание могут играть определенную роль в формировании кабинета путем выдвижения или утверждения кандидатов на министерские посты, но лишь одна из ветвей власти уполномочена смещать министров, то президентские парламентские режимы предоставляют президенту и парламенту равные полномочия по смещению членов кабинета. Во-вторых, несмотря на значительный объем власти президента над кабинетом, при президентско-парламентской системе законодательная и исполнительная ветви власти не имеют раздельных источников поддержания. При президентском режиме максимальное разделение источников формирования и поддержания властей является нормой. При президентско-парламентской системе наличие у парламента полномочий по формированию правительства означает, что исполнительная власть лишена независимых источников поддержания. То же самое безусловно относится и к премьер-президентской системе, но за существенной разницей: здесь право формировать новое правительство остается за парламентом, невзирая на то, что большинство кандидатур выдвигается президентом. При президентско-парламентской системе правительство заново формируется президентом, хотя парламент может опять выразить ему недоверие. Более того, во многих таких системах за президентом, в дополнение к его полномочиям по формированию правительства, закреплено право распускать законодательное собрание. А это и означает, что раздельное поддержание властей отсутствует.
...Основная проблема, которой чреват фиксированный срок президентских полномочий, состоит в том, что носитель верховной исполнительной власти может лишиться всякой популярности в народе или отчасти сохранить такую популярность, но вызвать стойкую оппозицию парламентского большинства (Mainwaring, 1992; см. также Linz, 1987). Такой президент едва ли способен начать и практически осуществить какую бы то ни было программу, нуждающуюся в законодательном закреплении, пребывая в состоянии постоянной конфронтации с парламентским большинством, стремящимся к реализации альтернативной программы. Но даже когда президент не встречает никакой поддержки со стороны граждан, он остается главой правительства (и государства) пока не истечет фиксированный срок его полномочий, если, конечно, его не сместят с помощью импичмента или каких-то неконституционных средств. Не предусматривающие вотума недоверия президентские системы лишены институциональных средств смещения непопулярных – а иногда и некомпетентных – носителей верховной исполнительной власти. <...>
Соотношение избирательских предпочтений искажается уже при выборах президента, когда же происходит формирование правительства, это искажение не ослабевает, а еще больше усиливается. В отличие от парламентской и премьер-президентской систем, президентский режим не способствует достижению межпартийных компромиссов с целью формирования правительственных коалиций. Да и в самом кабинете президент – отнюдь не первый среди равных, каковым неизбежно является премьер (Lijphart, 1989). Даже в тех немногих случаях, когда для утверждения министров требуется санкция законодательного собрания, сместить их может лишь президент. Чаще всего посты получают члены президентской партии или беспартийные эксперты и лишь крайне редко – сторонники оппозиции. В большинстве президентских систем министры не имеют права совмещать правительственную должность с членством в парламенте, вследствие чего возможности парламентской оппозиции влиять на действия исполнительной должности еще более сокращаются. <...>
Лейпхарт считает, что отсутствие значимого представительства меньшинств в правительстве подрывает способность президентской системы разрешать конфликты, основанные на сложных или глубинных политических расколах, т. е. именно на тех расколах, которые характерны для многосоставных обществ. Ниже мы обсудим препятствия достижению консенсуса между законодательным собранием и президентом в условиях президентской системы. Утверждение же Лейпхарта состоит в том, что даже пропорциональное представительство в правительстве снижает вероятность возникновения отношений, основанных на консенсусе, внутри исполнительной власти – такие отношения скорее возникнут в условиях парламентской системы, чем при президентском режиме...
Двойная демократическая легитимность. Последняя группа аргументов против президентской системы основана на том, что такого рода система дает основания для отдельных друг от друга и соперничающих между собой претензий на демократическую легитимность со стороны законодательного собрания и исполнительной власти. <...>
Развивая аргументацию, сочетающую темы временной негибкости двойной демократической легитимности, Линц высказывает предположения, что истинная проблема президентской формы правления состоит в избрании ответственности перед избирателями. По мнению исследователя, сложность создания коалиций после президентских выборов ведет к тому, что они создаются еще до выборов. Это дает избирателям шанс обеспечить президентско-парламентским большинством. Но после выборов, согласно Линцу, политические руководители лишены пространства для политического маневра; трудно «вступать в сделки, которые трудно оправдать публично, но некоторые зачастую необходимы» (Linz, 1987). <...>
Ф. Риггс. Сравнительная оценка президентской формы правления[43]
Определяющий критерий. Определение президентской формы правления, предложенное здесь, предполагает четкое разграничение двух ключевых ролей представительного правления: роль главы государства и роль главы правительства. Это различие является основополагающим, поскольку «непрезидентские» (non-presidentialist) системы часто избирали «президентов», которые являлись главами государства, но не главами правительства. В парламентских системах эти две роли легко различимы: главой правительства является премьер-министр, тогда как главой государства – либо конституционный монарх, либо избранный президент. Обычно президент здесь также выполняет свои обязанности в течение ограниченного срока и не может быть смещен парламентским вотумом недоверия, но это отнюдь не делает их режимы «президентскими». Термин «президент» часто используется также для обозначения главы государства в странах с однопартийным или даже военно-авторитарным режимами, но из-за этого они не становятся «президентскими».
В режимах с президентской формой правления избранный глава правительства всегда является одновременно и главой государства.
Итак, под президентской формой правления я понимаю только те представительные правления, в которых глава правительства избирается на строго установленный срок исполнения полномочий, т. е. он не может быть смещен с занимаемого поста путем вотума недоверия, выражаемого конгрессом.
Градация различий. Различия между президентской формой правления и парламентской следует рассматривать как их логическую противоположность, а не противоречивость. Представительное правление не обязательно является президентским или парламентским в чистом виде. Существуют и возможные промежуточные варианты, «полупрезидентские» или «полупарламентские» по своему характеру.
Рассмотрим, например, V Французскую Республику, которую Морис Дюверже (1980) охарактеризовал как полупрезидентскую (semi-presidential). Хотя глава государства (президент) здесь действительно избирался на определенный срок правления, глава правительства (премьер-министр) должен был распоряжаться парламентским большинством. При условии, что президентская партия располагала таким большинством, президент мог избрать премьер-министра из членов своей собственной партии, что тем самым давало ему возможность управлять как фактическому главе правительства. В другом случае глава правительства (премьер-министр) мог принадлежать к оппозиционной партии, чтобы иметь возможность получить поддержку парламента, как это произошло в период между 1986 и 1988 г., когда президент страны Франсуа Миттеран должен был назначить премьер-министром лидера оппозиционной партии Жака Ширака. В такие моменты президент не является Президентом «с большой буквы» (в буквальном значении). Хуан Линц представляет V Республику как «гибридную» (1990).
Скотт Мейнуоринг (1989) также определяет Чили и Бразилию как полупрезидентские, хотя их конституционные нормы отличались от норм V Французской Республики. Луис Гонзалес (1989) использовал термины «полу– и неопарламентский» для характеристики менявшегося содержания конституции в Уругвае. Хартии 1934 и 1942 г., например, обладали неопарламентскими чертами, поскольку президент имел право распускать законодательный орган, а последний мог выражать недоверие министрам, вынуждая президента уйти в отставку – но эти полномочия никогда не были применены на практике (Гонзалес, 1989). Уругвайская конституция 1967 г. сохранила за президентом право роспуска конгресса и проведения новых выборов после того, как какому-либо министру было выражено недоверие, но в данном случае не требовалось, чтобы он (президент) ушел в отставку (Джиллеспи, 1989).
X. Линц. Опасности президентства[44]
Парламентская и президентская системы
Строго говоря, парламентаризм – это такой режим, при котором единственно демократическим законным институтом является парламент, а власть правительства находится в полной зависимости от парламентского вотума доверия. Хотя в ряде парламентских режимов ставка на определенные личности в партийном руководстве ведет к тому, что премьер-министры все в большей степени начинают походить на президентов, тем не менее за исключением вопросов роспуска кабинета и предложений о новых выборах премьеры не могут непосредственно обратиться к народу, минуя его представителей. Парламентские системы могут включать и институт президентства (при этом президент избирается прямым народным голосованием), однако президенты, как правило, не имеют возможности серьезно соперничать с премьер-министрами во всем, что касается властных полномочий.
В системах президентского правления глава исполнительной власти, наделенный значительными конституционными полномочиями, включая контроль за составом кабинета и администрации, избирается прямым голосованием на определенный срок и не зависит от вотума доверия парламента. Он не только «держатель» исполнительной власти, но и символический глава государства, который в период между выборами может быть отстранен от власти только через «импичмент». На практике же, как показывает исторический опыт США, президентская система тем не менее зависит – в большей или меньшей степени – от сотрудничества с властью законодательной, таким образом, соотношение между исполнительной и законодательной ветвями власти может сильно разниться и в президентских системах.
В том же, что касается президентского правления, следует выделить два момента. Первый – президент всегда настаивает на демократической легитимности – вплоть до обращения к плебисциту – своей власти; второй – четко установленный срок его правления. И тот и другой моменты требуют пояснений. Бывают президенты, которые приходят к власти, получив меньше голосов, чем иные премьеры правительств меньшинства. К примеру, Сальвадор Альенде стал президентом Чили в 1970 г., имея 36,2 % голосов, полученных при объединении разнородных оппозиционных сил, а вот Адольфо Суарес в Испании в 1979 г. стал премьером, получив 35,1 % голосов. Очевидно, что шестилетний мандат Альенде собрал при этом явно меньшее число голосов, тогда как Суарес примерно в той же ситуации вынужден был сотрудничать с другими партиями для сохранения власти правительства меньшинства. По примеру английского политического мыслителя Уолтера Бейджхота (Walter Bagehot) можно сказать, что система президентского правления придает занимающему должность президента «церемониальные» функции главы государства наряду с функциями «действительного» главы исполнительной власти, создавая ему таким образом ауру, «имидж», порождающие в народе особые надежды. Таких векселей лишен даже самый популярный премьер-министр.
Но самое уязвимое то, что в системе президентской власти законодатели, особенно когда они представляют сплоченные и дисциплинированные партии, выдвигающие идеологические и политические альтернативы, могут также претендовать на демократическую законность, особенно при выборе направления, противоположного курсу президента. Кто же в подобных обстоятельствах имеет больше оснований выступать от имени народа: президент или большинство в законодательном органе, выступающее против его политики? Здесь конфликт неизбежен, поскольку обе стороны получили власть в результате народного голосования на основе свободной конкуренции между четко сформулированными альтернативными программами. Не случайно, что в ряде подобных ситуаций вооруженные силы часто вмешивались в дело в качестве посредника. <...>
Парадоксы президентской системы власти
...Если попытаться в нескольких словах изложить суть основного различия между президентской и парламентской системами, то можно сказать, что парламентаризм придает политическому процессу определенную гибкость, тогда как системе президентского правления присуща жесткость. Подобная жесткость, могут возразить сторонники президентского правления, это положительный момент, поскольку она помогает предотвратить неопределенность и отсутствие стабильности, характерные для парламентской системы. Ведь при парламентской форме правления множество «действующих лиц» – партии, их лидеры и даже рядовые законодатели – могут в любой момент в период между выборами внести какие-то кардинальные изменения, произвести перегруппировки и, что самое главное, назначить или сместить премьер-министра. Но хотя необходимость в наличии твердой власти и предсказуемости вроде бы говорит в пользу президентской формы правления, такие неожиданные события, как, скажем, смерть президента или серьезные ошибки, допущенные им под давлением непредвиденных обстоятельств, могут сделать президентскую власть еще менее предсказуемой и зачастую даже более слабой, чем власть премьер-министра. Последний всегда может повысить свою «законность» и увеличить свою власть путем получения вотума доверия или в результате роспуска парламента и проведения новых выборов. Кроме того, смещение премьер-министра не обязательно сопровождается кризисом власти.
Подобные соображения особенно важны в периоды перехода от одного режима к другому и при необходимости консолидации власти, когда жесткие положения президентской конституции уступают перспективе компромисса, предлагаемого парламентаризмом. <...>
Выборы по принципу «победитель получает все»
...Система президентского правления вызывает большие сомнения, поскольку она работает по принципу «победитель получает все», что само по себе делает демократическую политику игрой с нулевой суммой, а ведь подобные игры, как известно, чреваты конфликтом. Хотя парламентские выборы могут дать абсолютное большинство одной партии, чаще всего такое большинство получает несколько партий. Разделение власти и образование коалиций привычно для глав исполнительной власти, одинаково внимающих требованиям мелких партий. Эти же партии в свою очередь не оставляют надежд на получение некоторой доли власти и, следовательно, своего места в системе власти как таковой. И напротив, убежденность в обладании независимой властью и поддержкой народа может дать президенту ощущение силы, даже когда он представляет интересы незначительного числа политических партий. Учитывая свое положение и роль, он может оказаться перед лицом более жесткой и неприятной оппозиции, чем премьер-министр, который выступает от лица временной правящей коалиции и не претендует на то, чтобы говорить от лица народа. <...>
Опасность президентских выборов по принципу «победитель получает все» усугубляется жесткими сроками действия президентской власти. Обычно на весь период президентского мандата четко определяются победители и побежденные. Не остается никаких надежд на какие-либо подвижки в заключенных союзах, повышение стабильности правительства путем создания крупных коалиций национального единства или коалиций в обстоятельствах чрезвычайных, новые выборы в ответ на резкое изменение обстоятельств и т. д. Вместо этого те, кто проиграл, вынуждены ждать четыре или пять лет, практически не имея доступа ни к исполнительной власти, ни к властным структурам. Выборы по принципу «победитель получает все» слишком высоко поднимают ставки при выборе президента, что неизбежно ведет к обострению отношений в обществе и его дальнейшей поляризации. <...>
Стиль президентской политики
...Наиболее тревожным следствием взаимодействия между президентом и его избирателями является возникновение ложных представлений и подмена «народа» в целом группой своих сторонников. При этом есть опасность, что он будет рассматривать свою политику как отражение народной воли, а политику своих оппонентов – как злые козни, направленные на защиту узких интересов. Конечно, подобное отождествление лидера и народа имеет некоторый популистский оттенок и может даже стать источником силы. Вместе с тем это также чревато отказом признать ограничения своего мандата, на который явное большинство, не говоря уже о простом большинстве, может опираться как на демократическую основу проведения в жизнь своей программы. К сожалению, печальную возможность проявления холодного неуважения, игнорирования или открытой вражды со стороны президента по отношению к оппозиции никак нельзя сбрасывать со счетов.
В отличие от находящегося на недосягаемых высотах Олимпа президента премьер-министр обычно является также членом парламента, который, даже сидя в ложе правительства, остается частью более крупного руководящего органа. В определенные моменты он должен встречаться со своими сотоварищами-законодателями на равных условиях, как это делает, например, английский премьер-министр в период традиционной процедуры ответов на вопросы в палате общин. Если он возглавляет коалиционное правительство, правительство меньшинства или его партия имеет лишь минимальный перевес в парламенте, то практически исключено невнимание его к мнению парламента, в то время как президент возглавляет совершенно независимый орган и говорит с членами парламента, выдвигая при этом свои собственные условия. В президентских режимах особенно неопределенным является положение лидеров оппозиции, которые вообще не могут занимать никакие государственные посты и не имеют даже того полуофициального статуса, каким обладают, скажем, лидеры оппозиции в Англии. <...>
В президентском кабинете значительно меньше вероятность появления сильных, независимо мыслящих членов правительства. Должностные лица президентского кабинета занимают свои посты лишь по прихоти его главы; будучи уволены, они вообще, как правило, исчезают из поля зрения общества. Министры кабинета, возглавляемого премьером, напротив, не являются «креатурами» последнего: обычно они – его коллеги по парламенту и могут, выйдя из состава кабинета, вновь занять там свои места и «беспокоить» своими вопросами премьера на партийных конференциях и в ходе обычной работы парламента столь же свободно, как и все прочие его члены. Более того, президент имеет возможность намного более эффективно защищать членов своего кабинета от критики, в то время как члены кабинета премьера вынуждены регулярно представать перед парламентом, отвечая на различные вопросы, в крайних случаях могут оказаться перед лицом вотума недоверия.
Нет необходимости вникать во все тонкости взаимоотношений между исполнительной и законодательной ветвями власти при различных президентских режимах, чтобы убедиться в том, что все такие системы основаны на двойной демократической законности; при этом не существует демократических принципов разрешения споров между исполнительной и законодательной властями в отношении того, какая же из них фактически является выразительницей воли народа. <...>
Вопросы стабильности
...Многие ученые – в первую очередь в Латинской Америке – в целом скептически настроены к парламентаризму, предпочитая президентскую форму правления. При этом как-то упускается из виду большая степень стабильности, которая в действительности присуща сформированным парламентом правительствам. Непостоянство часто скрывает от глаз исследователей преемственность партий у власти, длительность существования коалиций и то, что лидеры партий и ключевые министры «мужают» в ходе кабинетных кризисов, не оставляя при этом своих постов. Кроме того, исследователи вопросов стабильности правительств упускают из виду нестабильность президентских кабинетов; мало кто замечает также, что парламентские системы – именно в силу своей кажущейся нестабильности – редко впадают в глубокие кризисы. И это не случайно: ведь премьер-министра, оказавшегося замешанным в скандале или потерявшего доверие своей партии или коалиции большинства, чье пребывание на занимаемом посту может спровоцировать серьезные потрясения, устранить от власти намного легче, чем коррумпированного или ставшего очень непопулярным президента. Если столкновение различных интересов не дает возможности сформировать законный с точки зрения демократии кабинет, парламент имеет возможность в конечном итоге избрать нового премьер-министра, который должен будет сформировать новое правительство. В ряде более серьезных случаев назначаются новые выборы, хотя они зачастую и не решают многих проблем и могут даже (как в случае Веймарской Республики в период 1930-х гг.) усугубить их.
Правительственные кризисы и министерская чехарда при парламентской системе правления совершенно исключены в президентском правлении в силу жестко определенного срока правления. Слабой стороной президентства как раз и является отсутствие гибкости в условиях постоянно меняющейся ситуации. Вопрос о смене президента, потерявшего доверие своей партии или народа, чрезвычайно сложен. <...>
Парламентаризм и политическая стабильность
Анализ непривлекательных для перспектив развития демократии сторон президентской формы правления вовсе не означает, что президентская демократия не может быть стабильной; напротив, самый стабильный демократический режим в мире – в Соединенных Штатах Америки – имеет именно президентскую конституцию. Тем не менее есть основания предполагать, что во многих других странах шансов на то, что президентская система правления будет способствовать сохранению демократии, намного меньше.
Хотя очевидно, что парламентаризм предлагает более гибкую основу для создания и укрепления демократии, отсюда вовсе не следует, что хорош любой режим парламентского правления. Более того, чтобы сделать наш анализ более полным, пожалуй, стоит и порассуждать о том, что представляет собой наиболее совершенная форма парламентской конституции и каковы ее конкретные институционные особенности. Одна из них – утверждение поста премьер-министра, который и обладал бы необходимыми властными функциями, и в то же время нес бы за них полную ответственность, что в свою очередь требует наличия сильных, хорошо дисциплинированных политических партий. Все эти особенности, а среди них есть много других, которые у нас просто нет возможности обсуждать в пределах данной статьи, помогут созданию эффективной системы принятия ответственных решений, формированию стабильных правительств и будут способствовать конструктивному соперничеству между партиями, не вызывая при этом нежелательных политических расколов общества. Кроме того, каждая страна по-своему уникальна: традиции федерализма, этническая или культурная разнородность и т. д. И наконец, само собой разумеется, что цель нашего исследования – лишь выявить возможности и тенденции, а вовсе не сформулировать абсолюты. Никто не поручится, что парламентские системы никогда не испытают серьезного кризиса или полного краха.
В конечном итоге все, даже самые лучшие, режимы должны опираться на поддержку общества в целом: его основных сил, групп и учреждений. Поэтому они зиждутся на общественном консенсусе, который признает законной лишь ту власть, которая обретена законным и демократическим путем. Они находятся также в зависимости от способности их лидеров управлять, внушать доверие, не переступая границ своих полномочий. <...>
Раздел VII Избирательные системы
Избирательные системы – одна из важнейших тем политической науки. И не только потому, что выборы – центральный компонент демократии. Выбор избирательной системы оказывает решающее влияние как на формирующуюся расстановку политических сил, так и на содержание политического процесса. Поясняя данное обстоятельство на примере президентских выборов, Р. Таагепера и М. Шугарт отмечают: «В зависимости от правил, одинаковые распределения голосов могли привести к избранию левого, центристского или правового президента». В целом, по их мнению, «особенности избирательной системы способны повлечь за собой и более широкие последствия – от раскола партии до распада страны».
В предлагаемом фрагменте главы из монографии Арендта Лейпхарта «Модели демократии: Формы правления и предпочтения в тридцати шести демократиях» (1999) дается обстоятельный анализ избирательных систем. Американского политолога интересуют не только правила и порядок организации выборов и определения победителей (электоральная формула избирательных систем), но и влияние различных факторов на результаты выборов и степень диспропорциональности представительства интересов избираемыми институтами. Лейпхарт также обращается к традиционной для политической науки проблеме влияния типа избирательной системы на характер партийной системы – проблеме, поднятой и поставленной французским политологом Морисом Дюверже.
Р. Таагепера, М. С. Шугарт. Описание избирательных систем[45]
Почему следует изучать избирательные системы?
В 1970 г. на пост президента Чили баллотировались три кандидата. Социалист Сальвадор Альенде с небольшим перевесом победил центристского и правого кандидатов, хотя доля поданных за него голосов не превышала 36,3 %. Программа Альенде предусматривала осуществление широких социальных преобразований. Но он пользовался лишь ограниченной поддержкой со стороны общества, и в этих условиях попытка радикальных изменений закончилась плачевно. Центристы были отчуждены от правительства до такой степени, что пошли на молчаливую поддержку военного переворота. В результате установилась кровавая диктатура.
История могла бы сложиться по-иному, имей Чили другую избирательную систему. По чилийской традиции, парламент обязан был подтвердить избрание кандидата, получившего самое большое число голосов, хотя доля избирателей, для которых Альенде был наименее желательной кандидатурой, превышала половину. В некоторых странах для избрания нужно набрать абсолютное большинство – свыше 50 % – голосов. Абсолютное большинство складывается в ходе второго тура выборов, в котором участвуют два кандидата, вышедшие вперед по числу голосов в первом. Если бы в Чили действовала такая система, от участия во втором туре был бы отстранен кандидат-центрист, так что избирателям пришлось бы выбирать между правым и левым кандидатами. И если бы большинство сторонников центриста проголосовало за представителя правых, именно он бы и выиграл, к разочарованию левых избирателей. Однако вместо второго раунда можно было бы позволить избирателям отмечать на бюллетене свои вторые предпочтения. В этом случае центрист, скорее всего, был бы вторым предпочтением как многих правых, так и левых, и тогда страна имела бы президента, приемлемого для всех – пусть и наполовину.
Мораль этой истории состоит не в том, что один из перечисленных методов или результатов лучше других, а в том, что избирательная система – действительно важный фактор. В зависимости от правил одинаковые распределения голосов могли привести к избранию левого, центристского или правого президента.
Как будет показано ниже, особенности избирательной системы способны повлечь за собой и более широкие последствия – от раскола партии до распада страны. В то же время поменять избирательные правила легче, чем многие другие составляющие политического устройства. Поэтому избирательная система – весьма многообещающее поле для «политической инженерии», хотя легкость изменения правил игры и не следует преувеличивать (об этом также пойдет речь ниже). Наконец, изучение избирательных систем отличается от многих других аспектов политической науки тем, что оно легко допускает количественное моделирование, так как данные (голоса, места и т. д.) поступают в виде чисел. Все это говорит о том, что данная тематика представляет большой теоретический интерес, даже если не принимать во внимание манипуляции существующими системами.
Правила выборов могут привести к расколу партии – или даже страны.
В 1929 г. Либеральная партия Великобритании набрала на выборах 23,4 % голосов; но ввиду того, что действовавшие избирательные правила сократили долю парламентских мест, полученных партией, до 10 %, поданные за нее голоса неожиданно оказались «потраченными зря». Отчасти по этой причине на следующих выборах лишь 7 % избирателей проголосовали за либералов, а доля полученных либералами мест практически приблизилась к нулю. Так Либеральная партия, в течение столетия игравшая ведущую роль на политической арене страны, по меньшей мере на следующие пятьдесят лет была обречена на прозябание.
В выборах 1933 г. Прогрессивная партия Исландии получила почти такую же долю голосов, как и потерпевшие крах британские либералы четырьмя годами раньше – 23,9 %. Но доля мест, доставшихся исландским прогрессистам, была не меньше, а больше доли голосов – 33,2 %. В результате партия приобрела ведущую роль в политической жизни страны. Различие состояло в правилах выборов и способах нарезки избирательных округов. Как видим, одинаковые доли набранных на выборах голосов дали британским либералам и исландским прогрессистам отнюдь не равный доступ к парламентским местам и политической власти.
Приведенные примеры позволяют выявить некоторые общие закономерности электорального процесса. Результаты выборов зависят не только от народного волеизъявления, но и от правил. Идет ли речь о единственном «месте» президента или о многих местах в общегосударственных и местных законодательных собраниях, правила распределения мест, применяемые в разных странах – или даже в разных частях одной страны – различны. Ключевыми являются вопросы об учете голосов и распределении мест. Некоторые избирательные системы создают преимущества для одной или двух крупнейших партий, так что третьи партии теряют места и со временем утрачивают политическое значение (как случилось с британскими либералами). Но другие избирательные системы дают малым партиям право на парламентское представительство в соответствии с долей полученных ими голосов. В результате места оказываются распределенными между таким количеством партий, что правительство может иметь только коалиционный характер (как происходит в Исландии).
Иногда правила выборов, в течение длительного времени не вызывавшие особых нареканий, неожиданно заводят в тупик и становятся причиной беспорядков, как в Чили. Утверждают, например, что приходу Гитлера к власти в Германии способствовала действовавшая в стране избирательная система, которая поощряла возникновение множества партий – а это не только раздражало людей, но и порождало симпатии к идее сильного общенационального вождя. Хотя подобная интерпретация связи между электоральными нормами Веймарской республики и политическим успехом Гитлера не бесспорна, заслуживает внимания сама мысль о том, что правила выборов чреваты серьезными последствиями для отдельных стран, их соседей и даже всего мира. В любом случае опыт Германии еще раз показывает, насколько важно правильно понимать эффекты избирательных систем и результаты, вызываемые их изменением.
Способ определения победителей и распределения мест действительно важен. Разные страны прибегают к разным способам. Почему бы не определить лучшую избирательную систему и не применять только ее? К сожалению, совершенной системы не существует. Все зависит от того, какие результаты нужно получить. Некоторые страны используют пропорциональную систему (ПС), когда места распределяются пропорционально числу полученных голосов; но возникающие в результате коалиционные правительства иногда нестабильны. Для некоторых стран важнее стабильное правление крупнейшей партии, даже если она получила меньше 50 % голосов. Но тогда под угрозой оказывается парламентское представительство важных меньшинств.
Некоторым странам удается опровергнуть пословицу «за двумя зайцами сразу не угнаться»: например, в Австрии пропорциональное представительство долгое время сочеталось со стабильным правлением одной партии. У иных же не получается ни одного, ни другого: там нет ни ПС, ни правительственной стабильности. Разумеется, чаще всего нестабильность никак не связана с электоральными правилами. Однако иногда такая связь прослеживается. Бывает и так, что ясное представление о том, какая избирательная система лучше подходит для страны, вообще отсутствует: принимаются какие-то правила, но результаты их применения далеки от ожидаемых. Это – как раз тот случай, когда систематическое изучение избирательных систем и их последствий является особенно важным и полезным.
Наиболее подвижная составляющая политической системы
По сравнению с другими элементами политической системы, электоральными правилами легче всего манипулировать в политических целях. Имеется в виду не то, что избирательную систему легко изменить, а то, что остальные элементы системы изменить еще сложнее.
У нас имеются некие представления о том, как изменить избирательную систему, чтобы добиться более пропорционального представительства, или свести на нет роль малых партий, или усилить крупнейшую партию. Разумеется, столь противоречащих друг другу целей нельзя достичь одновременно, но можно найти какую-то подходящую комбинацию. Утвержденные соответствующими властными органами (например, законодательным собранием) новые правила будут применены на практике, что позволит нам оценить результаты. Если они неудовлетворительны, можно предпринять новую попытку. В противоположность этому многие аспекты политической системы – например политические предпочтения народа – нельзя изменить по воле парламента: либо выяснится, что решения такого рода невозможно претворить в жизнь; либо результат окажется противоположным ожидаемому (как это случилось с американским «сухим законом»); либо просто будет непонятно, каковы реальные последствия новых правил. Вот почему избирательные системы, казалось бы, должны были бы относительно легко поддаваться изменениям.
И все же абсолютной свободы в выборе избирательных систем не существует. Свобода в данном случае ограничена местными политическими условиями и традициями. Предположим, что возникла новая страна, причем ее политическая элита раскололась на большое количество партий. Тогда для принятия закона о выборах потребуется поддержка многих партий, некоторые из которых очень малы. Такие партии вряд ли поддержат избирательный закон, дающий преимущества большим партиям за счет малых и ограничивающий шансы последних на выживание. Если же, наоборот, в политической жизни страны преобладают одна или две крупнейшие партии, у них не будет ни малейшего стимула вводить в стране пропорциональную систему, позволяющую малым партиям встать на ноги, но при этом сдерживающую силу больших партий.
То же самое относится к реформам избирательной системы. Чтобы провести такую реформу, обычно требуется одобрение членов парламента. Но это – те самые люди, которым действующая избирательная система уже сослужила добрую службу. Зачем им стремиться к изменению системы, благодаря которой они достигли своего нынешнего положения? Британские либералы поддерживают реформу избирательной системы именно потому, что действующие правила им невыгодны. Но у ведущих партий, приобретающих парламентские места за счет либералов, нет причин для беспокойства. Можно даже заподозрить, что если бы либералам удалось стать одной из двух ведущих партий страны, их интерес к реформе избирательной системы быстро угас бы.
Таким образом, избирательные системы весьма инертны. Большинство стран до сих пор придерживаются правил, введенных одновременно со всеобщим избирательным правом. Иногда корни инерции уходят еще глубже. В стране с отчетливым расслоением населения по религиозному признаку – например на католиков, протестантов и мусульман, – особенно если это расслоение играет важную политическую роль, могут возникнуть три соответствующим образом ориентированные партии. В этих условиях глупо было бы принимать избирательную систему, дающую преимущества крупнейшей партии. Ведь тогда две религиозные группы были бы постоянно лишены должного представительства, что чревато беспорядками или даже гражданской войной.
Тем не менее есть примеры реформирования избирательных систем. Серьезной корректировке подверглись электоральные формулы во Франции в 1958 г. и в Северной Ирландии в 1973 г. В 1982 г. была осуществлена довольно радикальная реформа правил проведения выборов в верхнюю палату японского парламента. С 1960 г. поменялись избирательные системы Австрии и Швеции. Активное обсуждение проектов реформ шло и во многих других странах. <...>
Патологии избирательных систем
Недобросовестное проведение выборов. Даже если официально провозглашены вполне удовлетворительные правила выборов, следуют им не всегда. Имеется множество путей искажения электоральных норм, в частности: введение ограничений на выдвижение кандидатов и предвыборную агитацию; создание препятствий, затрудняющих участие людей в выборах; нарушение тайны голосования и фальсификация результатов (одним из получивших широкую огласку примеров электоральной недобросовестности является фальсификация итогов февральских 1986 г. выборов на Филиппинах).
Настоящая работа посвящена правилам конвертации голосов в места, а не способам получения голосов. Помимо явного мошенничества существуют и вполне открытые и легальные – но при этом сомнительные – методы увеличения числа голосов. К их числу относятся неравная нарезка избирательных округов и махинации с определением их границ (так называемый джерримендеринг).
Неравная нарезка округов. Выше мы исходили из допущения, что число мест, оспариваемых в каждом из округов, пропорционально количеству избирателей. Но так бывает не всегда. В странах, где выборы проводятся по одномандатным округам, одни округа могут превосходить другие по численности потенциальных избирателей. А это означает, что голоса избирателей имеют неравный «вес» и правило «один человек – один голос» уже не выполняется. Действительно, если в одном из округов – две тысячи избирателей, а в другом – пятьсот, то в более населенном округе норма представительства равна 0,5 на тысячу избирателей, а в менее населенном – 2 на тысячу избирателей. Это и есть неравная нарезка округов. Границы округов следовало бы провести так, чтобы в каждом из них было по 1250 избирателей. Подобная операция называется перенарезкой округов.
Даже если изначально нарезка округов была равной, вследствие миграции населения такое равенство может постепенно нарушиться. Так, многие люди переезжают из деревни в город. Предположим, что это происходит в исходно аграрной стране, где ведущей политической силой является консервативная крестьянская партия. В результате массового оттока сельских жителей в города первоначально равные округа станут со временем столь же разниться между собой по численности населения, как и округа из приведенного выше примера, причем менее населенными будут сельские округа, а более населенными – городские. Поскольку же сельских округов больше, законодательное собрание окажется под контролем консервативных представителей деревни. Предположим также, что горожане предпочитают голосовать за социалистическую партию. Располагая поддержкой большинства избирателей, эта партия будет иметь меньшинство в законодательном собрании. Конечно, при таком положении дел перенарезка округов становится насущно необходимой. Однако решение по этому вопросу должно принять большинство законодательного собрания – т. е. те самые люди, которым перенарезка сулит колоссальный ущерб. Ясно, что они попытаются отложить решение проблемы в «долгий ящик».
В США огромное неравенство в нарезке округов было ликвидировано лишь в 1960-е гг., когда Верховный суд постановил осуществить перенарезку. Вплоть до этого времени Верховный суд отказывался принять вопрос к рассмотрению и, объявляя проблему «политической», переадресовывал ее Конгрессу.
Неравная нарезка возможна и при выборах по многомандатным округам. Примером, в частности, может служить Исландия. Так, упомянутый выше факт перепредставленности исландской Прогрессивной партии в парламенте по итогам выборов 1933 г. объяснялся тем, что партия опиралась на аграрное население. Несмотря на несколько перенарезок, проблема неравенства округов каждый раз возникает снова по мере переезда все большего числа людей в города.
В округах с большой величиной (превышающей десять мест) перенарезка не требует изменения границ. Достаточно передать одно или два места от одного округа другому. Поскольку же при пропорциональной системе такие изменения обычно не сказываются на общем балансе политических сил, они, как правило, встречают меньшее сопротивление, чем в тех случаях, когда речь идет о перенарезке одномандатных округов.
Махинации с определением границ. В одномандатных округах, даже если они равны по числу избирателей, значение имеют еще и их границы. Предположим, что восемь городских районов, равных по числу избирателей, нужно объединить в четыре округа. Количество избирателей (в тысячах), голосующих в каждом из округов за демократов и республиканцев, следующее:
40 – 60 70–30 50 – 50 60 – 40
40 – 60 70–30 40 – 60 30 – 70
Итого, на четыреста тысяч демократов приходится столько же республиканцев, т. е. каждая партия должна получить по два места. Но если нарезка округов находится под контролем республиканцев, то им выгоднее объединить районы «по вертикали»:
80 – 120 140 – 60 90 – 110 90 – 110
Тогда демократы одержат впечатляющую победу во втором округе, но во всех остальных победят республиканцы, пусть и скромным большинством. Если же демократы нарежут округа по-своему, то объединение районов пойдет «по горизонтали»:
110 – 90 110 – 90 110 – 90 70 – 130
Теперь получается, что республиканцы зря потратят большое число голосов на победу в нижнем правом округе, а остальные останутся за демократами. Политически нейтральная комиссия по перенарезке могла бы определить границы округов так, чтобы каждая из партий преобладала в двух из них. В данном случае существуют три возможных варианта такой нарезки (разумеется, при условии, что каждый из округов должен включать лишь граничащие между собой районы).
Какой же из пяти вариантов нарезки оптимален? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Но наш простой пример прямо указывает на характер игр, которые всегда велись американскими партиями по поводу нарезки избирательных округов. Основное правило неизменно: собирай все голоса противника в нескольких округах, обеспечивая скромное большинство для собственной партии в остальных. Имя «джерримендеринг» закрепилось за этой игрой с тех пор, как губернатор Массачусетса по имени Элбридж Джерри в 1812 г. умудрился состряпать настолько вытянутый и изогнутый округ, что его очертания напоминали саламандру. Этот-то округ политические противники губернатора и называли Gerry's Mander (джерри-мандра). Игра дожила до наших дней. Некоторые из округов, нарезанных в Калифорнии в 1980-е гг., не уступали исторической «ящерице» по нелепости очертаний.
Проблема джерримендеринга и сходных с ним злоупотреблений коренится в самой природе одномандатных округов. Перенарезки округов неизбежны в связи с миграциями населения, а общепринятых правил, согласно которым можно было бы определять границы округов, не существует. Остается утешаться тем, что иногда джерримендеринг срабатывает как бумеранг. Возвращаясь к нашему примеру, если бы 11 % демократов неожиданно перешли на сторону Республиканской партии, то во всех трех округах, где нацеленный на победу демократов джерримендеринг привел к соотношению 110: 90, победа досталась бы республиканцам, и они получили бы все четыре места. При более сбалансированной нарезке округов по крайней мере одно место получили бы демократы.
В многомандатных округах по мере роста их величины классический джерримендеринг становится бессмысленным. В другую игру «джерримендеринг по величине», пытались играть в Ирландии. Независимо от правил распределения мест, малая величина округа благоприятна для партии, получающей наибольшую долю голосов. Отсюда принцип – в регионах, где твоя собственная партия особенно сильна, пытайся сдерживать величину округов настолько, насколько позволяет закон (скажем, на уровне трех мест), а в регионах, где сильнее другие партии, доводи величину округов, к примеру, до пяти и более мест. Выяснилось, однако, что реальные результаты «джерримендеринга по величине» часто разочаровывают его инициаторов. Кроме того, эту практику легко блокировать путем установления равной величины всех округов.
Потенциальные и реальные избиратели. В принципе право голоса имеют практически все взрослые граждане современных демократических стран. Иногда из числа голосующих по разным соображениям исключаются неграмотные, заключенные, военнослужащие и психически больные. В большинстве стран минимальный возраст избирателей – восемнадцать лет, хотя кое-где он переваливает и за двадцать.
Исторически право голоса сначала было предоставлено старшим и более богатым мужчинам, преимущественно женатым и грамотным. В Англии, которая по праву считается одной из зачинательниц современной представительной демократии, до 1830 г. избирательным правом обладали лишь 4 % взрослого населения. Постепенно право голоса распространилось на более молодых и менее богатых мужчин, в том числе неженатых и неграмотных. К 1900 г. во многих странах Запада стало нормой всеобщее избирательное право для взрослых мужчин, но женщины были по-прежнему отстранены от участия в выборах. Всеобщее избирательное право в полном смысле слова было впервые введено в Новой Зеландии (1893 г.). Среди европейских стран первой ввела всеобщее избирательное право Финляндия (в 1906 г.), а за ней последовали и другие страны. Только в Швейцарии женщины были лишены избирательного права до 1971 г. (а в Лихтенштейне – до 1986). Добившиеся независимости или самоуправления в нынешнем столетии страны, если они вообще практиковали выборы, обычно сразу же делали избирательное право всеобщим. Предметом гордости стран, где имеют место выборы без выбора, нередко является низкий минимальный возраст избирателей. Имея в виду как отсутствие реального выбора, так и учет чистых бюллетеней в качестве голосов «за», результаты таких выборов действительно не зависят от возраста избирателей. Он мог бы быть и младенческим.
Далеко не все имеющие право голоса дают себе труд зарегистрироваться в качестве избирателей. В некоторых странах регистрация избирателей имеет почти автоматический характер, совпадая с обязательной регистрацией постоянного или временного места жительства в полиции. Но иногда процедура бывает громоздкой и должна быть проделана задолго до выборов, так что недавно переехавшие граждане временно лишаются права голоса. Во многих штатах США установлена именно такая процедура.
Из тех, кто зарегистрировался, не все голосуют. Происходит это по разным причинам. Явка на избирательные участки особенно высока там, где голосование имеет обязательный характер, а уклонение от него чревато серьезным наказанием. Уровень участия в выборах без выбора, практиковавшихся в Советском Союзе, достигал 99 %. Когда голосование обязательно, но наказание за неявку на выборы – лишь умеренный штраф, как в Австралии и в Нидерландах до 1970 г., голосуют 92–95 %. В наиболее развитых странах на выборы с выбором являются от 70 до 90 % избирателей, а в технологически отсталых уровни явки падают до 60 или даже 40 %. В данном отношении Соединенные Штаты выглядят скорее как слаборазвитая страна, причем причины такой ситуации широко обсуждаются, но до сих пор не выяснены. Сложность процедуры регистрации сама по себе не объясняет этого феномена. Дополнительными факторами низкой явки на выборы могут служить слишком частые выборы и большое число выборных позиций. Однако, с точки зрения настоящей работы, достаточно отметить, что нужно проводить различия между потенциальными избирателями и теми, кто реально участвует в голосовании.
Как проводить нарезку округов – в соответствии с численностью населения в целом (включая детей и других лиц, лишенных права голоса), общим числом потенциальных избирателей, числом зарегистрированных избирателей или количеством людей, которые действительно принимали участие в предыдущих выборах? В некоторых случаях выбор того или иного варианта ответа на этот вопрос имеет реальные практические последствия. Когда США добились независимости, южные штаты потребовали представительства в Конгрессе в соответствии с населением в целом, включая рабов, которые правом голоса, конечно, не обладали. Был достигнут компромисс, в результате которого при распределении мест в Конгрессе каждого раба приравнивали к половине человека. (Женщины тоже не имели избирательного права, но поскольку их доли на севере и на юге США были примерно равны, их учет при нарезке округов не порождал какого бы то ни было дисбаланса.) В условиях всеобщего избирательного права нарезка округов исходя из численности взрослого населения дает практически те же результаты, что и проведенная на основе населения в целом. Чаще всего используется последний принцип. Нарезка округов на основе действительно участвующих в голосовании могла бы дать мощный толчок к расширению политического участия в США. Однако такой подход противоречил бы принципу «один человек – один голос», который не зависит от того, пользуются ли люди своим избирательным правом.
А. Лейпхарт. Электоральные системы[46]
Мажоритарный и плюральный методы в сравнении с системой пропорционального представительства
Четвертое отличие между мажоритарной и консенсусной моделями демократии достаточно четкое. Типичная электоральная система мажоритарной демократии представляет собой одномандатный округ с плюральной или мажоритарной системами; консенсусная демократия обычно использует систему пропорционального представительства (ПП). Методы с использованием одномандатных округов основываются на принципе «победитель получает все» – кандидат, поддержанный большинством избирателей, выигрывает, тогда как все остальные избиратели оказываются непредставленными – что и является точным отражением мажоритарной философии. Более того, партия, получившая абсолютное и относительное большинство голосов на национальном уровне, будет «сверхпредставленной» относительно мест в парламенте. В противоположность этому, основная цель пропорциональной системы – представлять как большинство, так и меньшинство, и вместо того, чтобы в результате какая-либо партия была «сверхпредставлена», или, напротив, «недопредставлена», распределять места пропорционально голосам.
Разрыв между двумя типами электоральных систем также существенен в том смысле, что изменения внутри каждого типа – обычное явление, но очень редко демократические системы переходят от ПП к мажоритарной или плюральной системам, и наоборот. Представляется, что каждая группа стран придерживается собственной электоральной системы. <...>
Электоральные формулы
Хотя противопоставление ПП-системы, с одной стороны, и одномандатной мажоритарной или плюральной, с другой, является главным отличительным признаком в классификации избирательных систем, необходимо указать на некоторые дополнительные отличия и создать более усовершенствованную типологию. Избирательные системы могут быть описаны по семи признакам: электоральная формула, величина округа, электоральный порог, количество мандатов, влияние президентских выборов на выборы в законодательные органы, степень диспропорциональности при распределении мест, внутрипартийные электоральные связи.
Рисунок 1 дает классификацию в соответствии с электоральной формулой; он показывает, к какой категории принадлежат 36 демократий, или, в некоторых случаях, определенные периоды в истории этих стран. Первая категория электоральной формулы – плюральная и мажоритарная – подразделяется на три более конкретных вида. Плюральная формула, обычно называемая «первый на финише» в Великобритании, – самая простая: кандидат, который получил большинство голосов, относительное или абсолютное, избирается. Очевидно, что это распространенная формула: 12 из 36 демократий использовали ее в период с 1945 по 1996 г. Она также применяется в ходе президентских выборов в Венесуэле, Исландии, Коста-Рике (в слегка модифицированном виде), а также в Колумбии (до 1990 г.).
Рис. 1. Классификация электоральных формул для выборов первого лица или членов парламентов в тридцати шести демократиях, 1945–1996 гг.
Мажоритарные формулы предполагают абсолютное большинство, необходимое для избрания. Один из способов добиться этого – провести решающее вторичное голосование по двум главным кандидатам в случае, если никто из них не получил большинства голосов в первом туре. Этот метод часто используется при президентских выборах во Франции, Австрии, Португалии и, после 1994 г., в Колумбии и Финляндии, а также в ходе прямых выборов премьер-министра Израиля... однако во Франции и при парламентских выборах используется очень похожий метод. Национальная Ассамблея избирается по смешанной мажоритарно-плюральной формуле в одномандатных округах. В первом туре для избрания требуется абсолютное большинство, но если ни один кандидат не получает его, то в ходе повторного голосования достаточно получить относительное большинство голосов: кандидаты, которые не смогли получить минимально требуемый процент голосов в первом туре – 12,5 % всех зарегистрированных избирателей (с 1976 г.), – отстраняются от повторного голосования. Обычно повторное состязание происходит между двумя главными кандидатами, таким образом на практике нет существенной разницы между мажоритарно-плюральной и чисто мажоритарной системами.
Альтернативное голосование, используемое в Австралии, представляет собой истинно мажоритарную формулу. Среди кандидатов избирателям предлагают указать на того, кого они предпочитают всем остальным («первое предпочтение»), затем указать свое «второе предпочтение» и т. д. Если кандидат получит абсолютное большинство «первых предпочтений», он или она считаются избранными. Если такого большинства нет, то кандидат с наименьшим числом «первых предпочтений» отстраняется и бюллетени, в которых он был отмечен в качестве первого предпочтения, превращаются во второе предпочтение. Процедура повторяется путем исключения слабейшего кандидата и перераспределения бюллетеней в соответствии со следующим наивысшим предпочтением на каждой стадии подсчета, пока не появляется мажоритарный победитель. Альтернативное голосование также используется при выборах президента в Ирландии.
Следует выделить три главных типа ПП-системы. Наиболее распространенной является списочная ПП-система, использовавшаяся в 18 из 36 выделенных нами демократий в течение большей части периода 1945–1996 гг. Существуют небольшие различия в списочных системах, но все они в основе своей предполагают, что партии составляют списки кандидатов в многомандатных округах, что избиратели отдают свои голоса за списки либо одной, либо другой партии (хотя иногда допускается распределить свои голоса среди нескольких списков), и что места распределяются между партиями пропорционально полученным голосам. Списочная ПП-система в свою очередь подразделяется в соответствии с математической формулой, используемой для перевода голосов в количество мест. Наиболее часто используемый метод – «формула Ондта», которая дает определенные преимущества большим партиям в ущерб небольшим по сравнению с некоторыми другими методами...
Вторая разновидность ПП-системы – «смешанная» формула – термин, появившийся в Новой Зеландии для обозначения собственной системы, но сейчас повсеместно используемый для данной категории. Около половины парламентариев в Германии, Новой Зеландии и Венесуэле и около 3/4 в Италии избираются относительным большинством в одномандатных округах, а остальные по списочной ПП-системе. Каждый избиратель имеет два голоса – один за одномандатного кандидата и один за партийный список. Причина, по которой эта комбинированная система квалифицируется как ПП-система, состоит в том, что места, полученные по партийным спискам, компенсируют диспропорциональность, являющуюся результатом одномандатной системы. Общий результат зависит от того, сколько списочных мест выделено для такой компенсации...
Третьим основным типом ПП-системы является система «единого переходящего голоса». Она отличается от списочной ПП-системы тем, что избиратели голосуют за одного кандидата вместо партийного списка. В данном случае бюллетень похож на тот, который используется при системе альтернативного голосования: он содержит имена кандидатов, и избирателям предлагают распределить их в порядке предпочтений. Процедура определения победителей немного сложнее, чем при альтернативном голосовании. Имеют место два типа передачи голосов: во-первых, излишние голоса, ненужные кандидату, который уже имеет необходимую минимальную квоту, требуемую для выборов, передаются следующим наиболее предпочитаемым кандидатам; во-вторых, самый слабый кандидат вычеркивается и его или ее голоса передаются таким же образом. При необходимости процедура повторяется, пока не заполняются все имеющиеся места. Эту систему обычно хвалят, так как она соединяет преимущества голосования за конкретного кандидата с гибкостью пропорциональной системы, но она не часто используется. Единственными примерами на рис. 1 являются Ирландия и Мальта. Такая же система используется при выборах Сената в Австралии.
Большинство электоральных формул соответствуют двум основным категориям ПП либо плюрально-мажоритарной, но некоторые занимают промежуточное положение. Такие полупропорциональные формулы используются редко, и единственные примеры в нашей группе стран – это три системы, которые применялись в Японии. Система с ограниченным числом голосов, использовавшаяся на выборах 1946 г., а также система «единого непереходящего голоса», применявшаяся в ходе всех последующих голосований до 1996 г., очень близки между собой: избиратели голосуют за конкретных кандидатов и, как это имеет место в плюральных системах, кандидаты, набравшие большинство голосов, побеждают. Однако в отличие от плюральной системы, избиратели не имеют такого числа голосов, которое соответствовало бы количеству мест в округе, и округа должны иметь по крайней мере два места. Чем более ограниченное число голосов имеет каждый избиратель и чем больше количество «разыгрываемых» мест, тем в большей степени система с ограниченным числом голосования имеет тенденцию отклоняться от плюральной системы и тем более она напоминает ПП. На выборах 1946 г. каждый избиратель имел два или три голоса в округах, которые насчитывали от 4 до 14 мест. Формула «единого непереходящего голоса» является разновидностью системы с ограниченным числом голосов, когда количество голосов у каждого избирателя ограничено одним. В японском варианте такая система использовалась в округах, в среднем насчитывавших четыре места.
В так называемых параллельных плюрально-пропорциональных системах, использовавшихся в Японии в 1996 г., 300 депутатов избирались относительным большинством в одномандатном округе и 200 – по списочной системе ПП; каждый избиратель имел как голос в округе, так и за список. Эти особенности делают такую формулу близкой к системе «смешанной пропорциональности», по существу отличие ее в том, что места, полученные по пропорциональной системе голосования, не являются компенсирующими. Выборы по плюральной и ПП-системам проводятся совершенно самостоятельно. Следовательно, в отличие от системы «смешанной пропорциональности», эта формула лишь частично пропорциональна...
Большинство стран не меняло своих электоральных формул в течение 1945–1996 гг. Единовременное использование системы с ограниченным числом голосов в Японии в 1946 г. и списочной ПП-системы во Франции в 1986 г. – лишь некоторые исключения. Все наиболее важные имевшие место изменения произошли в 1990-х гг. в Новой Зеландии, Италии, Японии и Венесуэле, и три из них перешли к смешанной системе. Следует, однако, отметить, что первые выборы в соответствии с новыми формулами в Японии и Новой Зеландии были организованы во второй половине 1996 г. – т. е. находятся за временными рамками данного исследования (середина 1996 г.).
Величина округа
Величина избирательного округа указывает на количество кандидатов, избираемых в этом округе. Это обстоятельство не следует путать с географической величиной округа или количеством в нем избирателей. Плюральные и мажоритарные системы могут использоваться как в одномандатном, так и многомандатных округах. Системы ПП или же «единого непереходящего голоса» требуют многомандатных округов, таковыми могут быть как округ с двумя местами, так и единый национальный округ, от которого избираются все члены парламента. Такая величина округа имеет большое влияние на степень диспропорциональности и на количество партий, которые существуют длительное время...
Величина округа является очень важным обстоятельством в двух отношениях. Во-первых, она оказывает большое влияние как в плюрально-мажоритарной, так и в ПП-системах (а также в системе «единого непереходящего голоса»), но в противоположных направлениях: увеличение округа при использовании плюральной системы влечет за собой усиление диспропорциональности и большие преимущества для крупных партий, в то время как при ПП-системе оно дает в результате большую пропорциональность и более благоприятные условия для деятельности малых партий. Что касается плюральной системы, то допустим, к примеру, что имеет место электоральное соперничество между партиями А и Б и что партия А – немного сильнее в определенном регионе. Если этот регион представляет собой округ с тремя местами, то скорее всего партия А завоюет все три места; однако если регион разделен на три одномандатных округа, то партия Б также может выиграть в одном из них и, следовательно, занять одно из трех мест. Если величина округа и далее возрастает, диспропорциональность увеличивается; в гипотетическом случае существования единого национального округа с ПП-системой и при условии, что все избиратели голосуют только за своих кандидатов, партия, получившая относительное большинство в национальном масштабе, займет все места.
В системе альтернативного голосования Австралии и во французской мажоритарно-плюральной системах используются только одномандатные округа. <...> В плюральных системах есть примеры использования двухмандатных или даже еще больших округов, но такие встречаются очень редко. Великобритания использовала несколько двухмандатных округов в 1945 г., США и Канада имели несколько таких округов в период 1945–1968 гг. В Индии на выборах 1952 и 1957 гг. около трети парламентариев избирались по двухмандатным округам. Барбадос избирал весь свой парламент по двухмандатным округам в 1966 г. К 1970 г., однако, все эти двухмандатные округа были отменены. Единственная страна, использующая плюральную систему относительного большинства, в которой продолжают существовать многомандатные округа, – это Маврикий, где 62 парламентария избираются в 20 округах, имеющих 3 места, и одном двухмандатном. Промежуточный вариант существует в Папуа-Новой Гвинее, где каждый избиратель имеет два голоса: один предназначен для голосования в одном из 89 относительно небольших одномандатных округов, а другой – в одном из 20 больших провинциальных округов. Важной причиной того, почему многомандатные округа стали редкостью, является тот факт, что, как указано выше, они влекут за собой еще большую диспропорциональность по сравнению с и так диспропорциональными одномандатными округами. В случае с Маврикием, однако, следует заметить, что трехмандатные округа обеспечили пропорциональность иного свойства: они поощряют партии и партийные альянсы составлять этнически и религиозно сбалансированные списки кандидатов, вследствие чего обеспечивается лучшее представительство этнических и религиозных меньшинств, чем это достигается посредством выборов по одномандатным округам. Более того, в дополнение к 62 избранным парламентариям, 8 мест предназначаются для так называемых «лучших проигрывающих», чтобы обеспечить справедливое представительство меньшинства. <...> Три другие страны, использовавшие плюральную систему, предусмотрели особые условия представительства этнических или религиозных меньшинств путем выделения особых округов для этих целей: округ майори в Новой Зеландии... около 1/5 всех округов Индии, которые предназначены для «особых каст» (неприкасаемых) и «особых племен», а также округа в Соединенных Штатах, имеющих репутацию округов, где происходят предвыборные махинации.
Вторая причина, почему величина округа так важна, состоит в том, что, в отличие от плюральных и мажоритарных систем, она очень различна в ПП-системах и, следовательно, имеет большее влияние на степень их пропорциональности. Например, партия, представляющая десятипроцентное меньшинство, вряд ли получит место в пятимандатном округе, но будет иметь успех в десятимандатном. Двухмандатные округа поэтому вряд ли рассматриваются как совместимые с принципом пропорциональности; напротив, общенациональный округ, при прочих равных условиях, является оптимальным для пропорционального распределения голосов соответственно количеству мест. Израиль и Нидерланды являются примерами ПП-систем с такими общенациональными округами.
Многие страны со списочной ПП-системой используют два уровня округов, чтобы соединить преимущества малых округов с их возможностью тесного контакта избирателя и его представителя, а также высокую степень пропорциональности, достигаемую в большом, в особенности общенациональном округе. Как и в смешанных системах, большой округ компенсирует любые диспропорции в меньших округах, хотя таковые гораздо менее выражены в малых многомандатных округах с ПП-системой, чем в смешанных одномандатных округах. Примеры таких двухуровневых ПП-систем с общенациональными округами на высшем уровне – Дания, Швеция с 1970 г. и Норвегия с 1989 г.
Электоральный порог
Большие округа с ПП-системой ведут к усилению пропорциональности и облегчают представительство даже очень маленьких партий. Это особенно справедливо в отношении нидерландского и израильского общенациональных округов, также как и для систем, которые используют общенациональные округа на высшем уровне. Чтобы не слишком упростить возможность выиграть выборы для малых партий, все страны, которые используют большие общенациональные округа, установили минимальный порог для представительства, определяемый минимальным числом мест, завоеванных в округах каждого уровня и/или минимальным процентом голосов, полученных на общенациональном уровне. Этот процент может быть относительно низким и, следовательно, несущественным, как, например, 0,67 % порог в Нидерландах с 1956 г. и 1 % порог в Израиле (он вырос до 1,5 % в 1992 г.). Но когда порог достигает 4 %, как в Швеции и Норвегии, или 5 %, как в смешанных системах в Германии, и, после 1996 г., в Новой Зеландии, то он становится серьезным барьером для малых партий.
Размер округа и электоральный порог могут рассматриваться как две стороны одной медали: официальный барьер против малых партий выполняет по существу такую же функцию, как барьер, создаваемый величиной округа. Их соотношение приблизительно выглядит так:
где Т – порог, M – средняя величина округа.
В соответствии с этим уравнением средний четрехмандатный округ в Ирландии (которая использует округа с тремя, четырьмя и пятью местами) имеет скрытый порог в 15 %, а средний округ с 6,7 количеством мест в испанской списочной ПП-системе имеет порог 9,7 %. Наоборот, немецкие 5 % и шведские 4 % пороги имеют примерно такой же эффект, как величина округа в 14 и 17,8 мест.
Признаки других электоральных систем
Другой фактор, который может оказать влияние на пропорциональность в результате выборов и количество действующих партий, – величина избираемого органа. На первый взгляд может показаться, что это не имеет отношения к избирательным системам, однако поскольку избирательные системы являются методом перевода голосов в места, количество доступных мест является неотъемлемой частью таких систем. Количество мест важно по двум причинам. Во-первых, предположим, что три партии получили 43 %, 31 % и 26 % голосов на национальном уровне в ПП-системе. Если выборы проходят в небольшой орган с пятью местами, очевидно, что возможности распределить места с достаточной степенью пропорциональности не существует; шансы пропорционального распределения в значительной степени увеличиваются при выборах в орган с десятью местами; высокий уровень пропорциональности может быть достигнут, по крайней мере, теоретически, при выборе в какой-либо законодательный орган, состоящий из ста мест. Для законодательных органов с числом мест сто и более величина округа становится относительно несущественна, но ее ни в коем случае нельзя недооценивать в условиях меньших легислатур...
Во-вторых, обычно многонаселенные страны имеют большие законодательные учреждения, страны с немногочисленным населением – меньшие по размеру, и величина учреждения имеет тенденцию приблизительно равняться квадратному корню от величины населения. Выборы по плюральной системе всегда имеют тенденцию быть непропорциональными, но эта тенденция усиливается, когда число мест в легислатуре значительно ниже значения квадратного корня от величины населения...
Уровни диспропорциональности
Как мы уже видели, многие черты электоральных систем влияют на степень диспропорциональности и косвенно – на число партий в партийной системе. Как можно измерить общий уровень диспропорциональности выборов? Легко определить диспропорциональность каждой партии в случае конкретных выборов. Это лишь разница между долей тех, кто проголосовал за нее, и долей полученных мест. Более сложный вопрос состоит в том, как обобщить уровень отклонения – «голос-место» – всех партий. Суммирование «разниц» не является удовлетворительным ответом, так как оно не дает различия полученного значения:
В некоторых избирательных системах могут быть использованы два вида подсчета голосов с целью определения разницы «голос – место»; какой из них использовать? В смешанных системах выбор идет между голосами, поданными за списки партий, и голосами в округах; по общему мнению исследователей голоса, поданные за списки, выражают предпочтения, отданные партиям электоратом, наиболее точно. В системах альтернативного голосования и «единого непереходящего голоса» выбор происходит между голосами первого предпочтения и окончательно подсчитанными голосами – т. е. подсчет голосов завершается после передачи предпочтений: обычно оглашаются голоса первого предпочтения, и исследователи едины во мнении, что разница между этими двумя системами не имеет большого значения. Однако разница между результатами первого и второго голосования существенна во Франции. В первом туре голоса обычно разделены между многими кандидатами, и настоящий выбор делается во втором туре. Лучшее решение состоит в подсчете решающих голосов: главным образом голосов, отданных во втором туре, но также и голосов, отданных в первом туре в округах, где кандидаты были избраны уже в первом туре.
Электоральная диспропорциональность в президентских демократиях
...Президентским выборам всегда соответствовала диспропорциональность как результат тех двух качеств электоральных систем, которые обсуждались выше: электоральной формулы, которая при выборах одного лица по необходимости является либо плюральной, либо мажоритарной, и «величины избираемого органа», который в данном случае всегда состоит из одного лица. Партия, которая побеждает на президентских выборах, завоевывает «все места» – т. е. одно доступное место – а проигравшие партии – ни одного. Это еще одно обстоятельство, почему президентские системы – обычно мажоритарные, в дополнение к их свойству иметь мажоритарные кабинеты, a также их влиянию на уменьшение количества действующих партий.
Таблица 1
Средняя диспропорциональность парламентских и президентских выборов... в шести президентских системах 1946–1996 гг.
Таблица 1 демонстрирует индексы диспропорциональности при выборах в законодательные органы и на президентских выборах в шести президентских системах. Как ожидалось, диспропорциональность в ходе президентских выборов выше, чем при выборах в законодательные органы: в среднем между 38 % и 50 % в шести странах. Если имеются только два кандидата, индекс диспропорциональности равен проценту голосов, набранному проигравшим кандидатом... Более того, диспропорциональность при президентских выборах не просто выше, чем при выборах в законодательные органы, но существенно выше: 5 из 6 президентских систем имеет средние индексы диспропорциональности при выборах в законодательные органы менее 5 %. В случае, когда оба вида диспропорциональности имеют место и могут быть подсчитаны, то как наилучшим образом соединить их? Если использовать арифметическую среднюю величину, диспропорциональность при президентских выборах будет выше по сравнению с выборами в законодательные органы. Поэтому лучше использовать геометрическое значение, которое также в целом более подходит, когда выводится среднее число существенно отличающихся друг от друга величин. Такие геометрические значения показаны в последней колонке табл. 1.
Уровни диспропорциональности в 36 демократиях
Таблица 2
Среднее число электоральной диспропорциональности и тип электоральной системы (используемой в парламентских выборах) в тридцати шести демократиях
Средний уровень электоральной диспропорциональности во всех 36 странах показан в восходящем порядке в табл. 2 вместе с основным типом избирательной системы, использованной в ходе выборов в законодательные органы, ПП (включая системы «единого переходящего голоса» в Ирландии и на Мальте), «единого непереходящего голоса» и мажоритарную (Австралия и Франция) – и звездочками указывается на то, президентская [ли] это страна... (...включая Францию, но не Израиль). Индексы охватывают широкий диапазон от 1,30 % в Нидерландах до 21,08 % во Франции; среднее число равняется 8,26 %, а медиана – 8,11 %.
Существует в высшей степени явно видимая граница, отделяющая парламентскую ПП-систему от систем мажоритарных и плюральных. Даже те две страны с ПП-системой, которые редко рассматривают в качестве таковых, – Греция и Испания – тем не менее расположены за разделительной чертой на стороне ПП-систем. Испанская ПП-система не слишком пропорциональна – главным образом потому, что имеет небольшие избирательные округа. Греческая ПП-система часто менялась, но обычно – это «усиленная ПП-система» – обманчивое название, так как усиливается не столько пропорциональность, сколько большие партии. Тем не менее даже эти две «нечистые» системы имеют меньшую диспропорциональность, чем любая из плюральных или мажоритарных систем. Также следует отметить, что японская система «единого непереходящего голоса» более полупропорциональна, чем ПП, и система, имеющая небольшие избирательные округа, относящаяся к ПП-системам. Фактически ее средний показатель диспропорциональности в 5,03 % гораздо ниже, чем у Греции и Испании. Большинство стран с ПП-системой имеют средний показатель диспропорциональности между 1 % и 5 %; типичный пример – Бельгия и Швейцария – находятся приблизительно в середине этого диапазона.
Среди стран с плюральными или мажоритарными системами Австралия – единственная страна с диспропорциональностью между 10 % и 20 %. Четыре парламентские системы с наивысшим уровнем диспропорциональности – Багамы, Барбадос, Маврикий и Ямайка – являются маленькими государствами с плюральной системой и необычайно малыми законодательными органами. Более того, Маврикий использует в основном трехмандатные округа. Великобритания и Новая Зеландия находятся среди наименее диспропорциональных плюральных систем. Исключительный случай, когда ПП-системы являются в высокой степени диспропорциональными, – три президентские демократии: Колумбия, Коста-Рика и Венесуэла. Таблица 1, однако, показывает, что их диспропорциональность при выборах законодательных органов колеблется от 2,96 % до 4,28 % – что вполне нормально для ПП-системы – и что именно президентская система дает высокий общий уровень диспропорциональности. Диспропорциональность при выборах законодательных органов власти также относительно низка в США несмотря на плюральный метод при выборах в Конгресс. Главное объяснение этого необычного феномена – существование «праймериз» в США. В большинстве плюральных систем значительную долю диспропорциональности при выборах обусловливает наличие малых партий, которые остаются непредставленными или же в большей степени недопредставленными; их очень немного в США, так как система «праймериз» побуждает инакомыслящих попытать счастья в ходе «праймериз» с одной из главных партий вместо того, чтобы создавать отдельные малые партии; в дополнение к этому государственные законы имеют дискриминационный уклон в отношении малых партий. Тем не менее президентские выборы дают США высокий общий уровень диспропорциональности. Французская система (табл. 2), является наиболее диспропорциональной в результате диспропорциональной системы выборов в законодательные органы власти в соединении с президентской системой. Этот индекс немного ниже в табл. 2, чем геометрическое значение, показанное в табл. 1, так как в ходе двух выборных кампаний в 1986 и 1993 гг., которые открыли парламентские фазы, подсчитывалась только диспропорциональность в ходе выборов в законодательные органы власти. <...>
Электоральные системы и партийные системы
Хорошо известно положение сравнительной политологи о том, что плюральная система благоприятствует становлению двухпартийной системы. М. Дюверже считал это утверждение приближающимся к закону социологии. Напротив, ПП и система двух туров (как французский плюрально-мажоритарный метод) способствуют появлению многопартийности. Дюверже объясняет различное воздействие избирательных систем действием «механических» и «психологических» факторов. Механический эффект плюральной системы состоит в том, что все, кроме двух сильнейших партий, оказываются в значительной степени недопредставленными, так как обычно проигрывают в каждом округе; британские либералы, постоянно проигрывающая третья партия в послевоенный период, является хорошим примером. Психологический фактор усиливает механический: «избиратели вскоре обнаруживают, что их голоса пропадают, если они продолжают отдавать их за третью партию: отсюда их естественное стремление передать свой голос тому из двух соперников кто, по их мнению, является меньшим из зол». В дополнение к этому психологический фактор действует на уровне политиков, которые, естественно, стремятся не тратить зря энергию, поддерживая кандидата третьей партии, а вместо этого присоединяются к одной из больших партий.
Дуглас В. Рае сделал несколько существенных дополнений к исследованию различий между избирательными и партийными системами. Различные избирательные системы не только оказывают неодинаковое влияние на партийные системы, но, как Рае подчеркивает, они также имеют важные последствия в целом. А именно: все избирательные системы, а не только плюральные и мажоритарные, способствуют тому, чтобы «сверхпредставлять» большие партии и «не-допредставлять» партии меньших размеров. Необходимо отметить три важных аспекта этой тенденции: 1) все избирательные системы склонны давать непропорциональные результаты; 2) все избирательные системы имеют тенденцию уменьшать число эффективных парламентских партий в сравнении с числом партий, которые принимали участие в выборах и 3) все избирательные системы могут создать парламентское большинство для партий, которые не получили наибольшей поддержки со стороны избирателей. С другой стороны, все три тенденции гораздо сильнее выражены в плюральных и мажоритарных системах, чем в ПП-системах.
Первое предположение Рае хорошо видно из табл. 2: даже наиболее пропорциональная система, такая как в Нидерландах, все равно имеет диспропорциональность в 1,30 % вместо 0. Но, как уже отмечалось ранее, диспропорциональность ПП-систем гораздо ниже, чем диспропорциональность плюральной или мажоритарной систем. Второе и третье предположение Рае основаны на том, что диспропорциональности избирательных систем не случайны, но закономерны: они систематически создают преимущества для больших партий и ставят в невыгодное положение меньшие – и опять-таки главным образом в плюральных и мажоритарных системах. Именно поэтому выборы в целом, а по плюральной или мажоритарной системе в особенности, уменьшают эффективное число партий.
Систематическое преимущество, которое избирательные системы дают большим партиям, становится особенно важным, когда партии, которые не могут получить большинства голосов, вознаграждаются большинством мест. Это дает возможность сформировать правительства однопартийного большинства – один из отличительных признаков мажоритарной демократии. Рае называет такое большинство «сфабрикованным», т. е. искусственно созданным с помощью избирательной системы. Сфабрикованное большинство может контрастировать и с завоеванным большинством, когда партия получает большинство как на выборах так и большинство мест, и с естественным меньшинством, когда ни одна партия не завоевывает ни большинства голосов, ни большинства мест. <...>
Наиболее яркие примеры сфабрикованного большинства можно обнаружить в Великобритании и Новой Зеландии, но неоднократно такое большинство возникало также в Австралии и Канаде. Завоеванное большинство является обычным в плюральных системах с жесткой двухпартийной конкуренцией: на Багамах, в Ботсване, Ямайке, Тринидаде и в США. Фактически, в результате частых выборов в Конгресс, США обеспечивают значительное превосходство завоеванного большинства в целом в плюральных и мажоритарных системах: 23 из 59 случаев завоеванного большинства. В противоположность этому, выборы по пропорциональной системе редко дают сфабрикованное или завоеванное большинство. Такие результаты главным образом имели место в странах, которые, несмотря на ПП систему, имеют относительно небольшое количество партий (Австрия и Мальта), в странах с нечистой ПП-системой (Испания, Греция) и в президентских системах, которые используют ПП при выборах в законодательные органы (Колумбия, Коста-Рика и Венесуэла). Более 80 % выборов по плюральной или мажоритарной системе ведут к сфабрикованному или завоеванному большинству, а более 80 % выборов по системе ПП дают естественное меньшинство.
Мы также можем наблюдать ярко выраженное обратное соотношение между диспропорциональностью избирательной системы и числом парламентских партий. Рис. 2 показывает это соотношение в наших 36 демократиях, коэффициент соотношения – 0,50, который статистически важен на уровне 1 % диспропорциональности. По мере возрастания диспропорциональности число партий уменьшается. Возрастание диспропорциональности на 5 % соответствует уменьшению числа партий почти вдвое (0,52, если быть точнее).
Рис. 2. Взаимосвязь между электоральной диспропорциональностью и эффективным числом партий в тридцати шести демократиях, 1945–1996 гг.
Таблица 2 показывает значительный разброс и в то же время незначительное число отклонений. Другие факторы также в значительной степени оказывают влияние на число партий. Один из них – степень плюрализма и число групп, на которое разделено общество, что может объяснить многопартийность в Папуа-Новой Гвинее и Индии, несмотря на то, что их диспропорциональная система выборов влияет на уменьшение числа партий. Другое плюралистическое общество, Швейцария, имеет еще большую многопартийность, чем это можно было бы ожидать вследствие ее пропорциональной электоральной системы. Противоположный эффект можно наблюдать в Австрии, чье плюралистическое, а в последствии полуплюралистическое общество состоит главным образом из двух больших «лагерей», и на Мальте, где электорат давно тяготеет к тому, чтобы разделиться на две почти равные группы: в этих двух странах двухпартийная и двухсполовинная партийная системы сосуществовали с системой выборов с высокой степенью пропорциональности. Две из президентских систем – Франция и Венесуэла – также относительно отклоняющиеся, с наличием значительно большего числа партий, чем это можно было ожидать вследствие диспропорциональности их систем.
Раздел VIII Институты представительства интересов
В политической системе существует ряд институтов, выполняющих схожую функцию представительства интересов. К ним можно отнести парламент, политические партии, лоббизм, корпоративизм и неокорпоративизм, средства массовой информации. В этом разделе хрестоматии мы помещаем фрагменты работ, посвященных партии как политическому институту, лоббизму и неокорпоративизму.
В классической работе М. Вебера прослеживаются основные этапы зарождения и развития партий. Американский политолог Аббот Лоуэлл одним из первых обратил внимание на роль партий в демократических странах. Фрагмент работы известного французского политолога Мориса Дюверже посвящен анализу структуры партий. Работы М. Вебера, А. Лоуэлла, М. Дюверже сформировали политологическую традицию анализа партий как института представительства интересов – института, без которого немыслимо функционирование демократической политической системы.
Статья Уэнди Росса освящает один из аспектов лоббизма в США – так называемый парламентский лоббизм. В ней лоббистский процесс представлен как столкновение интересов различных заинтересованных групп.
Отрывки из работы американского политолога Филиппа Шмиттера посвящены относительно новому институту представительства и согласования интересов – неокорпоративизму. В определенном смысле неокорпоративизм можно рассматривать как институт, альтернативный лоббизму. Работа Шмиттера интересна именно анализом специфики неокорпоративизма и его отличием от традиционных форм представительства интересов: деятельности партий и лоббизма. Нам представляется, что анализ неокорпоративизма имеет не только сугубо научный интерес, но и практическую значимость для российской политической системы.
М.Вебер. Политика как призвание и профессия[47]
[Этапы генезиса партийной организации в Европе партия – свита аристократии, партия – локальный политический клуб, современная политическая партия)]
...Партии в нашем обычном смысле первоначально тоже были, например в Англии, только свитой аристократии. Каждый переход в другую партию, совершаемый по какой-либо причине пэром, влек за собой немедленный переход в нее всего, что от него зависело. Крупные дворянские семьи, и не в последнюю очередь король, вплоть до Билля о реформе осуществляли патронаж над множеством округов. К этим дворянским партиям близко примыкают партии уважаемых людей, получившие повсеместное распространение вместе с распространением власти бюргерства. «Образованные и состоятельные» круги, духовно руководимые типичными представителями интеллектуальных слоев Запада, разделились частично по классовым интересам, частично по семейной традиции, частично по чисто идеологическим соображениям на партии, которыми они руководили. Духовенство, учителя, профессора, адвокаты, врачи, аптекари, состоятельные сельские хозяева, фабриканты – весь тот слой, который в Англии причисляет себя к gentiment, – образовали сначала нерегулярные политические союзы, самое большее – локальные политические клубы; в смутные времена беспокойство доставляла мелкая буржуазия, а иногда и пролетариат, если у него появлялись вожди, которые, как правило, не были выходцами из его среды. На этой стадии по всей стране еще вообще не существует интерлокально организованных партий как постоянных союзов. Сплоченность обеспечивают только парламентарии; решающую роль при выдвижении кандидатов в вожди играют люди, уважаемые на местах. Программы возникают частично из агитационных призывов кандидатов, частично в связи со съездами уважаемых граждан или решениями парламентских партий. В мирное время руководство клубами или, там, где их не было, совершенно бесформенным политическим предприятием осуществляется со стороны небольшого числа постоянно заинтересованных в этом лиц, для которых подобное руководство – побочная или почетная должность; только журналист является оплачиваемым профессиональным политиком, и только газетное предприятие – постоянным политическим предприятием вообще. Наряду с этим существуют только парламентские сессии. Правда, парламентарии и парламентские вожди партий знают, к каким уважаемым гражданам следует обращаться на местах для осуществления желаемой политической акции. И лишь в больших городах постоянно имеются партийные союзы (vereine) с умеренными членскими взносами, периодическими встречами и публичными собраниями для отчета депутатов. Оживление в их деятельности наступает лишь во время выборов.
Заинтересованность парламентариев в возможности интерлокальных предвыборных компромиссов и в действенности единых, признанных широкими кругами всей страны программ и единой агитации вообще по стране становится движущей силой все большего сплочения партий. Но если теперь сеть местных партийных союзов существует также и в городах средней величины и даже если она растянута «доверенными лицами» по всей стране, а с ними постоянную переписку ведет член парламентской партии как руководитель центрального бюро партии, то это не меняет принципиального характера партийного аппарата как объединения уважаемых граждан. Вне центрального бюро пока еще нет оплачиваемых чиновников; именно «видные люди» ради уважения, которым они обычно пользуются, повсюду руководят местными союзами: это внепарламентские уважаемые граждане, которые оказывают свое влияние наряду с политическим слоем уважаемых граждан – заседающих в данный момент в парламенте депутатов. Конечно, поставщиком духовной пищи для прессы и местных собраний во все большей мере является издаваемая партией партийная корреспонденция. Регулярные членские взносы становятся необходимыми; часть их должна пойти на покрытие издержек штаб-квартиры партии. <...>
Такому идиллическому состоянию господства кругов уважаемых людей, и прежде всего парламентариев, противостоят ныне сильно от него отличающиеся самые современные формы партийной организации. Это детища демократии, избирательного права для масс, необходимости массовой вербовки сторонников и массовой организации, развития полнейшего единства руководства и строжайшей дисциплины. Господству уважаемых людей и управлению через посредство парламентариев приходит конец. Предприятие берут в свои руки политики «по основной профессии», находящиеся вне парламентов. Либо это «предприниматели» – например, американский босс и английский «election agent» были, по существу, предпринимателями, – либо чиновник с постоянным окладом. Формально имеет место широкая демократизация. Уже не парламентская фракция создает основные программы и не уважаемые граждане занимаются выдвижением кандидатов на местах. Кандидатов предлагают собрания организованных членов партии, избирающие делегатов на собрания более высокого уровня, причем таких уровней, завершающихся общим «партийным съездом», может быть много. Но фактически власть находится в руках тех, кто непрерывно ведет работу внутри [партийного] предприятия, или же тех, от кого его функционирование находится в финансовой или личной зависимости, например меценатов или руководителей могущественных клубов политических претендентов («Таммани-холл»). Главное здесь то, что весь этот человеческий аппарат – «машина» (как его примечательным образом называют в англосаксонских странах) – или скорее те, кто им руководит, в состоянии взять за горло парламентариев и в значительной мере навязать им свою волю. Данное обстоятельство имеет особое значение для отбора вождей партии. Вождем становится лишь тот, в том числе и через голову парламента, кому подчиняется машина. Иными словами, создание таких машин означает наступление плебисцитарной демократии.
Партийная свита, прежде всего партийный чиновник и предприниматель, конечно, ждут от победы своего вождя личного вознаграждения – постов или других преимуществ. От него – не от отдельных парламентариев или же не только от них; это главное. Прежде всего они рассчитывают, что демагогический эффект личности вождя обеспечит партии голоса и мандаты в предвыборной борьбе, а тем самым власть, и благодаря ей в наибольшей степени расширит возможности получения ожидаемого вознаграждения для приверженцев партии. А труд с верой и личной самоотдачей человеку, не какой-то абстрактной программе какой-то партии, состоящей из посредственностей, является тут идеальным моментом – это «призматический» элемент всякого вождизма, одна из его движущих сил.
Данная форма получила признание не сразу, а в постоянной подспудной борьбе с уважаемыми людьми и парламентариями, отстаивающими свое влияние. Сначала это произошло в буржуазных партиях Соединенных Штатов, а затем – прежде всего в социал-демократической партии Германии. Коль скоро в какой-то момент партия оказывается без общепризнанного вождя, поражения следуют одно за другим, но даже если он есть, нужны всякого рода уступки тщеславию и небескорыстию уважаемых людей партии. Но прежде всего и машина может оказаться во власти партийного чиновника, прибравшего к рукам текущую работу. <...>
[Современные политические партии – это партии-машины, партии-корпорации]
Итак, речь идет о могущественном капиталистическом, насквозь заорганизованном сверху донизу партийном предприятии, опирающемся также на чрезвычайно крепкие, организованные подобно ордену клубы... целью которых является исключительно достижение прибыли через политическое господство прежде всего над коммунальным управлением, представляющим и здесь важнейший объект эксплуатации. <...>
Начиная с восьмидесятых годов буржуазные партии полностью превратились в корпорации уважаемых людей. <...>
А. Лоуэлл. Правительство и политические партии в государствах Западной Европы[48]
[Причины многопартийности]
<...> Прежде всего мы должны обратить внимание на источник политических несогласий, с которыми мы не знакомы у нас в Америке, но которые существуют почти у всех наций в Европе. <...>
Во Франции люди, не признающие общего соглашения, на котором основана существующая государственная власть, носят название непримиримых. Люди этого сорта не допускают правомочности существующего правительства, и хотя и могут временно ему повиноваться, однако цель их – революция, если не насильственными, так мирными средствами. Вследствие этого положение их значительно разнится от положения всех других партий, так как последние ставят себе целью только направление деятельности правительства в пределах, допускаемых Конституцией, и власть им может быть вверена без опасения за целость коренных учреждений, тогда как непримиримые непременно воспользовались бы этой властью для разрушения этих учреждений и потому не могут быть допущены к управлению страною. Они образуют оппозицию, неспособную управлять, и представляют собою беспокойный элемент, который при парламентской форме правления останавливает движение всей системы...
Отчасти вследствие такого умственного склада, отчасти же вследствие непривычки к самоуправлению и отсутствия связей между различными частями страны, французы неохотно образуют политические организации. Неспособность быстро организоваться для политической деятельности приводит к тому поразительному результату, что как ни пылки некоторые группы... они делают очень мало попыток осуществить свои стремления, соединяя своих сторонников во всех частях страны для совместной деятельности. <...>
...При парламентарной форме правления партийная организация едва ли нужна... например, в Англии необходимость в политических ассоциациях в значительной степени устраняется сильным министерством, которое действительно руководит парламентом и нацией. Но здесь мы наталкиваемся на некоторые другие причины, ведущие к раздроблению партий. <...>
Во Франции... избрание депутатов от целого департамента по единому списку и... выборы одного кандидата в каждом округе несколько раз сменяли друг друга. <...> При обеих системах для избрания необходимо абсолютное большинство всех поданных голосов. Если явится больше двух кандидатов и ни один из них не получит такого большинства, две недели спустя происходят вторичные выборы... И при этом для избрания достаточно простого (относительного) большинства. Ясно, что такая процедура дает возможность каждой группе выставить своего кандидата на первых выборах <...>...эта система препятствует образованию больших сплоченных партий...
<...> Обычай интерпеллировать[49] министерство имеет прямое влияние на прочность Кабинета и раздробление партий... <...> Это относится в особенности к тем случаям, когда кризис происходит по поводу вопроса, не имеющего большого значения для всей массы сторонников правительства... <...>
Этот обычай возник вследствие того, что, благодаря громадной власти, принадлежащей французской администрации, и тому, что эта власть часто применялась деспотически, законодательное учреждение приобрело привычку смотреть на членов Кабинета как на своих естественных врагов...
[Вертикальное и горизонтальное разделение партий]
Всенародное правление у какой-либо многочисленной нации, разумеется, химера, так как, как бы широко ни было избирательное право, партии непременно будут существовать и власть будет в действительности в руках партии, которая составляет или очень близка по своей численности к тому, чтобы составлять большинство народа. Но все-таки применение этого принципа имеет большое значение. Если разграничительная линия проходит вертикально, так что партия, стоящая у власти, заключает в себе значительную часть каждого из классов, каждая часть народа принимает непосредственное участие в управлении; но если эта линия горизонтальная, так что партия составляется главным образом из лиц одного класса, тогда классы, не представленные в ней, в сущности лишаются права голоса на все время, пока эта партия господствует. Вместо настоящей демократии мы имеем правление одного класса, которое легко вырождается в тиранию. Очень вероятно, что если бы правящий класс был единственным обладателем власти по закону, то тирания была бы легче, потому что при господстве партии, составленной из одного класса, отсутствует какое бы то ни было чувство ответственности перед остальным народом и неизбежный переход власти от одного класса к другому порождает глубокое ожесточение. Таким образом, пока партии разделяются вертикальными линиями, народное правление покоится на прочной основе. Но если все богатые люди или все люди образованные соединятся вместе – государство в опасности, а если все разграничительные линии станут совсем горизонтальными – демократия идет прямым путем к сословной тирании, которая, как показывает история, ведет к диктатуре. Вот смысл заявлений классических публицистов, говоривших, что государство естественно переходит от монархии к аристократии, от последней к демократии и затем опять обратно к монархии. Под демократией они понимали не всенародное правление, а господство низших классов. Даже территориальное давление на партии не так опасно, как горизонтальное, так как если первое может привести к междоусобной войне, последнее ведет к социальной анархии и деспотизму.
М. Дюверже. Политические партии[50]
Книга первая. Структура партий
Происхождение партий
Структура партий характеризуется многообразием. За одним и тем же понятием стоят три или четыре социологических типа, различающиеся по базовым элементам, способам их интеграции в определенную целостность, внутренним связям и руководящим институтам. Первый из них соответствует «буржуазным» партиям XIX в., которые и сегодня все еще существуют в виде консервативных и либеральных партий. В США они продолжают полностью занимать политическую сцену (вместе с тем американские партии отличаются и весьма оригинальными чертами). Они базируются на небольших комитетах, довольно независимых друг от друга и обычно децентрализованных; они не стремятся ни к умножению своих членов, ни к вовлечению широких народных масс – скорее они стараются объединять личностей. Их деятельность целиком направлена на выборы и парламентские комбинации и в этом смысле сохраняет характер наполовину сезонный; их административная инфраструктура находится в зачаточном состоянии; руководство здесь как бы распылено среди депутатов и носит ярко выраженную личностную форму. Реальная власть принадлежит то одному, то другому клану, который складывается вокруг парламентского лидера; соперничество этих группировок и составляет жизнь партий. Партия занимается проблемами исключительно политическими, доктрина и идеологические вопросы играют весьма скромную роль; принадлежность к партии чаще всего основана на интересе или традиции.
Совершенно иначе построены социалистические партии континентальной Европы: они основаны на вовлечении максимально возможного количества людей, народных масс. Здесь мы обнаружим четкую систему вступления, дополненную весьма строгим механизмом индивидуальных взносов, что в основном и обеспечивает финансирование партии (тогда как для так называемых буржуазных партий первого типа источником средств чаще всего выступают пожертвования и субсидии каких-либо частных кредиторов – коммерсантов, предпринимателей, банков и других финансовых структур. Комитеты уступают место «секциям» – рабочим единицам более широким и открытым, важнейшей функцией которых помимо чисто электоральной деятельности выступает политическое воспитание членов. Массовость членства и взимание взносов требуют создания значительного административного аппарата. В такой партии всегда есть большее или меньшее количество так называемых «постоянных» – т. е. функционеров, которые естественно тяготеют к превращению в своего рода класс и закреплению определенной власти; так складываются зачатки бюрократии. Личностный характер руководства здесь смягчен целой системой коллективных институтов (съезды, национальные комитеты, советы, бюро, секретариаты) с настоящим разделением властей. В принципе на всех уровнях царит выборность, но на практике обнаруживаются мощные олигархические тенденции. Гораздо более важную роль внутри самой партии играет доктрина, так как личное соперничество принимает форму борьбы различных идеологических течений. Кроме того, партия выходит далеко за пределы собственно политики, захватывая экономическую, социальную, семейную и другие сферы.
И уже в наше время коммунизм и фашизм создали еще более оригинальный социологический тип организации. В целом для него характерны: развитая централизация, противостоящая полуцентрализации социалистических партий; система вертикальных связей, устанавливающая строгую изоляцию базовых элементов друг от друга, которая противостоит любой попытке фракционирования или раскола и обеспечивает беспрекословную дисциплину; основанное на автократических принципах (назначение сверху и кооптация) руководство, роль парламентариев в котором практически равна нулю. И тот и другой отводят избирательной борьбе всего лишь второстепенную роль: их настоящая деятельность – иная, она развертывается на почве непрерывной пропаганды и агитации. Они используют прямые, а подчас и насильственные методы: забастовки, восстания, путчи etc. И те и другие стараются приспособиться к условиям как открытой, так и подпольной борьбы, если государство применяет против них запреты и преследования. Оба основываются на жестких тоталитарных доктринах, требующих от членов партии не только политической приверженности, но и полного подчинения всего существа. Они не приемлют разграничения публичной и частной жизни, претендуя распоряжаться как той, так и другой. Обе партии развивают в своих членах нерассуждающую преданность, замешенную на мифах и преданиях религиозного толка, соединяя таким образом церковную веру и армейскую дисциплину.
Вместе с тем коммунистические и фашистские партии коренным образом отличаются друг от друга. И прежде всего по своей структуре: первые опираются на систему производственных ячеек, вторые – на своеобразную милицию, разного рода негосударственные военизированные отряды. И затем – по своему социальному составу: первые представляют себя как политическое выражение рабочего класса, передовой отряд пролетариата, борющегося за свое освобождение; вторые созданы как орудие защиты среднего класса и мелкой буржуазии с целью противостоять их вытеснению и захвату политической власти рабочим классом. Они различны, наконец, по содержанию своих доктрин и коренным принципам: коммунизм верит в массы, фашизм – в элиты; первый исповедует эгалитаризм, второй – аристократизм. Коммунизм исходит из оптимистической философии, веры в прогресс, твердой убежденности в цивилизаторской миссии техники; фашизм отличает пессимистическое воззрение на человечество, он отвергает сциентизм XIX в. точно так же, как и рационализм XVIII в., и настаивает на ценностях традиционных и первозданных – общности расы, крови, почвы. Подсознательно эти высшие ценности олицетворяет для него не рабочий, а крестьянин.
Многие партии не укладываются в эту общую схему. И прежде всего – христианско-демократические, занимающие промежуточное положение между старыми партиями и социалистическими. Далее это лейбористские партии, созданные на базе кооперативов и профсоюзов по принципу непрямой структуры, которая нуждается в специальном анализе. Это агарные партии, организационное разнообразие которых весьма велико, хотя они и не получили большого распространения. Это партии архаического и предысторического типа, которые встречаются в некоторых странах Востока и Среднего Востока, Африки или Центральной Европы (до 1939 г.). Простые клиен-телы, складывающиеся рядом с влиятельными личностями; кланы, объединенные вокруг феодальных семейств; камарильи, собранные каким-то военным диктатором. <...>
У Росс. Лоббисты в конгрессе[51]
Лоббистское давление на конгресс, чтобы заставить его принять тот или иной законодательный акт, внести поправки в предлагаемые законопроекты или отменить уже принятый закон – главный элемент американской государственной системы, который, однако, часто озадачивает правительства иностранных государств. Таково мнение политологов, журналистов и самих лоббистов.
В соответствии с демократической системой США президент не имеет абсолютной власти, а разделяет ее с конгрессом. «Президент предлагает, а конгресс располагает. Оттенки этой игры конкурирующих сил часто не поддаются пониманию иностранных правительств, – говорит ветеран одной из вашингтонских лоббистских организаций Джон Мик. – Если президент заявляет, например, о желании узаконить ту или иную инициативу, то его намерение не может осуществиться без согласия большинства из 535 членов конгресса. Основная цель лоббирования – заставить конгрессмена проголосовать в вашу пользу, за преследуемые вами цели и при этом не бояться проиграть на следующих выборах. Вот и все, – поясняет Мик. – Иногда для этого необходимо мобилизовать избирателей с помощью сложной системы работы на местном уровне с использованием средств массовой информации. Общественность должна знать о данной конкретной проблеме и оказывать на политика давление с тем, чтобы он поддержал общее дело».
По мнению Томаса Манна, директора отделения правительственных исследований в вашингтонском «мозговом центре» – Институте Брукингса, лоббистская деятельность играет огромную роль в работе правительства. «У нас есть мощный конгресс, который децентрализован и крайне подвержен воздействию внешних интересов, – считает Манн. – Поэтому отдельные лица и группы имеют возможность вынести свою проблему на рассмотрение конгресса, зная при этом, что, во-первых, их выслушают, а во-вторых, положение вещей может измениться, поскольку конгресс независим в выработке общественной политики». Манн считает, что по мере развития правительственных структур и усложнения рассматриваемых проблем перегруженные работой члены конгресса и сотрудники их аппарата все более и более должны полагаться на услуги внешних экспертов для получения информации. Это ведет к расширению лоббистских фирм, которые способны не только входить в контакт с конгрессменами и их помощниками, но и следить за тысячами инструкций и правил, публиковать рекламные объявления, организовывать письма и телефонные звонки со стороны избирателей, а также обеспечивать своим представителям трибуну на телевидении и в прессе.
Говорит юрист и член лоббистской группы Мэри Лаймен: довольно часто лоббистские организации берут в субподрядчики информационно-рекламную фирму. Лоббисты обычно имеют дело с конгрессом и тонкостями законодательства, тогда как их субподрядчики больше работают со средствами массовой информации и проводят низовые рекламные кампании, чтобы обеспечить конгрессменам почту от избирателей.
Группы «общественных интересов», например «Сьерра-клуб» (защитники окружающей среды) или «Коммон коз» (борцы с правительственными злоупотреблениями), также занимаются лоббированием, хотя у них есть свои люди в самом конгрессе. Чаще всего эти организации освобождены от налогообложения и финансируются за счет членских взносов и пожертвований.
Говорит Джон Мик: суть лоббирования выражена в первой поправке к конституции, которая гласит, что конгресс не должен принимать законы, ограничивающие свободу слова или печати либо право народа на мирные собрания и на обращение к правительству с петициями об удовлетворении жалоб. Однако с точки зрения того, как работают другие правительства, американская система является уникальной. «В большинстве стран мира достаточно быть знакомым с одним или двумя нужными людьми, чтобы выполнить задачу лоббирования. Приезжающие иностранцы приходят в растерянность, когда сталкиваются с тем, что у нас для успешного решения своих задач им недостаточно знать одного-двух человек. Здесь надо знать тысячи людей, а иногда необходимо информировать миллионы через рекламные кампании с привлечением средств массовой информации», – поясняет Мик.
Ожесточенная борьба, которая велась в средствах массовой информации вокруг Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), была примером того, как работает лобби. Это соглашение, снявшее барьеры в торговле между Канадой, Мексикой и США, должно было получить одобрение конгресса. На стороне администрации в его поддержку выступали пять бывших президентов США и наиболее влиятельные в стране лобби большого бизнеса, в том числе Торговая палата и Национальная ассоциация промышленников. Против соглашения – профсоюзы, считавшие, что оно будет стоить Соединенным Штатам закрытия тысяч рабочих мест, нанесет ущерб интересам потребителей и заставит американские фирмы переносить производство в Мексику, дабы избежать действия американских законов о защите окружающей среды. Правительство Мексики, заинтересованное в принятии соглашения, использовало лоббистские группы, чтобы с их помощью убедить американских избирателей и их представителей в Вашингтоне в том, что экономике США нечего опасаться открытия свободной торговли с Мексикой и что в результате этого не закроются, а появятся новые рабочие места.
Кевин Макколи, старший редактор информационного бюллетеня для иностранных правительств и иностранных корпораций о лоббистской деятельности в Вашингтоне, подсчитал, что около 30 различных фирм работало на Мексику, которая в 1991–1993 гг. истратила на оплату лоббистских услуг 25 миллионов долларов, причем значительную часть этой суммы – в связи с соглашением о свободной торговле.
Считается, что для развивающихся стран деятельность лоббистских групп особенно важна в силу ожесточенной конкуренции между этими странами за получение американской помощи. Именно поэтому им надо присутствовать в стране-доноре и уметь привлекать внимание к своим проблемам.
Ф. Шмиттер. Неокорпоратизм[52]
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ
<...> В 1974 г. представители нескольких академических дисциплин из разных стран мира практически одновременно обратились к понятию «корпоратизм» для описания ряда особенностей политической действительности развитых демократий, которые, по мнению исследователей, далеко не в полной мере объяснялись господствующей моделью, применяемой для характеристики взаимоотношений между государством и обществом, т. е. моделью плюрализма. К не-окорпоратистским государствам, социальная ткань которых глубоко пронизана соответствующими отношениями, были отнесены прежде всего Австрия, Финляндия, Норвегия и Швеция. Важные элементы неокорпоратизма при выработке макроэкономической политики были отмечены в Австралии, Бельгии, ФРГ, Дании, Нидерландах, а также в таких неодемократиях, как Португалия и Испания. В 1960-1970-х гг. попытки (правда, безуспешные) ввести подобную практику делались в Великобритании и Италии. В других странах, к примеру во Франции, Канаде и Соединенных Штатах, распространение неокорпоратизма, похоже, ограничилось отдельными отраслями или регионами.
И хотя корпоратизм определяли и как идеологию, и как разновидность политической культуры или государственного устройства, и как форму организации экономики, и даже как особый тип общества, наиболее продуктивным оказался подход, в рамках которого корпоратизм рассматривается в качестве одного из возможных механизмов, позволяющих ассоциациям интересов посредничать между своими членами (индивидами, семьями, фирмами, локальными сообществами, группами) и различными контрагентами (в первую очередь государственными и правительственными органами). Главную роль в этом процессе играют прочно укоренившиеся ассоциации с постоянным штатом, которые специализируются на выражении интересов и стремятся выявлять, продвигать и защищать их посредством влияния на публичную политику. В отличие от политических партий – другого важнейшего посредника – эти организации не выставляют своих кандидатов на выборах и не берут на себя прямую ответственность за формирование правительства. Когда ассоциации интересов (и в особенности вся сеть таких ассоциаций) определенным образом организованы и/или когда они определенным образом участвуют в процессе принятия решений на различных уровнях государственной власти, мы можем говорить о корпоратизме.
В 1974 г. я предложил свою дефиницию современного корпоратизма, которая во многом дала толчок последующей полемике. Согласно этому определению неокорпоратизм есть «система представительства интересов, составные части которой организованы в несколько особых, принудительтных, неконкурентных, иерархически упорядоченных, функционально различных разрядов, официально признанных или разрешенных (а то и просто созданных) государством, наделяющим их монополией на представительство в своей области в обмен на известный контроль за подбором лидеров и артикуляцией требований и приверженностей». При таком подходе упор делался практически исключительно на «входные» параметры явления, т. е. на организационную структуру ассоциаций интересов. По-иному подошел к проблеме Г. Лембрух, определивший то, что он назвал «либеральным» корпоратизмом, как «особый тип участия больших организованных групп в выработке государственной политики, по преимуществу в области экономики, [отличающийся] высоким уровнем межгрупповой кооперации». В последующих дефинициях, как правило, предпринимались попытки учесть основные параметры рассматриваемого феномена как на «входе», так и на «выходе».
Стоило корпоратизму авторитарно-этатистско-фашистского толка фактически исчезнуть с лица земли (первый удар по нему нанесла послевоенная волна демократизации, а довершила дело новая волна, нахлынувшая после 1974 г.), как стало понятно, кто же действительно добился наибольших успехов в реализации неокорпоратистской модели, правда, в ее более «социетальном» (т. е. идущем «снизу») варианте. Это были малые европейские страны с хорошо организованными ассоциациями интересов и крайне уязвимыми интернационализированными экономиками. Корпоратистские тенденции просматривались особенно отчетливо, если в таких странах имелись мощные социал-демократические партии, сохранялись устойчивые электоральные предпочтения, если они обладали относительным культурным и языковым единством и соблюдали нейтралитет во внешней политике. И напротив, с наивысшими трудностями в поддержании подобных «общественных договоров» столкнулись страны с более слабой социал-демократией, менее постоянным в своих предпочтениях электоратом и глубокими расхождениями в подходах к решению военных вопросов и проблем безопасности, например Нидерланды и Дания...
КОРПОРАТИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ
<...> С момента своего возрождения в середине 1970-х гг. понятие корпоратизма несло на себе клеймо прежних связей с фашизмом и другими формами авторитарного правления. Назвать политику или некий установленный порядок «корпоратистскими» фактически означало обвинить их в недемократичности. Более того, некоторые имманентные черты корпоратизма: подмена индивидов как основных участников политической жизни организациями; рост влияния профессиональных представителей специализированных интересов в ущерб гражданам, обладающим более общими интересами; предоставление отдельным ассоциациям привилегированного (если не эксклюзивного) доступа [к процессу принятия решений]; признание и даже возвышение монополий над конкурирующими друг с другом посредниками с частично совпадающими сферами охвата; возникновение организационных иерархий вплоть до всеобъемлющих общенациональных ассоциаций, подрывающих автономию местных и более специализированных организаций, – казалось, подтверждали справедливость подобных обвинений.
Однако по мере углубления исследований корпоратизма оценки его влияния на демократию начали меняться. Во-первых, многие из отчетливо корпоратистских стран, несомненно, остаются демократическими в том смысле, что в них в полном объеме сохраняются гражданские свободы, дается самое широкое определение понятия «гражданства», регулярно проводятся состязательные выборы, исход которых не предрешен заранее, органы власти ответственны за свои действия и осуществляют политику, учитывающую требования народа. Некоторые из этих стран, в особенности скандинавские, были в числе первых, кто опробовал такие новейшие демократические механизмы, как участие рабочих в управлении предприятиями, полная «открытость» политического процесса, создание института омбудсменов для рассмотрения жалоб граждан, государственное финансирование политических партий и даже организация фондов наемных работников в целях расширения общественной собственности на средства производства.
Во-вторых, вскоре стало очевидно, что корпоратистские порядки существенным образом видоизменяют условия, определяющие возможности соперничающих интересов влиять [на государственные органы]. Спонтанные, добровольные и эпизодические отношения, характерные для плюралистической демократии, лишь кажутся более свободными, но на деле порождают большее неравенство доступа к властным структурам. В рамках плюралистической модели привилегированные группы, сравнительно компактно расположенные и обладающие относительно небольшой численностью и концентрированными ресурсами, имеют естественное преимущество перед большими рассредоточенными группами, подобными объединениям рабочих или потребителей. Корпоратизму же, напротив, присуща тенденция к более пропорциональному распределению ресурсов между организациями, охватывающими широкие категории [интересов], и обеспечению по крайней мере формального равенства доступа к принятию решений. Кроме того, прямое включение ассоциаций в процесс реализации принятых решений гарантирует большую чуткость к групповым нуждам, нежели «сохранение дистанции» между государственной и частной сферами, свойственное плюралистической системе.
В свое время мне уже приходилось писать о том, что оценка влияния корпоратизма на демократию во многом зависит от того, какие черты демократической системы наиболее близки тому или иному исследователю. Если руководствоваться «классической» точкой зрения, согласно которой демократия должна поощрять участие индивидов в принятии общественно значимых решений, а все государственные органы – проявлять равную открытость по отношению к требованиям граждан, то влияние корпоратистских механизмов следует считать отрицательным. Если же обратиться к тем параметрам явления, которые проявляются на «выходе», и посмотреть на проблему с точки зрения реальной ответственности властных органов за свои действия и за степень учета в этих действиях нужд граждан, оценка корпоратизма, несомненно, будет более позитивной. Менее однозначным является воздействие корпоратизма на основной механизм демократии – конкуренцию. С одной стороны, вследствие исключения [из общественной жизни] борьбы между соперничающими ассоциациями за членов и доступ [к принятию решений] уровень конкуренции вроде бы сокращается. С другой – он возрастает, так как каждая ассоциация становится полем выражения весьма разнородных представлений об общем интересе. В любом случае следует признать, что под влиянием неокорпоратистской практики происходит постепенная трансформация современных демократий. Наряду с индивидами (если не взамен последних) своего рода гражданами становятся организации. Степень подотчетности [властей] и их восприимчивости [к нуждам граждан] возрастает, но за счет снижения степени участия индивидов [в политической жизни] и их доступа [к принятию решений]. Конкуренция внутри организаций начинает заменять конкуренцию между организациями. Развитие данной тенденции происходит неравномерно, не все ее признают и далеко не очевидно, каков в конечном счете будет результат; и все же практически во всех современных обществах демократия становится все более связанной «интересами», все более «организованной» и все более «непрямой».
Раздел IX Политический режим
Настоящий раздел хрестоматии посвящен анализу политических режимов. В него вошли произведения политологов, посвященные тоталитарному, авторитарному, демократическому и гибридным режимам.
Анализ тоталитарных режимов представлен в работах X. Арендт и Ф. Хайека. В работе «Истоки тоталитаризма» X. Арендт уделяет внимание социальным и политическим причинам, которые привели к возникновению тоталитаризма. К ним она относит разрушение традиционной классовой структуры и возникновение массового общества, состоящего из атомизированных индивидов, а также рост тоталитарных массовых движений. В широко известной и ставшей классической работе Ф. Хайека «Дорога к рабству» внимание уделяется ликвидации экономической свободы с введением централизованного планирования и упразднения частной собственности. Ликвидация экономических свобод и является, согласно британскому ученому, той основой, на которой возникает и развивается тоталитаризм.
Фрагмент работы французского политолога Г. Эрме посвящен анализу авторитарных режимов. В нем представлен не только обзор различных точек зрения, существующих в политической науке относительно природы и сущности тоталитаризма, но и дана характеристика его основных разновидностей.
В работах Р. Даля, Л. Даймонда раскрываются основные признаки и трактовки демократии. А. Лейпхарт подвергает тщательному анализу институциональное устройство демократий с точки зрения эффективности и влияния на экономическое и политическое развитие.
Г. О'Доннелл, В. Меркель и А. Круассан сосредоточивают основное внимание на анализе так называемых гибридных режимов. Американский и немецкие политологи усматривают признаки «гибрид-ности» режимов в сочетании элементов демократии с элементами авторитаризма. Американский политолог вводит понятие «делега-тивная демократия»; им он обозначает такой режим, при котором власть законно избранного главы исполнительной власти оказывается неограниченной никакими политическими институтами. Немецкие политологи к гибридным режимам относят «дефектную демократию», когда демократические институциональные механизмы обладают недостатками или сильно ограничены.
X. Арендт. Истоки тоталитаризма[53]
Бесклассовое общество
...Тоталитарные движения нацелены на массы и преуспели в организации масс, а не классов, как старые партии, созданные по групповым интересам в континентальных национальных государствах; и не граждан, имеющих собственные мнения об управлении общественными делами и интересы в них, как партии в англо-саксонских странах. Хотя сила всех политических групп зависит от их численности, тоталитарные движения зависят от голых количеств до такой степени, что тоталитарные режимы, вероятно, невозможны (даже при прочих благоприятных условиях) в странах с относительно малым населением. После Первой мировой войны антидемократическая, продиктаторская волна полутоталитарных и тоталитарных движений захлестнула Европу. Фашистские движения распространились из Италии почти на все центрально– и восточноевропейские страны (Чехия как часть Чехословакии была одним из заметных исключений). Но даже Муссолини, столь влюбленный в термин «тоталитарное государство», не пытался установить полноценный тоталитарный режим и ограничился диктатурой и однопартийным правлением. Похожие нетоталитарные диктатуры развернулись в предвоенной Румынии, Польше, Балтийских государствах, Венгрии, Португалии и франкистской Испании. Нацисты, имевшие безошибочный нюх на такие различия, обычно с презрением отзывались о несовершенствах своих фашистских союзников, тогда как их инстинктивное восхищение большевистским режимом в России (и Коммунистической партией в Германии) сопоставимо только с их презрением к восточноевропейским расам и сдерживалось им. Единственным человеком, к кому Гитлер питал «безусловное уважение», был «гений-Сталин», и хотя о Сталине и русском режиме мы не имеем (и, наверное, никогда не будем иметь) такого богатого документального материала, какой доступен ныне о Германии, тем не менее после речи Хрущева на XX съезде КПСС известно, что Сталин доверял только одному человеку и этим человеком был Гитлер.
Во всех вышеупомянутых меньших по размеру европейских странах нетоталитарным диктатурам предшествовали тоталитарные движения, и оказалось, что тоталитаризм ставил слишком амбициозные цели, что, хотя он достаточно хорошо служил делу организации масс до захвата власти движением, потом сама абсолютная величина страны вынуждала кандидата в тоталитарные повелители масс следовать более знакомым образцам классовой или партийной диктатуры. Истина в том, что эти страны просто не располагали достаточным человеческим материалом, чтобы позволить себе опыт тотального господства и внутренне присущие ему огромные потери населения. <...>
Тоталитарные движения возможны везде, где имеются массы, по той или иной причине приобретшие вкус к политической организации. Массы соединяет отнюдь не сознание общих интересов, и у них нет той отчетливой классовой структурированности, которая выражается в определенных, ограниченных и достижимых целях. Термин «массы» применим только там, где мы имеем дело с людьми, которых по причине либо их количества, либо равнодушия, либо сочетания обоих факторов нельзя объединить ни в какую организацию, основанную на общем интересе: в политические партии, либо в органы местного самоуправления, или различные профессиональные организации, или тред-юнионы. Потенциально «массы» существуют в каждой стране, образуя большинство из того огромного количества нейтральных, политически равнодушных людей, которые никогда не присоединяются ни к какой партии и едва ли вообще ходят голосовать.
...Большинство участников движений состояло из людей, которые до того никогда не появлялись на политической сцене. Это позволило ввести в политическую пропаганду совершенно новые методы и безразличие к аргументам политических противников. Движения не только поставили себя вне и против партийной системы как целого, они нашли себе людей, которые никогда не состояли ни в каких партиях, никогда не были «испорчены» партийной системой. Поэтому они не нуждались в опровержении аргументации противников и последовательно предпочитали методы, которые кончались смертью, а не обращением в новую веру, сулили террор, а не переубеждение. Они неизменно изображали человеческие разногласия порождением глубинных природных, социальных или психологических источников, пребывающих вне возможностей индивидуального контроля и, следовательно, вне власти разума. Это было бы недостатком только при условии, что движения будут честно соревноваться с другими партиями, но это не вредило движениям, поскольку они определенно собирались работать с людьми, которые имели основание равно враждебно относиться ко всем партиям.
...Движения показали, что политически нейтральные и равнодушные массы легко могут стать большинством в демократически управляемых странах и что, следовательно, демократия функционировала по правилам, активно признаваемым лишь меньшинством. <...>
Часто указывают, что тоталитарные движения злонамеренно используют демократические свободы, чтобы их уничтожить. Это не просто дьявольская хитрость со стороны вождей или детская глупость со стороны масс. Демократические свободы возможны, если они основаны на равенстве всех граждан перед законом. И все-таки эти свободы достигают своего полного значения и органического исполнения своей функции только там, где граждане представлены группами или образуют социальную и политическую иерархию. Крушение классовой системы, единственной системы социальной и политической стратификации европейских национальных государств, безусловно было «одним из наиболее драматических событий в недавней немецкой истории» и так же благоприятствовало росту нацизма, как отсутствие социальной стратификации в громадном русском сельском населении (этом «огромном дряблом теле, лишенном вкуса к государственному строительству и почти недоступном влиянию идей, способных облагородить волевые акты») способствовало большевистскому свержению демократического правительства Керенского. Условия в предгитлеровской Германии показательны в плане опасностей, кроющихся в развитии западной части мира, так как с окончанием Второй мировой войны та же драма крушения классовой системы повторилась почти во всех европейских странах. События же в России ясно указывают направление, какое могут принять неизбежные революционные изменения в Азии. Но в практическом смысле будет почти безразлично, примут ли тоталитарные движения образец нацизма или большевизма, организуют они массы во имя расы или класса, собираются следовать законам жизни и природы или диалектики и экономики.
Равнодушие к общественным делам, безучастность к политическим вопросам сами по себе еще не составляют достаточной причины для подъема тоталитарных движений. Конкурентное и стяжательское буржуазное общество породило апатию и даже враждебность к общественной жизни не только, и даже не в первую очередь в социальных слоях, которые эксплуатировались и отстранялись от активного участия в управлении страной, но прежде всего в собственном классе. За долгим периодом ложной скромности, когда, по существу, буржуазия была господствующим классом в обществе, не стремясь к политическому управлению, охотно предоставленному ею аристократии, последовала империалистическая эра, во время которой буржуазия все враждебнее относилась к существующим национальным институтам и начала претендовать на политическую власть и организовываться для ее получения. И та ранняя апатия и позднейшие притязания на монопольное диктаторское определение направления национальной внешней политики имели корни в образе и философии жизни, столь последовательно и исключительно сосредоточенной на успехе либо крахе индивида в безжалостной конкурентной гонке, что гражданские обязанности и ответственность могли ощущаться только как ненужная растрата его ограниченного времени и энергии. Эти буржуазные установки очень полезны для тех форм диктатуры, в которых «сильный человек» берет на себя бремя ответственности за ход общественных дел. Но они положительно помеха тоталитарным движениям, склонным терпеть буржуазный индивидуализм не более чем любой другой вид индивидуализма. В индифферентных слоях буржуазного общества, как бы сильно они ни были настроены против политической ответственности граждан, личность последних оставалась неприкосновенной хотя бы потому, что без этого они едва ли могли надеяться выжить в конкурентной борьбе за существование.
Решающие различия между организациями типа толпы в XIX в. и массовыми движениями XX в. трудно уловить, потому что современные тоталитарные вожди немногим отличаются по своей психологии и складу ума от прежних вожаков толпы, чьи моральные нормы и политические приемы так походили на нормы и приемы буржуазии. Но если индивидуализм характеризовал и буржуазную, и типичную для толпы жизненную установку, тоталитарные движения могли-таки с полным правом притязать на то, что они были первыми истинно антибуржуазными партиями. Никакие из их предшественников в стиле XIX в. – ни Общество десятого декабря, которое помогло прийти к власти Луи Наполеону, ни бригады мясников в деле Дрейфуса, ни черные сотни в российских погромах, ни даже пандвижения – никогда не поглощали своих членов до степени полной утраты индивидуальных притязаний и честолюбия, как и не понимали, что организация может добиться подавления индивидуально-личного самосознания навсегда, а не просто на момент коллективного героического действия.
Отношение между классовым обществом при господстве буржуазии и массами, которые возникли из его крушения, не то же самое, что отношение между буржуазией и толпой, которая была побочным продуктом капиталистического производства. Массы и толпа имеют только одну общую характеристику: оба явления находятся вне всех социальных сетей и нормального политического представительства. Но массы не наследуют (как это делает толпа хотя бы в извращенной форме) нормы и жизненные установки господствующего класса, а отражают и так или иначе коверкают нормы и установки всех классов по отношению к общественным делам и событиям. Жизненные стандарты массового человека обусловлены не только и даже не столько определенным классом, к которому он однажды принадлежал, сколько всепроникающими влияниями и убеждениями, которые молчаливо и скопом разделяются всеми классами общества в одинаковой мере. <...>
Крушение классовой системы автоматически означало крах партийной системы, главным образом потому, что эти партии, организованные для защиты определенных интересов, не могли больше представлять классовые интересы. Продолжение их жизни было в какой-то мере важным для тех членов прежних классов, кто надеялся вопреки всему восстановить свой старый социальный статус и кто держался вместе уже не потому, что у них были общие интересы, а потому, что они рассчитывали их возобновить. Как следствие, партии делались все более и более психологичными и идеологичными в своей пропаганде, все более апологетическими и ностальгическими в своих политических подходах. Вдобавок они теряли, не сознавая этого, тех пассивных сторонников, которые никогда не интересовались политикой, ибо чувствовали, что нет партий, пекущихся об их интересах. Так что первым признаком крушения континентальной партийной системы было не дезертирство старых членов партии, а неспособность набирать членов из более молодого поколения и потеря молчаливого согласия и поддержки неорганизованных масс, которые внезапно стряхнули свою апатию и потянулись туда, где увидели возможность громко заявить о своем новом ожесточенном противостоянии системе.
Падение охранительных стен между классами превратило сонные большинства, стоящие за всеми партиями, в одну громадную, неорганизованную, бесструктурную массу озлобленных индивидов, не имевших ничего общего, кроме смутного опасения, что надежды партийных деятелей обречены, что, следовательно, наиболее уважаемые, видные и представительные члены общества – болваны и все власти, какие ни на есть, не столько злонамеренные, сколько одинаково глупые и мошеннические. Для зарождения этой новой ужасающей отрицательной солидарности не имело большого значения, что безработный ненавидел status quo и власти в формах, предлагаемых социал-демократической партией, экспроприированный мелкий собственник – в формах центристской или правоуклонистской партии, а прежние члены среднего и высшего классов – в форме традиционной крайне правой. Численность этой массы всем недовольных и отчаявшихся людей резко подскочила в Германии и Австрии после Первой мировой войны, когда инфляция и безработица добавили свое к разрушительным последствиям военного поражения. Они составляли большую долю населения во всех государствах-преемниках Австро-Венгрии и они же поддерживали крайние движения во Франции и Италии после Второй мировой войны. <...>
Истина в том, что массы выросли из осколков чрезвычайно атомизированного общества, конкурентная структура которого и сопутствующее ей одиночество индивида сдерживались лишь его включенностью в класс. Главная черта человека массы – не жестокость и отсталость, а его изоляция и нехватка нормальных социальных взаимоотношений. При переходе от классово разделенного общества национального государства, где трещины заделывались националистическими чувствами, было только естественным, что эти массы, беспомощные в условиях своего нового опыта, на первых порах тяготели к особенно неистовому национализму, которому вожди масс поддались из чисто демагогических соображений, вопреки собственным инстинктам и целям. <...>
Что тоталитарные движения зависели от простой бесструктурности массового общества меньше, чем от особых условий атомизированного и индивидуализированного состояния массы, лучше всего увидеть в сравнении нацизма и большевизма, которые начинали в своих странах при очень разных обстоятельствах. Чтобы превратить революционную диктатуру Ленина в полностью тоталитарное правление, Сталину сперва надо было искусственно создать то атомизированное общество, которое для нацистов в Германии приготовили исторические события. <...>
Тоталитарные движения – это массовые организации атомизированных, изолированных индивидов. В сравнении со всеми другими партиями и движениями их наиболее бросающаяся в глаза черта – это требование тотальной, неограниченной, безусловной и неизменной преданности от своих членов. Такое требование вожди тоталитарных движений выдвигают даже еще до захвата ими власти. Оно обыкновенно предшествует тотальной организации страны под их реальным управлением и вытекает из притязания тоталитарных идеологий на то, что новая организация охватит в должное время весь род человеческий. Однако там, где тоталитарное правление не было подготовлено тоталитарным движением (а это, в отличие от нацистской Германии, как раз случай России), движение должно быть организовано после начала правления, и условия для его роста надо было создать искусственно, чтобы сделать тотальную преданность – психологическую основу для тотального господства – вообще возможной. Такой преданности можно ждать лишь от полностью изолированной человеческой особи, которая при отсутствии всяких других социальных привязанностей – к семье, друзьям, сослуживцам или даже просто к знакомым – черпает чувство прочности своего места в мире единственно из своей принадлежности к движению, из своего членства в партии.
Тотальная преданность возможна только тогда, когда идейная верность лишена всякого конкретного содержания, из которого могли бы естественно возникнуть перемены в умонастроении. <...>
Ни национал-социализм, ни большевизм никогда не провозглашали новой формы правления и не утверждали, будто с захватом власти и контролем над государственной машиной их цели достигнуты. Их идея господства была чем-то таким, чего ни государство, ни обычный аппарат насилия никогда не смогут добиться, но может только Движение, поддерживаемое в вечном движении, а именно достичь постоянного господства над каждым отдельным индивидуумом во всех до единой областях жизни. Насильственный захват власти – не цель в себе, а лишь средство для цели, и захват власти в любой данной стране – это только благоприятная переходная стадия, но никогда не конечная цель движения. Практическая цель движения – втянуть в свою орбиту и организовать как можно больше людей и не давать им успокоиться. Политической цели, что стала бы конечной целью движения, просто не существует.
Ф.Хайек. Дорога к рабству[54]
Власти, управляющие экономической деятельностью, будут контролировать отнюдь не только материальные стороны жизни. В их ведении окажется распределение лимитированных средств, необходимых для достижения любых наших целей. И кем бы ни был этот верховный контролер, распоряжаясь средствами, он должен будет решать, какие цели достойны осуществления, а какие нет. В этом и состоит суть проблемы. Экономический контроль неотделим от контроля над всей жизнью людей, ибо, контролируя средства, нельзя не контролировать и цели. Монопольное распределение средств заставит планирующие инстанции решать и вопрос о ценностях, устанавливать, какие из них являются более высокими, а какие – более низкими, а в конечном счете – определять, какие убеждения люди должны исповедовать и к чему они должны стремиться. Идея централизованного планирования заключается в том, что не человек, но общество решает экономические проблемы, и, следовательно, общество (точнее, его представители) судит об относительной ценности тех или иных целей.
Так называемая экономическая свобода, которую обещают нам сторонники планирования, как раз и означает, что мы будем избавлены от тяжкой обязанности решать наши собственные экономические проблемы, а заодно и от связанной с ними проблемы выбора. Выбор будут делать за нас другие. И поскольку в современных условиях мы буквально во всем зависим от средств, производимых другими людьми, экономическое планирование будет охватывать практически все сферы нашей жизни. Вряд ли найдется что-нибудь, начиная от наших элементарных нужд и кончая нашими семейными и дружескими отношениями, от того, чем мы занимаемся на работе, до того, чем занимаемся в свободное время, – что не окажется так или иначе под недремлющим оком «сознательного контроля».[55]
Власть планирующих органов над нашей частной жизнью не будет ослаблена, если они откажутся от прямого контроля за нашим потреблением. Возможно, в планируемом обществе и будут разработаны какие-то нормы потребления продуктов питания и промышленных товаров, но в принципе контроль над ситуацией определяется не этими мерами, и можно будет предоставить гражданам формальное право тратить свои доходы по своему усмотрению. Реальным источником власти государства над потребителем является его контроль над производственной сферой.
Свобода выбора в конкурентном обществе основана на том, что, если кто-то отказывается удовлетворить наши запросы, мы можем обратиться к другому. Но сталкиваясь с монополией, мы оказываемся в ее полной власти. А орган, управляющий всей экономикой, будет самым крупным монополистом, которого только можно себе представить. И хотя мы, вероятно, не должны бояться, что этот орган будет использовать свою власть так же, как и монополист-частник, т. е. задача получения максимальной финансовой прибыли не будет для него основной, все же он будет наделен абсолютным правом решать, что мы сможем получать и на каких условиях. Он будет не только решать, какие товары и услуги станут доступными для нас и в каком количестве, но будет также осуществлять распределение материальных благ между регионами и социальными группами, имея полную власть для проведения любой дискриминационной политики. И если вспомнить, почему большинство людей поддерживают планирование, то станет ясно, что эта власть будет использована для достижения определенных целей, одобряемых руководством, и пресечения всех иных устремлений, им не одобряемых.
Контроль над производством и ценами дает поистине безграничную власть. В конкурентном обществе цена, которую мы платим за вещь, зависит от сложного баланса, учитывающего множество других вещей и потребностей. Эта цена никем сознательно не устанавливается. И если какой-то путь удовлетворения наших потребностей оказывается нам не по карману, мы вправе испробовать другие пути. Препятствия, которые нам приходится при этом преодолевать, возникают не потому, что кто-то не одобряет наших намерений, а потому только, что вещь, необходимая нам в данный момент, нужна где-то кому-то еще. В обществе с управляемой экономикой, где власти осуществляют надзор за целями граждан, они, очевидно, будут поддерживать одни намерения и препятствовать осуществлению других. И то, что мы сможем получить, зависит не от наших желаний, а от чьих-то представлений о том, какими они должны быть. И поскольку власти смогут пресекать любые попытки уклониться от директивного курса в производственной сфере, они смогут контролировать и наше потребление так, будто мы тратим наши доходы не свободно, а по разнарядке.
Ги Эрме. Авторитаризм[56]
«Авторитаризм», строго говоря, обозначает такое отношение между власть имущими и руководимыми, которое основывается в большей степени на силе, чем на убеждении. Равным образом, это и такие политические отношения, при которых пополнение руководящих кадров осуществляется путем кооптации, а не предвыборной конкурентной борьбы между кандидатами на ответственные общественные должности. И наконец, употреблению этого слова сопутствует не всегда точное представление о том, что режимы этого рода игнорируют установленные законом процедуры замены и мирного смещения их руководителей, что прекращение и передача власти в них есть результат насильственной конфронтации, а не институционализации.
Эти элементы придают авторитаризму еще один атрибут – то, что мы считаем его незаконным. Однако незаконность авторитарных правителей не обусловлена главным образом отсутствием консен-сусной поддержки народа по отношению к ним. Ибо в ряде случаев недостаток консенсуса не является столь уж очевидным, кроме того, самые тяжкие тирании могут быть вполне одобрены плебисцитом. Так было в гитлеровской Германии в 1933 г., а ближе к нашим дням – в Иране при аятолле Хомейни. Это не мешает авторитаризму сохранять свой незаконный характер, если незаконность понимать скорее в интеллектуальном, чем в социологическом плане и соотносить ее со всеми культурными нормами, преобладающими на Западе. Авторитарные режимы незаконны потому, что они не соблюдают наши, основанные на так называемых общечеловеческих ценностях правила и законы в том, что касается присвоения, обладания, практического осуществления и передачи политической власти. Их незаконность проявляется в их действиях по отношению к руководимым ими людям и к их международным партнерам.
Такое представление позволяет одним ученым (например, Б. Крик) относить авторитаризм в область «антиполитики» как непознаваемое и оскорбительное для политолога явление, а другим, более искушенным, считать авторитаризм не совсем ясным проявлением характера таких правительств, которые они лично осуждают, но не решаются отнести к абсолютно тоталитарным... Не лучше ли было бы во избежание подобной субъективности вернуться к старому понятию «диктатура», которое имеет по крайней мере то достоинство, что проясняет проблему «легитимации»?
Современная «диктатура» соотносится не столько с одноименным римским явлением, сколько с императорским, царским авторитаризмом – прежде всего с древнегреческой тиранией, где власть деспота обеспечивалась силой и несоблюдением законов. Вместе с тем ясно, что современный авторитаризм выходит за пределы канонов античной тирании. С одной стороны, он зачастую выставляет в смешном виде ту озабоченность законностью, которую проявляет диктатура римского толка. Известно, что не все диктатуры нашего времени установились с помощью государственного переворота, что некоторым удается прийти на смену представительному правительству без чрезмерного попрания буквы конституции, как, например, в случае с нацистским режимом. Сегодня вообще редко встречаются такие авторитарные режимы, которые бы не представляли себя в качестве борцов за оздоровление демократии или за строителей демократии...
Все соглашаются на том, что к современной политической реальности более применим термин «авторитаризм», чем диктатура или тирания. Применим даже к такой действительности, когда государственная власть сосредоточена в руках тех индивидов или групп, которые в первую очередь озабочены тем, чтобы избавить свою политическую судьбу от риска конкурентной борьбы, контролировать которую от начала и до конца невозможно. Возможно, это и составляет определение феномена «авторитаризм».
Отказ идти на риск, связанный с допуском оппозиции на «политический рынок», характерен не только для авторитаризма. Он присущ тоталитарным системам и тем более правительствам «третьего мира», где эта оппозиция настолько незаметна, что ее бесполезно искать. Больше смущает другое – отказ от открытого соревнования лежит на совести и самих демократических режимов, по крайней мере на их ранней, олигархической стадии, порой – как, например, в Латинской Америке – и не преодоленной. Следовательно, применительно к авторитаризму это – весьма нечеткий критерий. И тем не менее этот критерий дает возможность вычленить авторитаризм из всех других форм власти. По крайней мере, задачу проведения границы между демократиями и авторитарными режимами легче решать на уровне изучения действия принципа конкуренции при наборе кадров руководящего состава.
Ведущие политологи обращают внимание на сокращение численности и возрастание мощи руководящего состава. Кроме того, они предъявляют к демократии требование использовать такие процедуры, когда, как пишет Хантингтон, «лидеры избираются в рамках выборов на конкурентной основе». Исходя из этого, Хантингтону ясно, что «авторитарные системы – это системы недемократичные». Во всяком случае, политологи считают, что демократия требует равного избирательного права для всех, реального участия и «просвещенного понимания» со стороны избирателей и вынесения на их одобрение вопросов в ясных, без подвохов, формулировках. Действительно, требовать такого от авторитаризма – это слишком много.
Однако граница между тоталитаризмом и авторитаризмом еще незаметнее, чем между демократией и авторитаризмом. Главная трудность в том, что политологи применяют к политическим системам дихотомию в духе Хантингтона и Даля, которая есть упрощение, не имеющее ничего общего с действительностью. При таком подходе два способа правления – демократия и тоталитаризм представляют собой абстрагированные противоположности. Исходя из этого, авторитарная власть представляется остаточной категорией – результатом незрелости демократии или тоталитарным перерождением, в то время как в действительности она является наиболее распространенной политической формой в мире с незапамятных времен. Этот факт не мешает Р. Арону или Е. Вятру постулировать, что между авторитарными режимами, близкими к демократии, и теми, что тяготеют к тоталитаризму, существует лишь разница в степени либеральной терпимости или гегемонистского контроля. <...>
...Важно установить видовые различия между авторитаризмом и тоталитаризмом, при этом следует избегать оценочных суждений и не применять понятие «тоталитарный» как бранное слово, а «авторитарный» – как меньшее в сравнении с ним зло. В более аналитическом ключе различия между той и другой политической формой последовательно устанавливаются в зависимости от их отношения к обществу и этики, на которой оно базируется.
Главное расхождение между тоталитарной и авторитарной системами заключается не в том, применяют ли они интенсивный полицейский террор или нет. Бывают террористические тоталитарные системы (например, нацистская Германия или Россия при Сталине) и сравнительно безобидные тоталитарные системы (например, Венгрия). Некоторые авторитарные системы могут использовать систематическое насилие (франкизм начального периода или гватемальская диктатура в наши дни), в то время как другие используют репрессии в минимальном объеме (франкизм в последний период и режим в Бразилии 70-х гг.). Не может служить достаточным критерием и однопартийность, которая присуща и тоталитарным, и авторитарным режимам.
Решающее различие находится на других уровнях. Для авторитаризма в западных моделях общества характерно сохранение дифференцированных отношений с государством и обществом. Тоталитарное государство, наоборот, игнорирует эти отношения в своем стремлении к гегемонистскому «преодолению» классовых барьеров. Тоталитаризм отвергает плюрализм, который он старается устранить из социальной действительности разными способами – от убеждения до кровопролития, включая главный элемент: ликвидацию частного способа производства. Политолог X. Линц рассматривает буржуазно-капиталистический авторитаризм как сильное государство, задуманное как гарант социального, экономического, а возможно и идеологического и политического плюрализма. Само его появление обусловлено, по мнению Линца, этим плюрализмом. Более того, авторитаризм интегрирует плюрализм в свою политическую практику, ставя ограничения лишь явно революционным течениям или тем, что способны поставить под угрозу буржуазный плюрализм. Для этого он прибегает либо к глобальному, либо к избирательному запрещению партий и профсоюзов.
Если единоличный или коллективный диктатор или потенциальный террор присущи как авторитаризму, так и тоталитаризму, то «ограниченный плюрализм» такого рода присущ только авторитарным режимам. В свете этого, пользуясь понятием, введенным Ж. Лека и Б. Жобером, можно считать, что «политическая селекция» является: 1) в демократиях – полной, в силу релятивистской интерпретации мажоритарного принципа; 2) при авторитарных режимах – частичной и произвольной; 3) в тоталитарных системах – нулевой в силу абсолютного преувеличения мажоритарного принципа.
Второе различие относится к идеологии, а точнее к «идеологической мобилизации» – активной поддержке. Авторитаризм, в силу присущей ему динамики, должен терпимо относиться к существованию иных (помимо государства и единственной партии) факторов социализации и при этом пытаться все же обеспечить свое влияние. Зато тоталитаризм не имеет ничего общего с либеральным деспотизмом. По своей природе он призван ликвидировать как социальный, так и идеологический плюрализм во имя объединительной идеи, воплощаемой на базе монопольного представительства народа и культуры. Если авторитаризм подавляет свободную стихию «политического рынка», но не оспаривает в принципе права на автономное разнообразное самовыражение общества, то тоталитаризм ставит перед собой задачу ликвидировать автономию вплоть до ее движущих сил, включая остаточные, например религиозные, проявления, которые, согласно его логике, обречены на отмирание. Поэтому в известном смысле Советский Союз следует считать тоталитарным режимом, в то время как гитлеровская Германия таковым считаться не может в силу того, что в ней была сохранена относительно независимая от государства экономическая, конфессиональная и интеллектуальная инфраструктура.
«Тоталитарный синдром», по словам западногерманского политолога X. Арендт, это присущая европейцам с XVIII в. реакция на индивидуализм. Иными словами, это побочный эффект западноевропейской системы ценностей, в соответствии с которой «образ жизни и мировоззрение, полностью сориентированные или на успех, или на поражение индивида в безжалостной конкуренции», обусловили взгляд на гражданскую ответственность как на «пустую трату времени и сил». X. Арендт делает вывод, что такая буржуазная позиция очень удобна для диктатуры, когда «посланный провидением» человек берет на себя бремя ответственности за управление государственными делами. Правда, Арендт описывает механизм авторитаризма, а не тоталитаризма, при котором граждане уходят от индивидуализма и образуют, по ее словам, «единую бесформенную массу рассерженных индивидов». В этом ее рассуждении заметно признание относительного преимущества авторитаризма, который «предполагает ограничение свободы, но не полную ее отмену», Зато X. Арендт недооценивает многообразие авторитарной политики, которая, правда, во всех своих проявлениях имеет одно общее – попытку скрыть классовую борьбу, которая для демократии является составной частью, а в тоталитарных системах объявляется беспредметной.
Авторитаризм не означает волюнтаристского отрицания институционализированной власти. Как показал политолог Ф. Шмиттер, «авторитарные режимы не являются ни произвольными, ни постоянно меняющимися»; им обычно соответствует манипулируемое из центра равновесие между равноправными «институционными иерархиями», такими как администрация, церковь, деловые круги и т. д.
Популистские режимы характеризуются преувеличением принципа «народного». Такие политологи, как Ионеску и особенно Геллнер, рассматривали популизм как авторитарную стратегию контроля над массами, используемую в условиях «либеральной экзотики» Латинской Америки.
Во всяком случае, популистская стратегия есть результат разработанного в верхах волюнтаристского плана контроля над требованиями о всеобщем голосовании, которые принимаются под давлением событий, а не в силу убеждений руководства. Манипулирование с плебисцитом является инструментом ослабления агрессивности народа, чего авторитаризму не удается добиться с помощью избирательного ценза или «частного кумовства».
Популизм в Латинской Америке вырос на почве искажений в экономическом развитии по сравнению с Европой и Северной Америкой. Отставание Латинской Америки создавало всеобщее ощущение несамостоятельности и отчаяния. Именно это питало идеологию всех видов популизма и позволило ему, обличающему западный империализм с националистических позиций, предстать в качестве альтернативы учению о классовой борьбе в каждой из стран Латинской Америки.
Обычно определения, даваемые популизму, являются обобщением характеристик, которые ему дают сами популисты. Так, например, Варгас считал популистского вождя «отцом бедняков», харизматическим вождем, которому не нужны посредники между ним и народом. Политолог Шиле, одним из первых проанализировавший феномен популизма, понимал его как выражение вождем народной воли и как заключение одобренного большинством прямого договоpa между горячо любимым диктатором и активно демонстрирующим поддержку народом. Так же понимает это и Джино Джермани, который обозначает популизм как «требование равноправия на основе разновидности авторитаризма». Однако Джермани выявляет и одну глубокую характеристику популизма. Имеется в виду та ловкость, с которой популисты вовлекают разочарованные подтасованными выборами массы в менее абстрактную, чем выборы, политическую игру: участие в политической жизни с помощью массовых манифестаций и повышение самосознания народа перед лицом космополитического империализма.
Политолог Питер Ворсли сформулировал прочие свойства популизма: 1) не столько прагматическая, сколько моралистическая динамика, т. е. расчетливое и сознательное недоверие к индустриализации; 2) «обратный эффект», в силу которого «мистический контакт с массами» воздействует не только на эти массы, но и на их лидеров, которые сами оказываются во власти собственных политических жестов; 3) грубый и антиинтеллектуальный характер идеологии популизма, возвышение «маленьких» людей, коренного населения, которое увязывается с критикой крупных предприятий в целом; агрессивная фразеология, за которой, однако, не кроются никакие революционные планы, поскольку ортодоксальный популизм в действительности защищает традиционное неравенство.
Определение, которое политолог Джеймс Курт дал популизму как «родовому или клановому социализму», образованному в результате коалиции между главой клана или рода и интегрируемым малочисленным рабочим классом, не вносит в вопрос ясности. Во-первых, даже если оно справедливо применительно к деревне, в городе эта система кумовства не охватывает ни верхи, ни городские низы, плебс; а во-вторых, будучи видовым, это определение должно быть справедливым для всех многочисленных, противоречивых реальных форм популистских органов власти.
Другой политолог, Франсуа Буррико, занимается выяснением того, как давно существует этот феномен – «популизм». В своем латиноамериканском проявлении популизм опирается на поддержку средних классов, в основном не испытывающих добрых чувств к господствующей олигархии. Но это лишь второстепенный вывод из анализа, который Буррико применил главным образом к мексиканской революции и перонизму. Главное же для Буррико заключалось в изменчивом характере популизма. До того, как прийти в Латинскую Америку, это явление имело в XIX в. прецеденты в США в виде борьбы мелких землевладельцев центральных регионов против лэндлордов и капиталистов побережья страны, а также – в ту же эпоху – в виде буланжистского течения, а позднее «народного католического» течения, вылившегося в Западной Европе в христианскую демократию. Говоря же в более широком плане, популизм вырос из романтического сентементализма, возврата к ценностям предков, из стремления к «истокам», выражаемым русскими народниками и пангерманистскими трубадурами фолькгейста – народного духа.
Не пытаясь исчерпать дискуссию о сущности популизма, завершим вопрос рассмотрением различных проявлений популизма как категории правления. Остановимся на популизме как проявлении авторитаризма, свободном от представительных институтов, поскольку он претендует на воплощение собой более высокой, чем они, стадии развития. С этой точки зрения, самым ярким примером классического популизма является режим Варгаса в Бразилии, который – отвечал задаче обеспечения политической поддержки консервативных целей со стороны всех классов, опираясь в деревне на помещиков, а в городе – на созданные под эгидой государства и его «посланного провидением» лидера социал-демократическую партию, правопреемницу мелкой буржуазии, и лейбористскую партию, правопреемницу рабочего класса.
Вторая, строго говоря, также классическая разновидность популизма представлена нынешней политической системой Мексики, для которой характерно наличие господствующей партии, а также потерпевшим поражение в Перу течением АПРА (Американским национально-революционным альянсом). Особенность мексиканского популизма состояла в том, что коллективным лидером выступала правящая группировка – Институционно-революционная партия (ИРП), а глава государства рассматривался лишь как эманация этой группировки. Мексиканский популизм «революционен» лишь в буквальном смысле слова, т. е. как «переворот», в котором новая олигархия заменила старую, когда все возвращалось к исходной точке, но сопровождалось неизбежным переходом из рук в руки земельной собственности.
Особые формы выражения представлял со своей стороны и военизированный популизм. Эта оригинальная парадигма обнаруживается в Египте при Насере. В том, что касается его стратегии «революционного» развития новой олигархии на базе аграрной реформы с контролируемыми демократическими последствиями, то тут насеризм напоминает мексиканскую разновидность популизма. Отличается же он от классического преувеличением харизмы лидера как на начальной фазе (при Насере), так и на последующей буржуазной фазе – при Садате. Кстати, в этом случае миф об арабской идентичности играет ту же роль, что и индейский «национально-коренной» миф. Причем насеризм в свою очередь стал объектом для подражания в Латинской Америке, особенно на радикальной фазе военной диктатуры в Перу в 1968–1975 гг.
И наконец, остаются аутентичные, подлинно революционные виды популизма. Они, вероятно, попадают в другую видовую категорию. Таков, несомненно, кастризм первых лет, основатель которого вел себя как каудильо, но который впоследствии вылился в нечто совершенно иное, чем простая реставрация «либерального кумовства». Зато перонизм представляет собой исключение, подтверждающее правило, а именно: существование авторитарного популизма оправдано социальным примирением; так что если оно не происходит, то он тонет и губит себя в бесконечных повседневных демагогических ухищрениях.
Популистский авторитаризм по времени совпадает с началом и даже с реальным существованием фашизма. Фашистский синдром обозначает разрыв с либеральной логикой, которая все же присуща популистским диктатурам почти в той же степени, что и демократическим режимам. Это исходная точка новой авторитарной динамики, для которой характерно открытое отрицание суверенитета народа как источника легитимности власти.
Разъяснение природы и лица фашизма – задача нелегкая. Во-первых, потому что в наши дни в политической лексике нет более позорного определения, чем «фашистский»; а во-вторых, анализ затрудняется крайним разнообразием этих режимов по шкале такого явления, как тирания. В этом смысле нацизм воплощает собой «норму» фашизма, который в силу своих кровавых ужасов стал тоталитарным. Однако традиция, которая за отправную точку берет сталинизм, рассматривает его лишь как «гитлеровский уклон» того течения, образец которого дала муссолиниевская Италия и от которого отпочковались поздний франкизм и салзаризм, превратившиеся в обычный авторитаризм, причем с либеральным оттенком.
Посвященная фашизму литература настолько обширна и качественна, что единственное, что можно сделать, это изложить ее отдельные положения. Некоторые из этих работ посвящены, правда, не столько авторитарным режимам, сколько психологии или политической философии. Такова, например, интерпретация с позиций кризиса европейского индивидуализма, которая разрабатывалась как самими фашистскими авторами, вроде Д. Джентиле и Д. Гранди, так и исследователями фашизма (например, Б. Кроче, Ортега-и-Гассет или более близкие к нам по времени Т. Парсонс и У. Корнхаузер). X. Арендт, в свою очередь, увязала морально-философский подход с социологическим, установив взаимосвязь между тоталитарным характером фашизма, прежде всего нацизма, и антииндивидуалистической реакцией тех членов распыленного общества, которые стремились восстановить коллективную идентичность на культурной или этнической основе. Политологи П. Натан и В. Райх рассмотрели эту реакцию в свете парадоксальной фрейдовской концепции, в то время как Э. Фромм применил к ней марксистско-фрейдовскую схему, а Т. Адорно в этой связи предложил свою экспериментальную «модель авторитарной личности».
Непосредственный интерес для понимания исторических пружин фашистских режимов представляют работы, касающиеся их социального генезиса и организационных особенностей. В этой связи отрадно констатировать, что марксистская трактовка этого феномена вскоре вышла за рамки чеканного определения, данного III Интернационалом в 1935 г., когда фашизм определялся как откровенно террористическая диктатура наиболее реакционных и шовинистических империалистических элементов финансового капитализма. Конечно, впоследствии работы марксисткой школы всегда отдавали дань классовой борьбе и безоговорочному осуждению крупного капитала. Но непредвзятость часто приводила к объективности. В частности, в работах этой школы доказано, что итальянский фашизм и нацизм обусловлены не столько махинациями банкиров и крупных промышленников, сколько влившимся в действия разочарованием мелкой буржуазии, до той поры лишенной доступа к верхним этажам власти и ныне оказавшейся под угрозой быть «обойденной» на этом пути рабочим классом как раз в тот момент, когда она по праву рассчитывала прийти к власти.
Еще в 1935 г. Л. Троцкий отметил, что «фашистское движение в Италии было стихийным движением широких народных масс», и примерно в то же время Отто Бауэр сконцентрировал внимание на выявлении его мелкобуржуазной динамики. Тем самым они оба положили начало новой марксистской интерпретации этого феномена. Б. Моор также характеризовал фашизм как «попытку придать реакции и консерватизму народный и плебейский аспект». В более позднем исследовании Бауэр указывал, что в фашизме воплотился антагонизм средних классов по отношению к элите, стремление средних классов взять власть от своего имени, а не делегировать ее в рамках парламентских режимов, верхушечным и демагогическим характером которых они игнорировались. В известном смысле фашизм приобрел антиолигархический характер в двух планах. В долгосрочном плане он выражал амбиции «промежуточных слоев», не желавших более терпеть «затирания» в условиях, когда в обществе полным ходом идут индустриальные изменения. В ближайшем плане он отражал опасения, что власть имущие заключат за их счет и в ущерб им тактическое соглашение с рабочим классом в период экономического кризиса и социальных потрясений.
Этот марксистский вклад в понимание социогенезиса фашизма представляется тем более ценным, что с появлением работ Г. Лукача и М. Вайды он выделился в радикальный пересмотр процесса, который последовал за этой основополагающей фазой. Ибо не следует излишне доверять той идее, что плебейские «кадры» итальянского и немецкого фашизма служили лишь прикрытием интересов капитала, что «доказывает» сохранение этими режимами основных элементов, составляющих автономию гражданского общества и его капиталистического способа производства. Вайда подчеркивает, что в действительности особенностью фашистского руководства было не только то, что по своему происхождению, менталитету и целям оно было глубоко чуждо старой касте аристократического, военного и буржуазного руководства. Помимо этого оно все больше вступало в прямое противоречие с этой кастой как в экономическом, так и в других планах. Оно пустило в ход процесс своеобразной социальной модернизации с долгосрочной отдачей, поскольку действительно понизило статус прежних господствующих слоев в пользу нового порядка прихода к власти – в зависимости от личных заслуг перед новым режимом.
По сравнению с марксистским вкладом вклад немарксистских политологов выглядит скромным. Однако нужно отметить, что Р. Дарендорф опередил Вайду в открытии эгалитаристских эффектов нацизма. Оригинален также подход X. Линца и С. Роккана. Первый известен своим изучением отличий фашистских режимов тоталитарного стиля, насажденных в Италии и Германии, от «подражательного» фашизма, распространенного в других странах, особенно в Испании, Португалии, Венгрии, Румынии, Хорватии и Словакии. Линц предполагает, что фашизм как массовое движение и как руководящая партия не развивается полностью в тех странах, где реакционные группы общества в качестве замены ему используют армии, монархии и государственные бюрократии (как, например, на Юге Европы и на Балканах). Роккан, со своей стороны, рассматривает фашистский синдром в историческом плане и подчеркивает, что зона его преимущественного распространения совпадает с территорией бывших империй – Священной Римской и ее Испанской разновидностью, а также зоной, которая вплоть до XIX в. оставалась европейской экономической периферией. По его мнению, фашизм представляет собой один из аспектов отрицательной реакции на отставание в деле складывания сильной национальной и экономической идентичности.
Нужно отдать должное тем немногочисленным немарксистским политологам и историкам, которые изучали механизмы управления фашистских режимов. 3. Бжезинский и С. Фридрих на примере фашистской Италии, нацистской Германии и советской системы изучали их не столько как авторитарную, сколько как тоталитарную модель, характеризуемую гегемонией одной партии, всевластием полиции, монополией одной идеологии и отрицанием прав человека. В этом же ряду анализ фашизма как авторитарной власти, выполненный X. Линцем, к сожалению, на примере франкистского режима, т. е. «подражательного» фашизма, далекого от итальянской и особенно немецкой «нормы». Следует упомянуть и исследование Лассуэлла и Лернера об обновлении элит при фашизме и нацизме.
Фашистские системы являются предпоследней фазой современного авторитаризма, представленного сегодня новыми технократическими или военными диктатурами «передовых», развитых обществ и разнообразными формами авторитаризма третьего мира. Разным формам авторитарного феномена посвящались работы существующих примерно с 1960 г. двух направлений политологии. Первое – это эволюционистская интерпретация американской школы «политического развития», занимающаяся прежде всего вопросами динамики власти в незападном мире. Второе охватывает разрозненные попытки создать типологию авторитаризма, присущего Латинской Америке и Южной Европе.
Б. Бади прекрасно описал школу политического развития в целом, и это позволяет нам ограничиться лишь рассмотрением тех положений этой школы, что касаются конкретно авторитаризма. В работах Шилза, Алмонда и Коулмэна основная мысль заключалась в том, что авторитарные правительства знаменуют собой такой этап в процессе развития, который при благоприятных обстоятельствах переходит в специальную диверсификацию и секуляризацию, на смену которым приходит демократическая фаза. Впоследствии Пай высказал сомнение в том, что авторитаризм может перейти в демократию, и в том, что авторитаризм как таковой представляет собой «современную» форму правления.
Вообще же это направление избегает употреблять понятие «авторитаризм». Одни его представители, например Эптер и Хантингтон, придают ему второстепенное значение, другие, например Даль, пользуются другой терминологией. Эптер выпускает из поля зрения это понятие, когда вводит различие между «политическим развитием», под которым он понимает динамику, присущую власти в незападном обществе, и «политической модернизацией», т. е. имитацией этими обществами западной модели правления. Хантингтон по-своему тоже сглаживает это явление: по его мнению, главный водораздел проходит между «гражданскими обществами» и «преторианскими обществами». Он считает, что формы правления в каждой стране менее важны, чем наличие или отсутствие процессов социальной диверсификации и автономизации государства, ведущих к классическому механизму разделения сфер частнопредпринимательской и политической деятельности. Этим процессом обусловлено появление представительных институтов в гражданском обществе или захват клано-во-родовой власти небольшими группами в «преторианском обществе». При такой ограниченности авторитаризм с трудом вписывается только в «преторианизм», хотя впоследствии Хантингтон дополнил свой абстрактный подход весьма банальным изучением однопартийных режимов, возведенных им в парадигму авторитарной власти. Даль, со своей стороны, сосредоточился на обновлении политической лексики. По его терминологии, явление авторитаризма вписывается в схему отношений власть имущих с руководимыми, с учетом роли, отведенной оппозиции. Это предельно упрощенная двухполюсная схема, идеально представляющая либо «полиархические системы», допускающие оппозицию, демократические, либо «гегемони-стские» системы, исключающие всякую оппозицию.
При обращении к истории задача школы «политического развития» заключается в выяснении движущих сил и пружин в процессе дифференциации западных систем власти. Решающий вклад в это направление сделал Б. Моор. Конечно, Моор не высказывает ничего оригинального, подразделяя политическую модернизацию на буржуазную революцию англо-американского или французского типа, «верхушечную» революцию в прусском или японском стиле, «крестьянскую революцию», где власть получает диктаторский коллектив, как в России или в Китае. Зато он вводит новшество, широко объясняя политику при помощи экономического детерминизма. Способ контроля над коммерциализируемыми излишками сельскохозяйственной продукции, образованными переворотом в земледелии и сельском хозяйстве XVIII–XIX вв., понимается им как главный фактор либо парламентского авторитарно-реакционного, либо революционно-авторитарного устройства современных государств в долгосрочной перспективе. Согласно Моору, факт завоевания этих излишков буржуазной элитой объясняет, каким образом она получила материальную базу для освобождения от монархического государства и введения впоследствии прямой парламентской и репрезентативной власти. И наоборот, тот факт, что само государство в Пруссии или в Японии получило контроль над этим экономическим ресурсом, обусловил подчиненное положение их элит, а тем самым и длительное сохранение авторитаризма в этих странах, не имевших демократического «фермента» в виде материальной самостоятельности хотя бы у части общества. И наконец, революционный авторитаризм России и Китая, который вначале имел сходство с названным выше типом, но затем вступил с ним в противоречие, когда крестьянский бунт не был компенсирован противовесом со стороны буржуазии и в результате с неизбежностью был направлен в определенное русло малочисленным радикальным руководством, не имевшем социальной опоры и даже, на тот момент, особых собственных интересов.
Работа С. Роккана, посвященная только Западной Европе, обогатила социально-историческое направление изучения авторитаризма. Уже говорилось, что Роккан установил зависимость между развитием фашизма и исторической спецификой стран Центральной и Южной Европы, где священная Римская Империя и империя Габсбургов представляли препятствие для развития национальных государств. В этих условиях авторитаризм выступает как экстренное решение и быстродействующая мера против отставания в деле национального строительства. Эта же гипотеза использована Рокканом в «концептуальной картографии» образования политического раскола в Европе. Отправная точка в этой «картографии» – Реформация и начало капитализма, из нее выходят две оси – на оси «Север – Юг» располагаются политические единицы, связанные с духовной властью Рима, а на оси «Восток – Запад» торговые, политически автономные города Голландии, долины Рейна, севера Италии. На основе этой карты Роккан объясняет, что политическую терпимость, а впоследствии демократические тенденции правительств северо-западной периферии, в частности Англии и Голландии, можно трактовать с точки зрения удаленности одновременно и от центра католического авторитаризма в лице папства, и от центра независимости рейнских и голландских городов. Соответственно, нетерпимость или авторитаризм «центральных» Франции и Германии объясняется их близостью к римской власти, а также желанием пресечь опасное влияние буржуазных правителей суверенных городов.
Парадигмами школы «политического развития» и социальной истории не исчерпываются новейшие исследования по авторитаризму. Сегодня делаются попытки разработать категории авторитаризма, применимые к современности, и в целом они намечают современную типологию этого феномена.
В этой связи вновь привлекают работы X. Линца. И действительно, Линц не удовлетворяется видовым определением авторитаризма, который он формулирует как способ правления в наши дни «с ограниченным плюрализмом». Тем самым он обозначает такой тип консервативной власти, который, не имея в наши дни возможности лишить права голоса большие массы людей с помощью ценза, прибегает с этой же целью к глобальному или избирательному запрещению партий и профсоюзов. В условиях, когда разрешены только те течения, которые способствуют поддержанию социального равновесия, силы, находящиеся «с правильной стороны» плюрализма, могут законно выступать на стороне власти по каналам якобы непартийных организаций или даже партий, отобранных по принципу их конформизма. С другой стороны, те силы, которые угрожают статус-кво, обречены быть вне закона и в подполье, чем и оправданы откровенные репрессии против них. В силу этого такие системы оказываются «либеральными» пост-парламентскими полудиктатурами, исполнительную власть в которых олицетворяет харизматический лидер наподобие генерала Франко и президента Салазара. Однако они могут уживаться и с сильной, но конституционной президентской властью, как например в Мексике, или с почти коллегиальным руководством, как например, при военном режиме в Бразилии. Точно так же они могут преобразоваться в системы нерегулярной кооптации, периодически производимой с целью получения новой поддержки, обычно популистского толка.
В схемах этого толка широко используется категория «корпоративный» авторитарный режим для характеристики прямых или, иначе говоря, внепарламентских отношений, которые устанавливаются в этом случае между кооптируемыми социальными или экономическими силами и центральной властью.
Продолжая подход Линца, Ф. Шмиттер исследует «корпоративно-этатический» порядок на примере Португалии до 1974 г. или Бразилии после 1964 г. Он подчеркивает, что этот порядок сопровождается делегированием некоторых атрибутов государства промежуточному корпусу или слою профессионалов, деятелей культуры и образования, что представляет собой парадоксальную, на первый взгляд, «либеральную» уступку со стороны авторитарных правительств.
Исходя из концепции «ограниченного плюрализма», политолог Жагуариб ввел понятие «необисмарковской» стратегии. Он относит это к полуавторитарным правлениям в переживающих период индустриализации странах с многопартийной системой, созданной под эгидой государства, которое направляет политическое расслоение в определенное русло с целью социализации в консервативном духе мелкобуржуазных и рабочих масс. Этот политический метод вызывает у Жагуариба ассоциацию с Бисмарком и Варгасом. Кстати, и наш собственный анализ подтверждает, что эта стратегия на основе технократического обоснования используется не только в области политической социализации, но и в области экономики с целью привлечения иностранного капитала и создания условий для «общества потребления». Такова авторитарная динамика, «проникающая в экономическое развитие», которая была присуща франкистскому режиму после 1958 г., военному режиму в Бразилии или «пресвященной диктатуре» последнего шаха Ирана, а М. Кемалю в Турции и даже правительству Южной Кореи в 1960-х и 1970-х гг.
Иначе подходит к вопросу политолог О'Доннелл, изучающий «авторитарно-бюрократическую модель». Вначале он намеревался проанализировать два специфических аспекта латиноамериканской проблематики авторитаризма: во-первых, связь между экономической и культурной «зависимостью» стран Латинской Америки и появлением в них военной диктатуры нового типа, а во-вторых, институционализацию этих режимов и складывание новых отношений между государством и обществом. В отличие от популистских правительств, «военно-бюрократические диктатуры» не прибегают к нацистским силам, предпочитая доктрины «национальной безопасности», которые вполне уживаются с допуском в эти страны в процессе индустриализации многонациональных корпораций. О'Доннелл считает, что задача этих режимов заключается в восстановлении авторитета государства под эгидой единственной группы в обществе – военных, которые технически и социально способны осуществить эту операцию. Позднее, после адресованной ему критики со стороны А. Хершмена, О'Доннелл видоизменил свою модель, признав, что стратегия социальной и экономической модернизации «авторитарно-бюрократического» государства может проводиться не только военными режимами. Бюрократическое государство вполне может быть представлено сильной гражданской властью или такой, что уже находится в процессе «демилитаризации»; исключительность исполнительной власти вполне может сочетаться с соблюдением других основных правил демократии или проведением демократических структурных и культурных преобразований. Эта уточненная концепция О'Доннелла до некоторой степени совпадает с концепциями Колье и Курта, которые считают, что созданное под эгидой бюрократического авторитаризма общество потребления ведет к его исчезновению и замене его более репрезентативными формами правления, более похожими на те демократические формы, которые ныне существуют в индустриальных странах.
«Авторитарно-бюрократическая» парадигма вводит категорию «военных режимов». Даже в современном смягченном виде военный авторитаризм остается одной из старейших форм диктатуры, восходящей как минимум к власти Мамлуков в Египте XI–XVIII вв., но в общем неотъемлемой от первых опытов начального периода современного государства. Что касается современности, то последние двадцать пять лет масса литературы посвящена вмешательству в политику армии в третьем мире.
Начиная с 1945 г. выступления военных происходят в рамках разных национальных, региональных и исторических условий. Военные диктатуры в разной степени соответствуют различным идеологическим направлениям. Марксизм-ленинизм «экзотической» либо польской разновидности, радикальный популизм в ливийском или перуанском виде, бразильский модернизаторский консерватизм или контрреволюционные, но неолиберальные репрессии генерала Пиночета и аргентинских военных – все это современный военный авторитаризм. Специалисты по военному авторитаризму делятся на две группы. Одни считают, что военные имеют особую «склонность» к захвату власти, объясняя это тем, что офицеры берут на себя роль, обычно выполняемую элитой, когда гражданской элиты либо не существует, либо она слишком слаба, чтобы руководить страной. Другие придерживаются той теории, что узурпация власти военными – это либо побочный продукт «империалистического господства и угнетения», либо следствие интриг США.
Новейшее исследовательское направление в этой области близко к теории С. Хантингтона о «преторианской динамике» отношений между государством и обществом. Представители этого направления, включая А. Рукье, во-первых, рассматривают разнообразные формы военного авторитаризма с позиций отношений между национальным государстом в период, когда оно переживает кризис, и его вооруженными силами, а во-вторых, пытаются опровергнуть миф о том, что не может быть «политики военных», пытаясь понять, как функционирует «военная партия», которая не обязательно совпадает с аппаратом власти как таковым.
Для «ортодоксальной» политологии авторитарные режимы – это монстры, которых она может лишь обозначить, но не познавать, несмотря на то, что они имеют свою внутреннюю динамику и отношения с окружением. Если процесс легитимации в условиях демократии обрывается, политологи, изучающие его, останавливаются, не решаясь практически исследовать, как осуществляется незаконная диктатура. Поэтому в изучении функционирования авторитарных режимов обнаруживается больше пробелов, чем заслуживающих внимание практических результатов.
Проблема, достойная анализа, – это институционализация авторитарных режимов; ее изучением занимается практически один X. Линц. Еще один вопрос – это их идеологическая деятельность, процедуры и методы убеждения, а также «легитимация незаконности». Здесь можно назвать работы Грегора и Ж.-П. Фэя о фашистской социализации, работу Медьероса об авторитарной идеологии в Бразилии, работы Л. Хербана о культе Дювалье на Гаити или наш собственный анализ стратегии франкизма по вопросам информации. Самое удивительное – это отсутствие у исследователей интереса к вопросу о репрессиях и контроле над населением, яркий пример которых должны, казалось бы, дать диктатуры. Исключение составляют исследование X. Пейна и Т. Зелдина о Второй Империи, беглые замечания Чэпмэна о полицейском государстве, обстоятельный анализ Виарда о диктатуре Трухилльо в Доминиканской республике.
Более многочисленны работы, посвященные единственным или господствующим авторитарным партиям, их структуре и протекающим внутри них процессам. Следует упомянуть анализ нацистской партии, сделанный Гертом, фундаментальные исследования С. Пейна и особенно Линца об испанской фаланге, а также работы Гарридо о мексиканской Институционально-революционной партии (ИРП) и Харика о единственной партии в Египте. <...>
Р. Даль. Демократия и ее критики[57]
Какие же критерии будут целиком соответствовать нашим посылкам и тем самым обеспечат нас отличительными характеристиками демократического процесса?
Эффективное участие
На протяжении всего процесса принятия связывающих решений граждане должны иметь адекватные, а также равные возможности для выражения своих предпочтений относительно конечного результата. Они также должны располагать адекватными и равными возможностями в постановке вопросов на повестку дня и для выражения причин одобрения одного, а не другого результата.
Отрицание за любым гражданином адекватных возможностей эффективного участия означает, что их предпочтения не принимаются в расчет, поскольку неизвестны или учтены неверно. Точно так же не брать во внимание их предпочтения относительно конечного результата равносильно отказу от принципа равного учета интересов.
Равенство голосования на решающей стадии
На решающей стадии принятия коллективных решений каждому гражданину должна обеспечиваться равная возможность выразить свой выбор, который признавался бы равнозначным выборулюбого иного гражданина. При определении результатов на решающей стадии эти – и только эти – выборы должны учитываться.
Поскольку эти выборы являются тем, что мы обычно называем голосованием, то данный критерий, можно сказать, требует равного голосования на решающей стадии. <...>
Просвещенное понимание
...Я хотел бы расширить понимание содержания демократического процесса, прибавив третий критерий. К сожалению, я не знаю, как его сформулировать по-другому, кроме многозначных и, соответственно, неясных слов. И все же позвольте мне предложить следующую формулировку критерия просвещенного понимания.
Каждый гражданин должен иметь адекватную и равную возможность для определения и обоснования (в рамках времени, отводимого согласно необходимости в обсуждении) такого своего предпочтения по вопросу, подлежащему решению, которое наилучшим образом отвечало бы интересам данного гражданина.
Этот критерий предполагает, что альтернативные процедуры принятия решений следует оценивать в соответствии с возможностями, которые они предоставляют гражданам для достижения понимания средств и целей, своих интересов и ожидаемых последствий политики по реализации таких интересов, причем не только для себя одного, но и для всех иных затрагиваемых лиц. Поскольку благо или интересы граждан привлекают внимание к общественному благу и общему интересу, то люди должны иметь шансы на достижение понимания этих проблем. <...>
Контроль над повесткой дня
...Эти замечания приводят к четвертому критерию – конечному контролю демоса над повесткой дня.
Демос должен обладать исключительными возможностями решать, каким образом проблемы должны быть поставлены в общий перечень проблем, решаемых путем демократического процесса.
Критерий конечного контроля, возможно, означает и то, что в условиях демократии последнее слово должно быть за народом, т. е. народ должен быть суверенен. Систему, которая удовлетворяет этому критерию, как и трем остальным, следует рассматривать как обладающую полноценным демократическим процессом в отношении своего демоса.
Согласно этому критерию, политическая система будет использовать полностью демократический процесс даже в том случае, если демос решил, что не стоит принимать каждое решение по всякому вопросу, а вместо этого предпочтет, чтобы решения по некоторым вопросам принимались иерархически судьями и администраторами. Пока демос сохраняет способность действительно вернуться к любому вопросу для собственного решения, данный критерий полностью удовлетворяется. <...>
ПОЛИАРХИЯ
Полиархия является политическим строем, в самой широко взятой форме отмеченным двумя общими характеристиками. Гражданство распространено на сравнительно большую часть взрослого населения. Права гражданства включают возможность выступать против высших должностных лиц в правительстве и смещать их посредством голосования. Первая характеристика отделяет полиархию от более ограничительных систем правления, в которых, хотя и дозволена оппозиция, доступ в правительства и в состав их легальных оппозиций сужен только для представителей малых групп, как это было в Британии, Бельгии, Италии и в других странах до введения массового избирательного права. Вторая характеристика отделяет полиархию от режимов, в которых большинство взрослых является гражданами, но гражданство не предполагает права на оппозицию и на смещение правительства голосованием, как это происходит при современных авторитарных режимах.
Институты полиархии
При уточнении двух этих общих принципов более конкретно полиархия является политическим порядком, определенным наличием семи институтов, каждый из которых должен существовать для того, чтобы эта форма правления была распознана как полиархия.
Выборные власти. Выборные власти облечены конституцией правом контроля над правительственными решениями по поводу политики.
Свободные и справедливые выборы. Выборные власти избираются на свободно и справедливо проводимых выборах, где злоупотребления сравнительно редки.
Включающее избирательное право. Практически все взрослое население имеет право голосовать во время избрания властей.
Право претендовать на избрание. Почти все взрослые вправе выдвигать свою кандидатуру на выборах на правительственные должности, хотя существующие ограничения на занятие постов могут превышать те, которые установлены для голосования.
Свобода выражения своего мнения. Граждане имеют право выражать свое мнение без страха строгого наказания по политическим мотивам в широком смысле, включая критику властей, правительства, режима, социально-экономического порядка и господствующей идеологии.
Альтернативная информация. Граждане располагают правом на поиск альтернативных источников информации. Более того, альтернативные источники информации существуют и защищены законами.
Организационная самодеятельность. Для достижения различных прав, включая вышеперечисленные, граждане также вправе формировать сравнительно самостоятельные ассоциации или организации, включая независимые политические партии и группы интересов.
Важно понимать, что эти утверждения характеризуют действительные, а не просто номинальные права, институты и процессы. На деле странам мира может быть номинально присвоен ранг в соответствии со степенью, в которой каждый из институтов наличествует на практике. Следовательно, институты способны служить в качестве критериев для решения по поводу того, какая из стран управляется полиархией сегодня или в более ранние времена. Эти ранжирования и классификации могут быть использованы, как мы увидим далее, для исследования условий, которые благоприятствуют или мешают перспективам укрепления полиархии.
Полиархия и демократия
Тем не менее очевидно, что мы интересуемся полиархией не только потому, что она являет собой тип политического строя, характерный для современного мира. Здесь она интересует нас из-за своей связи с демократией. Как же тогда полиархия соотносится с демократией?
Коротко, институты полиархии необходимы для демократии крупного масштаба, особенно размеров современной нации-государства. Иначе говоря, все институты полиархии нужны для наивысших достижений в демократическом процессе управления страной. Сказать, что все семь институтов необходимы, не значит утверждать, что они достаточны. В следующих главах я хотел бы рассмотреть некоторые возможности дальнейшей демократизации стран, управляемых институтами полиархии.
Взаимоотношения между полиархией и требованиями к демократическому процессу показаны в табл. 1.
Таблица 1
Полиархия и демократический процесс
А. Лейпхарт. Конституционные альтернативы для новых демократий[58]
Две основополагающие альтернативы, перед которыми оказываются творцы новых демократических конституций, это, во-первых, выбор между избирательными системами, основанными, соответственно, на принципе большинства и на принципе пропорционального представительства, и, во-вторых, между парламентской и президентской формами правления. Основательное обсуждение достоинств президентской и парламентской форм правления провели на страницах осеннего номера «Джорнел оф демокраси» за 1990 г. Хуан X. Линц, Сеймур М. Липсет и Дональд Л. Хоровиц. Я решительно поддерживаю точку зрения Хоровица, что избирательная система – один из равносущественных элементов демократического конституционного устройства и что чрезвычайно важным делом является оценка указанных двух пар [взаимно] альтернативных вариантов в их соотношении друг с другом. Такого рода анализ, как я попытаюсь продемонстрировать, показывает, что для новых демократических и демократизирующихся стран особую привлекательность должно заключать в себе сочетание парламентской формы правления с пропорциональным представительством.
Сравнительное изучение демократий показало, что тип избирательной системы значимым образом связан с развитием партийной системы страны, с типом существующей в ней исполнительной власти (однопартийное или же коалиционное правительство) и с отношениями между исполнительной властью и законодательным органом. В странах, где на выборах действует принцип большинства (на выборах общенационального уровня почти всегда применяемый в одномандатных округах), скорее всего утверждаются двухпартийные системы, появляются однопартийные правительства и существует доминирующее положение исполнительной власти по отношению к соответствующим законодательным органам. Таковы основные особенности вестминстерской, или мажоритарной, модели демократии, при которой власть сосредоточивается в руках партии большинства. Напротив, пропорциональное представительство скорее ассоциируется с многопартийными системами, коалиционными правительствами (часто вплоть до широких и всеобъемлющих коалиций) и с более уравненным соотношением исполнительной и законодательной властей. Этими особенностями характеризуется консенсусная модель демократии, которая в противоположность однозначному и безраздельному правлению большинства воплощает стремление к ограничению, разделению, разграничению и распределению власти различными способами.
По поводу данных двух групп взаимосвязанных характеристик необходимо отметить еще три момента. Во-первых, зависимость между этими характеристиками обоюдная. Скажем, выборы, проводимые на основе принципа большинства, благоприятствуют утверждению двухпартийной системы; но и существование двухпартийной системы благоприятствует сохранению мажоритарного принципа, дающего обеим главным партиям большие преимущества, от которых они едва ли откажутся. Во-вторых, если при внедрении демократического политического строя хотят способствовать утверждению в нем черт, характерных для мажоритарного его типа (принцип большинства, двухпартийная система и сильный, однопартийный кабинет) или же, напротив, для консенсусного типа (пропорциональное представительство, многопартийность, коалиционные правительства и более сильный законодательный орган), то наиболее практически целесообразным способом достижения этого является выбор соответствующей избирательной системы. Джованни Сартори удачно назвал избирательные системы самым специфичным манипулятивным инструментом политики. В-третьих, системы пропорционального представительства имеют существенные разновидности. Не вдаваясь во все технические подробности, полезно провести различие между крайним вариантом пропорционального представительства, при котором на пути небольших партий воздвигается мало барьеров, и умеренным его вариантом. Последний ограничивает влияние малых партий, применяя принцип пропорционального представительства не в больших округах и не в общенациональном округе, а лишь в малых округах, а также вводя оговорку о необходимости для партий набрать определенный минимальный процент голосов, чтобы получить представительство в выборном органе, как, например, 5 %-ный минимум в Германии. Голландская, израильская и итальянская системы являются примерами крайнего варианта пропорционального представительства, а германская и шведская – примерами его умеренного варианта.
Другая основополагающая альтернатива при выборе конституционного устройства между парламентской и президентской формами правления также влияет на приобретение политической системой мажоритарного или консенсусного характера. Президентская форма правления оказывает на партийную систему и на тип исполнительной власти влияние, идущее в направлении мажоритарной, а на отношения исполнительной и законодательной властей – в направлении консенсусной модели. Президентские системы, формально отграничивая друг от друга исполнительную и законодательную власти, обычно способствуют их примерному равновесию. В то же время президентская форма способствует складыванию двухпартийной системы, так как президентство – самый большой политический приз и выиграть его имеют шансы лишь крупнейшие партии. Данное преимущество, которым обладают большие партии, часто остается за ними и на выборах в законодательный орган (особенно при одновременном их проведении с президентскими), даже если они проводятся по правилам пропорционального представительства. При президентской форме правления обычно формируются кабинеты, составленные единственно из членов правящей партии. По сути дела, президентские системы концентрируют исполнительную власть в еще большей степени, чем это происходит при образовании парламентом однопартийного кабинета, они сосредоточивают такую власть не просто в руках одной-единственной партии, но в руках одного-единственного лица.
В объяснение уже сделанного в прошлом выбора
Я ставлю перед собой цель не просто описать [взаимно] альтернативные демократические системы и их мажоритарные или консенсусные характеристики, но и дать некоторые практические рекомендации тем, кто закладывает основы демократического устройства [своих стран]. Каковы главные преимущества и недостатки принципа большинства и принципа пропорционального представительства, а также президентской и парламентской форм? Способ подхода к этому вопросу – исследовать, почему современные демократии в свое время сделали тот конституционный выбор, который они сделали.
В табл. 2 показаны все четыре комбинации основных характеристик, а также страны и регионы, где принята та или иная из комбинаций. Наиболее отчетливо выраженные примеры сочетания президентской формы с принципом большинства дают Соединенные Штаты, а также демократии, испытавшие сильное их влияние, такие как Филиппины и Пуэрто-Рико. Латиноамериканские страны в подавляющем большинстве избрали системы, сочетающие президентскую форму с пропорциональным представительством. Парламентско-мажоритарные системы существуют в Соединенном Королевстве и многих бывших британских колониях, включая Индию, Малайзию, Ямайку, а также страны так называемого Старого Содружества (Канаду, Австралию и Новую Зеландию). Наконец, системы, сочетающие парламентскую форму правления с пропорциональным представительством, сконцентрированы в [континентальной] Западной Европе. Конечно, вся картина в целом в значительной степени определяется географическими, культурными и колониальными факторами, к чему я в скором времени еще вернусь.
Таблица 2
Четыре основные типа демократии
Среди современных демократий очень немного найдется таких, которые нельзя подвести под данную классификацию. Основными исключениями являются демократии, располагающиеся как раз посередине между чисто президентским и чисто парламентским типами (Франция и Швейцария), а также такие, где в избирательных системах применяются методики, отличные от пропорционального представительства или же от принципа большинства в их чистом виде (Ирландия, Япония и, опять-таки, Франция).
Два важных фактора повлияли на принятие принципа пропорционального представительства в континентальной Европе. Одним из них явилась проблема этнических и религиозных меньшинств; пропорциональное представительство предназначалось для обеспечения представительства меньшинства и тем самым для противодействия потенциальным угрозам национальному единству и политической стабильности. «Не случайно, – пишет Стейн Роккан, – самые первые шаги к пропорциональному представительству имели место в этнически наиболее неоднородных странах». Вторым фактором была динамика процесса демократизации. Пропорциональное представительство «было принято под соединившимся давлением снизу и сверху. Поднимавшийся рабочий класс стремился понизить барьеры на пути к представительству, с тем чтобы получить доступ в законодательные органы, а те из старых, прежде укоренившихся партий, которые оказались в наиболее угрожаемом положении, требовали пропорционального представительства, чтобы оградить свои позиции перед тем наплывом вновь мобилизованных избирателей, какой породило всеобщее избирательное право». Оба фактора актуальны и применительно к современному конституционному творчеству, особенно для многих стран, где имеется глубокая разделенность по этническому признаку или где существует необходимость примирения новых демократических сил с противостоящими демократии старыми группами.
Принимался ли парламентский или же президентский порядок правления – это также изначально определялось процессом демократизации. Как указывал Дуглас В. Верни, существовало два основных способа, коими монархическая власть могла быть демократизирована: упразднить большую часть личных политических прерогатив монарха и вменить его кабинету ответственность перед всенародно избранным законодательным органом, создавая тем самым парламентскую систему; или же упразднить наследственного монарха и взамен ввести нового, демократически избираемого «монарха», создавая таким образом президентскую систему.
Другими историческими основаниями были произвольное имитирование успешных демократий и доминирующее влияние колониальных держав. Как весьма ясно показывает табл. 1, огромную важность имело влияние Британии как колониальной державы. Президентская модель США широко имитировалась в Латинской Америке в XIX в. А в начале XX в. пропорциональное представительство быстро распространилось в континентальной Европе и Латинской Америке не только в угоду носителям политических пристрастий и ради защиты меньшинств, но и в силу того, что оно широко воспринималось как самый демократичный способ выборов и, стало быть, как «волна демократического будущего».
В связи с этой настроенностью [общественного мнения] в пользу пропорционального представительства выдвигается дискуссионный вопрос о качестве демократии, достигаемом во всех четырех альтернативных системах. Термин «качество» подразумевает степень, в какой та или иная система отвечает таким демократическим нормам, как представительность, ответственность (подотчетность) (accountability), равенство и участие. Заявлявшиеся позиции и контрпозиции слишком хорошо известны, чтобы надо было здесь долго о них говорить, но имеет смысл подчеркнуть, что расхождения между противоположными лагерями не столь велики, как часто полагают. Прежде всего сторонники пропорциональной системы и сторонники принципа большинства не согласны друг с другом не столько в том, каковы, соответственно, последствия этих двух методик проведения выборов, сколько в том, какой вес этим последствиям придавать. Обе стороны согласны в том, что принцип пропорционального представительства обеспечивает большую пропорциональность представительства вообще, а также представительство меньшинств, а принцип большинства способствует складыванию двухпартийных систем и однопартийных органов исполнительной власти. Расходятся спорящие в том, какой из этих результатов считать более предпочтительным, причем сторонники принципа большинства утверждают, что только в двухпартийных системах достижима четкая ответственность за правительственную политику.
Кроме того, обе стороны спорят об эффективности обеих систем. Пропорционалисты ценят представительство меньшинств не просто за демократическое качество [такого порядка], но и за его способность обеспечивать сохранение единства и мира в разделенных обществах. Сходным образом сторонники принципа большинства настроены в пользу однопартийных кабинетов не только ради их демократической подотчетности, но и ради обеспечиваемой ими, как это считается, твердости руководства и эффективности при разработке и проведении политики. Обнаруживается также и некоторое различие в акценте, какой обе стороны делают соответственно на качестве и на эффективности. Пропорционалисты склонны придавать большее значение представительности правления, тогда как мажоритаристы более существенным соображением считают способность управлять.
Наконец, спор между сторонниками президентской и парламентской форм правления, хоть он и не был столь ожесточенным, отчетливо обнаруживает свое подобие спору об избирательных системах. И здесь заявленные позиции и контрпозиции вращаются вокруг и качества, и эффективности. Сторонники президентской формы рассматривают как важную демократическую ценность прямое всенародное избрание главного носителя исполнительной власти, парламентаристы же считают несоответствующим демократическому оптимуму сосредоточение исполнительной власти в руках одного-единственного лица. Но в данном случае предметом серьезных дискуссий была в большей степени проблема эффективности, когда одна сторона подчеркивала роль президента как обеспечивающего сильное и эффективное руководство, a другая – опасность конфликта и тупика в отношениях исполнительной и законодательной властей.
Оценивая демократию в действии
Каким образом можно оценивать фактическое действие этих различных типов демократии? Крайне трудно находить мерило для количественной оценки демократии в действии, и поэтому политологи редко когда покушались на выработку систематической оценки.
Виднейшим исключением является пионерное исследование Пауэлла (G. Bingham Powell), где оценивается способность различных демократий поддерживать общественный порядок (исходя из количества его нарушений и случаев гибели людей в результате политического насилия), а также уровень участия граждан (измеряемый числом участвующих в голосованиях). По примеру Пауэлла я рассмотрю эти, а также и другие аспекты демократии в действии, такие как представительность и отзывчивость (responsiveness) демократии, экономическое равенство и способность к макроэкономическому регулированию. <...>
Поскольку важная цель пропорционального представительства – облегчить доступ к представительству меньшинствам, естественно ожидать, что соответствующие системы превосходят в этом отношении мажоритарные. Не приходится сомневаться, что дело именно так и обстоит. Например, там, где этнические меньшинства сформировали этнические политические партии, как в Бельгии и Финляндии, принцип пропорционального представительства позволил им получить поистине совершенную пропорциональность представительства. Ввиду наличия столь многих различных видов этнических и религиозных меньшинств в анализируемых демократиях трудно систематически измерить степень, в какой пропорциональному представительству – в сравнении с принципом большинства – удается обеспечить меньшинствам больше представителей. <...>
В качестве аргумента в пользу мажоритарных систем важное значение придавали тому соображению, что там, где они действуют, формируются «сильные» однопартийные правительства, способные проводить «эффективную» государственную политику. Одна из ведущих сфер правительственной активности, где должна бы проявиться такая закономерность (this pattern), – регулирование экономики. Так вот, сторонникам мажоритарных систем пришлось испытать внезапное потрясение, когда в 1987 г. по доле ВНП на душу населения Италия (а это демократия, печально известная непрочностью и нестабильностью правительств, где действует пропорциональная система представительства в условиях многопартийности) превзошла Соединенное Королевство, которое, как считается, являет типичный образец эффективного правления. Если бы Италия открыла крупные месторождения нефти в Средиземноморье, мы, несомненно, объясняли бы ее исключительное экономическое достижение этим случайным обстоятельством. Но нефть открыла не Италия, а Британия!
Экономические успехи, и это очевидно, не определяются единственно правительственной политикой. Когда, однако, мы изучаем экономические показатели за длительный период времени, эффект внешних воздействий сводится к минимуму, особенно если сосредоточить внимание на странах со схожими уровнями экономического развития. <...>
Хотя Италия по экономическому росту и в самом деле было превзошла Британию, в целом группы стран с парламентско-мажоритарными и с парламентско-пропорционалистскими системами по этому показателю мало отличаются как друг от друга, так и от Соединенных Штатов. Некоторое превышение, наблюдаемое у стран с парламентско-пропорционалистскими системами, нельзя счесть значимым. По уровню инфляции наиболее благоприятный показатель у Соединенных Штатов, вслед за ними идут парламентско-пропорционалистские системы. Наиболее ощутимо различие в уровне безработицы: здесь последние выглядят значительно лучше мажоритарных систем. При сравнении же парламентско-мажоритарных систем с парламентско-пропорционалистскими последние по всем трем показателям выглядят предпочтительнее.
Уроки для развивающихся стран
Политологи склонны считать, что страны с мажоритарными системами, такие как Соединенное Королевство и Соединенные Штаты, превосходят [других] по качеству демократии и по эффективности управления, – склонность, скорее всего объясняющаяся тем, что политическая наука всегда была дисциплиной, выказывавшей англоамериканскую ориентацию. Указанное распространенное мнение, однако, всерьез опровергается вышеприведенными эмпирическими данными. Везде, где обнаруживаются значительные различия, парламентско-пропорционалистские системы почти неизменно показывают наилучшие результаты, особенно в отношении представительности, защиты интересов меньшинств, активности избирателей и контроля над безработицей.
Обнаружение этого обстоятельства заключает в себе важный урок для тех, кто закладывает основы демократического устройства [своих стран]: сочетание парламентской формы правления с пропорциональной системой представительства – вариант, которому следует уделить серьезное внимание. Уместным будет, однако, и призвать к осмотрительности, ибо демократии этого типа весьма сильно разнятся между собой. Умеренное пропорциональное представительство и умеренная многопартийность, как в Германии и Швеции, дают более привлекательные модели, чем крайний вариант того и другого, как в Италии и в Нидерландах. Впрочем, как уже отмечалось, и у Италии достойные показатели демократии в действии.
Но уместны ли эти выводы в применении к новодемократическим и демократизирующимся странам в Азии, Африке, Латинской Америке и Восточной Европе, пытающимся заставить демократию работать в условиях недостаточного экономического развития и этнических размежеваний? Не требуют ли эти трудные условия руководства сильной исполнительной власти в лице могущественного президента или доминирующего однопартийного кабинета в вестминстерском стиле?
Применительно к проблеме глубоких этнических расколов эти сомнения легко устраняются. Разделенные общества и на Западе, и в других краях нуждаются в мирном сосуществовании противоборствующих друг другу этнических групп. Это требует примирения и компромисса, для чего, в свою очередь, необходимо как можно большее включение представителей этих групп в процесс принятия решений. Такое распределение власти гораздо легче осуществить при парламентском типе правления и системе пропорционального представительства, чем в президентско-мажоритарных системах. Президент почти неизбежно принадлежит к одной этнической группе, и, стало быть, системы с президентской формой правления делают особенно затруднительным межэтническое распределение власти. А в системах вестминстерского типа с парламентской формой правления, хотя в них и фигурируют на первом плане коллегиальные кабинеты, последние имеют тенденцию не быть в этническом отношении представительными (inclusive), особенно если [в стране] имеется этническая группа большинства. Примечательно, что британское правительство, вопреки своим сильным мажоритарным традициям, признало необходимость консенсуса и распределения власти в конфессионально и этнически расколотой Северной Ирландии. С 1973 г. британская политика характеризовалась попытками разрешить североирландскую проблему посредством выборов на основе принципа пропорционального представительства, а также создания правительства на основе всеобъемлющей коалиции.
Как отмечал Хоровиц, проблемы президентского типа правления, пожалуй, можно облегчить, введя требование, чтобы президент избирался при оговоренной минимальной поддержке различных групп, как в Нигерии. Но это – паллиатив, не идущий ни в какое сравнение с преимуществами подлинно коллективной и представительной (inclusive) исполнительной власти. Подобным же образом пример Малайзии показывает, что в условиях парламентской системы правления может существовать широкий многопартийный и многоэтничный коалиционный кабинет несмотря на мажоритарные выборы, но это требует детальных предвыборных соглашений между партиями. Эти исключения подтверждают правило: межэтническое распределение власти, оказавшееся достижимым в Нигерии и Малайзии лишь на ограниченный срок и путем весьма специальных договоренностей, является естественным и прямым результатом парламентско-пропорционалистских форм демократии.
Пропорциональное представительство и экономическая политика
На вопрос о том, какая из форм демократии наиболее благоприятна для экономического развития, ответить труднее. Для вынесения определенной оценки просто нет достаточного числа примеров длительного функционирования демократий в третьем мире, представляющих различные [демократические] системы (не говоря уже об отсутствии надежных экономических данных). Как бы то ни было, расхожая мудрость, гласящая, что экономическое развитие требует единого и решительного руководства сильного президента или доминирующего кабинета вестминстерского типа, отнюдь не может внушить доверия. Во-первых, если бы – по сравнению с доминирующей и замкнутой в себе (exclusive) – широкопредставительная (inclusive) исполнительная власть, которой в большей мере приходится заниматься поисками договоренностей и согласованием [позиций], была менее эффективна в области экономической политики, то тогда, наверное, авторитарное правление, свободное от вмешательства ли законодательной власти или от внутренних разногласий, было бы оптимальным. Этот довод – часто служивший предлогом, чтобы оправдать свержение демократических правительств в третьем мире в 1960-1970-е гг., ныне полностью скомпрометирован. Есть, конечно, несколько примеров экономического чуда, свершенного авторитарными режимами, как в Южной Корее или на Тайване, но более чем достаточным противовесом им служат печальные экономические результаты деятельности едва ли не всех недемократических правительств в Африке, Латинской Америке и Восточной Европе.
Во-вторых, многие английские ученые, из которых особо отметим видного политолога Файнера (S. E. Finer), пришли к выводу, что экономическое развитие требует не столько сильной, сколько прочной (steady) руки. Размышляя о скудости экономических достижений послевоенной Британии, они доказывали, что каждая из [поочередно] правивших партий обеспечивала на самом деле довольно сильное руководство при проведении экономической политики, но что смены правительств при их чередовании были слишком «полными и резкими», они осуществлялись «двумя отчетливо полярными партиями, каждой из которых не терпелось отменить значительную часть законодательства, проведенного предшественницей». Требуется, доказывают ученые, «большая стабильность и преемственность» и «большая умеренность в политике», что мог бы дать переход к пропорциональному представительству и коалиционным правительствам, каковые гораздо более склонны к центристской ориентации. Этот довод представляется равно применимым и к развитым, и к развивающимся странам. В-третьих, аргументация в пользу президентских или вестминстерского типа правительств в высшей степени неотразима в случаях, когда существенное значение имеет быстрое принятие решений. Это значит, что парламентско-пропорционалистские системы могут под углом зрения внешней и оборонной политики представать в менее выгодном свете. Но в проведении экономической политики быстрота не столь уж существенна: скорые решения – это не значит непременно мудрые.
Почему же мы, упорствуя в предубеждении, не верим в экономическую эффективность демократических систем, где ведутся широкие консультации и поиски договоренностей, нацеленные на достижение высокой степени консенсуса? [По крайней мере, ] одна причина – та, что многопартийные и коалиционные правительства кажутся суматошливыми, подверженными раздорам и неэффективными – в сравнении с отчетливостью властных полномочий сильных президентов и сильных однопартийных кабинетов. Но нас не должна обманывать эта внешняя видимость. Более пристальный взгляд на президентские системы обнаруживает, что самые успешные из них – как в Соединенных Штатах, Коста-Рике, в Чили до 1970 г. – по меньшей мере столь же подвержены раздорам, да и, кроме того, скорее предрасположены к состояниям паралича и ситуациям тупика, нежели к неуклонному и эффективному проведению экономической политики. В любом случае спорить надо не об эстетике управления, а о самой работе. Неоспоримая элегантность вестминстерской модели не является веским доводом в пользу ее принятия.
Распространенный скептицизм в отношении экономической дееспособности парламентско-пропорционалистских систем проистекает от смешения силы правительства с эффективностью. В краткосрочном плане однопартийные кабинеты или президенты вполне могут быть способны легче и быстрее формулировать экономическую политику. В долгосрочном же плане политика, опирающаяся на широкий консенсус, имеет больше шансов на успешное осуществление и на то, чтобы выдержать проверку временем, нежели политика, навязываемая «сильным» правительством вопреки желаниям значительных заинтересованных групп.
Итак, парламентско-пропорционалистская форма демократии выглядит явно лучше основных ее альтернатив в деле улаживания межэтнических противоречий, и она имеет некоторое преимущество также в области экономической политики. Тот довод, что соображения эффективности управления дают основание отвергнуть тип демократии, сочетающий парламентскую форму правления с пропорциональной системой представительства, совершенно неубедителен. Игнорируя эту привлекательную модель демократии, творцы конституций в новых демократиях оказали бы себе и своим странам весьма плохую услугу.
Л. Даймонд. Прошла ли «третья волна» демократизации?[59]
Осмысление понятия демократии
Для того чтобы проследить, как протекает процесс развития демократии, и понять его причины и следствия, необходим высокий уровень концептуальной ясности относительно содержания термина «демократия». К сожалению, вместо этого в теоретической и эмпирической литературе по демократии (а объем ее быстро увеличивается) царят столь значительные концептуальные путаница и беспорядок, что Д. Колльер и Ст. Левицки смогли обнаружить более 550 «подвидов» демократии. Некоторые из подобных условных «подвидов» просто указывают на особые институциональные черты, или типы, полной демократии, но многие обозначают «урезанные» формы демократии, которые частично накладываются друг на друга самым разнообразным способом. К счастью, сегодня (в отличие, например, от 1960-х и 1970-х гг.) большинство исследователей видят в демократии систему политической власти и не обусловливают ее наличием каких бы то ни было социальных или экономических характеристик. В чем они до сих пор расходятся фундаментально (хотя не всегда открыто), так это в вопросе о диапазоне и масштабах политических атрибутов демократии.
Родоначальником минималистских дефиниций является И. Шумпетер, определявший демократию как систему «достижения политических решений, при которой индивиды обретают власть решать путем конкурентной борьбы за голоса народа». К числу тех, кто позаимствовал восходящий к Шумпетеру тезис об электоральном соперничестве как о сущности демократии, безусловно относится и Хантингтон. Со временем, однако, привлекавшая своей краткостью шумпетеровская формулировка стала требовать все новых и новых дополнений (или «уточнения», если использовать выражение Колльера и Левицки), дабы вывести за рамки понятия случаи, не соответствовавшие его подразумеваемому значению. Наибольшее влияние среди подобных «доработанных» определений приобрела выдвинутая Р. Далем концепция «полиархии», которая предполагала не только широкую политическую конкуренцию и участие, но и солидные уровни свободы (слова, печати и т. п.) и плюрализма, позволяющие людям вырабатывать и выражать свои политические предпочтения значимым образом.
Современные минималистские концепции демократии – далее я буду именовать их электоральной демократией (в отличие от демократии либеральной) – обычно признают потребность в некоем наборе гражданских свобод, необходимых, чтобы состязательность и участие имели реальный смысл. Вместе с тем, как правило, они не уделяют большого внимания предполагаемым базовым свободам и не пытаются включить их в число реальных критериев демократии. Подобные шумпетерианские концепции, пользующиеся особой популярностью среди высших должностных лиц западного мира, которые следят за процессом расширения демократии и прославляют его, могут служить примером того, что Т. Карл назвала «электористским заблуждением». Подверженные ему люди ставят электоральное соперничество над другими измерениями демократии, игнорируя тот факт, что многопартийные выборы (даже если они воистину состязательны) способны лишить большие группы населения возможности конкурировать за власть или добиваться и защищать свои интересы, равно как и вывести значительные сферы принятия решений из-под контроля выборных должностных лиц. «Сколь бы ни были важны выборы для демократии, – подчеркивают Ф. Шмиттер и Т. Карл, – но между ними бывают интервалы, и [кроме того] они позволяют гражданам определять свои предпочтения лишь по отношению к крайне обобщенным альтернативам, предлагаемым политическими партиями».
Как отмечают Колльер и Левицки, в последние годы минималистские определения демократии подверглись существенной доработке, с тем чтобы исключить из категории демократических те режимы, где значительные сферы принятия решений «зарезервированы» за военными (или бюрократией, олигархией), не подотчетными выборным должностным лицам. (Именно из-за наличия таких сфер некоторые государства, прежде всего Гватемала, нередко квалифицируются в качестве «псевдо-» или «квазидемократий».) Но и такие усовершенствованные дефиниции далеко не всегда бывают способны распознать политическое подавление, которое маргинализирует значительные сегменты населения (как правило, ими оказываются малоимущие или же этнические и региональные меньшинства). Даже если концептуальное «уточнение» оказывается конструктивным, оно оставляет за рамками хаотическую массу так называемых расширенных процедурных концепций (термин Колльера и Левицки), которые занимают различного рода промежуточные позиции в континууме между электоральной и либеральной демократиями.
Подобная концептуальная путаница неудивительна, если учесть, что исследователи пытаются придать категориальную форму различиям в феномене [политической свободы], который на деле варьируется только по степеням. Если наличие или отсутствие состязательных выборов является относительно однозначной характеристикой, то уровни индивидуальных и групповых прав на выражение [политической позиции], организацию и объединение могут существенно отличаться даже в пределах стран, отвечающих критериям электоральной демократии.
Насколько крупными должны быть дискриминируемые меньшинства и насколько явными – их подавление и маргинализация, чтобы политическая система лишилась права называться полиархией, или, используя мою терминологию, либеральной демократией? Следует ли дисквалифицировать Турцию за ту неразборчивость, с которой она использовала насилие для подавления отличавшегося своей беспощадностью курдского восстания, а также за традиционные для нее ограничения (недавно смягченные) на мирное выражение политической и культурной идентичности курдов? Должны ли мы исключить из числа либеральных демократий Индию в связи с нарушениями прав человека, которые допустили ее силы безопасности в сепаратистском Кашмире, или Шри-Ланку – за проявления жестокости с обеих сторон в ходе подавления сецессионистского выступления тамильских партизан; или Россию – за ее варварскую войну против стремящейся к отделению Чечни; или Колумбию – за междоусобную войну с торговцами наркотиками и с левацкими партизанами и необычайно высокий уровень распространения политических убийств и других нарушений прав человека? Разве не имеют эти политии права защищать себя против ожесточенных мятежей и террора сепаратистов? Оказывается ли в результате демократия урезанной – несмотря на то, что в названных странах проводятся действительно конкурентные выборы, приведшие в последние годы к чередованию находящихся у власти партий? Как будет показано ниже, аналогичные вопросы можно задать по отношению ко всевозрастающему числу стран, которые сегодня, как правило, считаются «демократическими».
Согласно минималистскому (электоральному) определению, все пять упомянутых выше стран должны быть отнесены к демократиям. Но при использовании более жестких критериев, предполагаемых концепцией либеральной демократии, ситуация меняется. Во всех этих странах наблюдаются довольно существенные ограничения политических прав и гражданских свобод, достаточные для того, чтобы в последнем «Сравнительном обзоре свободы» – ежегоднике, публикуемом по результатам общемировых обследований состояния политических прав и гражданских свобод, проводимых Домом Свободы, – ни одна из них не была включена в категорию «свободных». Наличие подобного зазора между электоральной и либеральной демократией, ставшее одной из наиболее поразительных черт «третьей волны», имеет серьезные следствия и для теории, и для политики, и для компаративного анализа.
Либеральная демократия и псевдодемократия
В какой мере требования, [предъявляемые к политической системе] концепцией либеральной демократии, превосходят показатели, установленные в описанных выше минималистских (формальных) и промежуточных концепциях? Во-первых, помимо регулярной, свободной и честной электоральной конкуренции и всеобщего избирательного права для либеральной демократии обязательно отсутствие сфер, «зарезервированных» для военных или каких-либо других общественных и политических сил, которые прямо или опосредованно неподконтрольны электорату. Во-вторых, наряду с «вертикальной» ответственностью правителей перед управляемыми (наиболее надежным средством ее обеспечения являются регулярные, свободные и честные выборы) она предполагает «горизонтальную» подотчетность должностных лиц друг другу, что ограничивает свободу исполнительных органов и тем самым помогает защитить конституционализм, власть закона и консультационный процесс.[60] В-третьих, она заключает в себе огромные резервы для развития политического и гражданского плюрализма, а также индивидуальных и групповых свобод. Конкретно либеральная демократия обладает следующими свойствами:
1. Реальная власть принадлежит – как фактически, так и в соответствии с конституционной теорией – выборным чиновникам и назначаемым ими лицам, а не свободным от контроля [со стороны общества] внутренним акторам (например, военным) или зарубежным державам.
2. Исполнительная власть ограничена конституционно, а ее подотчетность обеспечивается другими правительственными институтами (независимой судебной властью, парламентом, омбудсмена-ми, генеральными аудиторами).
3. В либеральной демократии не только не предопределены заранее результаты выборов, не только при проведении последних велика доля оппозиционного голосования и существует реальная возможность периодического чередования партий у власти, но и ни одной придерживающейся конституционных принципов группе не отказано в праве создавать свою партию и принимать участие в избирательном процессе (даже если «заградительные барьеры» и другие электоральные правила не позволяют малым партиям добиваться представительства в парламенте).
4. Культурным, этническим, конфессиональным и другим меньшинствам, равно как и традиционно дискриминируемым группам большинства не запрещено (законом или на практике) выражать собственные интересы в политическом процессе и использовать свои язык и культуру.
5. Помимо партий и периодических выборов имеется множество других постоянных каналов выражения и представительства интересов и ценностей граждан. Такими каналами являются, в частности, разнообразные автономные ассоциации, движения и группы, которые граждане свободны создавать и к которым вправе присоединяться.
6. В дополнение к свободе ассоциации и плюрализму существуют альтернативные источники информации, в том числе независимые средства массовой информации, к которым граждане имеют неограниченный (политически) доступ.
7. Индивиды обладают основными свободами, включая свободу убеждений, мнений, обсуждения, слова, публикации, собраний, демонстраций и подачи петиций.
8. Все граждане политически равны (хотя они неизбежно различаются по объему находящихся в их распоряжении политических ресурсов), а упомянутые выше личные и групповые свободы эффективно защищены независимой, внепартийной судебной властью, чьи решения признаются и проводятся в жизнь другими центрами власти.
9. Власть закона ограждает граждан от произвольного ареста, изгнания, террора, пыток и неоправданного вмешательства в их личную жизнь со стороны не только государства, но и организованных антигосударственных сил.
К перечисленным элементам либеральной демократии по большей части и сводятся критерии, которыми руководствуется Дом Свободы в его ежегодных обзорах состояния свободы на планете. Два измерения свободы – политические права (состязательность, оппозиция и участие) и гражданские свободы – оцениваются по семибалльной шкале, где 1 обозначает наибольшую степень свободы, a 7 – наименьшую. Страны, в среднем набравшие 2,5 или менее баллов по двум измерениям, считаются «свободными»; те, чьи средние баллы составляют от 3 до 5,5, – «частично свободными»; а те, которые имеют более 5,5 баллов, – «несвободными» (при определении статуса стран, чей средний балл составляет 5,5, проводятся дополнительные расчеты по получившим наивысшие баллы базовым показателям).
Причисление к категории «свободных» в обзоре Дома Свободы является наилучшим из имеющихся эмпирических индикаторов либеральной демократии. Разумеется, как это всегда бывает при работе с многомерными шкалами, при определении пороговых величин, фиксирующих водораздел между тремя типами стран, неизбежен элемент произвольности. И все же даже между средними показателями 2,5 и 3 прослеживаются существенные различия. Так, в обзоре за 1995–1996 гг. все девять стран со средним баллом 2,5 (самый высокий балл, при котором страна продолжает считаться «свободной») получили оценку 2 по политическим правам и 3 – по гражданским свободам. Между тем переход от оценки 2 к оценке 3 в сфере политических прав сигнализирует о серьезных изменениях: он, как правило, указывает на заметно более выраженное влияние военных в политике, на электоральное и политическое насилие или нерегулярность проведения выборов и тем самым – на значительно меньшую свободу, честность, охват и содержательность политического соревнования. Оценку 3 по политическим правам и гражданским свободам имеют, например, Сальвадор, Гондурас, а Венесуэла, где бесконтрольность и безнаказанность военных, равно как и политический шантаж, привели в последние годы к снижению качества демократии. Различие между оценками 2 и 3 по гражданским свободам также весьма показательно: в получивших более высокий балл странах можно найти хотя бы одну сферу – скажем, свобода слова или печати, недопущение террора и произвольных арестов, свобода объединения и независимость ассоциаций, – где свобода значительно стеснена.
Промежуточные концепции, расположенные в пределах континуума между электоральной и либеральной, прямо включают в число критериев демократии базовые гражданские свободы (право на открытое выражение [своих взглядов] и свободу объединения), но все еще допускают серьезные ограничения прав граждан. Решающее различие [между такими концепциями и концепцией либеральной демократии] заключается в том, что в одном случае гражданские свободы учитываются преимущественно в той мере, в какой они обеспечивают содержательную электоральную конкуренцию и участие, тогда как в другом они рассматриваются в качестве необходимых компонентов демократии, гарантирующих реализацию более широкого круга демократических функций.
Чтобы разобраться в динамике режимного изменения и процессах развития демократии, необходимо допустить существование третьей категории режимов, которые не дотягивают даже до минимальной демократии, но в то же время отличаются от чисто авторитарных систем. Такие режимы (далее я буду называть их псевдодемократиями) могут обладать многими конституционными характеристиками электоральной демократии, в них легально действуют оппозиционные партии, однако они лишены такого непременного для демократии качества, как наличие поля для относительно честного [электорального] соперничества, способного привести к отстранению от власти правящей партии.
Имеется множество разновидностей псевдодемократий (в используемом здесь значении). К их числу относятся «полудемократии», сближающиеся с электоральными демократиями по уровню плюрализма, конкурентности и гражданских прав, равно как и «системы с гегемонистской партией» (подобные Мексике до 1988 г.), в которых институционализированная правящая партия широко использует принуждение, патронаж, контроль над средствами массовой информации и другие средства, чтобы свести оппозиционные партии до положения заведомо второстепенных сил. Кроме того, понятие «псевдодемократия» охватывает многопартийные электоральные системы, где недемократическое господство правящей партии выражено довольно слабо и оспаривается (как в Кении), а также аналогичного рода системы, находящиеся в процессе разложения и перехода к более конкурентной модели (как в Мексике сегодня), и персоналисткие и плохо институционализированные режимы (как в Казахстане).
От режимов, относящихся к категории авторитарных, псевдодемократии отличаются именно тем, что терпят существование оппозиционных партий. Это различие крайне важно в теоретическом плане. Если подходить к демократии с эволюционных позиций, т. е. рассматривать ее как систему, которая возникает не сразу, а по частям (отдельными фрагментами), причем ни время, ни последовательность появления таких фрагментов жестко не фиксированы, тогда [следует признать, что] наличие легальных оппозиционных партий, которые могут состязаться за власть и завоевывать места в парламенте, a также более широкого пространства для гражданского общества (как правило, характерного для псевдодемократий) создает важные основы для будущего демократического развития. В Мексике, Иордании, Марокко и ряде стран, расположенных в прилегающих к Сахаре районах, где бывшим однопартийным диктаторам пришлось пойти на перевыборы в условиях псевдодемократической системы, существование подобных фрагментов демократии оказывает постоянное давление на рамки политически допустимого и может со временем привести к прорыву к электоральной демократии.
Г. О'Доннелл. Делегативная демократия[61]
Характеристика делегативной демократии
Делегативные демократии основываются на предпосылке, что победа на президентских выборах дает победителю право управлять страной по своему усмотрению, при этом он ограничен лишь обстоятельствами существующих властных отношений и определенным конституцией сроком пребывания у власти.
Президент рассматривается как воплощение нации, главный хранитель и знаток ее интересов. Политика его правительства может слабо напоминать его предвыборные обещания – разве президенту не переданы и полномочия управлять по своему разумению? Предполагается, что эта фигура отечески заботится о всей нации, а политической базой президента должно быть движение, которое преодолевает фракционность и мирит политические партии.
Как правило, в странах делегативной демократии кандидат в президенты заверяет, что он выше политических партий и групповых интересов. Разве может быть иначе для того, кто воплощает собой всю нацию? С этих позиций другие институты – суды и законодательная власть – лишь помеха, нагрузка к преимуществам, которые статус демократически избранного президента дает на внутренней и международной арене. Подотчетность таким институтам представляется одним препятствием к полноте осуществления власти, делегированной президенту.
Делегативная демократия не чужда демократической традиции. Она более демократична, но менее либеральна по сравнению с представительной демократией. ДД носит резко выраженный мажоритарный характер. Это заключается в том, что путем справедливых выборов она формирует большинство, которое позволяет кому-либо на несколько лет стать единственным воплощением и толкователем высших интересов нации. Нередко ДД использует такие методы, как дополнительные выборы, если первый тур выборов не обеспечивает явного большинства. Это большинство необходимо для того, чтобы поддерживать миф о легитимном делегировании. Наряду с этим ДД характеризуется выраженным индивидуализмом, скорее по Гоббсу, чем по Локку: предполагается, что избиратели независимо от их партийной или групповой принадлежности голосуют за индивидуума, наиболее способного позаботиться о судьбах нации. Выборы в странах ДД связаны с большими эмоциями и высокими ставками: кандидаты борются за возможность управлять страной практически безо всяких ограничений, кроме тех, что вытекают из оголенных, неинституционализированных властных отношений. После выборов избирателям надлежит стать пассивными, но полными одобрения наблюдателями действий президента.
Крайний индивидуализм при формировании исполнительной власти хорошо уживается с органицизмом Левиафана. Нация и ее «подлинное» воплощение – президент и его «движение» – рассматриваются как живые организмы. Лидер должен исцелять нацию, объединяя ее разрозненные части в гармоническое целое. Поскольку плоть политики недужна, а раздающиеся голоса лишь свидетельствуют об этом недуге, делегирование предусматривает право (и обязанность) давать горькие лекарства, которые восстановят здоровье нации. С этой точки зрения только голова тела все знает, президент и самые доверенные его советники – альфа и омега политики. Определенные проблемы нации могут быть решены только с использованием высокотехнологичных критериев. Техницизм, особенно в экономической политике, нуждается в защите его президентом от многостороннего противодействия общества. В то же время «очевидно», что любое противодействие – со стороны конгресса, политических партий, групп интересов, уличной толпы – необходимо игнорировать. Правда, эти органистические представления слабо увязываются с сухими аргументами технократов, и тогда мифу делегирования приходит конец: президент изолирует себя от большинства политических институтов и организованных интересов и в одиночку несет ответственность как за успешность, так и за провалы «своей» политики. <...>
Представительство и подотчетность создают дополнительное, республиканское измерение демократии: наличие и тщательное поддержание границы между общественными и частными интересами находящихся у власти. Вертикальная подотчетность наряду с правом образовывать партии и воздействовать на общественное мнение существует как в представительных, так и в делегативных демократиях. Однако горизонтальная подотчетность, характерная для представительной демократии, крайне слаба или отсутствует в делегативной демократии. Кроме того, институты, обеспечивающие подотчетность по горизонтали, рассматриваются делегативными президентами как лишнее препятствие на пути их «миссии», поэтому они всемерно блокируют развитие таких институтов.
Необходимо подчеркнуть: важны не только нравственные ценности и убеждения должностных лиц (как избираемых, так и не избираемых), важна и их включенность в систему институционализированных властных отношений. Принимая во внимание возможность наказания этой системой за неправомерные действия, рациональные агенты просчитывают возможную цену таких действий. Разумеется, деятельность этой системы взаимной ответственности повсеместно оставляет желать много лучшего. Тем не менее очевидно, что сила определенных кодексов поведения в значительно большей степени формирует поведение соответствующих агентов в системах представительной демократии по сравнению с делегативными демократиями. Важность институтов наиболее отчетливо иллюстрируется сравнением сильных институтов со слабыми или с системами, лишенными их.
В. Меркель, А. Круасан. Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях[62]
Введение
Последняя четверть XX в. – период триумфального шествия демократии по всему миру. По подсчетам Дома Свободы, из 191 существовавших в 1998 г. стран 117, или 61,3 %, провели свободные, тайные и всеобщие выборы, т. е. обладали процедурным минимумом[63] демократии (Karatnycky, 1999). Если исходить из данного индикатора, то после начала третьей волны демократизации (1974 г.) в демократии трансформировались в общей сложности 89 автократий. Находясь под впечатлением краха коммунистических систем Восточной Европы, Ф. Фукуяма сформулировал свой знаменитый тезис о «конце истории». Ученый доказывал, что западные либеральные ценности бесповоротно победили конкурирующие представления о политическом и экономическом устройстве. В конце XX в. у либеральной демократии и капитализма не осталось какой-либо альтернативы (см.: Fukuyama, 1992).
Прошло более десяти лет с тех пор, как Фукуяма высказал эти основанные на вторичной интерпретации гегелевской истории философии положения. За это время появилось немало эмпирических признаков того, что третья волна может стать скорее не триумфом политического либерализма, а историей успеха «дефектного» варианта нелиберальной демократии.[64]
Попытку осмыслить этот феномен предпринимали многие политологи.[65] В ходе дискуссии о демократизации было предложено большое число определений, претендовавших на концептуальное выделение структурных и функциональных характеристик режимов, находящихся между консолидированной либеральной демократией и открытой автократией.[66] Однако до сих пор отсутствует теоретический концепт, который позволял бы последовательно отделять новые режимы от конституционно-правовых демократий, типологизировать внутренние различия, вскрыть причины появления дефектных демократий и объяснить специфическую динамику их развития.
В этой работе мы пытаемся заполнить белые пятна в исследованиях трансформации. С этой целью нами выстроена последовательная аргументация по пяти позициям. Во-первых, предлагается многомерный концепт демократии, позволяющий провести различия между либеральными, конституционно-правовыми и дефектными демократиями. Во-вторых, мы вводим упрощенную, трехмерную схему для классификации различных подтипов дефектных демократий. В-третьих, внимание фокусируется на одном специфическом подтипе дефектной демократии – нелиберальной демократии. Здесь возникают два центральных вопроса нашего исследования: каковы отличительные особенности таких демократий и каковы причины их возникновения? В-четвертых, рассматривается специфическая взаимозависимость между формальными и неформальными институтами, причем последние квалифицируются в качестве характерных элементов нелиберальной демократии. Наконец, в-пятых, намечены три возможных сценария развития нелиберальных демократий.
Многомерный концепт демократии
Из определений демократии, предложенных за последние 30 лет, наибольшим, пожалуй, влиянием пользуется то, которое было дано Р. Далем в труде «Полиархия». Согласно его формулировке, полиархия – это реалистический вариант демократии. Понимаемая как «соревнование, открытое для участия» (Dahl, 1971), полиархия описывается через два взаимозависимых измерения – политическое участие и политическую конкуренцию. Дефиниция Даля кратка и элегантна. Правда, ее недостаточно для того, чтобы идентифицировать различия между конституционно-правовой и дефектной демократиями. Соответственно, она требует дополнения.[67]
В этой связи мы предлагаем включить третье измерение, которое не затронет два других, но в средне– и долгосрочной перспективе значительно повлияет на их характеристики. Его можно обозначить как конституционное, или конституционно-правовое, измерение.[68]
Исходя из названных трех измерений мы вывели шесть параметров, на основе которых можно определить политические режимы различных типов (см. Merkel, 1999) (табл. 3). К ним относятся: 1) легитимация господства; 2) доступ к господству; 3) монополия на господство; 4) притязание на господство; 5) структура господства и 6) способ осуществления господства. Каждый из этих параметров связан с одним из ключевых вопросов.
Легитимация господства. Как и в каком объеме легитимировано господство? Демократии легитимируются через принцип свободы и равенства реализованного суверенитета народа; авторитарные режимы – через «менталитеты» (Linz, 1975), тоталитарные – через догматические закрытые мировоззрения.
Доступ к господству. Каким образом институционально регулируется доступ к политическому господству? В демократиях доступ к господству открыт и институционализирован через эффективные гарантии всеобщего, равного, тайного, свободного (пассивного и активного) избирательного права. В автократиях, напротив, существуют формальные или фактические ограничения избирательного права, базирующиеся на идеологической, религиозной, расовой, этнической, тендерной или политической дискриминации.
Монополия на господство. Кем принимаются или легитимируются политические решения? В эффективных либерально-конституционных демократиях подобные решения должны приниматься исключительно представителями народа, прямо или косвенно легитимированными демократически. Нет таких сфер (анклавов), в которых бы не обладающие демократической легитимностью акторы могли принимать и осуществлять внеконституционные решения.
Притязание на господство. Лимитировано ли притязание правящих групп на господство, или оно имеет всеобъемлющий характер? Здесь затрагивается проблема распространения государственной власти на публичную и приватную сферы. В демократиях между данными сферами существует конституционно установленная и защищаемая законом граница. В автократиях такая граница является случайной: она проводится, переносится и нарушается обладателями власти в зависимости от политической конъюнктуры. В итоге притязание государства на господство оказывается неограниченным.
Структура господства. В достаточной ли степени государственная власть контролируется несколькими взаимоограничивающими ветвями власти? Плюралистична ли структура господства, или оно монополизировано одной-единственной ветвью власти? Данные вопросы отсылают к классическим либеральным проблемам разделения властей, ограничения и контроля над властью, которые подымались, например, Дж. Локком (1689) (Locke, 1966), Ш. Монтескье (1748) (Montesquieu, 1992), федералистами (1788) (Hamilton et al., 1993) и А. де Токвилем (1835) (Tocqueviпle, 1997). В демократиях три ветви власти разделены так, что способны эффективно контролировать друг друга. Это касается прежде всего отделения судебной власти от исполнительной и законодательной.[69] В автократических режимах такой контроль либо значительно ограничен в пользу исполнительной власти, либо полностью отсутствует.
Способ осуществления господства. Каким образом регулируется осуществление господства? Этот вопрос касается сферы конституционно-правового сдерживания политического господства. В демократиях господство осуществляется в соответствии с конституционно легитимированными принципами и подлежит ограничению и контролю. В автократиях оно в принципе неподконтрольно и основано на неопределенном в правовом отношении или неограниченном произволе.
Таблица 3
Параметры власти при различных политических режимах
Что касается параметров 1 и 2, то здесь, по словам Дж. Сартори (Sartori, 1996), речь идет не просто об определяющих, а о центральных характеристиках двух основополагающих типов господства. Это принципиально важные (хотя не исключительные) их черты. Только первые два показателя легитимация политической власти через суверенитет народа и (принципиально) неограниченный доступ к политическим властным позициям – должны пониматься как базовые ключевые критерии демократии. Показатели 3–6, напротив, не являются демократическими в «узком смысле». Они представляют собой дополнительные критерии из конституционной и конституционно-правовой сферы. Парадоксальным образом они ограничивают власть демократического суверена, но посредством этого ограничения защищают его долговечность и претензию на действенность, что и будет показано ниже.
Трехмерный концепт дефектных демократий
Представленные шесть критериев демократии выработаны с учетом центрального определения господства и могут быть сведены к трем измерениям: всеобщее избирательное право (критерии 1 и 2); эффективная монополия на господство со стороны демократически легитимированных правительств (критерии 3 и 4); либеральное правовое и конституционное государство (критерии 5 и 6).
Данные измерения позволяют провести два терминологических и аналитических различения. Во-первых, если один из указанных центральных критериев не действует, нельзя говорить о полноценной конституционно-правовой демократии. Она «дефектная». Во-вторых, в зависимости от того, какой из критериев трех фундаментальных измерений конституционно-правовой демократии «поврежден», выявляется тип дефектной демократии.[70] Использование понятия «дефектная» вовсе не подразумевает, что мы исходим из существования «совершенной» модели демократии. «Дефектность» определяется отнюдь не сравнением с некими «идеальными» или «совершенными» формами. Лишь конституционно-правовая демократическая система во всех трех измерениях создает институциональный минимум для реализации демократических критериев господства. Прилагательное «дефектная» относится, таким образом, к недостаткам или ограничениям этих институциональных механизмов. Оно косвенно свидетельствует о своего рода «повреждении» одной или нескольких характеристик власти, отличающих конституционно-правовую демократию. Границы подобных «повреждений» необходимо обозначить более четко... Дефектные демократии являются политическими режимами, отвечающими некоторым, но не всем, центральным критериям ключевого концепта.
Измерение 1: всеобщее избирательное право. В либеральных конституционно-правовых демократиях доступ к политическому господству гарантирован всеобщим избирательным правом и проведением свободных, всеобщих, тайных и честных выборов (критерии 1 и 2). Если значительный сегмент взрослого населения исключен из участия в выборах по признаку расы, этнического происхождения, пола, религии, собственности, образования или политических взглядов, то демократия «дефектна». Мы называем этот специфический тип «исключающая демократия», так как одна часть граждан лишена избирательного права. Типичными примерами здесь служат Швейцария до 1971 г. (ограничение по половому признаку) и Латвия сегодня (ограничения по этническому признаку).[71]
С помощью критериев доступа к господству и легитимации господства исключающая демократия может быть отделена от конституционно-правовой, с одной стороны, и автократии, с другой стороны, следующим образом.
1. Ограничения активного и пассивного избирательного права. На вопрос о гражданстве даже в либеральных, конституционно-правовых демократиях не всегда легко ответить однозначно. Ибо критерии, по которым устанавливается, какие люди имеют право принадлежать к демосу и тем самым быть наделенными правом на господство, по сегодняшний день остаются спорными. Понятие «демос» характеризует народ не территориально (жители), не этнически (этнос), а политически. В дефектных демократиях греческих городов-государств к демосу относилось лишь меньшинство (мужского) населения из всей совокупности полноправных граждан. После либерального возрождения данного понятия центральными вопросами с конца XVII и до начала XX в. оставались расширение избирательного права, а также открытие границ жестко отграниченного демоса. Вплоть до XX в. этот процесс шел даже в западных демократиях, пока на смену демосу, предполагавшему исключение больших групп населения на основании различных критериев (собственность, пол), не пришло широкое, всеобъемлющее понятие гражданина государства, не связанное с аскриптивными экономическими и политическими признаками (Dahl, 1975). Вместе с тем демократия как форма правления легитимируется через население государства, выступающее в качестве политической единицы действий и влияния. Круг лиц, из которых состоит демос как народ, наделенный правом господства, определяется юридически по критерию гражданства. В конституционно-правовых демократиях в основных законах должны быть записаны нормы, которые дают реальную возможность всем людям, в течение долгого времени не имеющим гражданства, обрести его при признании ими принципов демократического правового государства.
Исходя из данного утверждения исключающая демократия имеет место, во-первых, тогда, когда не входящая в демос группа, живущая длительное время на территории государства, незаконно дискриминируется при получении гражданства. Во-вторых, демократия считается «исключающей», если часть народа вследствие социальных или административных условий при проведении выборов фактически лишена (намеренно или ненамеренно) активного и пассивного избирательного права. Когда формальное исключение из демоса происходит не на основе легитимных, узаконенных критериев, а в результате произвольного решения политических властей, дефектная демократия превращается в автократию.
2. Ограничение свободных и честных выборов. В исключающей демократии демос охватывает только часть взрослого населения. Вместе с тем сами по себе выборы являются свободными (Швейцария до 1971 г.): на избирателей (мужчин) не накладывается никаких ограничений активного и пассивного избирательного права. Условия политической конкуренции равные, т. е. кандидатам обеспечиваются в целом справедливые условия соревнования. Только фактическое распределение поданных голосов определяет состав парламента и правительства.
3. Ограничение суверенитета народа. Граница между исключающей демократией и автократией пролегает там, где обладатели политической власти не избираются. Только тогда, когда, как минимум, члены национальной легислатуры избираются в ходе свободных и равных выборов, существует хотя бы исключающая демократия. Кроме того, важно, чтобы приход к власти был прямо или косвенно легитимирован. В парламентских системах правления это предполагает, что лишь парламент, избранный посредством свободных и равных выборов, принимает решение о назначении и отставке правительства. В президентских системах напрямую или опосредованно избираться на свободных и равных выборах должен по крайней мере президент как глава исполнительной власти. Если эти условия не выполняются, имеет место уже не исключающая демократия, а автократия.
Измерение 2: эффективная монополия на господство. В конституционно-правовых демократиях политическое господство осуществляется только представителями народа, избранными на всеобщих и равных выборах (критерии 3 и 4). Когда «группы вето» – такие, как военные, милитаризованные движения и отряды или международные концерны – лишают демократических представителей доступа к определенным политическим сферам, возникают территориальные и/или функциональные анклавы. Подобная демократия является «дефектной». Мы называем этот подтип дефектной демократии «анклавным». Примерами здесь служат современные Чили, Таиланд (до 1997 г.) или Парагвай.
Подобные практики могут возникать при активном участии военных как неконституционным путем (Парагвай), так и в соответствии с конституцией (Чили сегодня). Правда, в случае Чили сама конституция была принята в недемократических условиях (Thibaut, 1996; Thiery, 2000). Формальная законность, таким образом, не соответствует критерию демократически легитимированных норм.
Измерение 3: либеральное правовое и конституционное государство. Либеральные демократии ограничены конституционно-правовыми нормами и процедурами. Взаимный контроль ветвей власти и обеспечение основных гражданских прав и свобод гарантированы (критерии 5 и 6).[72] В любом случае должны быть четко разделены полномочия исполнительной власти и органов правосудия. Строгое разграничение исполнительной и законодательной власти, напротив, необязательно. На практике граница между этими властями стирается как раз при парламентской (особенно консенсусно-демократической) системе правления, где существует функциональное пересечение властей (von Beyme, 1999). Но и здесь действует правило: законодательная власть принадлежит только легислатуре.
Если избранные на свободных и равных выборах представители народа отступают от данных основных принципов, взаимный контроль властей частично нарушается за счет действий в обход парламента или судебной власти. То же самое происходит и в случаях, когда правовое государство умышленно и хронически «повреждается». Такая демократия оказывается «дефектной». Мы определяем этот подтип как «нелиберальную демократию». Примеры подобной демократии дают Россия, Словакия, Аргентина, Филиппины или Южная Корея.
Понятие «делегативная демократия», введенное Г. О'Доннеллом (O'Donnell, 1994, 1996, 1998) и уже принятое в литературе, посвященной исследованиям демократической консолидации, отражает феномен, весьма схожий с нелиберальной демократией. Но поскольку О'Доннелл последовательно не обосновал это понятие через «повреждения» либеральной конституционно-правовой демократии, он не смог ни четко отграничить делегативную демократию от конституционно-правовой, ни ввести ее в контекст других типов дефектных демократий. Более того, термин «делегативная демократия» довольно сомнителен. Ибо все демократии – делегативные. В известном смысле делегативность – вообще один из основных принципов представительной демократии. Но и понятие «нелиберальная демократия» (Zakaria, 1997) требует более тщательного объяснения, поскольку именно «повреждения» либерального правового государства и контроля над властями составляют специфический нелиберальный дефект.
Существуют три особых вопроса. Демократический вопрос: «кто» правит? Либеральный вопрос: «как» (и, соответственно, «в какой степени») этот «некто» управляет? И наконец, конституционный вопрос: «кто, когда и в какой форме» обладает правом принятия указов и установления границ правления? Е.-В. Бекенферде пишет об этом: «Демократия отвечает на вопрос о носителе и обладателе, а не о содержании государственного господства... в этом смысле она является организационно-формальным принципом. Правовое государство, напротив, отвечает на вопрос содержания, объема и способа осуществления государственной деятельности. Оно направлено на разграничение и сдерживание государственного господства в интересах сохранения индивидуальной и общественной свободы» (Boekenfoerde, 1991).
Конституционно-правовая демократия есть результат современного либерального толкования этого понятия, и его теоретические корни уходят в XVII в. к Локку. Конституционализм воплощает идею такого политического порядка, в котором управляемые не являются пассивными объектами господствующей воли, а имеют защищенный от государственного и общественного произвола статус активных членов политического сообщества. Конституционно закрепленные нормы и процедуры, определяющие структуры и функции правления, служат, в данной связи, двум целям: установлению основополагающих структур политического господства и защите общества от государства (Preuss, 1996).
Таблица 4
Подтипы демократий
В отличие от этого правовым может считаться любое государство, в котором политическое господство осуществляется только на основе и в рамках права. Такое право, ограничивающее государственную власть, составляют не абстрактные, внеконтекстуальные, раз и навсегда установленные нормы, а нормы, созданные государством в процессе принятия политических решений. Их обычно[73] можно изменить подобным же образом (Grimm, 1991).[74] Исторически конституционно-правовое государство и демократическое государство возникли отнюдь не одновременно (Sartori, 1997). Как правовое государство не было в процессе своего формирования непременно связано с демократией, так и демократия не была в обязательном порядке конституционно-правовой (Boeckenfoerde, 1991; Grimm, 1991). И все же между либеральным конституционализмом и демократией возникает функционально-логическая связь. <...>
Заключительные выводы
...Каково же будущее нелиберальных демократий? Мы видим три возможных варианта развития.
Сценарий регресса. Будучи заложником «цикла политических кризисов» (O'Donnell, 1994), либеральное и конституционно-правовое содержание демократических норм и структур в дефектных демократиях все больше размывается. Одновременно усиливаются концентрация политической власти у исполнительной ветви, «повреждение» конституционно-правовых основ, а также «деформализация» формальных политических институтов. Хотя формально-демократическая оболочка сохраняется, важные политические решения принимаются за ее пределами. В качестве примера здесь можно привести случаи Перу (особенно после вступления в должность президента Фухимори в 1990 г.) и Беларуси (с 1994 г.). Если дело доходит до неформальных альянсов между демократически легитимированной исполнительной властью и антидемократически настроенной элитой, а общество переживает острый экономический, политический и социальный кризис, демократические силы сопротивления оказываются слабы. Это чревато соскальзыванием к открытой автократии. В подобном случае в нелиберальной демократии возникает нарастающая тенденция к авторитаризму.
Сценарий стабильности. Дефекты демократии предстают более функциональными с точки зрения устойчивости системы, чем открыто авторитарный порядок господства. Это связано как со способностью правительства решать проблемы, так и с неразвитостью гражданской культуры и предпочтениями большинства властных элит. Переплетение формальных демократических институтов и неформально выросших демократических дефектов переходит в самовоспроизводящееся равновесие, что приводит к стабилизации status quo дефектной демократии. Стабильность сохраняется до тех пор, пока специфические дефекты демократии гарантируют господство властных элит и способствуют удовлетворению интересов поддерживающей систему части населения. Российская Федерация, Филиппины и Аргентина дают примеры реализации такого сценария.
Сценарий прогресса. Неформальные структуры в условиях демократии оказываются несовместимыми с формальными демократическими структурами и становятся помехой для выполнения властью общественных требований. Элиты постепенно привыкают к тому, что неформальные практики, ограничивающие демократию, все активнее уступают место постоянным, соответствующим конституции и прогнозируемым правилам и образцам принятия решений. Обозначенные нами как «дефекты», неформальные институты теряют свое влияние, и все большее внимание уделяется конституционно-правовым институтам. При данном сценарии «дефектная» демократия трансформируется в конституционно-правовую демократию. Вероятно, подобный позитивный сценарий может быть реализован в Бразилии, Южной Корее и Словакии (после Мечьяра).
По какому из этих трех гипотетических сценариев пойдет развитие большинства новых демократий, пока неизвестно. Опыт первой и второй волн демократизации показывает: по прошествии времени «устойчивые» (Przeworski et al., 1995) и «работающие» (Putnam, 1993) демократии оказываются жизнеспособными, только если они становятся либеральными и конституционно-правовыми. Критика «заносчивой претензии» западных либеральных моделей демократии на «исключительную представительность» зачастую теоретически недостаточно отрефлексирована. Провозглашая «политически корректный» культурный и нормативный релятивизм, она не только не придает должного значения универсальной ценности либеральных гарантий свобод в их западном проявлении. Она игнорирует также функциональные плюсы порядка господства, организованного с учетом разделения властей и основанного на конституционно-правовых принципах. Они заключаются в высоком потенциале политического представительства и социальной включенности, более определенных условиях принятия акторами политических решений и более высокой (формально-) институциональной эффективности таких решений с точки зрения управленческого потенциала и политической стабильности. Тем самым конституционно-правовая демократия оказывается сильнее нелиберальной[75] не только нормативно, но и функционально. Хотя нелиберальные демократии и одержали победу над конституционно-правовыми политическими режимами во многих странах третьей волны демократизации, они не могут считаться равноценными альтернативами либеральным демократиям.
Раздел X Политическая культура
В политическую науку понятие «политическая культура» было введено американским политологом Габриелем Алмондом. Разрабатывая модель политической системы, Алмонд выделил не только ее формальную структуру, но и субъективную ориентацию на политическую систему. Последняя и была названа политической культурой.
В начале 1960-х гг. Г. Алмонд совместно с С. Вербой опубликовали ставшую впоследствии широко известной монографию «Гражданская культура». Указанная работа была написана на основе материалов, полученных в результате сравнительных исследований политических культур США, Великобритании, Германии, Италии и Мексики. В представленном в хрестоматии отрывке 15-й главы указанной работы речь идет о специфическом типе политической культуры – гражданской культуре. Данный тип политической культуры носит смешанный характер, соединяя в себе ориентации граждан на активное участие в политике и лояльность к власти. Именно наличием гражданской культуры объясняют американские политологи стабильность и устойчивость демократии. Однако гражданская политическая культура не возникает сама собой – она является результатом как опыта политического участия граждан, так и приобщения к нормам и ценностям демократии. Именно в развитии гражданской политической культуры видели американские политологи залог успешного продвижения по пути становления демократии.
Концепт политической культуры, созданный Г. Алмондом и С. Вербой, оказался эвристически весьма плодотворен. В политической науке в настоящее время существует немало исследований, посвященных политической культуре. Одним из наиболее интересных и заметных в политической науке является исследование Р. Инглхарта – автора ставшей широко известной теории «бесшумной революции».
В представленном первом фрагменте работы Р. Инглхарта речь идет о существенном социокультурном сдвиге в экономически развитых странах. Содержанием этого сдвига является переход от материалистических к постматериальным ценностям. Причинами этого сдвига американский политолог считает как утверждение ощущения социальной безопасности в постиндустриальном обществе, так и межгенерационные сдвиги. Во втором фрагменте сочинения Инглхарта в качестве детерминанты постматериальных ценностей выступает демократия. Именно демократические институты формируют у представителей молодого поколения ценности самовыражения и межличностное доверие, на которые опирается и благодаря которым существует демократия.
Г. Алмонд, С. Верба. Гражданская культура и стабильность демократии[76]
...Существует ли демократическая политическая культура, т. е. некий тип политических позиций, который благоприятствует демократической стабильности, или, образно говоря, в определенной степени «подходит» демократической политической системе? Чтобы ответить на данный вопрос, нам следует обратиться к политической культуре двух относительно стабильных и преуспевающих демократий – Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Политическая культура этих наций примерно соответствует понятию гражданской культуры. Такой тип политических позиций в некоторых отношениях отличается от «рационально-активистской» модели, той модели политической культуры, которая, согласно нормам демократической идеологии, должна была бы присутствовать в преуспевающей демократии...
Гражданская культура – это смешанная политическая культура. В ее рамках многие граждане могут быть активными в политике, однако многие другие играют более пассивную роль подданных.[77] Еще более важным является тот факт, что даже у тех, кто активно исполняет гражданскую роль, качества подданных и прихожан не полностью вытеснены. Роль участника просто добавляется к таким двум ролям. Это означает, что активный гражданин сохраняет свои традиционалистские, неполитические связи, равно как и свою более пассивную роль подданного. Конечно, рационально-активистская модель отнюдь не предполагает, что ориентации участника заменяют собой ориентации подданного и прихожанина, однако поскольку наличие двух последних типов ориентации четко не оговаривается, получается, что они не имеют отношения к демократической политической культуре.
На самом же деле эти два типа ориентации не только сохраняются, но и составляют важную часть гражданской культуры. Во-первых, ориентации прихожанина и подданного меняют интенсивность политической включенности и активности индивида. Политическая деятельность представляет собой лишь часть интересов гражданина, причем, как правило, не очень важную их часть. Сохранение других ориентации ограничивает степень его включенности в политическую деятельность и удерживает политику в надлежащих рамках. Более того, ориентации прихожанина и подданного не просто сосуществуют с ориентациями участника, они пронизывают и видоизменяют их. Так, например, первичные связи важны в становлении типов гражданского влияния. Кроме того, взаимопроникающие структуры общественных и межличностных связей имеют тенденцию воздействовать и на характер политических ориентации – делать их менее острыми и разделяющими. Будучи пронизаны первичными групповыми, а также общесоциальными и межличностными ориентациями, политические ориентации отнюдь не являются лишь производными от четко выраженных принципов и рационального расчета...
Но хотя полностью активистская политическая культура скорее всего является лишь утопическим идеалом, должны быть и другие, более значимые причины того, почему в наиболее процветающих демократиях существует сложно переплетенная, смешанная гражданская культура. Такая культура, которая иногда включает в себя явно несовместимые политические ориентации, кажется наиболее соответствующей потребностям демократических политических систем, поскольку они также представляют собой переплетение противоречий...
Нормы, восприятие и деятельность
...Два разрыва – между высокой оценкой своей потенциальной влиятельности и более низким уровнем реального влияния, между степенью распространения словесного признания обязательности участия и реальной значимостью и объемом участия – помогают понять, каким образом демократическая политическая культура способствует поддержанию баланса между властью правительственной элиты и ее ответственностью (или его дополнения – баланса между активностью и влиятельностью неэлитных групп и их пассивностью и невлиятельностью). Сравнительная редкость политического участия, относительная неважность такого участия для индивида и объективная слабость обычного человека позволяют правительственным элитам действовать. Бездеятельность обычного человека и его неспособность влиять на решения помогают обеспечить правительственные элиты властью, необходимой им для принятия решений. Однако все это гарантирует успешное решение лишь одной из двух противоречащих друг другу задач демократии. Власть элиты должна сдерживаться. Противоположная роль гражданина как активного и влиятельного фактора, обеспечивающего ответственность элит, поддерживается благодаря его глубокой приверженности нормам активного гражданства, равно как и его убежденностью, что он может быть влиятельным гражданином. <...>
Гражданин, существующий в рамках гражданской культуры, располагает, таким образом, резервом влиятельности. Он не включен в политику постоянно, не следит активно за поведением лиц, принимающих решения в данной сфере. Этот резерв влиятельности – влиятельности потенциальной, инертной и непроявленной в политической системе – лучше всего иллюстрируется данными, касающимися способности граждан в случае необходимости создавать политические структуры. Гражданин не является постоянным участником политического процесса. Он редко активен в политических группах. Но он считает, что в случае необходимости может мобилизовать свое обычное социальное окружение в политических целях. Его нельзя назвать активным гражданином. Он потенциально активный гражданин.
Прерывистый и потенциальный характер политической активности и включенности граждан зависит, однако, от более устойчивых, более постоянных типов политического поведения. Живя в гражданской культуре, обычный человек в большей, чем в иной ситуации, степени склонен поддержать на высоком и постоянном уровне политические связи, входить в какую-то организацию и участвовать в неформальных политических дискуссиях. Эти виды деятельности сами по себе не указывают на активное участие в общественном процессе принятия решений, однако они делают такое участие более вероятным. Они готовят индивида к вторжению в политическую среду, в которой включение и участие гражданина становятся более осуществимыми. <...>
То, что политика имеет относительно небольшое значение для граждан, составляет важнейшую часть механизма, с помощью которого система противоречивых политических позиций сдерживает политические элиты, не ограничивая их настолько, чтобы лишить эффективности. Ведь баланс противоречивых ориентации было бы гораздо труднее поддерживать, если бы политические вопросы всегда представлялись гражданам важными. Если встает вопрос, который воспринимается ими как важный, или рождается глубокая неудовлетворенность правительством, у индивида возникает побуждение задуматься над этой темой. Соответственно усиливается давление, толкающее его к преодолению непоследовательности, т. е. к взаимной гармонизации позиций и поведения в соответствии с нормами и восприятиями, т. е. переход к политической активности. Таким образом, несоответствие между позициями и поведенченскими актами выступает как скрытый или потенциальный источник политического влияния и активности.
Тезис о том, что гражданская культура поддерживает баланс между властью и ответственностью, указывает на еще один момент, касающийся демократической политики. Он дает возможность понять, почему важнейшие политические вопросы, если они остаются нерешенными, в конце концов порождают нестабильность в демократической политической системе. Баланс между активностью и пассивностью может поддерживаться лишь в том случае, если политические вопросы стоят не слишком остро. Если политическая жизнь становится напряженной и остается таковой из-за нерешенности какого-то находящегося в центре внимания вопроса, несоответствие между позициями и поведением начинает терять устойчивость. Но любое относительно долговременное разрушение этого несоответствия с высокой долей вероятности влечет за собой неблагоприятные последствия. Если привести поведение в соответствие с ориентациями, то объем контроля, который будут пытаться осуществлять неэлиты над элитами, породит неэффективность управления и нестабильность. С другой стороны, если позиции изменятся таким образом, что начнут сочетаться с поведением, возникшее у граждан чувство бессилия и невключенности может разрушительным образом сказаться на демократичности политической системы.
Это, однако, не означает, что все важные вопросы таят в себе угрозу демократической политической системе. Лишь в том случае, когда они становятся и затем остаются острыми, система может превратиться в нестабильную. Если важные вопросы встают лишь спорадически и если правительство оказывается в состоянии ответить на требования, стимулированные возникновением этих вопросов, равновесие между гражданским и правительственным влиянием может сохраняться. В обычной ситуации граждан относительно мало интересует, что делают те, кто принимает правительственные решения, и последние имеют свободу действовать так, как им представляется нужным. Однако если какой-то вопрос выходит на поверхность, требования граждан по отношению к должностным лицам возрастают. Если указанные лица могут ответить на подобные требования, политика вновь утрачивает свое значение для граждан и политическая жизнь возвращается в нормальное русло. Более того, эти циклы, состоящие из включения граждан, ответа элит и отхода граждан от политики, имеют тенденцию усиливать сбалансированность противоположностей, необходимую для демократии. В пределах каждого цикла ощущение гражданином собственной влиятельности усиливается; одновременно система приспосабливается к новым требованиям и таким образом демонстрирует свою эффективность. А лояльность, порожденная участием и эффективной деятельностью, может сделать систему более стабильной в целом.
Эти циклы включенности представляют собой важное средство сохранения сбалансированных противоречий между активностью и пассивностью. Как постоянная включенность и активность, обусловленные находящимися в центре внимания спорными вопросами, сделали бы в конечном итоге сложным сохранение баланса, так к такому результату привело бы и полное отсутствие включенности и активности. Баланс может поддерживаться на протяжении длительного времени лишь в том случае, если разрыв между активностью и пассивностью не слишком широк. Если вера в политические возможности человека время от времени не будет подкрепляться, она скорее всего исчезнет. С другой стороны, если эта вера поддерживается лишь сугубо ритуальным образом, она не будет представлять собой потенциальный источник влияния и служить средством сдерживания тех, кто принимает решения...
До сих пор мы рассматривали вопрос о путях уравновешивания активности и пассивности, присущих отдельным гражданам. Но такое равновесие поддерживается не только имеющимся у индивидов набором позиций, но и распределением позиций между различными типами участников политического процесса, действующих в системе: одни индивиды верят в свою компетентность, другие – нет; некоторые активны, некоторые пассивны. Такой разброс в представлениях и степени активности индивидов также способствует укреплению баланса между властью и ответственностью. Это можно увидеть, если проанализировать описанный выше механизм становления равновесия: какой-то вопрос приобретает остроту; активность возрастает; благодаря ответу правительства, снижающему остроту вопроса, баланс восстанавливается. Одна из причин, почему усиление важности какого-то вопроса и ответный взлет политической активности не приводят к перенапряжению политической системы, заключается в том, что значимость того или иного вопроса редко когда возрастает для всех граждан одновременно. Скорее, ситуация выглядит следующим образом: отдельные группы демонстрируют взлет политической активности, в то время как остальные граждане остаются инертными. Поэтому объем гражданской активности в каждом конкретном месте и в каждый конкретный момент оказывается не настолько велик, чтобы повлечь за собой перенапряжение системы...
Таким образом, в рамках гражданской культуры индивид не обязательно бывает рациональным, активным гражданином. Тип его активности – более смешанный и смягченный. Это позволяет индивиду совмещать определенную долю компетентности, включенности и активности с пассивностью и невключенностью. Более того, его взаимоотношения с правительством не являются чисто рациональными, поскольку они включают в себя приверженность – как его, так и принимающих решения – тому, что мы назвали демократическим мифом о компетентности гражданина. А существование такого мифа влечет за собой важные последствия. Во-первых, это не чистый миф: вера в потенциальную влиятельность обычного человека имеет под собой известные основания и указывает на реальный поведенческий потенциал. И вне зависимости от того, соответствует ли этот миф действительности или нет, в него верят...
Согласие и разногласия
...Значение социального доверия и сотрудничества как компонента гражданской культуры невозможно переоценить. В определенном смысле они являются тем основным резервуаром, из которого демократическое устройство черпает свою способность функционировать. Создатели конституций изобрели формальные структуры политической жизни, призванные укреплять вызывающее доверие поведение, однако без существующих отношений доверия подобные институты, похоже, мало чего стоят. Социальное доверие способствует политическому сотрудничеству граждан этих стран, а без данного сотрудничества демократическая политика невозможна. Такое доверие, вероятно, составляет и часть взаимоотношений между гражданами и политическими элитами. Ранее мы говорили, что для демократии необходимо поддержание власти элит. Теперь мы хотим добавить, что чувство доверия по отношению к политической элите, вера в то, что она представляет собой не враждебную и внешнюю силу, а часть того же самого политического сообщества, заставляет граждан стремиться передать ей власть. Наряду с этим наличие общесоциальных установок снижает опасность того, что эмоциональная приверженность определенной политической подгруппе приведет к политической фрагментации...
Все вышесказанное подводит нас к пониманию того, что в демократической системе должен поддерживаться еще один баланс – между согласием и разногласием... В обществе, говоря словами Т. Парсонса, должна быть «ограниченная поляризация». Если нет согласия, мало шансов на мирное разрешение политических споров, которое ассоциируется с демократическим процессом. Если, например, стоящая у власти элита сочтет оппозиционную чересчур опасной, она вряд ли допустит мирную конкуренцию с последней за достижение статуса правящей элиты.
Баланс между согласием и разногласием поддерживается в гражданской культуре при помощи механизма, аналогичного тому, который обеспечивает баланс между активностью и пассивностью, а именно: с помощью несоответствия между нормами и поведением...Это лишь один из путей, с помощью которых гражданская культура укрощает разногласия в обществе. В целом такое укрощение сопровождается подчинением конфликтов на политическом уровне неким более высоким, всеобъемлющим ориентациям на сплоченность, будь то нормы, связанные с «демократическими правилами игры», или вера в то, что в обществе существует солидарность, основанная не на связанных с политическим единомыслием критериях, а стоящая над партийными интересами.
Баланс, о котором идет речь, должен поддерживаться не только на уровне граждан, но и на уровне элит. <...> Так, например, сложные формальные и неформальные правила этикета в законодательных органах США и Великобритании поощряют и даже требуют дружеских отношений (или хотя бы дружелюбных слов) между сторонниками находящихся в оппозиции друг к другу партий. И это смягчает их явную ориентацию только на своих сторонников. Конечно, это не означает, что приверженность «своим» перестает быть важной силой, просто она удерживается в допустимых рамках с помощью более общих норм человеческих отношений.
Суммируя, можно сказать, что наиболее поразительной чертой гражданской культуры, как она описана в этой книге, является ее разнородный характер. Во-первых, она является смешением ориентации прихожанина, подданного и гражданина. Ориентация прихожанина на первичные взаимоотношения, пассивная политическая позиция подданного, активность гражданина – все это слилось в гражданской культуре. Результатом же является набор укрощенных или сбалансированных политических ориентации. Есть здесь и политическая активность, но ее не так много, чтобы получить возможность разрушить правительственную власть; наличествуют вовлеченность и преданность, но они смягчены; имеются и разногласия, но они умеряются. Кроме того, политические ориентации, образующие гражданскую культуру, тесно связаны с общесоциальными и межличностными ориентациями. В рамках гражданской культуры нормы межличностных отношений, общего доверия и доверия по отношению к своему социальному окружению пронизывают политические позиции и смягчают их. Смешение позиций, характерное для гражданской культуры, полностью «подходит» для демократической политической системы. Оно по многим своим параметрам наиболее соответствует такой смешанной политической системе, какой является демократия.
Источники гражданской культуры
...Наиболее подходящей для демократической политической системы остается гражданская культура. Это не единственная разновидность демократической культуры, но она представляется именно той ее разновидностью, которая в наибольшей степени соответствует стабильной демократической системе. Поэтому целесообразно посмотреть, как гражданская культура передается от поколения к поколению. Первое, что можно отметить в данной связи, это то, что ей не учат в сколько-нибудь прямом смысле слова в школах. Гражданское обучение в США делает упор на тот тип поведения, который ближе к рационально-активистской модели, чем к гражданской культуре. Указанный тип поведения составляет важный компонент гражданской культуры, но не более чем компонент. В Великобритании, политическая культура которой также весьма приближена к гражданской культуре, мы почти не наблюдаем выраженных попыток привить детям систему норм поведения, ассоциирующихся с гражданской культурой, или ту, которая выражена в рационально-активистской модели. Там практически нет четко сформулированной теории относительно того, что же такое «хороший британский подданный» и как готовить детей к выполнению роли гражданина. Это не означает, что непосредственное обучение в школе не играет никакой роли в выработке гражданской культуры. Речь идет скорее о том, что его роль второстепенна.
Неудивительно, что гражданская культура не передается исключительно путем прямого обучения ей. Составляющие ее ориентации и поведение соединены сложным, запутанным образом – ведь это культура, характеризующаяся определенной долей непоследовательности и уравновешенных противоположностей. Одну из важнейших частей гражданской культуры составляет набор позиций, касающихся доверия по отношению к другим людям, – многослойный, иногда противоречивый набор, который трудно передать при помощи прямого обучения. Как же тогда гражданская культура передается от поколения к поколению?
Ответ на вопрос содержится в процессе политической социализации. Гражданская культура передается в ходе сложного процесса, который включает в себя обучение во многих социальных институтах – в семье, группе сверстников, школе, на рабочем месте, равно и в политической системе как таковой. Тип опыта, получаемого в этих институтах, различен. Индивиды приобретают политические ориентации путем направленного обучения – например на специальных уроках основ гражданственности; но они также обучаются, сталкиваясь с политическим опытом, который вовсе не рассчитан на то, чтобы на нем учились, – например, ребенок слышит, как его родители обсуждают политические вопросы или наблюдает за деятельностью субъектов политической системы. Воспитание политических ориентации может быть и ненаправленным и неполитическим по своему характеру, как это бывает, когда индивид узнает о власти из своего участия во властных структурах семьи или школы, или когда он узнает о том, заслуживают ли люди доверия, из своих ранних контактов со взрослыми.
...Гражданская культура – это политическая культура умеренности. Она предполагает знакомство с вопросами политики, однако подобные вопросы не являются предметом наибольшего внимания со стороны обычного человека; она подразумевает включенность в политику, однако уровень этой включенности не очень высок. Можно утверждать, что подобные политические позиции могут появиться лишь в условиях относительно спокойного политического развития, там, где политические ставки достаточно высоки, чтобы все больше и больше людей втягивалось в политический процесс, но не настолько высоки, чтобы заставлять их включаться в политику как в битву в защиту собственных интересов против опасных противников.
Менее очевидными являются причины развития путем слияния, хотя и они коренятся в природе гражданской культуры. Ведь она является смешанной культурой, соединяющей ориентации прихожанина, подданного и участника. Соответственно эта культура должна была развиваться так, чтобы новая ориентация – ориентация на политическое участие – соединялась с двумя более старыми типами, но не вытесняла их. <...>
...Чтобы могла возникнуть гражданская культура, развитие политической демократии, сопровождающееся расширением возможностей участия обычного человека в политическом процессе принятия решений, не должно полностью разрушать подданические ориентации. Новый путь принятия политических решений – через участие граждан – не столько подменяет старый способ осуществления процесса управления, сколько дополняет его. Таким образом может быть создана та смесь активности и пассивности, которая характеризует гражданскую культуру.
Будущее гражданской культуры
...Постепенный рост гражданской культуры путем слияния обычно происходит в условиях, когда решение проблем, стоящих перед политической системой, растянуто во времени...
Приведенные нами данные показывают, что [обучение] является важным фактором, определяющим политические позиции, причем тем фактором, которым легче всего оперировать. Огромное преимущество обучения заключается в том, что те навыки, для выработки которых изначально могли требоваться годы, начинают распространяться гораздо легче, раз уже есть люди, ими владеющие. Как свидетельствуют наши данные, путем обучения могут быть развиты многие важные компоненты гражданской культуры. Оно может дать индивидам навыки политического участия. Людей можно научить тому, как получать информацию; их можно познакомить со средствами массовой информации; им можно дать знания о формальных политических структурах, равно как и о значении правительственных и политических институтов. Посредством обучения можно передавать и сформулированные нормы демократического участия и ответственности.
Однако наши данные показывают и то, что с помощью обучения можно создать лишь отдельные компоненты гражданской культуры. Школа может дать познавательные навыки, связанные с политикой, но в состоянии ли она привить лежащие в их основе социальные ориентации, являющиеся важным компонентом гражданской культуры? Можно ли путем обучения воспитать социальное доверие и уважение? Может ли обучение способствовать пропитыванию политического процесса этими социальными ориентациями? В состоянии ли система обучения распространить удивительную смесь активности и пассивности, включенности и индифферентности, смесь ориентации прихожанина, подданного и участника? Проведенный нами анализ связи между процессами политической социализации и создания гражданской культуры заставляет предположить, что формальное обучение не может быть адекватным заменителем времени в плане создания этих компонентов гражданской культуры.
Одним из путей дополнения процесса формального обучения может стать развитие других каналов политической социализации. Как мы указывали выше, само существование многочисленных каналов способствует внедрению смешанного типа позиций, характерного для гражданской культуры. Оно увеличивает разнообразие передаваемых политических ориентации и, что еще более важно, прохождение через множество органов социализации может научить индивида выполнять одновременно несколько различных ролей. А это позволяет систематизировать и уравновешивать его политические ориентации. Способность же выполнять значительное число ролей представляет собой главный компонент гражданской культуры. Важнейшими органами социализации являются семья, рабочее место, добровольные ассоциации. По мере изменения и развития подобных институтов в новых странах имеющиеся там каналы социализации в направлении гражданской культуры, возможно, будут расширяться. В той же мере, в какой семья станет более активной и открытой по отношению к политическому процессу (а наши данные заставляют предположить, что именно в этом заключается одна из функций модернизации), могут возникнуть новые возможности закрепления гражданских ориентации. Аналогичным образом каналы социализации могут расширить сопутствующие индустриализации профессиональные изменения, равно как и развитие структуры добровольных ассоциаций.
Однако даже появление названных выше новых каналов социализации может оказаться недостаточным для развития гражданской культуры. Такие каналы могут воспитывать позиции, направленные на участие, однако их способность вырабатывать социальное доверие и эмоциональную привязанность к системе более проблематична. Если, например, эти каналы существуют в расколотой на составные части политической системе, то воспитанное с их помощью отношение к ней может оказаться отчуждением, а межличностное доверие нельзя будет перевести на язык доверия, имеющего отношение к политике. Значит, требуется процесс, с помощью которого у индивидов могло бы выработаться чувство общей политической идентичности, которая бы включала общую эмоциональную приверженность системе, равно как и чувство идентичности с другими гражданами. Участия и познавательных навыков недостаточно для создания политического сообщества, где граждане доверяют и могут сотрудничать друг с другом и где их приверженность политической системе глубока и эмоциональна.
Таким образом, проблема заключается в том, чтобы наряду с навыками участия, которые могут быть воспитаны с помощью школы и других органов социализации, развивать эмоциональную приверженность политической системе и чувство политической общности...
Трудности, сопровождающие попытки создать в развивающихся регионах мира эффективный демократический процесс и ориентации, необходимые для его поддержания, могут показаться непреодолимыми. Что, как нам кажется, требуется, – это одновременное развитие чувства национальной идентичности, компетентности как в качестве подданного, так и в качестве участника, а также социального доверия и гражданского сотрудничества. Запас средств, находящихся в распоряжении элит новых стран, весьма незначителен, а способность таких обществ быстро и эффективно использовать эти средства имеет свои пределы. Кроме того, есть и другие задачи, решение которых требует тех же средств. Мы, по существу, не имеем права судить лидеров, использующих имеющиеся ресурсы для развития социальной сферы, индустриализации и усовершенствования сельского хозяйства, подавляющих подрывные движения или не пестующих демократические тенденции. <...>
P. Инглхарт. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества[78]
Введение
Перемены в мироотношении (worldviews) людей, глубинные и массовые, изменяют облик экономической, политической и социальной жизни: трансформируются политические и экономические цели, религиозные нормы и семейные ценности, а эти изменения в свою очередь влияют на темпы экономического роста, на стратегические установки политических партий и на перспективы для демократических институтов. <...>
...Данные из «Всемирных обзоров ценностей» показывают, что сдвиг в направлении от материалистических к постматериальным ценностям представляет собой лишь одну компоненту гораздо более широкого культурного сдвига, охватывающего около четырех десятков переменных из числа включенных в обзоры. Эти переменные подключают к картине сдвига целый набор разнообразных ориентации, от религиозных воззрений до сексуальных норм; но все они обнаруживают крупные генерационные различия, выражение коррелируют с постматериальными ценностями и в большинстве обществ с 1981 по 1990 г. смещались в направлении, поддававшемся предвычислению. Эта широко распространяющаяся перестройка мироотношения и обозначается нами как «постмодернизация». В ней сдвиг от материалистических к постматериальным ценностям представляет собой наилучшим образом документированную, но не обязательно самую значительную компоненту всей более широкой культурной перемены: еще сильнее изменились тендерные роли, а также, например, отношение к геям и лесбиянкам.
Итак, собранные к настоящему времени данные указывают на широко распространяющиеся изменения в базовых ценностях населения индустриальных и индустриализирующихся обществ во всем мире. Изменения эти обнаруживают связь с процессами смены поколений и, таким образом, происходят постепенно, но обладают немалым долговременным импульсом.
Мы считаем, что экономическое развитие, культурные, а также политические изменения идут рука об руку, образуя целостные и даже до некоторой степени предсказуемые паттерны.[79] Утверждение это вызывает споры. Оно подразумевает, что одни траектории социально-экономического развития более вероятны, чем другие, и, следовательно, определенные изменения предвидимы. Если, например, то или иное общество вступило на путь индустриализации, то должен последовать целый синдром связанных с этим изменений, от массовой мобилизации до уменьшения различий в тендерных ролях.
Это, разумеется, есть центральное утверждение теории модернизации; оно было выдвинуто Марксом и дебатировалось в течение более чем столетия. Несмотря на то, что каждая его упрощенческая версия рассыпалась, мы все же поддерживаем ту идею, что некоторые сценарии социальных перемен намного вероятнее, чем другие, и намерены представить изрядное количество эмпирических данных, говорящих в пользу такой пропозиции. «Всемирные обзоры ценностей» раскрывают целостные культурные паттерны, тесно связанные с экономическим развитием.
В то же время нам представляется очевидным, что модернизация нелинейна. В передовых индустриальных обществах превалирующее направление развития в последнюю четверть века изменилось, и перемены в происходящем настолько фундаментальны, что уместно охарактеризовать их скорее как «постмодернизацию», а не «модернизацию».
Модернизация есть прежде всего процесс, в ходе которого увеличиваются экономические и политические возможности данного общества: экономические – посредством индустриализации, политические – посредством бюрократизации. Модернизация обладает большой привлекательностью благодаря тому, что она позволяет обществу двигаться от состояния бедности к состоянию богатства. Соответственно, ядром процесса модернизации является индустриализация; экономический рост становится доминирующей социетальнои целью, а доминирующую цель на индивидуальном уровне начинает определять достижительная мотивация. Переход от доиндустриального общества к индустриальному характеризуется «всепроникающей рационализацией всех сфер общества» (по Веберу), приводя к сдвигу от традиционных, обычно религиозных, ценностей к рационально-правовым ценностям в экономической, политической и социальной жизни.
Но модернизация – не финальный этап истории. Становление передового индустриального общества ведет еще к одному совершенно особому сдвигу в базовых ценностях – когда уменьшается значение характерной для индустриального общества инструментальной рациональности. Преобладающими становятся ценности постмодерна, неся с собой ряд разнообразных социетальных перемен, от равноправия женщин до демократических политических институтов и упадка государственно-социалистических режимов.
Почему происходит сдвиг к постмодерну?
Сдвиг к ценностям постмодерна – не первый в истории случай крупного культурного сдвига. Так, переход от аграрного общества к индустриальному был облегчен сдвигом, означавшим отход от мироотношения, формируемого неподвижно-устойчивой экономикой. Такое мироотношение характеризовалось неприятием социальной мобильности, и упор в нем делался на традициях, наследуемом статусе и обязательствах перед общиной, подкрепляемых абсолютными религиозными нормами; его сменило мироотношение, поощрявшее экономические достижения, индивидуализм и инновации, – при социальных нормах, все более становившихся светскими. Некоторые из этих тенденций, связанных с переходом от «традиционного» общества к «современному», в настоящее время достигли своих пределов в передовом индустриальном обществе, где перемены принимают новое направление.
Эта смена направления перемен отражает действие принципа убывающего приращения пользы. Индустриализация и модернизация требовали слома культурных препятствий, сдерживающих накопление, имеющихся в любой неподвижно-устойчивой экономике. В западноевропейской истории эта задача была успешно выполнена благодаря становлению протестантской этики, которая (хоть она и имела длительную интеллектуальную историю) с функциональной точки зрения выглядела мутацией, осуществленной наудачу. Если бы ее становление произошло двумя столетиями раньше, она могла бы отмереть. В среде же своего времени она нашла для себя нишу: технологическое развитие делало возможным быстрый экономический рост, и кальвинистское мироотношение прекрасно дополняло это развитие, образуя культурно-экономический синдром, который вел к становлению капитализма и, со временем, к промышленной революции. После того как это произошло, экономическое накопление (для индивидов) и экономический рост (для обществ) становились высшими приоритетами для все большей части населения земли и до сих пор составляют главнейшие цели для значительной части человечества. Но постепенно убывание отдачи от экономического роста ведет к постмодернистскому сдвигу, который в некоторых отношениях знаменует упадок протестантской этики.
Передовые индустриальные общества в настоящее время изменяют свои социально-политические траектории в двух кардинальных отношениях.
1. Системы ценностей. Все больший упор на индустриальных экономических достижениях явился одной из центральных перемен, сделавших возможной модернизацию. Этот сдвиг к материальным приоритетам повлек за собой уменьшение значения обязательств перед общиной и приятие социальной мобильности: социальный статус становился скорее чем-то достигаемым, нежели чем-то данным индивиду от рождения. Экономический рост стал приравниваться к прогрессу, и в нем стали видеть признак преуспевающего общества.
Место экономических достижений как высшего приоритета в настоящее время в обществе постмодерна занимает все большее акцентирование качества жизни. В значительной части мира нормы индустриального общества с их нацеленностью на дисциплину, самоотвержение и достижения уступают место все более широкой свободе индивидуального выбора жизненных стилей и индивидуального самовыражения. Сдвиг от «материалистических» ценностей, с упором на экономической и физической безопасности, к ценностям «постматериальным», с упором на проблемах индивидуального самовыражения и качества жизни, – наиболее полно документированный аспект данной перемены; но он составляет, как уже говорилось, лишь одну компоненту гораздо более широкого синдрома культурных перемен.
2. Институциональная структура. Мы приближаемся пределам развития иерархических бюрократических организаций, способствовавших созданию современного общества. Бюрократическое государство, дисциплинированная олигархическая политическая партия, сборочная линия массового производства, профсоюз старого образца и иерархическая корпорация сыграли неимоверно важную роль в мобилизации и организации энергии масс людей; они сделали возможными промышленную революцию и современное государство. Но они подошли к поворотному пункту – по двум причинам: во-первых, они приближаются к пределам своей функциональной эффективности; а во-вторых – к пределам их массового приятия. <...>
Источники ценностей постмодерна: чувство экзистенциальной безопасности
Мироотношение, господствовавшее в западном обществе со времени промышленной революции, постепенно сменяется новым. Последствия этой трансформации еще только складываются, а элементы прежней культуры все еще широко распространены, но можно тем не менее различить основные черты нового паттерна. <...>
Возникшие после Второй мировой войны явления экономического чуда вместе с государствами благосостояния открыли новый этап истории и в конечном счете проложили путь возвышению ценностей постмодерна. Глубокие перемены в опыте личностного формирования способствовали складыванию особой системы ценностей среди все большей части тех, кто вырос в передовых индустриальных обществах после Второй мировой войны. У возрастных когорт послевоенных годов рождения в этих обществах взросление происходило в условиях, совершенно непохожих на те, в которых формировались предшествующие поколения. Различие условий было двояким. Во-первых, послевоенное экономическое чудо привело к беспрецедентным в человеческой истории уровням процветания. Реальный душевой доход в большинстве индустриальных обществ увеличился в несколько раз против наивысшего довоенного, а в некоторых случаях (как в Японии) – поднялся до уровня в 20–30 раз выше, чем когда-либо прежде. Экономический «пирог» стал намного больше; одно это могло бы способствовать большему чувству экономической безопасности.
Но влияние беспрецедентного процветания взаимодействовало со вторым фактором – возникновением современного государства благосостояния. Не абсолютное богатство, а чувство экзистенциальной безопасности является решающей переменной, и государство благосостояния подкрепляло собою действие экономического роста как фактора, порождающего чувство безопасности. «Пирог» был больше, чем когда-либо прежде, и распределялся он равномернее и надежнее, чем прежде. Впервые в истории люди в массе своей – значительная их часть – выросли, усвоив ощущение, что выживание можно принимать как должное.
Этим был вызван процесс межгенерационного изменения ценностей, постепенно трансформирующий политику и культурные нормы передовых индустриальных обществ... Сдвиг от материалистических к постматериальным ценностным приоритетам выдвинул на первый план новые политические проблемы и во многом стимулировал новые политические движения.
Позднейшие исследования указывают на то, что становление постматериализма самого по себе есть лишь один аспект еще более широкого процесса культурных изменений, переформирующих политические воззрения, религиозные ориентации, тендерные роли и сексуальные нравы в передовом индустриальном обществе. Эти изменения связаны с общей заботой: необходимостью иметь чувство безопасности, какое традиционно давали религия и абсолютные культурные нормы. Достижение беспрецедентно высоких уровней процветания в передовых индустриальных обществах в послевоенные десятилетия вместе с относительно высокими уровнями социального обеспечения, какие предусматривает государство благосостояния, способствовало ослаблению существующего чувства уязвимости. С точки зрения широких слоев населения человеческая судьба более не испытывает столь тяжелого воздействия со стороны непредсказуемых сил, как то было в аграрном и раннем индустриальном обществе. Это благоприятствовало распространению ориентации постмодерна, не столь акцентирующих традиционные культурные нормы, особенно те, что ограничивают индивидуальное самовыражение.
Теория межгенерационной перемены ценностей
...Наша теория основывается на двух ключевых гипотезах.
1. Гипотеза ценностной значимости недостающего (A Scarcity Hypothesis). Приоритеты индивида отражают состояние социально-экономической среды: наибольшая субъективная ценность придается тому, чего относительно недостает.
2. Гипотеза социализационного лага (A Socialization Hypothesis). Состояние социально-экономической среды и ценностные приоритеты не соотносятся между собой непосредственно: между ними вклинивается существенный временной лаг, ибо базовые ценности индивида в значительной степени отражают условия тех лет, которые предшествовали совершеннолетию.
Гипотеза о придании ценности недостающему аналогична принципу убывающего приращения пользы в экономической теории. Концепция дополнительности в иерархии потребностей помогла сформулировать позиции, по которым в обзорах производится измерение ценностных приоритетов. В своей простейшей форме идея иерархии потребностей, вероятно, встретила бы почти всеобщее согласие. То, что неудовлетворенные физиологические потребности первенствуют по отношению к социальным, интеллектуальным или эстетическим, слишком часто демонстрировалось в человеческой истории: голодные люди пойдут почти на все что угодно, чтобы добыть пропитание. По своей значимости человеческие потребности ранжируются различным образом, если на той или иной шкале прослеживать потребности помимо непосредственно относящихся к выживанию; так, иерархия потребностей, предложенная Маслоу, не выдерживает детальной проверки временем. Но налицо, как представляется, основное разграничение между «материальными» потребностями в физиологическом поддержании собственного существования и собственной невредимости и нефизиологическими потребностями, такими как потребности в признании, в самовыражении и в эстетическом удовлетворении.
Недавняя экономическая история передовых индустриальных обществ имеет важные импликации в свете гипотезы ценностной значимости недостающего. Ибо в господствующем историческом паттерне эти общества являют поразительное исключение: в них все еще имеются бедняки, но большинство населения не живет в условиях голода и экономической необеспеченности. Это привело к постепенному сдвигу, в ходе которого более высокую значимость приобрели потребности в общении, в признании, в самовыражении и в интеллектуальном и эстетическом удовлетворении. При прочих равных условиях можно, по нашему мнению, ожидать, что продолжительные периоды высокого благосостояния будут способствовать распространению постматериальных ценностей; экономический спад имел бы противоположный эффект.
Впрочем, дело обстоит отнюдь не так просто: не существует прямой и непосредственной связи между экономическим уровнем и превалированием постматериальных ценностей, ибо эти ценности отражают субъективное чувство безопасности человека, а не уровень его экономического положения per se. Если богатые индивиды и нации склонны ощущать себя в большей мере в безопасности, чем бедные, то в этих ощущениях сказывается и та среда – в виде культурной обстановки и институтов социального обеспечения, – в которой человек вырос. Таким образом, гипотезу ценностной значимости недостающего надо раскрывать в связи с гипотезой социализационной.
...После некоторого периода резкого повышения экономической и физической безопасности можно ожидать обнаружения существенных различий между ценностными приоритетами старших и более молодых групп: их, как окажется, сформировал различный опыт в годы личностного становления. Но налицо будет изрядный временной лаг между экономическими переменами и их политическими последствиями. Через 10–15 лет после начала эры процветания возрастные когорты, чьи годы личностного становления пришлись на этот период, станут пополнять электорат. Может пройти еще десятилетие или около того, прежде чем эти группы начнут занимать в своем обществе позиции власти и влияния; еще одно десятилетие, или около того, – прежде чем они достигнут высших уровней принятия решений. Правда, их влияние станет значительным задолго до этой финальной стадии. Постматериалистам свойственна более высокая развитость, они лучше артикулируют свои позиции, политически более активны – в сравнении с «материалистами». Следовательно, политическое влияние первых, в тенденции, способно быть значительнее, чем вторых.
Социализационная гипотеза дополнительна по отношению к гипотезе ценностной значимости недостающего. Она помогает объяснить кажущееся отклоняющимся поведение: с одной стороны – скряги, испытавшего бедность в юные годы и упорно продолжающего копить богатство много спустя после достижения материальной обеспеченности; с другой – праведника, даже в суровой нужде сохраняющего верность целям высшего порядка, внушенным его (или ее) культурой; в общих случаях объяснение как будто бы отклоняющегося поведения таких индивидов заключено в их ранней социализации.
Это не значит, что ценностные приоритеты взрослого не подвержены изменению. Просто они трудно меняются. Лишь в экстремальных условиях необычных экспериментов были зафиксированы изменения приоритетов у взрослых. Например, в одном таком эксперименте человека, отказывавшегося от военной службы по идейным соображениям, долго держали на полуголодном пайке. После нескольких недель он потерял интерес к общественным идеалам и стал говорить, думать и даже видеть сны о еде. Аналогичные модели поведения наблюдались у узников концлагерей.
Беспрецедентная экономическая и физическая безопасность послевоенной эпохи привела к межгенерационному сдвигу от материалистических к постматериальным ценностям. Молодые в гораздо большей степени, чем пожилые, акцентируют постматериальные ценности, что, как показывает анализ по соответствующим когортам, отражает скорее генерационное изменение, чем возрастные эффекты. В 1970–1971 гг., в годы наших первых обзоров, численное преобладание представителей материалистических ценностных приоритетов было подавляющим: они превосходили постматериалистов в соотношении четыре к одному. К 1990 г. соотношение резко изменилось – численное преобладание материалистов выражалось уже только в соотношении четыре к трем. Экстраполяции, основанные на расчетах смены поколений в населении, указывают на то, что к 2000 г. во многих западных странах материалисты и постматериалисты численно примерно сравняются.
Постматериалисты не являются нематериалистами, а тем более антиматериалистами. Термин «постматериалист» указывает на группу целей, акцентируемых после того, как люди достигли материальной безопасности, и потому, что они ее достигли. Таким образом, разрушение безопасности привело бы к постепенному откату вспять, в сторону материальных приоритетов. Появление постматериализма отражает не оборачивание полярностей, а смену приоритетов: экономической и физической безопасности постматериалисты придают отнюдь не негативную ценность – они, как всякий, оценивают ее положительно; но, в отличие от материалистов, они еще более высокий приоритет отводят самовыражению и качеству жизни.
Так, автор обнаружил, что в старые классовые расколы индустриального общества привносится, заявляя о себе, акцентирование проблем качества жизни. Хотя количественные показатели голосования по социально-классовому признаку снижались, оно никоим образом не исчезло (да и в дальнейшем исчезновение его не предвиделось). Но если некогда в политической жизни доминировала классовая поляризация вокруг собственности и контроля над средствами производства, то со временем к этим проблемам все более и более добавлялись новые – постматериальные. Расколы и индустриальной, и до-индустриальной эпох хоть и продолжали существовать, но – наряду с новыми проблемами, встававшими поверх прежних барьеров.
Сдвиг от материалистических к постматериальным приоритетам – ядро процесса постмодернизации. В раннеиндустриальном обществе акцентирование экономической достижительности вышло на беспрецедентные уровни. <...>
По мере превращения для большинства людей вероятности голода из насущной заботы в почти незначащую перспективу ценности переменились. Экономическая безопасность по-прежнему всеми желаема, но она более не является синонимом счастья. В передовых индустриальных обществах люди стали проявлять все большую озабоченность проблемами качества жизни, порой отдавая защите окружающей среды приоритет перед экономическим ростом. Таким образом, акцентирование экономической достижительности, резко возрастая с процессом модернизации, затем, однако, с наступлением постмодернизации, выравнивается. В обществах, где более всего постматериалистов, ниже темпы роста по сравнению с теми, где подавляющим образом преобладают материалисты, зато, по тенденции, более высокие уровни субъективного благополучия. С постмодернизацией ослабляется акцентирование не только самого экономического роста, но и создающего его возможность научно-технического развития; с обеспечения выживания акцент сдвигается на максимизацию субъективного благополучия. <...>
Авторитарный рефлекс
В обществах, переживавших исторический кризис, наблюдался феномен, который можно назвать авторитарным рефлексом. Стремительные изменения ведут к глубокой неуверенности, рождающей мощную потребность в предсказуемости. В таких обстоятельствах авторитарный рефлекс принимает две формы:
1) форму фундаменталистских или нативистских реакций. Этот феномен часто имеет место в доиндустриальных обществах, когда они сталкиваются со стремительными экономическими и политическими переменами в результате контактов с индустриальными обществами; он нередко встречается также в индустриальных обществах – среди более традиционных и менее защищенных слоев, особенно в моменты стресса. В обоих случаях реакция на перемены принимает форму отрицания нового, а также форму вменяемого всем вокруг в обязанность отстаивания непогрешимости старых, привычных культурных моделей;
2) форму раболепного преклонения перед сильными светскими лидерами. В секуляризованных обществах состояние глубокой неуверенности порождает готовность положиться на таких лидеров как на лучших людей с железной волей, способных вывести свой народ туда, где безопасно. Это явление часто наступает вслед за военным поражением, экономическим или политическим крахом.
Так, возникновение реакций авторитарности, а также ксенофобии, часто присуще дезинтегрирующимся обществам. В царской России в годы ее заката прошли погромы; а после ее падения власть захватили правители еще более жестоко-авторитарные, чем цари. Подобным образом великая депрессия 1930-х гг. помогла привести Гитлера к власти в Германии и способствовала восхождению фашистских диктаторов в ряде других стран – от Испании и Венгрии до Японии.
Глубокая неуверенность в будущем способствует возникновению не только потребности в сильных властных фигурах, которые защитили бы от угрожающих сил, но и ксенофобии. Пугающе быстрые перемены рождают нетерпимость к изменениям в культуре и к иноэтническим группам. Так, в США в конце XIX – начале XX в., когда упали цены на хлопок, на Юге стали учащаться случаи линчевания негров. Это была реакция на неуверенность в завтрашнем дне, а не действия, осознанно предпринятые из убеждения в том, что негры манипулируют ценами на хлопок: линчеватели понимали, что негры мало влияют на рынок хлопка. Подобным же образом Великая депрессия 1930-х гг. породила двойной феномен Гитлера и антисемитизма – и в конце концов холокост. Это произошло в обществе, которое до той поры было толерантнее к евреям, чем Россия и Франция, и которое имело в своем составе одну из самых социально интегрированных еврейских общин в Европе. В происшедшей ужасающей истории не было ничего неизбежного; в ней отразилась травматическая неуверенность в будущем, вызванная военным поражением и политическим и экономическим крахом, а не нечто присущее Германии. По навязчивой аналогии явлений, крах экономических и политических систем некоторых восточноевропейских обществ породил ультранационализм и этнические чистки.
Постмодернизм: меньшая значимость политической, экономической власти и научного авторитета
...Условия процветания и безопасности способствуют плюрализму вообще и демократии – в частности. Это помогает объяснить давно установленную закономерность: богатые общества с большей вероятностью демократичны, чем бедные. На эту закономерность указал Липсет, и она совсем недавно была подтверждена Бэркхартом и Льюис-Беком. Причины этого сложны; но один из факторов состоит в том, что авторитарный рефлекс сильнее всего в условиях небезопасности.
До недавнего времени небезопасность была существеннейшей составляющей положения человека. Лишь недавно появились общества, где большинство населения не ощущает неуверенности относительно выживания. Так, и досовременное аграрное общество, и современное индустриальное были сформированы ценностями выживания. Сдвиг же постмодерна привел к явственному уменьшению значения, придаваемого любым формам власти и авторитета. <...>
Экзистенциальная безопасность и восхождение ценностей постмодерна
...Разница между ощущением безопасности и небезопасности в плане выживания является настолько существенной, что соответствующая перемена привела к обширному синдрому взаимосвязанных изменений в направлении от ценностей «выживания», какими характеризовались аграрное и раннеиндустриальное общество, к ценностям «благополучия», характерным для передового индустриального общества. <...> Эти контрастирующие ценностные системы, разветвляясь, охватывают политику, экономику, религию и сексуальные и семейные нормы, как показывает табл. 1.
Таблица 1
Характеристики ценностных систем при восприятии перспективы выживания как:
Сдвиг от ценностей модерна к ценностям постмодерна ведет к постепенному разрушению многих из ключевых институтов индустриального общества. Это осуществляется посредством характеризуемых ниже изменений.
1. В политической области с восхождением ценностей постмодерна падает уважение к власти и усиливается акцент на участии и самовыражении. Эти две тенденции способствуют: в авторитарных обществах – демократизации, а в обществах, уже являющихся демократическими, – развитию демократии в направлении большей партиципаторности, ориентированности на конкретные проблемы. Но они осложняют положение правящих элит.
Уважение к власти, как было отмечено, претерпевает эрозию. А долгосрочная тенденция к возрастанию массового участия не только продолжается, но она приобрела новый характер. В крупных аграрных обществах политическое участие ограничивалось узким меньшинством. В индустриальном обществе мобилизацию масс осуществляли дисциплинированные, руководимые элитами политические партии. Это было немалое продвижение на пути демократизации, и результатом его стал небывалый рост политического участия в виде голосования, однако выше этого уровня массовое участие поднималось редко. В обществе же постмодерна акцент смещается с голосования на все более активные и более проблемно-специфицированные формы массового участия. Массовая приверженность давно утвердившимся иерархическим политическим партиям размывается; не желая долее быть дисциплинированным войском, общественность переходила к все более автономным видам участия, бросая при этом вызов элитам. Следовательно, хотя участие в выборах остается на прежнем уровне или снижается, люди участвуют в политике все более активными и более проблемно-специфическими способами. Кроме того, растущий сегмент населения начинает в свободе выражения и политическом участии усматривать скорее нечто самоценное, чем просто возможное средство достижения экономической безопасности.
Но эти изменения травмирующим образом подействовали на традиционные политические механизмы индустриального общества, которые почти повсеместно разладились. На протяжении всей истории индустриального общества размах государственной активности быстро увеличивался; казалось естественной закономерностью дальнейшее расширение государственного контроля над экономикой и обществом. Однако эта тенденция достигла ныне естественных пределов по ряду позиций как в силу функциональных причин, так и вследствие утраты общественного доверия к государственному управлению и нарастающего противодействия государственному вмешательству. Люди повсюду обычно склонны считать, что такое убывание доверия вызывают факторы, единственно свойственные их собственной стране; на самом же деле оно происходит на всем пространстве передового индустриального общества.
Для ксенофобии питательной средой является обстановка быстрых перемен и неуверенности в завтрашнем дне. Ненависть на этнической почве не исчезла как явление и в тех индустриальных обществах, которые обеспечивают относительную уверенность в завтрашнем дне, но по сравнению с обществами, характеризующимися обстановкой неуверенности, ксенофобия в них не столь распространена, а в долгосрочной перспективе в них наблюдается развитие в сторону большего приятия многообразия. Наконец, политику постмодерна отличает сдвиг в направлении от политического конфликта на классовой основе, характерного для индустриального общества, к усиливающемуся акцентированию проблем культуры и качества жизни.
2. В экономической области экзистенциальная безопасность ведет к усилению акцента на субъективном благополучии и качестве жизни, становящихся для многих более высокими приоритетами, чем экономический рост. Стержневые цели модернизации, экономического роста и экономических достижений по-прежнему остаются в ценностном смысле положительными, но их относительная значимость снижается.
Налицо также постепенный сдвиг в мотивации людей к труду: с максимизации получаемого дохода и с обеспеченности работой акцент сдвигается в сторону более настоятельного запроса на интересную и осмысленную работу. Наряду с этим происходит двоякий сдвиг в области отношений между собственниками и менеджерами. С одной стороны, мы обнаруживаем усиливающийся акцент на придании менеджменту большей коллегиальности и демократичности. Но в то же время можно наблюдать вообще отход от тенденции искать решения таких проблем в сфере управления, т. е., иными словами, готовность положиться на капитализм и рыночные принципы. Обе тенденции связаны с возрастающим неприятием иерархических моделей власти и большим упором на автономию индивида. Со времен капитализма неограниченной свободы конкуренции (laissez faire) люди всегда почти автоматически обращались к управлению, чтобы скомпенсировать властную мощь частного бизнеса. Ныне, по широко распространенному мнению, рост управления становится функционально неэффективен и превращается в угрозу для автономии индивида.
3. В области сексуального поведения, репродуктивности и семьи имеет место продолжающаяся длительная тенденция отхода от тех жестких норм, которые в аграрном обществе являли собой функциональную необходимость. В аграрных обществах традиционные способы контрацепции были ненадежны, и дети, если только они не рождались в семье с мужчиной-кормильцем, скорее всего оказывались обреченными на голод; в свою очередь, половое воздержание вне брака являлось ключевым средством сдерживания роста численности населения. Развитие эффективной технологии регулирования рождаемости вместе с процветанием и государством благосостояния подорвали функциональную основу традиционных норм в этой области; налицо общий сдвиг в сторону их большей гибкости для индивидуального выбора в сфере сексуального поведения, а также гораздо большая терпимость в восприятии гомосексуализма. В этом не только находят продолжение некоторые из тенденций, ассоциируемых с модерном, есть и прорыв на новые уровни. Геи перестали прятаться в туалетах, а сюжет о внебрачном материнстве – обычная часть прайм-тайма телевизионных программ.
4. В области высших ценностей мы также обнаруживаем как преемственность, так и поразительные изменения. Одной из ведущих тенденций, ассоциировавшихся с модернизацией, была секуляризация. Эта тенденция продолжилась, если говорить об официальных религиозных институтах: публика в большинстве передовых индустриальных стран демонстрирует снижение доверия к церквам, реже посещает церковь и придает меньшее значение организованной религии. Это, однако, не означает исчезновения духовных запросов; ибо мы обнаруживаем также равномерно-межстрановую тенденцию, в соответствии с которой люди проводят больше времени в размышлениях о смысле и назначении жизни. Господство инструментальной рациональности уступает место растущей озабоченности высшими целями.
Рассмотренные тенденции отражают создавшееся в обществе постмодерна невиданное ранее состояние безопасности [уверенности в завтрашнем дне] (security). Главную цель индустриального общества составляло экономическое накопление ради экономической безопасности. По иронии судьбы, достижение этой двоякой цели дало ход процессу постепенных культурных изменений, который не только понизил статус бывшей главной цели, но и порождает теперь также неприятие иерархических институтов, способствовавших ее достижению.
Р. Инглхарт. Культура и демократия[80]
Культура и демократия
Гипотеза о том, что политическая культура тесно связана с демократией, получила широкое распространение непосредственно после выхода работы «Гражданская культура» (Almond, Verba, 1963), но в 1970-е гг. по разным причинам вышла из моды. Политико-культурный подход поставил важный эмпирический вопрос: способна ли культура того или иного общества повышать его восприимчивость к демократии? Некоторым критикам казалось, что поиск обществ, особо предрасположенных к демократии, основывается на элитарном подходе, поскольку любая благоразумная теория должна исходить из равных шансов обществ на демократическое устройство. Проблема, однако, состоит в том, что из попытки создать теорию, вписывающуюся в определенную идеологию, зачастую рождается конструкция, которая не в ладах с реальностью, а раз так, то все предвидения, сделанные на ее основе, также оказываются ошибочными. Иными словами, подобная концепция дезориентирует тех, кто пытается изучать особенности реальной демократии.
К 1990-м гг. наблюдатели из Латинской Америки, Восточной Европы, Восточной Азии пришли к выводу о том, что культурные факторы играют важную роль в проблемах, связанных с демократизацией. Простого принятия демократической конституции недостаточно.
До недавнего времени культурные факторы не привлекались к эмпирическому исследованию демократии, и отчасти это происходило из-за нехватки статистических данных. Если же, как это делают автор настоящей главы (Inglehart) и Патнэм (Putnam), упомянутые факторы принимать в расчет, то их значение сразу же выходит на первый план.
Экономическое развитие влечет за собой два типа изменений, благоприятствующих демократии.
Оно трансформирует социальную структуру общества, внедряя урбанизацию, массовое образование, профессиональную специализацию, расширяющиеся организационные сети, большее равенство доходов и прочие факторы, содействующие вовлечению масс в политику. Углубление профессиональной специализации и распространение образования ведут к формированию свободно мыслящей рабочей силы, готовой торговаться за власть с элитами.
Кроме того, экономическое развитие способствует культурным переменам, которые помогают стабилизировать демократию. Оно развивает межличностное доверие, терпимость, ведет к утверждению постматериалистических ценностей, в ряду которых видное место отводится самовыражению и участию в принятии решений. Благосостояние, которое оно влечет за собой, укрепляет легитимность режима, а это помогает демократическим институтам устоять в трудные времена. Легитимность нужна любому режиму, но для демократий она ценна вдвойне. Репрессивные и авторитарные режимы способны удерживать власть, даже когда им не хватает массовой поддержки, но демократии необходимо опираться на народ, а иначе она прекратит свое существование.
Позитивные достижения политической системы генерируют массовую поддержку демократических лидеров. На ближайшую перспективу степень этой поддержки является производной от следующей фразы: что вы сделали для меня в последнее время? Но если итоги деятельности режима кажутся позитивными на протяжении длительного времени, возникает феномен диффузной его поддержки (Easton). В этих случаях складывается обобщенное мнение о том, что политическая система хороша сама по себе, независимо от ее сиюминутных успехов или неудач. Такой тип поддержки устойчив даже в сложные периоды.
Данные WVS позволяют проверить этот тезис применительно ко всему миру. Как видно из рис. 1, положение страны относительно индекса «выживание/самовыражение» прочно коррелирует с достигнутым ею уровнем демократии, фиксируемым по методике Freedom House с 1972 по 1998 г. Причем это отношения особого рода. Совершенно очевидно, что речь здесь идет не о методологической случайности или самой простой корреляции, поскольку обе переменные замеряются по-разному и извлекаются из двух совершенно различных источников. Практически все общества, занимающие передовые позиции в рейтинге «выживание/самовыражение», являются устойчивыми демократиями; и напротив, почти все отстающие страны управляются авторитарными режимами. В данной главе мы не собираемся распутывать весь клубок этой сложной причинной связи. Ограничимся лишь замечанием, что прочная взаимосвязь, фиксируемая рис. 1, сохраняется и в том случае, когда мы ориентируемся на среднедушевую долю ВНП.
Рис. 1. «Ценности самовыражения» и «демократические институты»
Источник: данные опросов Freedom House, публикуемые в альманахе Freedom in the World: данные опросов WVS за 1990–1995 гг.
Интерпретируя эту закономерность, мы склоняемся к мнению, что именно демократические институты стимулируют ценности самовыражения, столь тесно с ними взаимосвязанные. Иными словами, демократия делает людей здоровыми, счастливыми, терпимыми, доверяющими друг другу. Она приобщает к постматериалистическим ценностям по крайней мере молодое поколение. Разумеется, предложенная интерпретация весьма соблазнительна. Она содержит сильные аргументы в пользу демократии и фактически намекает на то, что у нас есть простой рецепт для большинства социальных проблем: учредите демократические институты и живите счастливо.
К сожалению, опыт народов бывшего СССР не подтверждает такую интерпретацию. Со времен предпринятого ими в 1991 г. прорыва к демократии они не стали здоровее, счастливее, терпимее, не стали больше доверять друг другу или разделять постматериалистические ценности. Даже наоборот: в большинстве своем они двигались в противоположном направлении. Конституционная нестабильность Латинской Америки – другой пример того же рода.
Альтернативная интерпретация предполагает, что экономический прогресс постепенно ведет к социальным и культурным изменениям, которые укрепляют демократические институты. Такой подход помогает понять, почему демократия лишь недавно получила широкое распространение и почему даже сейчас ее следует искать в первую очередь в экономически развитых странах – в тех, которые предпочитают ценности самовыражения ценностям выживания.
У последней трактовки есть как сильные, так и слабые стороны. Плохо то, что демократия – не та вещь, которая достигается простым заимствованием правильных законов. В одних социальных и культурных условиях она расцветает более пышно, чем в других; в частности, культурная среда таких стран, как Россия, Беларусь, Украина, Армения и Молдова, не слишком благоприятствует демократии.
Вселяет надежду то обстоятельство, что в последние столетия стремление к экономическому прогрессу стало устойчивой тенденцией. Более того, экономическое развитие создает такие социальные и культурные условия, при которых демократия чувствует себя увереннее. И если в отношении бывших советских республик складывается не слишком обнадеживающая картина, то рис. 1 свидетельствует о том, что многие другие страны приблизились к демократическому идеалу гораздо ближе, нежели предполагалось ранее. В частности, для демократии созрела, по-видимому, Мексика, поскольку ее положение на оси постмодернистских ценностей вполне сравнимо с положением таких стран, как Аргентина, Испания или Италия. В переходной зоне можно обнаружить и некоторые другие государства; среди них Турция, Филиппины, Словения, Южная Корея, Польша, Перу, Южная Африка и Хорватия.
Хотя Китай по данному измерению значительно отстает, эта страна переживает интенсивный экономический рост, который, как мы убедились, влечет за собой сдвиг в направлении ценностей самовыражения. Правящая в КНР коммунистическая элита явно заинтересована в поддержании однопартийной системы и, сохраняя контроль над армией, способна настаивать на своем. Но одновременно китайцы проявляют симпатии к демократии, которые не слишком соответствуют низким позициям этой страны в рейтингах Freedom House.
В долгосрочной перспективе модернизация помогает распространению демократических институтов. Авторитарные правители некоторых азиатских стран настаивают на том, что специфические азиатские ценности, разделяемые этими обществами, делают их непригодными для демократии (Lee, 1994). Свидетельства, представляемые WVS, не говоря уже об эволюции Японии, Южной Кореи и Тайваня к демократическому устройству, не подтверждают подобной точки зрения. Это означает, что конфуцианские общества могут быть более готовыми к демократии, чем принято думать.
Раздел XI Политические идеологии
Система взглядов, идей, концепций, позволяющая рассматривать реальность под определенным углом зрения, с определенных (классовых, расовых, сословных, религиозных, национальных и др.) позиций, называется политической идеологией.
В разные периоды развития человеческих обществ доминировали различные идеологии. Например, после Великой французской революции в общественном сознании европейцев преобладала идеология либерализма, которой противостояла консервативная система идей. В последней трети XIX в. наступила очередь социалистической идеологии – она считалась восходящей, растущей. Затем после революции 1917 г. в России получил быстрое распространение коммунизм, а после захвата власти фашистами в Италии, Испании, Германии – фашистская идеология, век которой оказался недолог. В 90-х гг. XX в. мир стал свидетелем заката коммунистической идеологии. Таким образом, с тех пор как в XVIII в. французский мыслитель Дестюд де Траси дал определение понятию «идеология», в генезисе самих идеологий можно выделить три основных этапа, каждый из которых характеризуется доминированием или восхождением, т. е. быстрым распространением одной из систем идей: либеральный (XVIII в. – 70-е гг. XIX в.), социалистический (70-е гг. XIX в. – 20-е гг. XX в.), тоталитарный (коммунистическая, фашистская, популистская идеологии) (20-е гг. XX в. – 90-е гг. XX в.). В настоящее время (несмотря на то, что некоторые ученые предсказывают доминирование либерально-демократической идеологии) наступил плюралистический этап, когда в общественном сознании сосуществуют анархизм, коммунизм, социал-демократизм, демократизм, либерализм, консерватизм, национализм. Среди этих наиболее распространенных, так называемых мировых идеологий наибольшим влиянием пользуются либерализм, консерватизм и социализм.
Либерализм
И. Бентам
Иеремия Бентам (1748–1832) – английский правовед, философ и политолог, один из основателей теории утилитаризма и основоположников либерализма. И. Бентам родился в Лондоне, в семье крупного землевладельца. Окончил Оксфордский университет (1765). С двадцати лет работал адвокатом. Много путешествовал по Европе, бывал в России. В 1815 г. Бентам предложил Александру I свое участие в составлении кодекса законов для России, но император поручил кодификацию M. M. Сперанскому. Учение о нравственности И. Бентама зиждется на принципе утилитарности, полезности. Во «Введении в основы нравственности и законодательства» (1789) он рассматривает индивидуальные интересы в качестве единственно реальных и действенных, определяющих поведение людей. Общественные интересы у него выступают как совокупность индивидуальных. Отсюда мораль, нравственность тоже подразделяется на индивидуальную и общественную. Так как не все члены общества соблюдают моральные требования, необходимы позитивные законы, которые, впрочем, должны иметь целью пользу наибольшего количества граждан, но не должны ограничивать их свободу. По мнению Бентама, только в либеральном государстве возможно гармоничное сочетание индивидуальных и общественных интересов.
Принципы законодательства[81]
Глава I. Принцип пользы
Предметом законодательства должно быть общественное благо: общая польза должна быть основой всякого рассуждения в области законодательства. Наука состоит в том, чтобы знать, в чем заключается благо данного общества, искусство – в том, чтобы найти средства для осуществления этого блага.
Будучи выражен в общей и неопределенной форме, принцип пользы редко оспаривается: на него смотрят, даже как на некоторого рода общее место морали и политики. Но это единодушное согласие – только кажущееся. С этим принципом не всегда связывают одинаковые идеи; всегда придают одно и то же значение; он не служит источником определенной системы рассуждения – последовательной и однообразной.
Чтобы дать ему всю ту силу, которую он должен иметь, другими словами – чтобы сделать из него основу общей теории, надо выполнить три условия.
Первое условие состоит в том, чтобы связать со словом «польза» понятия ясные и точные, которые бы могли оставаться совершенно одинаковыми у всех, кто им пользуется.
Второе состоит в том, чтобы установить единство и независимость этого принципа, строго выделив все, что чуждо. Для этого надо только принять его в его общей форме; не следует допускать никаких исключений.
Третье условие состоит в том, чтобы найти метод моральной арифметики, при помощи которой можно было бы прийти к однообразным результатам. <...>
Польза есть понятие отвлеченное. Оно выражает свойство или способность какого-нибудь предмета предохранить от какого-нибудь зла или доставить какое-нибудь благо. Зло есть боль, страдание или причина страдания. Благо есть удовольствие или причина удовольствия. Все, что соответствует пользе или интересу индивидуума, способно увеличить общую сумму его благосостояния. Все, что соответствует пользе или интересу общества, увеличивает общую сумму благосостояния индивидуумов, из которых оно состоит. <...>
Глава X. Анализ политических благ и зол
Всякое правительство подобно врачу; все дело его заключается в выборе зла; всякий закон есть зло, потому что всякий закон есть нарушение свободы; но, повторяю, задача правительства заключается только в выборе зла. Как же должен действовать законодатель при этом выборе? Он должен убедиться: 1) в том, что каждый случай, который он старается предупредить, есть действительно зло, при каких бы обстоятельствах он ни произошел, и 2) что это зло более значительно, чем то, которым он хочет воспользоваться для его предупреждения.
Таким образом, надо принять во внимание две вещи: зло преступления и зло закона – вред болезни и вред лекарства. <...>
И. Валлерстайн
Иммануил Валлерстайн (р. 1930) – современный американский социолог, политолог.
После либерализма[82]
Часть II. Становление и триумф либеральной идеологии
Глава 5. Либерализм и легитимация национальных государств: историческая интерпретация
До Французской революции, как и при других исторических системах, в рамках господствующего мировоззрения капиталистической мироэкономики нормальным положением вещей считалась политическая стабильность. Суверенитет принадлежал правителю, а право правителя на правление определялось неким набором правил, связанных с получением власти, обычно по наследству. Против правителей, конечно, часто плелись заговоры, иногда их даже свергали, но новые правители, занявшие место смещенных, всегда проповедовали ту же веру в естественность стабильности. Политические перемены были явлениями исключительными, и оправдывались они в исключительном порядке; и это происходило вовсе не для того, чтобы создать прецедент для дальнейших перемен. <...>
Либералы полагали, что ход общественных изменений к лучшему был, или должен был быть, постепенным, и основываться он должен как на разумной оценке специалистами существующих проблем, так и на непрерывных сознательных усилиях политических лидеров, руководствующихся этими оценками в своей деятельности, направленной на проведение разумных социальных реформ. В программе социалистов весьма скептически расценивалась возможность осуществления реформистами каких-либо значительных преобразований лишь на путях разума и доброй воли и без чьей-либо помощи. Социалисты стремились продвигаться вперед быстрее и доказывали, что без значительного давления со стороны народных масс этот процесс не увенчается успехом. Движение по пути прогресса неизбежно настолько, насколько неизбежно давление масс. Сами специалисты сделать ничего не могут.
Всемирная революция 1848 г. стала поворотным пунктом в развитии политической стратегии всех трех идеологических течений. Из поражений 1848 г. социалисты сделали вывод о том, что достижение каких бы то ни было положительных результатов через спонтанное политическое восстание или массовые действия весьма сомнительно. Государственные структуры были слишком прочными, применять репрессивные меры было несложно, и они оказывались весьма действенными. Лишь после 1848 г. социалисты стали всерьез относиться к созданию партий, профсоюзов и рабочих организаций в целом, взяв курс на долгосрочное политическое завоевание государственных структур. В период после 1848 г. зародилась социалистическая стратегия двух этапов борьбы. Эту стратегию разделяли два основных течения в социалистическом движении – Второй интернационал, объединявший социал-демократов, и Третий коммунистический интернационал, который возник позднее. Сущность этих двух этапов была достаточно проста: на первом этапе обрести государственную власть; на втором воспользоваться государственной властью, чтобы трансформировать общество (или прийти к социализму).
Решение, которое мог предложить либерализм в ответ на... угрозу общественному порядку, а потому и рациональному общественному развитию, сводилось к предоставлению рабочему классу ряда уступок – к ограниченному допуску его к политической власти и передаче ему определенной доли прибавочной стоимости. Проблема тем не менее состояла в том, на какие уступки рабочему классу было достаточно пойти, чтобы удержать его от разрушительных действий, учитывая при этом, что эти уступки не должны были быть настолько значительными, чтобы создать серьезную угрозу процессу непрерывного и все более расширяющегося накопления капитала, являющемуся raison d'кtre капиталистической мироэкономики и главной заботой правящих классов.
В период между 1848 и 1914 г. о Либералах – Либералах с большой буквы «Л», которые воплощали идеи либерализма как идеологии с маленькой буквы «л», – можно было сказать, что все это время они находились в постоянном смятении, поскольку никогда не знали, как далеко они осмелятся зайти, никогда не были уверены в том, что уступок было сделано слишком много или слишком мало. Политическим результатом этого смятения стала утрата политической инициативы Либералами с большой буквы «Л» в ходе того процесса, который привел либерализм с маленькой буквы «л» к окончательной победе в качестве господствующей идеологии миросистемы. <...>
Очевидно, все три идеологических направления предлагали различные объяснения враждебности к государству. С точки зрения консерваторов, государство представлялось актором настоящего, т. е. при проведении в жизнь каких-либо новшеств предполагалось, что оно выступает против традиционных оплотов общества и социального порядка – семьи, общины, церкви и, конечно, монархии. Наличие в этом перечне монархии уже само по себе было молчаливым признанием господства идеи народного суверенитета; если бы король был истинным сувереном, его правление было бы узаконено к настоящему времени. <...>
Теоретическая враждебность либерализма к государству настолько существенна, что большая часть авторов считает определяющей характеристикой либерализма его роль ночного сторожа доктрины государства. Их главный принцип – laissez-faire. Все знают, что либеральные идеологи и политики постоянно и настойчиво выступают с заявлениями о том, насколько важно не допускать государственного вмешательства в рыночные отношения, а иногда, хотя и не так часто, они призывают государство воздерживаться от посягательств на принятие решений в социальной сфере. Основанием для серьезного недоверия государству является первоочередное внимание, уделяемое личности, и подход, в соответствии с которым суверенный народ состоит из личностей, обладающих «неотъемлемыми правами». И наконец, мы знаем, что социалисты всех направлений всегда выступали с позиций защиты потребностей и воли общества от тех действий государства, которые они считали деспотическими (и продиктованными классовыми интересами). Тем не менее в равной степени важно подчеркнуть, что на практике все три идеологических течения выступали за реальное усиление государственной власти, эффективности процесса принятия решений и государственное вмешательство, что в совокупности составляло историческую траекторию развития современной миросистемы в XIX и XX столетиях. <...>
И. Шапиро
Современный американский политолог, профессор кафедры политических наук Йельского университета.
Введение в типологию либерализма[83]
Ключевые либеральные приверженности
Либерализм – это прежде всего идеология Просвещения. Этот факт находит свое отражение в том, что сторонники либерализма разделяют две обязательные основополагающие установки. Первая из них заключается в признании свободы личности наиболее значимой моральной и политической ценностью. И действительно, другие ценности часто имеют для либералов лишь инструментальное значение как средства достижения, расширения или поддержания данной свободы. Даже такой либерал-утилитарист, как Дж. Ст. Милль, принимал лишь те аспекты теории утилитаризма, которые, по его мнению, способствовали защите свободы личности. <...>
Другая установка – это непоколебимая вера либералов в способность науки постепенно разрешать социальные проблемы. Такая вера прослеживается на протяжении всей истории либерализма: ее можно найти и у Ф. Бэкона в XVII в., и у И. Бентама – в XIX в., и у Дж. Дьюи – в XX в. На протяжении этих веков либералы выказывали огромный оптимизм по поводу тех прогрессивных изменений, которые наука привнесет в организацию социальной и политической жизни.
Разновидности либерализма
Несмотря на наличие характерных ключевых приверженностей, либерализм предлагает множество вариантов их трактовки в собственно политической жизни. Выбор того или иного варианта зависит от конкретных путей разрешения противоречия между основными приверженностями, а также представлений о причинностных основах мирового устройства и других ценностных установок.
Позитивные и негативные либертарианцы. Отличительной особенностью одного из течений в либерализме является настороженное отношение к власти «других», особенно когда она осуществляется государственными институтами. В XIX в. подобная позиция наиболее отчетливо прозвучала в работе Дж. Ст. Милля «О свободе», ее современное толкование можно найти в трудах таких негативных либертарианцев, как И. Берлин, Ст. Холмс и Дж. Шкляр. Для приверженцев данного направления – иногда его называют «либерализмом страха» – свобода означает «свободу от...», требование, в первую очередь относящееся к государственным институтам, оставить человека в покое.
В то же время в либеральной традиции есть и позитивные либертарианцы, рассматривающие свободу в терминах, открывающих разнообразие возможностей условий, или как «свободу для...». Государство пугает их меньше, чем то, что могут сделать со свободой личности лишенные какого-либо контроля извне гражданские и рыночные институты. «Нищие в равной степени свободны ночевать под парижскими мостами», – саркастически замечал А. Франс, отстаивая позитивную либертарианскую позицию в противовес негативной. С этой точки зрения государство нередко может быть союзником в деле обеспечения большей свободы людей или по крайней мере в создании условий, при которых люди сами могут сделать себя свободными. Это относится как к области мирских дел, например к выработке правил торговли (что в каких-то конкретных случаях может подавлять свободу конкретных индивидов, но в целом увеличивает свободу всех), так и к тем сферам, где рынок бессилен. Позитивные либертарианцы часто испытывают не меньший страх перед организованной властью «других», чем негативные, но отличаются от последних тем, что для них не существует априорных причин бояться государства больше, чем других форм организованной власти. Они открыты для восприятия идеи о том, что государство вполне успешно может защищать индивида от различного рода более или менее организованных форм социальной и экономической власти. Эта разновидность либеральных воззрений о природе и роли государства нашла свое классическое выражение в гоббсовском «Левиафане», где сильное государство рассматривалось в качестве важнейшего условия поддержания минимального социального мира...
По своим взглядам либеральные позитивные либертарианцы чем-то напоминают романтиков и социалистов, но в то же время отличаются от них. Хотя и те и другие видят позитивную роль государства в обеспечении человеческой свободы, для первых это его косвенная обязанность, тогда как для вторых – прямая. По мнению либеральных позитивных либертарианцев, государство должно создавать условия, при которых индивиды могут пользоваться собственной свободой, и активно защищать их, когда эти условия оказываются под угрозой. Но в либеральном дискурсе нет аналога фразе Руссо о том, что «человека надо заставить быть свободным»...
Альтернативные принципы распределения. Помимо разногласий относительно шкалы ценностей, лежащих в основе либеральных представлений о справедливом распределении, среди либералов есть расхождения и по вопросу о принципах справедливого распределения, идет ли речь о благосостоянии или ресурсах. Некоторые, такие как Р. Нозик, полагают, что распределение должно быть отдано на волю рынка за исключением тех крайне редких случаев, когда последний оказывается несостоятельным. Большинство же, однако, проявляет приверженность эгалитаризму того или иного рода; есть в их числе и такие, кто, подобно Э. Сену, утверждает, что либеральную идею нельзя постичь вне идеи равенства. В то же время в понятие «равенство» зачастую вкладывается абсолютно различный смысл. Наиболее распространенным является противостояние концепций «равенства возможностей» и «равенства результатов». Первая концепция (ее иногда называют концепцией «равных стартовых условий» – starting gate conception), постоянно использующая метафору о выравнивании «игрового поля», требует равенства распределения активов на старте: когда же он пройден, различиям в уровне таланта и интенсивности прилагаемых усилий, превратностям рынка и удачи и другим факторам должно быть позволено порождать неравенство. Иногда подобный подход обосновывается соображениями эффективности, но он отстаивается и как нравственный принцип: люди должны иметь право лишь на равный жизненный старт, а затем сами нести ответственность за то, как каждый распорядился своими талантами и способностями, «интернализируя издержки» собственных провалов.
В рамках либеральной традиции трудно найти сторонников действительного равенства результатов – те, кто отстаивает подобную точку зрения, относятся скорее к социалистам, чем к либералам. Тем не менее многие либералы отвергают и концепцию «равных стартовых условий», считая, что она не выдерживает сколько-нибудь серьезного анализа. Как правило, против нее выдвигаются аргументы двоякого рода. Первое возражение, сформулированное Дж. Роулсом, заключается в том, что концепция «равных стартовых условий» произвольна в нравственном отношении. Различия, позволяющие некоторым людям более эффективно, нежели другим, использовать равные для всех ресурсы – например различия в уровне таланта, – это следствие удачи в генетической «лотерее» или благоприятных социо-экономических условий, в которых человеку случилось родиться. Эти различия сами по себе не связаны с прилагаемыми тем или иным индивидом усилиями, и непонятно, почему одни должны быть вознаграждены, а другие наказаны неравенством, проистекающим из различий в таланте или способностях.
Это подводит нас ко второму возражению против концепции «равенства стартовых условий». Суть этого возражения состоит в том, что в концепции не определено, как далеко нужно зайти в уравнивании стартовых условий, чтобы действительно разровнять «игровое поле». Несомненно, зайти пришлось бы значительно дальше, чем к этому предрасположено большинство либералов и чем это происходит в современной практике многих либеральных государств. <...>
Либералы, отвергающие концепцию «равных стартовых условий», одновременно склонны выступать и против идеи равенства результатов. С 1960-х гг. большинство западных либеральных проектов связано с поиском «серединного» подхода, который предполагал бы некие формы перераспределения, осуществляемого государством с тем, чтобы смягчить наихудшие проявления порождаемого рынком неравенства, но при этом признавал бы необходимость сохранения многих видов неравенства, являющихся неизбежным следствием действия рыночной системы. Возможно, как это доказывал Бентам еще много лет тому назад, для создания стимулов к экономическому росту действительно необходимо неравенство, но государство должно нести ответственность за наиболее тяжкие для людей издержки этого процесса. Потому такие либералы, как Дж. Роулс, и настаивают на том, что неравенство следует допускать при условии, что оно работает на благо наименее преуспевающих слоев общества; однако для достижения этой цели на государство должна быть возложена обязанность в случае необходимости осуществлять перераспределение посредством налогообложения. Это один из классических аргументов в пользу государства всеобщего благосостояния, который приводится либералами со времен Локка и который, по-видимому, будет выдвигаться и в дальнейшем. Пытаясь его опровергнуть, приверженцы свободного рынка обычно ссылаются на то, что в связи с имманентно присущими ему пороками внутренней организации и бюрократизмом государство не способно рациональным образом достичь поставленной перед ним ограниченной цели, так что лекарство окажется страшнее самой болезни. Это утверждение спорно, и в любом случае в нем не содержится решения той проблемы, на которую пытается ответить государство всеобщего благосостояния. Поэтому, вероятно, либералы различных направлений будут продолжать поиски обоснований необходимости соблюсти определенную долю равенства, а также механизмов его достижения в рамках современной рыночной экономики.
Консерватизм
Э. Берк
Эдмунд Берк (1729–1797), известный британский политик и публицист, один из основоположников консерватизма, родился в Ирландии (в г. Дублине), входившей в то время в состав Британской империи. Его отец – адвокат, католик, перешедший в протестантскую веру (католикам запрещалось тогда заниматься адвокатской практикой), а мать осталась католичкой. Э. Берк получил юридическое образование, но не пошел по стопам отца, а занялся публицистикой. С 1759 г. – в политике. В 1776 г. Э. Берк становится членом парламента от партии вигов и занимает это место вплоть до 1794 г.
Однако с развитием Французской революции и особенно после якобинского террора Берк отходит от либеральных идей. Он осуждает крайности французских революционеров, их попытки сокрушить основополагающие общественные институты, политическую систему. Он отрицает абстрактные рассуждения либералов о свободе, равенстве и братстве, считает их оторванными от жизни и ведущими к анархии, а затем – к тирании.
Размышления о революции во Франции[84]
<...> Английский народ прекрасно понимает, что идея наследования обеспечивает верный принцип сохранения и передачи и не исключает принципа усовершенствования, оставляя свободным путь приобретения и сохраняя все ценное, что приобретается. Преимущества, которые получает государство, следуя этим правилам, оказываются схваченными цепко и навсегда. В соответствии с конституцией, выработанной по подобию законов природы, мы получаем, поддерживаем и передаем наше правительство и привилегии точно так же, как получаем и передаем нашу жизнь и имущество. Политические институты, блага фортуны, дары Провидения переданы потомству, нам и для нас, в том же порядке и в той же последовательности. Наша политическая система оказывается в точном соответствии с мировым порядком, она существует по правилам, предписанным для функционирования постоянного органа, состоящего из временных частей, этот порядок по закону великой, поразительной мудрости предусматривает слияние воедино огромных таинственных человеческих рас, которые по неизменному закону постоянства стремятся вперед в общем процессе вечного угасания, гибели, обновления, возрождения и нового движения. Так универсальный закон природы преломился в жизни государства, в котором мы усовершенствуем то, что никогда не бывает полностью новым, и сохраняем то, что никогда полностью не устаревает. Придерживаясь таких принципов по отношению к предкам, мы ведомы не древними предрассудками, а идеей философской аналогии. Принимая престолонаследие, мы основываем правление на кровных связях, а законы страны увязываем с семейными узами и привязанностями, храня в памяти с любовью и милосердием наше государство, домашние очаги, могилы предков и алтари. <...>
Правительство создается не для защиты естественных прав человека, которые могут существовать и существуют независимо от него, сохраняя свое в высшей степени абстрактное совершенство; но это абстрактное совершенство – их практический недостаток. Имея право на все, люди хотят получить все. Государство – это мудрое изобретение человечества, предназначенное для обеспечения человеческих желаний. Люди имеют право на то, чтобы эта мудрость была направлена на удовлетворение их потребностей, но государство требует, чтобы они сдерживали свои страсти и желания. Общество требует не только ограничения потребностей индивидуумов, но чтобы и в массе посягательства людей пресекались, их воля управлялась, а страсти сдерживались. Все это возможно только при наличии Власти, стоящей вне их, которая при выполнении своих функций не будет подвержена тем же страстям и желаниям, которые сама обязана подавлять и подчинять. В этом смысле ограничение так же, как свобода, должно быть включено в число прав человека. <...>
Как видите... в этот век Просвещения мне хватило смелости признаться, что мы люди, обладающие естественными чувствами, что вместо того, чтобы отбросить все наши старые предрассудки или стыдиться их, мы их нежно любим именно потому, что они предрассудки; и чем они старше и чем шире их влияние, тем больше наша привязанность. Мы боимся предоставить людям жить и действовать только своим собственным умом, потому что подозреваем, что ум отдельного человека слаб и индивидууму лучше черпать из общего фонда, хранящего веками приобретенную мудрость нации. Многие из наших мыслителей вместо того, чтобы избавляться от общих предрассудков, употребляют все свои способности на обнаружение скрытой в них мудрости. Если они находят то, что ищут (их ожидания редко оказываются обманутыми), то считают, что умнее сохранить предрассудок с заключенной в нем мудростью, чем отбросить его «одежку» и оставить голую истину. Предрассудки полезны, в них сконцентрированы вечные истины и добро, они помогают колеблющемуся принять решение, делают человеческие добродетели привычкой, а не рядом не связанных между собой поступков.
Мы знаем, более того, мы чувствуем душой, что религия – основа гражданского общества, источник добра и утешения. <...>
Мы знаем и гордимся знанием, что человек религиозен изначально; что атеизм противен не только нашему разуму, но и нашим инстинктам. <...>
<...> В отличие от тех, кто враждебно относится к привычным для всех государственным институтам, мы к ним чрезвычайно привязаны, мы остались им верны. Мы решили поддержать церковь, монархию, аристократию, демократию такими, как они существуют, ничего не добавляя. <...>
Мы освящаем государство, чтобы избежать всех опасностей, связанных с непостоянством и неустойчивостью; мы освящаем его, чтобы один человек не осмелился слишком близко подойти к изучению его недостатков, не приняв предварительно достаточных мер предосторожности; чтобы никому не пришло в голову, что реформы следует начинать с общего переворота; чтобы к ошибкам государства относились с таким же благоговением и трепетом, как к ранам отца. <...>
Общество – это действительно договор, но договор высшего порядка. Его нельзя рассматривать как коммерческое соглашение о продаже перца, кофе и табака или любой подобный контракт, заключенный из практической выгоды или для осуществления незначительных, преходящих интересов, который может быть расторгнут по капризу одной из сторон. Государство требует уважения, потому что это – объединение, целью которого не является удовлетворение животных потребностей или решение ничтожных и скоротечных задач. Это общество, в котором должны развиваться все науки и искусства, все добродетели и совершенства. Такая цель может быть достигнута только многими сменявшими друг друга поколениями – поэтому общественный договор заключается не только между ныне живущими, но между нынешним, прошлым и будущим поколениями. <...>
Бог, который сотворил нас для совершенствования в добродетелях, своей волей создал и необходимое условие для этого – государство и пожелал связать его с высшим источником и архетипом всякого совершенства. <...>
Мы рассматриваем церковь как нечто присущее, главное для государства, а не как нечто добавленное к нему для удобства, что можно легко отделить от него, отбросить или сохранить в зависимости от сиюминутных идей или настроений. Мы считаем ее фундаментом всего государственного устройства, с каждой частью которого она состоит в нерасторжимом союзе. Церковь и государство в наших представлениях неделимы, и редко одно упоминается без другого.
<...> Когда люди вели определенный образ жизни и делали это в рамках существующих законов, которые защищали их занятия как легитимные, когда они сообразовали с ними все свои мысли, привычки, обычаи, их репутация основывалась на соблюдении определенных правил, а отклонение от них несло с собой бесчестие и даже наказание. Я уверен, что несправедливо новым законодательным актом вынуждать их отказаться от привычного положения и условий жизни и клеймить стыдом и позором те обычаи и привычки, которые ранее являлись для них мерилом чести и благополучия. Если к этому добавить выдворение из своих жилищ и конфискацию всего имущества, то я не возьмусь определить, чем этот деспотический акт, совершенный над чувствами, сознанием, привычками и имуществом людей, отличается от абсолютной тирании. <...>
Осторожность, осмотрительность, нравственность были руководящими принципами наших праотцов даже в момент самых решительных действий. Давайте подражать их осторожности, если мы хотим удержать полученное наследство, и, стоя на твердой почве британской конституции, удовлетворимся восхищением и не будем пытаться подражать безнадежным полетам французских аэронавтов.
Г. Рормозер
Гюнтер Рормозер – современный немецкий политолог консервативного направления, профессор Штутгарского университета.
Кризис либерализма[85]
Крах идеологий и их мировоззрений. Возвращение религии как политический фактор
Либерализм идентичен в принципе по постановке целей марксизму и социализму. Различия между ними существуют лишь в методах достижения цели. Марксизм обрел свою значимость в XIX в. прежде всего благодаря тому, что Карл Маркс сравнил действительность, созданную либерализмом, со всеми его обещаниями, т. е. с утопиями, и пришел в результате к убийственному выводу, что естественный ход экономического процесса отнюдь не приведет человечество к бесклассовому обществу равных и свободных граждан. Это могла бы сделать только революция, которая должна использовать верный рычаг, устранив частную собственность на средства производства. Маркс и Энгельс понимали социализм не как утопию, а как науку. Сегодня же речь идет более об утопическом социализме, об идее социализма. Вчерашние социалисты вроде Йошки Фишера, политика партии «зеленых», признаются, что модели социализма, которую можно было бы оперативно претворить в действительность, более не существует...
Что вообще означает социализм, если не обобществление собственности на средства производства? Мы называем социализмом общество, основанное на принципе солидарности, а также миролюбивое общество. Социалистическим мы называем все, что нам хотелось бы иметь. В этом смысле почти все влиятельные политические силы неизменно остаются при прежней цели – стремлении к осуществлению социализма, пусть и по сниженной цене и в урезанном виде, что касается экономической основы.
Подлинный вызов времени состоит именно в этом: если не социализм, то что тогда? Что должно занять место социализма?
Утвердился социализм исключительно благодаря своей способности принять на себя функции религии. Социализм был эрзац-религией. Он принял облик религии, заняв место старой, христианской религии. Основу составляла попытка осуществить царство, обещанное в потустороннем мире, прямо здесь, на земле и земными средствами. Конкретно речь шла об осуществлении великой мессианской надежды. Религиозные корни марксизма восходят скорее даже к иудаизму, чем к христианству.
Для России, к примеру, основной вопрос будет состоять в том, сможет ли занять место этой религии социализма возрожденное наследие православного христианства. Преодоление нравственного разложения невозможно в России без религии. Поэтому восстановление соответствующего облика православного христианства имеет решающее значение для будущего России.
Идеологический вакуум возникает и на Западе. Если будут по-прежнему отсутствовать духовные ориентации и продолжаться распад христианской веры, это грозит эрозией обществу в целом, поскольку исчезают интегративные силы.
Поэтому нам необходим духовный поворот. Минимальной целью его было бы ослабить почти тотальную зависимость политики от экономики и от партикулярных притязаний общественных групп, от давления с их стороны. Место отработанных идеологий постепенно занимает во всем мире религия. Важнейшим примером возвращения религии, в том числе и как политического фактора, можно назвать возрождение ислама. В различных регионах мира ислам уже стал силой, определяющей расстановку политических сил. Общее соотношение сил на мировой политической арене существенно изменяется.
Религия возвращается не просто в политику, она возвращается в мировую политику. Нам нужно задуматься над тем, готовы ли мы к этой новой ситуации, когда религия становится политическим фактором. Наше политическое мировоззрение остается в плену старых, отживших представлений и образов. Нам не хватает языка и категорий, чтобы воспринять и оценить происходящие перемены...
Что же займет место либерализма? Этого никто точно не знает, но можно себе приблизительно представить, куда идет дело, наблюдая дискуссии о мультикультурализме. Такая дискуссия была бы немыслима в обществе с какой-либо другой религией, кроме христианства. Я вспоминаю о том, как во время войны в Персидском заливе жители Саудовской Аравии не хотели принимать грузовики Красного Креста потому, что на машинах было изображение креста. Туда срочно прибыли американцы, чтобы спасти местных жителей от чрезвычайной опасности, но на машинах Красного Креста они не могли проехать, так как для жителей Саудовской Аравии сам вид креста невыносим...
Нашу дискуссию о мультикультурализме можно понять только на фоне происходящей всеобщей дехристианизации. Нигилизм и индифферентность проникли в немецкое общество настолько глубоко, что всякого, кто настаивает на своих убеждениях, клеймят как фундаменталиста. Либеральность понимается как принципиальная всеядность. Но если либерализм приведет к полному релятивизму и если мы в нашем нейтральном отношении к ценностям достигнем уровня Веймарской республики, то не следует ожидать готовности граждан приносить какие-либо жертвы ради защиты нашей системы.
У нас появляется все больше оснований говорить о наступающем конце исторической эпохи христианства. Никогда еще дехристиани-зация общества не заходила так далеко, как сегодня. Христианская вера потеряла влияние, позволявшее ей участвовать в определении и формировании истории, а тем самым судьбы человечества.
Мы не должны забывать о том, что христианство было и остается основой и предпосылкой также и либерализма. Либерализм, правовое государство, успешная рыночная экономика продержатся у нас до тех пор, пока мы храним это христианское наследие и черпаем духовные силы, обращаясь к христианским корням нашей культуры. Иначе капитализм логикой своего собственного развития разрушит этос, из которого он возник. Последние оплоты западноевропейского рационализма, которые тоже христианского происхождения, окажутся под угрозой. Либеральному порядку и его основам грозит потрясение.
Социализм
Декларация принципов Социалистического интернационала, принятая на 1-м конгрессе, состоявшемся во Франкфурте-на-Майне 30 июня – 3 июля 1951 г.[86]
1. Политическая демократия
1. Социалисты стремятся создать общество свободы демократическими средствами.
2. Без свободы нет социализма. Социализм может быть осуществлен только через демократию, демократия может быть полностью реализована только через социализм.
3. Демократия – это правление народа, осуществляемое народом для народа. Оно обеспечивает:
а) каждому человеку защиту его личной жизни от незаконного вмешательства со стороны государства;
б) политические свободы, такие как свобода мнения, печати, учебы и преподавания, свобода коалиций и собраний, право на забастовки, свобода религиозных вероисповеданий;
в) представительство народа путем проведения свободных выборов на основе всеобщего, равного избирательного права при тайном голосовании;
г) правление большинства и уважение прав меньшинства;
д) равенство перед законом всех граждан, независимо от их происхождения, вероисповедания, пола, языка или расы;
е) право на культурную автономию для групп, имеющих собственный язык;
ж) независимое судопроизводство, при котором человек имеет право на беспристрастный суд. Судьи подчиняются только закону.
4. Социалисты всегда боролись за соблюдение прав человека. Всеобщая декларация прав человека, принятая Организацией Объединенных Наций, должна быть осуществлена во всех странах...
2. Экономическая демократия
1. Социализм стремится преодолеть капиталистическую систему экономическим строем, при котором интересы общества стоят выше интересов прибыли. Непосредственными экономическими целями социалистической политики являются следующие: полная занятость, увеличение производства, постоянное повышение благосостояния, социальное обеспечение и справедливое распределение доходов и собственности.
2. Для достижения этих целей необходимо в интересах народа планировать производство. Такая плановая экономика несовместима с концентрацией экономической власти в руках немногих; она требует действенного демократического контроля над экономикой. Демократический социализм, таким образом, вступает в острое противоречие как с монопольным капитализмом, так и с любой формой тоталитарного планирования экономики, поскольку эти формы экономической организации исключают общественный контроль над производственным процессом экономики и не обеспечивают справедливость распределения результатов производства.
3. Социалистическое планирование может обеспечиваться различными методами. Размеры общественной собственности и формы планирования зависят от структуры, существующей в той или иной стране.
4. Коллективная собственность может быть создана путем национализации частнокапиталистических концернов и предприятий или путем создания новых общественных концернов или муниципальных предприятий, потребительских и производственных кооперативов...
3. Международная демократия
1. Социализм с самого начала был движением международным.
2. Он является международным потому, что ставит своей задачей освобождение всех людей от любой формы экономического, духовного и политического рабства.
3. Он является международным потому, что он признает, что ни один народ не может разрешить своих экономических и социальных проблем в одиночку.
4. Система неограниченного национального суверенитета должна быть преодолена.
5. Новый мировой порядок, за который борются социалисты, может плодотворно развиваться в условиях мира только в том случае, если он основан на добровольном сотрудничестве между нациями. Для этого нужна демократия в международном масштабе, основанная на международном праве, которое гарантировало бы свободу народов и уважение прав человека.
6. Демократический социализм рассматривает создание Организации Объединенных Наций как важный шаг на пути к международному сообществу, он требует строгого претворения в жизнь принципов ее устава.
7. Демократический социализм борется против любой формы империализма. Он борется против угнетения и эксплуатации любого народа.
8. Одного лишь сопротивления империализму недостаточно.
В огромных районах мира миллионы людей страдают от крайней нищеты, неграмотности и болезней. Бедность в одной части мира является угрозой благосостоянию в других частях. Бедность является препятствием на пути развития демократии. Демократия, благосостояние требуют перераспределения богатств всего мира и увеличения производительности труда в слаборазвитых районах. Все народы заинтересованы в поднятии материального и культурного уровня жизни в этих районах. Их экономическое, социальное и культурное развитие должно быть вдохновлено идеями демократии, чтобы они не подпали под новые формы угнетения. 9. Демократический социализм видит в сохранении мира во всем мире высшую задачу нашего времени. Мир может быть обеспечен только с помощью системы коллективной безопасности. Эта система создаст предпосылки для всемирного разоружения. 10. Борьба за сохранение мира неразрывно связана с борьбой за свободу. Именно угроза или насилие над народом являются непосредственной причиной, порождающей опасность войны в наше время.
Социалисты борются за обеспечение мира и достижение свободы, за такой мир, в котором не было бы эксплуатации и порабощения человека человеком и народа народом, за мир, в котором развитие личности является предпосылкой плодотворного развития человечества.
Они взывают к солидарности всех трудящихся в борьбе за эти великие цели.
Э. Гидденс
Энтони Гидденс (р. в 1938 г.) – современный английский социолог и политолог.
Социальная справедливость в программной дискуссии европейской социал-демократии[87]
<...> Не может быть общества без какого-либо понятия социальной справедливости, каким бы извращенным или коррумпированным это понятие ни было. И социальной справедливости не может быть без перераспределения, даже если оно осуществляется нежелательным образом. Социальная справедливость, независимо от того, как ее определять, является универсальным свойством приличного общества. Постановка социал-демократами социальной справедливости во главу угла абсолютно оправдана. Социальная справедливость – это доминирующая черта, разделяющая левых и правых. Я задаюсь вопросом, почему ныне в Европе так много левоцентристских партий находится у власти. Население отклоняет бессилие левых перед лицом глобализации рынков, оно хочет социальной защиты против неравенства, против новых рисков, которые современное общество привносит в жизнь. Мне кажется, что понятие социальной справедливости довольно легко разъяснить, и для этого не нужно далеко отходить от классического представления левых о справедливости.
Позвольте предложить свое краткое определение. Для меня социальная справедливость предполагает эгалитарное общество, т. е. такое общество, где акцент делается на равенстве; при этом равенство рассматривается в качестве условия свободы и самоопределения, которые в свою очередь обусловливают солидарность. Общество, в котором существует слишком много неравенств, не может быть солидарным. Таким образом, между социальной справедливостью и солидарностью существует глубокая взаимосвязь. Социальная справедливость включает в себя заботу о безопасности социально слабых людей, и не только о них, но и обо всех нас в том случае, если мы становимся уязвимыми из-за снижения степени защищенности. Таким образом, солидарность и защита социально слабых являются, как мне представляется, базовыми ценностями социальной справедливости, и если вы социал-демократ, вы должны что-то предпринять, чтобы выработка этих ценностей не стала прерогативой патрульного полицейского. Правительство должно активно защищать эти ценности. Глубокие изменения, происходящие в нашем обществе, требуют принципиальной дискуссии о социальной справедливости. В то же время нельзя вести дискуссию по этой теме, не осознавая в полной мере драматизма, скорости и последовательности этих изменений.
Раздел XII Социальные общности как политические акторы
В политическом процессе значительную роль играют социальные общности, которые выступают субъектами, творцами политики. К таким социальным общностям в первую очередь относят правящие элиты и группы интересов.
Научное направление, исследующее правящие элиты, берет свое начало с работ итальянских социологов В. Парето и Г. Моски, фрагменты работ которых представлены в данной хрестоматии. Если для В. Парето элита – это «класс людей, имеющих высший показатель в своей сфере деятельности», то для Г. Моски – это класс, монополизирующий власть в государстве и выполняющий управленческие функции. Если подход Парето можно обозначить как меритократический (от лат. meritus – лучший, cratos – власть), то подход Моски – как властный. Парето и Моска не только выделили специфические управленческие группы, но и уделили внимание внутриэлитным процессам. Парето интересовали процессы, которые он называл «циркуляцией элит», т. е. перемещениями из неэлитных в элитные группы и наоборот, а Моску – способы формирования элитных групп.
В приводимом отрывке известного американского политолога М. Олсона дается развернутая характеристика того направления политической науки, согласно которому политический процесс – результат деятельности групп интересов. Основы такого подхода были заложены А. Бентли в его монографии «Процесс управления», увидевшей свет в 1908 г. Спустя несколько десятилетий Д. Трумэн в книге с аналогичным названием показал неизбежность формирования и деятельности групп интересов в современном сложноорганизованном обществе. Традиция анализа деятельности заинтересованных групп, основанная на произведениях А. Бентли, Д. Трумэна, Г. Ласки и др., сохраняет свое значение и в современной политической науке.
В. Парето. Трактат по общей социологии[88]
Циркуляция элит
2031. Итак, давайте выделим класс людей, имеющих высший показатель в своей сфере деятельности, и этому классу дадим название «элиты» (§ 119).
2032. Для целей того специального исследования, которым мы занимаемся, а именно исследования социального равновесия (equilibrium), нам будет полезно дальнейшее разделение этого класса на две категории: правящую элиту, состоящую из индивидов, которые прямо или косвенно играют важную роль в управлении, и неправящую элиту, состоящую из остальных...
2034. Таким образом, все население разделяется на два слоя (страты): 1) низший, или неэлиту, который может оказывать влияние на правительство, но здесь мы не занимаемся этим вопросом, и 2) высший, или элиту, который в свою очередь делится на два: а) правящую элиту и б) неправящую элиту...
2041. Более того, должен быть рассмотрен тот способ, каким смешиваются различные группы населения. Перемещаясь из одной группы в другую, индивид в большинстве случаев приносит с собой наклонности, чувства, установки, приобретенные в той группе, к которой он принадлежал ранее, и это обстоятельство не может игнорироваться.
2042. Мы рассматриваем лишь частный случай такого смешивания, относящийся только к двум группам – элите и неэлите, к которому применим термин «циркуляция элит». По-французски это будет circulation des йlites (или более общий термин «циркуляция классов»)...
2044. Скорость циркуляции должна рассматриваться не только абсолютно, но также в отношении к удовлетворению потребностей общества и спросу на определенные социальные элементы. Стране, которая постоянно находится в состоянии мира, не требуется много солдат в ее правящем классе, и производство генералов может превысить спрос. Но когда страна находится в состоянии постоянной войны, существует потребность в большом количестве солдат, и остающееся на прежнем уровне производство может не соответствовать спросу. Это, кстати, является одной из причин краха многих аристократических режимов...
2055. Важной причиной нарушения равновесия является аккумуляция в низших классах превосходных по своим качествам элементов и, наоборот, преобладание негодных элементов в высших классах. Если бы человеческая аристократия была подобна чистокровным животным, которые воспроизводят себя в течение долгого времени, более или менее сохраняя определенные черты, то история человеческого рода была бы совершенно непохожа на ту, что мы знаем.
2056. Вследствие циркуляции классов правящая элита всегда находится в состоянии медленной и продолжительной трансформации. Она течет, как река, никогда не находясь сегодня там, где была вчера. Время от времени происходят внезапные сильные пертурбации. Случается наводнение – река выходит из берегов. Спустя какое-то время новая правящая элита вновь совершает свою медленную трансформацию. Вода спадает, река снова течет в своем русле.
2057. Революции происходят вследствие аккумуляции в высшей страте общества упадочных, декадентских элементов, не обладающих больше «остатками», необходимыми для удержания власти, и неспособными использовать силу. Это происходит из-за замедления циркуляции классов или по другим причинам. Между тем в низшей страте общества выдвигаются элементы, обладающие высшими качествами, наделенные «остатками», необходимыми для выполнения функций управления, и способные применить силу.
2058. Вообще во время революций члены низшей страты выступают под руководством лидеров из высшей страты, потому что последние обладают интеллектуальными качествами, необходимыми для выработки соответствующей тактики, в то время как отсутствие у них наступательных «остатков» восполняется индивидами из низшей страты.
Г. Моска. Правящий класс[89]
1. Среди неизменных явлений и тенденций, проявляющихся во всех политических организмах, одно становится очевидно даже при самом поверхностном взгляде. Во всех обществах (начиная со слаборазвитых или с трудом достигших основ цивилизации вплоть до наиболее развитых и могущественных) существуют два класса людей – класс правящих и класс управляемых. Первый, всегда менее многочисленный, выполняет все политические функции, монополизирует власть и наслаждается теми преимуществами, которые дает власть, в то время как второй, более многочисленный класс управляется и контролируется первым в форме, которая в настоящее время более или менее законна, более или менее произвольна и насильственна и обеспечивает первому классу, по крайней мере внешне, материальные средства существования и все необходимое для жизнедеятельности политического организма.
В реальной жизни мы все признаем существование этого правящего класса, или политического класса, как уже предпочли ранее определить его. Мы все знаем, что в нашей собственной стране, как бы то ни было, управление общественными делами находится в руках меньшинства влиятельных людей, с управлением которых, осознанно или нет, считается большинство. Мы знаем, что то же самое происходит в соседних странах, и в действительности нам следовало бы попытаться воспринимать окружающий мир организованным иначе – мир, в котором все люди были бы напрямую подчинены отдельной личности без отношения превосходства или субординации, или мир, в котором все люди в равной степени участвовали бы в политической жизни. Если в теории мы рассуждаем иначе, это отчасти связано с застарелыми привычками, которым мы следуем при размышлении, и отчасти с преувеличенным значением, которое придаем двум политическим фактам, кажущимся гораздо значительнее, чем есть на самом деле.
Первый факт – достаточно только открыть глаза, чтобы это увидеть, – заключается в том, что в каждом политическом организме есть один индивид, который является основным среди правящего класса как целого и находится, как мы говорим, у кормила власти. Он не всегда является человеком, обладающим законной верховной властью. В одних случаях рядом с наследным королем или императором премьер-министр или мажордом обладают реальной властью, гораздо большей, чем власть суверена, в других случаях вместо избранного президента правит влиятельный политик, который обеспечил выборы президента. В особых условиях вместо одного могут быть два или три человека, выполняющие функции верховных контролеров.
Второй факт обнаружить столь же несложно. Каким бы ни был тип политической организации, давление, вызванное неудовлетворенностью, недовольством управляемых масс, их чувствами, оказывает определенное влияние на политику правящего, или политического, класса.
Но человек, стоящий во главе государства, определенно не в состоянии был бы управлять без поддержки со стороны многочисленного класса, не мог бы заставить уважать его приказы и их выполнять; и, полагая, что он может заставить одного или действительно множество индивидов – представителей правящего класса осознавать авторитет его власти, этот человек определенно не может ссориться с данным классом или вообще покончить с ним. Если бы это было возможно, то ему пришлось бы сразу же создавать другой класс, без поддержки которого его действие было бы полностью парализовано. В то же время, утверждая, что неудовлетворенность масс может привести к свержению правящего класса, неизбежно, как будет показано далее, должно было бы существовать другое организованное меньшинство внутри самих масс для выполнения функций правящего класса. В противном случае вся организация и вся социальная структура будет разрушена.
2. С точки зрения научного исследования реальное преимущество понятия «правящий, или политический, класс» заключается в том, что изменчивая структура правящих классов имеет преимущественное значение в определении политического типа, а также уровня цивилизации различных народов. Согласно принятой классификации форм правления, которая все еще в моде, и Турция, и Россия еще несколько лет назад были монархиями, Англия и Италия – конституционными, или ограниченными, монархиями, а Франция и Соединенные Штаты – республиками. Эта классификация основана на том, что в первых двух упомянутых странах верховенство в государстве носит наследственный характер и глава государства номинально всемогущ; во второй группе стран пребывание во главе государства носит наследственный характер, но власть и прерогативы ограниченны; в двух последних странах верховенство ограниченно.
Данная классификация весьма поверхностна. Хотя и Россия, и Турция были абсолютистскими государствами, тем не менее между политическими системами правления этих стран мало общего, весьма различны и уровни их цивилизованности и организация правящих классов. На этом же основании режим в монархической Италии ближе режиму в республиканской Франции, нежели режиму в Англии, тоже монархии; существуют также серьезные различия между политической организацией Соединенных Штатов и Франции, хотя обе страны являются республиками...
3...В действительности суверенная власть организованного меньшинства над неорганизованным большинством неизбежна. Власть всякого меньшинства непреодолима для любого представителя большинства, который противостоит тотальности организованного меньшинства. В то же время меньшинство организованно именно потому, что оно меньшинство. Сто человек, действуя согласованно, с общим пониманием дела, победят тысячу несогласных друг с другом людей, которые общаются только один па один. Между тем для первых легче будет действовать согласованно и с взаимопониманием просто потому, что их сто, а не тысяча. Отсюда следует, что, чем больше политическое сообщество, тем пропорционально меньше правящее меньшинство по сравнению с управляемым большинством и тем труднее будет для большинства организовать отпор меньшинству.
Как бы то ни было, в дополнение к большому преимуществу – выпавшей на долю правящего меньшинства организованности – оно так обычно сформировано, что составляющие его индивиды отличаются от массы управляемых качествами, которые обеспечивают им материальное, интеллектуальное и даже моральное превосходство; или же они являются наследниками людей, обладающих этими качествами. Иными словами, представители правящего меньшинства неизменно обладают свойствами, реальными или кажущимися, которые глубоко почитаются в том обществе, где они живут.
4. В примитивных обществах, находящихся еще на ранней стадии развития, военная доблесть – это качество, которое быстро обеспечивает доступ в правящий, или политический, класс. В высокоцивилизованных обществах война – исключительное явление. А в обществах, находящихся па ранних стадиях развития, ее можно по существу считать нормальным явлением, и индивиды, проявляющие большие способности в войне, легко добиваются превосходства над своими товарищами, а наиболее смелые становятся вождями...
5. Везде – в России и Польше, в Индии и средневековой Европе – правящие военные классы обладали почти исключительным правом собственности на землю. Земля, как мы уже видели, является основным средством производства и источником благосостояния в странах, не достигших вершин цивилизации. С прогрессом пропорционально увеличиваются доходы от земли. С ростом населения в определенные периоды рента, в рикардианском смысле этого термина, увеличилась, поскольку появились огромные центры потребления – таковыми во все времена были столицы и другие большие города, как древние, так и современные. В результате, если не препятствовали иные условия, происходили важные социальные изменения. Доминирующей чертой правящего класса стало в большей степени богатство, нежели воинская доблесть: правящие скорее богаты, чем храбры.
Основным условием подобной трансформации является то, что социальная организация должна быть упорядочена и усовершенствована до такой степени, чтобы обеспеченная публичной властью защита превосходила защиту с помощью неофициальной силы. Другими словами, частная собственность должна быть так защищена реализуемыми на практике действенными законами, чтобы власть самого собственника стала излишней. Происходит это путем постепенных изменений в социальной структуре, и в результате тип политической организации, который можно назвать феодальным государством, трансформируется в принципиально другой тип, который можно назвать бюрократическим государством. Далее нам следует подробнее проанализировать эти типы, но нужно сразу сказать, что данная эволюция, как правило, заметно облегчается прогрессом средств умиротворения и определенных моральных устоев, являющихся достижениями цивилизации.
Как только осуществляется такая трансформация, богатство создает политическую власть точно так же, как политическая власть создает богатство. В обществе, достигшем определенной степени зрелости, где личная власть сдерживается властью общественной, власть имущие, как правило, богатые, а быть богатым – значит быть могущественным. И действительно, когда борьба с бронированным кулаком запрещена, в то время как борьба фунтов и пенсов разрешается, престижные посты неизменно достаются тем, кто лучше обеспечен денежными средствами.
Есть, безусловно, государства, достигшие высокого уровня цивилизации, основанные теоретически на таких моральных принципах, что, кажется, они препятствуют столь властной претензии со стороны богатства. Есть и множество других случаев, когда теоретические принципы могут лишь очень ограниченно применяться в реальной жизни. В Соединенных Штатах вся власть является прямым или косвенным результатом всеобщих выборов, и во всех штатах существует всеобщее избирательное право для всех мужчин и женщин. Более того, демократия не только характеризует институты, но и влияет в определенной степени на мораль. Богачи чувствуют обычно определенную неприязнь к участию в общественной жизни, а бедняки испытывают неприязнь, выбирая богатых в выборные органы. Но это не мешает богачу быть более влиятельным но сравнению с бедняком, поскольку он может оказывать давление на политиков, контролирующих государственную администрацию. Это не мешает проводить выборы под звон долларов и не избавляет всю законодательную власть и значительное число конгрессменов от ощущения влияния мощных корпораций и крупных финансистов...
Во всех странах мира все прочие факторы, оказывающие социальное влияние, – личная известность, хорошее образование, специальная подготовка, высокий сан в церковной иерархии, public administration и армия – всегда доступнее богатым, чем бедным. У богатых по сравнению с бедными путь странствий всегда короче, не говоря уже о том, что богатые избавлены от наиболее тернистой и тяжелой части пути.
6. В обществах, где сильна религиозная вера и главы церкви образуют особый класс, всегда возникает церковная аристократия и получает в собственность более или менее значительную часть богатства и политической власти. Яркими примерами такого положения могут служить Древний Египет (в определенные периоды), брахманская Индия и средневековая Европа. Зачастую священники не только выполняют религиозные функции, но и обладают правовым и научным знанием, образуя класс носителей высочайшей интеллектуальной культуры. Сознательно или бессознательно иерархия священников часто проявляет тенденцию монополизировать обучение и препятствовать распространению методов и процедур, которые облегчают приобретение нового знания. Возможно, именно из-за этой тенденции или отчасти из-за нее мучительно медленно распространялся демотический алфавит в Древнем Египте, хотя он был, несомненно, проще иероглифического письма. Друиды в Галлии были знакомы с греческим алфавитом, но не разрешали записывать их богатую священную литературу, требуя от своих учеников заучивать ее наизусть ценой невероятных усилий. Примером такого рода можно считать употребление мертвых языков, которое мы обнаруживаем в Халдее, Индии, средневековой Европе. Иногда, КЭ.К В Индии, низы были строго отстранены от постижения знаний Священных книг.
Специальные знания и подлинно научная культура, очищенные от всякой духовно-религиозной ауры, становятся важной политической силой только на высокой ступени цивилизации, и тогда доступ в правящий класс получают лишь те, кто владеет этими знаниями. Но и в этом случае не столько знание само по себе обладает политической ценностью, сколько его практическое применение на благо власти и государства. Иногда все, что требуется, – это простое овладение механическими процессами, нужными для достижения более высокой культуры. Это может быть связано с тем, что на такой основе легче выявить и проверить то умение, которого может добиться кандидат, и тогда оценить его и отнести к определенному разряду...
7. В некоторых странах мы находим наследственные привилегированные касты. В таких случаях правящий класс явно ограничен числом семейств, и рождение является единственным критерием, определяющим принадлежность к нему. Примеров того чрезвычайно много. Нет практически страны с продолжительной историей, в которой не было бы в то или иное время наследственной аристократии. Мы обнаруживаем ее в определенные периоды в Китае и Древнем Египте, в Индии, Греции до войны с мидянами, в Древнем Риме, у славянских народов, у латинян и германцев в эпоху Средневековья, в Мексике в период открытия Америки и в Японии еще несколько лет назад.
В этой связи два предварительных замечания по рассматриваемому вопросу. Во-первых, все правящие классы стремятся стать наследственными если не по закону, то фактически. Все политические силы обладают, видимо, качеством, которое в физике называют силой инерции. Они имеют тенденцию оставаться на том же месте в том же состоянии. Богатство и военная доблесть без труда поддерживаются в определенных семьях моральной традицией и наследованием. Годность для получения важного поста – привычка к нему, в определенной степени способность занимать его вместе с вытекающими последствиями – все это гораздо проще достигается тем, кто привычен к этому с детства. Даже когда академические степени, научная подготовка, особые способности, выявленные в ходе проверки и конкурса, открывают доступ в государственные учреждения, тем самым отнюдь не устраняется то особое преимущество для определенных индивидов, которое французы называют преимуществом positions d?j? prises. Хотя экзамен и конкурс теоретически доступны для всех, на деле большинство не имеет ни средств для продолжительной подготовки, ни связей и титулов, которые быстро ставят индивида на правильную дорогу, помогают не двигаться на ощупь и избежать грубых ошибок, неизбежных в том случае, если человек оказывается в неизвестном для него окружении без всякого руководства и поддержки.
Демократический принцип выборов, основанный на широких избирательных правах, может, на первый взгляд, находиться в противоречии с тенденцией к стабильности, которую, согласно нашей теории, проявляют правящие классы. Однако необходимо отметить, что кандидаты, добивающиеся успеха в демократических выборах, почти всегда те, кто обладает указанной выше политической силой, чаще всего наследственной. В английском, французском и итальянском парламентах часто можно видеть сыновей, внуков, братьев, племянников и зятьев настоящих и бывших членов парламента и депутатов.
Во-вторых, когда мы анализируем наследственную знать, утвердившуюся в стране и монополизировавшую политическую власть, можно быть уверенным, что такому статусу de jure предшествует статус de facto. До провозглашения их исключительного наследственного права на власть семьи или касты, о которых идет речь, должны твердой рукой взять руль управления, полностью монополизируя все политические силы своей страны в данный период. В противном случае такая претензия с их стороны вызвала бы только сильный протест и спровоцировала острую борьбу.
Наследственная аристократия нередко начинает хвастаться божественным происхождением или по крайней мере происхождением, отличающимся от происхождения управляемых классов и превосходящим его. Такие претензии объясняют весьма научным социальным фактом, а именно тем, что всякий правящий класс стремится оправдать свое подлинное осуществление власти, опираясь на какой-либо всеобщий моральный принцип. Такого рода претензия выдвигается в настоящее время. Некоторые авторы, используя и развивая дарвиновскую теорию, утверждают, что высшие классы олицетворяют верхний уровень социальной эволюции и посему превосходят по своей органической природе низшие...
Из всех факторов, учитывающихся при рассмотрении социального превосходства, превосходство в интеллекте менее всего связано с наследственностью. Дети людей, отличающихся высоким интеллектом, зачастую обладают посредственными способностями. Именно поэтому наследственные аристократии никогда не защищают свое правление на основе только интеллектуального превосходства, но чаще ссылаются на свое превосходство характера и богатства...
8. Мы уже наблюдаем, что с изменением баланса политических сил, когда назревает необходимость проявления в государственном управлении новых черт, а старые способности отчасти утрачивают свою значимость или же происходят изменения в их распределении, меняется и способ формирования правящего класса. Если в обществе существует новый источник богатства, если возрастает практическая значимость знания, если находится в упадке старая или появилась новая религия, если распространяется новое идейное течение, тогда одновременно и в правящем классе происходят далеко идущие перемены. Кто-то действительно может сказать, что вся история цивилизованного человечества низводится до конфликта между стремлением доминирующих элементов монополизировать политическую власть и передать ее по наследству и стремлением расщепить старые силы и возвысить новые; и этот конфликт порождает бесконечные процессы эндосмоса[90] и экзосмоса[91] между высшими классами и определенной частью низших. Правящие классы неизбежно приходят в упадок, если перестают совершенствовать те способности, с помощью которых пришли к власти, когда не могут более выполнять привычные для них социальные функции, а их таланты и служба утрачивают в обществе свою значимость. Так, римская аристократия сошла на нет, когда перестала быть единственным источником пополнения числа офицеров высокого ранга, высших должностных лиц. Именно так пришла в упадок и венецианская знать, когда ее представители перестали командовать галерами и проводить в море большую часть жизни торгуя и воюя...В человеческих обществах преобладает то тенденция формирования закрытых, устойчивых, кристаллизованных правящих классов, то тенденция, ведущая к более или менее быстрому их обновлению.
Восточные общества, которые мы считаем устойчивыми, в действительности не всегда являются таковыми, иначе, как уже отмечалось, они не могли бы достичь вершин цивилизации, чему есть неопровержимые свидетельства. Точнее будет сказать, что мы узнали о них в то время, когда их политические силы и политические классы находились в состоянии кристаллизации. То же самое происходит в обществах, которые мы обычно называем стареющими, где религиозные убеждения, научные знания, способы производства и распределения благ столетиями не претерпевали радикальных изменений и в ходе их повседневного развития не испытывали проникновения инородных элементов, материальных или интеллектуальных. В таких обществах все те же политические силы и обладающий ими класс имеют неоспоримую власть. Власть, таким образом, удерживается в определенных семьях, и склонность к постоянному становится характерной чертой для всех слоев данного общества...
М. Олсон. Логика коллективных действий: общественные блага и теория групп[92]
Современные теории влиятельных групп – Бентли, Трумэн, Латэм
Идея, что интересы группы – наиболее фундаментальные определяющие экономического и политического поведения, признается многими политиками, возможно даже большинством. В своей книге «Групповые основы политики» Эрл Латэм писал: «Американские политологи все больше и больше признают, что группа является основной политической формой». Профессор Латэм сам придерживается такой же точки зрения: «Уже отмечено и даже повторено, что структура общества формируется ассоциациями. Группы же являются ее основой... Что справедливо для общества, справедливо... и для экономического сообщества»...
Наиболее известным из «современных» или «аналитических» плюралистов является Артур Ф. Бентли; его книга «Процесс Управления» вдохновила большинство политологов, стоящих на позициях «группового подхода». Эта книга, оказавшая, возможно, наибольшее влияние на американскую социологию, является критикой определенных методологических ошибок, которые были свойственны политологии, но в большей степени посвящена доминирующей роли влиятельных групп в экономической и политической жизни общества.
Бентли уделял значительное внимание именно экономическому аспекту. В своих более ранних работах он писал на темы экономической истории и большую часть своей жизни считал себя экономистом. Богатство, как он полагал, является основным источником разделения общества на группы. По-видимому, он начал изучать влиятельные группы главным образом благодаря своему интересу к экономическим делам. «Я бы сказал, – писал он в своей книге, – что мой интерес к политике не является первоочередным, а вырастает из интереса к экономической жизни общества; благодаря такому подходу я надеюсь в конце концов достичь лучшего понимания экономической жизни, чем мне это удалось ранее».
Его мысль о том, что влиятельная группа является основной движущей силой, не ограничивалась только сферой экономики, хотя это и было наиболее важным моментом. «Главная задача при изучении любой формы общественной жизни – анализ этих групп; когда группы определены адекватно – все определено. Когда я говорю „все“ – я и имею в виду „все“. Более того, именно групповые интересы являлись для него основной движущей силой. „Не существует группы, когда не существует ее общего интереса. Интерес, как он определен здесь, тождествен понятию группы“. Этот общий интерес необходимо было найти путем эмпирических исследований. Бентли полагал, что нельзя говорить ни о каком интересе, кока он не обнаружит себя в групповом действии.
Тогда как групповые интересы являются всем, индивидуальные – ничем. Значение имели лишь общие интересы группы, а не выгода и потери отдельных индивидов. «Индивид сам по себе, введенный и действующий как внесоциальная единица, – это лишь фикция. Каждая частичка его деятельности может рассматриваться, с одной стороны, как индивидуальная, но, с другой стороны, как часть деятельности общественной группы. Предыдущее утверждение абсолютно необходимо и важно для правильной интерпретации общества; последнее утверждение является существенным, первым, последним и всем остальным». Такой же функцией, как и индивидуальный интерес, Бентли считает национальный интерес. Все интересы, присущие группам, составляют только часть интересов нации или общества. «Обычно, исследуя некое социальное целое, мы обнаруживаем, что это лишь группа, представляемая человеком, который говорит от ее имени, но группа, требования которой возведены в ранг требования всего общества». Подобная ситуация в модели Бентли была логически необходима, так как он определял группы с точки зрения их конфликтов между собой и полагал, что «всякий групповой интерес бессмысленен, пока он не соотнесен с интересом другой группы».
Определяя интересы группы с точки зрения ее конфликтов с другими группами, т. е. исключая идею возможности существования интереса общества в целом, Бентли мог заявить, что единственной детерминантой курса правительственной политики является давление группы. «Давление или влияние, в том смысле, в котором мы будем использовать данное понятие, – это всегда групповой феномен. Он демонстрирует взаимное давление и сопротивление между группами. Баланс давлений групп и есть существующая форма общества». Правительство, по теории Бентли, «рассматривалось как уравновешивающий элемент интересов различных групп». Теперь очертание модели становится ясным. Признавая, что не существует эффективных индивидуальных интересов и что каждая группа обладает своими интересами, которые всегда результируются в ее действии, и не существует такого интереса группы, который одновременно являлся бы интересом для каждого члена общества, Бентли смог заявить, что все в обществе, и значительное и не очень, включая правительство, определяется взаимоотношением конфликтующих групп. Это был ключ к пониманию роли правительства вообще и его экономической политики в частности.
По мнению Бентли, давление групп не только определяет социальную политику, но и является единственной ее детерминантой. Группы обладают определенной степенью власти или степенью влияния, более или менее пропорциональными количеству их членов. Более широкий, более общий интерес обычно стремится подавить более узкий и специальный интерес. Бентли рассматривает ситуацию, в которой относительно небольшая группа владельцев тяжелых конных экипажей разрушает общественные дороги в городе, тем самым нанося ущерб большинству налогоплательщиков и граждан города. Бентли утверждает, что в конце концов интересы большей группы восторжествуют над интересами меньшинства: налогоплательщики потребуют надеть на колеса таких экипажей более широкие шины, несмотря на то, что многие из этой большей группы могут даже не осознавать причин возникшего конфликта. Результат будет типичен. «Большая часть предпринимаемой правительством деятельности состоит из привычных действий, приспосабливающих большие и слабые интересы к менее представительным, но более интенсивным. Если существует что-нибудь, что можно назвать „контролем людей“, то это именно тот случай». Он, однако, допускает, что законодатели временами работают весьма несовершенно, но когда особые интересы начинают преобладать, становятся слышны крики «Лови! Держи!», обращенные к законодателям. Не стоит бояться логроллинга, он является отличным и эффективным средством для уравновешивания интересов различных групп.
При всем своем акценте на важность и полезность давления групп, Бентли почти ничего не говорит о том, почему нужды различных общественных групп должны выражаться в политически или экономически действенном давлении. Не рассматривает он внимательно и причины, которые заставляют группу организовываться и эффективно действовать. А также причины, по которым некоторые группы важны в одном обществе, а другие – в ином, и в совершенно иной период. Последователи Бентли попытались заполнить этот пробел в его теории.
Дэйвид Трумэн в своей хорошо известной книге «Процесс управления» уделил особое внимание упущенным в работе Бентли проблемам. Профессор Трумэн попытался развить социологический вариант теории добровольных ассоциаций для того, чтобы показать, что при первой необходимости возникает организованное и эффективное групповое давление. По мере того как общество становится все более сложным, писал Трумэн, потребности различных групп в нем становятся все более многочисленными и разнообразными, поэтому возникнет необходимость формирования дополнительных ассоциаций для стабилизации отношений между различными группами. Вместе с растущей специализацией и усложнением общества возникает необходимость во все большем числе ассоциаций, и значительная их часть возникнет, так как именно возникновение ассоциаций для удовлетворения нужд общества является основной характеристикой социальной жизни.
С ростом специализации и продолжающимся разрушением традиционных ожиданий из-за быстрого изменения техники неизбежно разрастание ассоциаций. Следовательно, уровень сложности структуры ассоциаций может служить своеобразным индексом стабильности общества, а их число – критерием сложности общества. В простых обществах не существует ассоциаций (в техническом смысле); по мере того, как они становятся все более сложными, т. е. по мере того, как возрастает число различных институционализированных групп, в обществе развивается еще большее число ассоциаций.
Этот «неизбежный» рост числа ассоциаций обязательно повлияет на правительство. Ассоциации потребуют связи с правительственными институтами, как только у них возникнет заинтересованность в этих институтах. Подобная тенденция к возникновению ассоциаций для удовлетворения нужд общественных групп особенно очевидна в сфере экономики.
Раздел XIII Политическое лидерство
Политическое лидерство – одно из наиболее сложных и малоизученных явлений политической жизни. Достаточно легко определить, кем выступает лидер. Однако при определении феномена лидерства, а тем более лидерства политического возникают некоторые сложности. Ж. Блондель пытается выявить специфику политического лидерства. Монография известного французского политолога – «Политическое лидерство», раздел которой приводится в хрестоматии, посвящена именно этой проблеме.
Заслуга Блонделя не только в том, что он попытался дать ответ на вопрос о сущности политического лидерства, но и указал на те проблемы, без которых невозможно раскрыть природу лидерства в политике. К ним он отнес институциональные структуры, истоки власти лидера, методы осуществления власти и мобилизацию лидером масс. Предложенная французским исследователем «матрица» исследования лидерства, хотя и не претендует на универсальный характер, позволяет пролить свет на природу одного из загадочных явлений политики.
Ж. Блондель. Политическое лидерство[93]
Лидерство так же старо, как человечество. Оно универсально и неизбежно. Оно существует везде – в больших и малых организациях, в бизнесе и в религии, в профсоюзах и благотворительных организациях, в компаниях и университетах. Оно существует в неформальных организациях, в уличных шайках и массовых демонстрациях. Лидерство, по всем своим намерениям и целям, есть признак номер один любых организаций. Для того чтобы существовало лидерство, необходимо наличие групп, и везде, где возникают группы, появляется лидерство.
Среди различных аспектов лидерства политическое лидерство, особенно лидерство в нации-государстве, занимает особое положение. Дело не в какой-то иной природе политического лидерства по сравнению с другими типами лидерства; политическое лидерство гораздо более заметно, навязчиво, если хотите, и гораздо более значимо. Внутри каждой нации политическое лидерство может занять командные высоты и распространять свое влияние вширь и вглубь; руководители наиболее значимых государств обладают таким влиянием, что о них знают во всех уголках Земли. Более того, политическое лидерство на международном уровне, кроме определенных, количественно ограниченных сфер, зависит от лидерства наиболее значимых государств. Наконец, во многих странах политическое лидерство есть существенный, хотя отнюдь не всесильный элемент в панораме общественной жизни. Если свести политику к ее костяку, к тому, что наиболее видимо для граждан, то таким костяком окажутся общенациональные политические лидеры, как отечественные, ток и иностранные. Они – самый признаваемый, самый универсальный, вызывающий всеобщий интерес элемент политической жизни... Что же тогда есть политическое лидерство? По сути и по форме это есть феномен власти. Лидерство – это власть, потому что оно состоит в способности одного лица или нескольких лиц, находящихся «на вершине», заставлять других делать то позитивное или негативное, что они не делали бы или, в конечном счете, могли бы не делать вообще. Но, разумеется, лидерством является не всякий род власти. Лидерством является власть, осуществляемая «сверху вниз». Пожалуй, можно бы сказать так: лидер – это тот, кто в силу тех или иных обстоятельств оказывается «над» нацией в случае общенационального политического лидерства и может отдавать приказы остальным гражданам. Однако небольшое размышление подсказывает, что любая власть является «сверху вниз», т. е. она подразумевает, что А может заставить Б сделать что-то и поэтому А в определенном смысле есть начальник для Б. Таким образом, отличие власти лидера от других форм власти состоит не столько в природе отношений между лидером и остальной нацией, сколько в том факте, что, в случае лидерства А, который обладает властью и потому отдает приказы, осуществляет эту власть над многими Б, одним словом, над целой нацией. Отношения власти всегда есть отношения неравенства (хотя роли могут меняться: скажем, если сначала А приказывал Б делать что-то, затем Б может заставить А подчиняться себе). Но отношения власти, осуществляемые в контексте лидерства, отличаются особым неравенством, поскольку лидеры способны заставить всех членов своей группы (а применительно к нации – всех граждан) делать то, что в другом случае они не делали бы. Необходимо добавить, что данная способность лидера долговременна, может осуществляться продолжительное время.
Итак, представляется возможным определить политическое лидерство, и особенно общенациональное политическое лидерство, как власть, осуществляемую одним или несколькими индивидуумами с тем, чтобы побудить членов нации к действиям.
Если власть лидеров может быть осуществлена во имя контроля, господства и подчинения, она, безусловно, может быть использована и для подъема, приумножения и развития. Очень ценно (более того, прямо-таки необходимо) видеть, как власть лидеров может помочь «улучшить» состояние дел в наших обществах. Это особенно важно, поскольку политическое лидерство представляется одним из наиболее четких путей, на котором людей можно побудить к совместной работе по улучшению своей судьбы. Представляется, что лидерство способно, по самой своей природе, сплотить граждан в совместных усилиях, причем осуществлять эту задачу в течение длительного времени, постепенно решая задачи, подчинение общей цели.
Результаты деятельности лидеров могут быть различными: хорошими или плохими, отличными или ужасающими. Но именно потому, что амплитуда результатов столь велика, они должны быть проанализированы во всей своей целостности. Нужно исследовать, в какой мере и при каких условиях лидерство является благом. Именно поэтому все типы политического лидерства нуждаются в классификации и разбивке по категориям, в привязке к ситуациям, в которых они возникают, и вытекающим из них последствиям. Следовательно, после общего определения общенационального политического лидерства следует задаться тремя вопросами: 1) каковы корни власти лидера? 2) каковы инструменты осуществления этой власти? 3) действительно ли лидеры имеют значение?
Давайте проанализируем эти вопросы с тем, чтобы увидеть, можно ли подобным образом подойти к проблеме лидерства. Ясно, что мы заинтересованы во влиянии лидеров. Мы хотим знать, до какого предела они видоизменят общество, которым управляют. Но упоминая это влияние, мы тут же поднимаем две проблемы: действия лидеров и природа реагирования на них. Влияние лидеров зависит от среды, их действия должны быть связаны с ее характеристиками. Лидеры должны приспособляться к проблемам своих обществ. Они не могут ставить любые, пришедшие им в голову проблемы и надеяться при этом на успех. Итак, вопрос о результате деятельности лидера неразрывно связан с состоянием среды. Иногда говорится, что лидеры – это пленники той среды, в которой они могут сделать то, что среда «позволяет» им сделать. Даже если подобная точка зрения преувеличена, против нее трудно возразить, во всяком случае, без тщательного анализа как природы среды, так и характера действий лидеров.
Соглашаясь в данный момент с тем, что и лидеры оказывают влияние на среду, мы, видимо, справедливо можем утверждать, что это влияние есть результат как личностных истоков их действий, так и методов осуществления последних.
Если истоки действий кроются, видимо, в личности лидера, то методы определяются природой институциональных структур, которые находятся в распоряжении лидеров. Однако подобное разграничение носит скорее аналитический, чем реальный характер. Например, трудно отделить человека от положения, которое он занимает, да и методы частично тоже ведь могут быть источником власти лидеров. Итак, сохраняя теоретическое разграничение, надо быть готовыми признать, что оба эти элемента переплетены и что вопрос о том, каковы в точности истоки власти лидеров и каковы в точности ее методы, носит в определенной мере теоретический характер...
Давайте попробуем обозначить понятие лидерства несколько глубже и посмотреть, можно ли «разложить» власть лидерства на некоторое количество элементов. «Лидерство, – пишет Р. Такер, – есть указание направления (direction), которое в конечном счете нацелено на действие». Но оно будет эффективным и «реальным» только в том случае, если «указание» имеет смысл применительно к данной ситуации, к тому, чего, так сказать, «требует» момент. Вот почему Такер анализирует лидерство под углом зрения трех элементов, которые следуют друг за другом в его анализе, но не в реальных ситуациях. Вот эти три фазы – «диагноз», «определение направления действия» и «мобилизация» тех, кто будет вовлечен в конкретную реализацию действий. Наличие этих трех аспектов, определяющих цели и результаты лидерства, дает Такеру основание считать, что политическая активность может быть определена не в терминах власти, а в терминах лидерства: выше отмечалось, что правильнее рассматривать лидерство как подструктуру или особую форму власти. В лидерстве выявляются элементы (или фазы), соответствующие стадиям, проходя через которые требования (зарождающиеся или развернутые) или потребности (латентные или явные) преобразуются в направление действий. В силу того, что лидерство, и особенно политическое лидерство, осуществляется в течение значительного периода, внутри группы и по широкому кругу проблем, стадии четко различимы.
«Диагноз» – это та фаза, на протяжении которой лидер изучает ситуацию и оценивает, что, по его мнению, в ней неправильно и потому должно быть исправлено. Затем лидер разрабатывает направление действий, отвечающих разрешению проблем: в любом случае он приходит к выводу (часто основанному на советах) о том, какой ход событий был бы наиболее желательным. Но этот второй элемент недостаточен для того, чтобы определить наиболее значимое изменение. Оно может быть достигнуто только через мобилизацию. Мобилизацию следует рассматривать в широком смысле слова: она понимается и как мобилизация лиц, находящихся в подчинении, непосредственном или опосредованном (например, через бюрократию), и как мобилизация всего населения или по крайней мере той его части, которая сможет повлиять на направление действий. Это может означать, что рядовые члены правящей партии всей душой поддерживают предложенные меры и в свою очередь действуют так, что и остальная часть населения тоже начинает оказывать поддержку. Это может означать обращение к населению с призывами оказать существенную поддержку. Лидерство – это всегда нечто большее, чем анализ ситуации и принятие решений, оно состоит также в воздействии на умы и энергию тех людей, которым предстоит сыграть свою роль в реализации действий. Таким образом, «идеальное» лидерство всегда означает сочетание трех элементов, даже если формы этого сочетания меняются в широких пределах, в зависимости от ситуации.
Раздел XIV Политическое поведение
Политическое поведение – одна из центральных тем политической науки. На протяжении всей истории политической науки к ней обращались разные исследователи, представители самых различных политологических школ. В данном разделе хрестоматии вниманию читателя предлагаются три отрывка из произведений С. Хантингтона, М. Догана и Т. Гарра, посвященные различным аспектам политического участия.
В отрывке из книги «Политический порядок в меняющихся обществах» (1968) С. Хантингтона основное внимание уделяется взаимосвязи политического участия и политической стабильности/нестабильности. Американский политолог обращает внимание на то, что связь между политической активностью и равновесием политической системы не носит прямолинейного характера, так же как нет прямой связи между бедностью и протестными выступлениями, между уровнем социально-экономического развития и протестным поведением. Хантингтон обращает внимание на взаимосвязь политического участия и уровня политической институционализации, социальной фрустрации и возможности мобильности, социальной мобилизации и экономического развития. Несмотря на то что произведение одного из мэтров современной политической науки написано почти сорок лет назад, оно не потеряло своей актуальности и сегодня. Способ анализа, предложенный американским ученым, вполне применим для исследования современных модернизирующихся обществ.
Фрагмент работы Т. Гарра посвящен политической борьбе гражданских и политических сил. Американского исследователя интересует проблема, при каких условиях возникает политическая нестабильность, чреватая политическим насилием. Для объяснения протестных действий, будь то массовые беспорядки, заговор или гражданская война, Гарр использует теорию относительной депривации. Под депривацией понимается состояние, вызываемое расхождением между ожидаемой и достигаемой ценностными позициями. Концепция относительной депривации помогает понять мотивы как индивидуальных, так и коллективных протестных действий.
Произведение Маттеи Догана посвящено одному из аспектов электорального поведения. Французский политолог показывает падение роли в голосовании в европейских странах таких традиционных факторов, как классовая и религиозная принадлежность. Именно этими обстоятельствами определяется индивидуализация электорального поведения и уменьшение приверженности избирателей определенным партиям. Вопрос о последствиях подобных изменений и сдвигов в электоральном поведении остается открытым для дальнейших исследований.
С. Хантингтон. Политический порядок в меняющихся обществах[94]
Модернизация и насилие
Бедность и модернизация. Связь между модернизацией и насилием не проста. Более современные общества обычно более стабильны, и в них наблюдается меньше насилия во внутренних конфликтах, чем в менее современных обществах. В одном из исследований была получена корреляция 0,625 (и = 62) между политической стабильностью и сложным показателем современности, учитывающим восемь социальных и экономических переменных. Как уровень социальной мобилизации, так и уровень экономического развития прямо связаны с политической стабильностью. Связь между грамотностью и стабильностью особенно сильна. Частота революций также варьируется обратно пропорционально образовательному уровню общества, а смертность от внутреннего группового насилия обратно пропорциональна доле детей, посещающих начальную школу. Экономическое благосостояние аналогичным образом связано с политическим порядком: в 74 странах корреляция между валовым национальным продуктом на душу населения и смертностью от внутреннего группового насилия составила -0,43.
В другом исследовании 70 стран за 1955–1960 гг. была получена корреляция -0,56 между валовым национальным продуктом на душу населения и числом революций. В восьмилетний период между 1958 и 1965 гг. в самых бедных странах произошло в четыре раза больше насильственных конфликтов, чем в богатых странах; 87 % очень бедных стран пострадали от значительных вспышек насилия сравнительно с всего лишь 37 % для богатых стран.
Таблица 1
Душевой уровень ВНП и насильственные конфликты (1958–1965)
Источник: Escott Reid. The Future of the World Bank. Washington, 1965. P. 64–70.
Ясно, что страны с высоким уровнем как социальной мобилизации, так и экономического развития характеризуются большей стабильностью и миром в политическом отношении. Модернизированность (modernity) означает стабильность. От этого факта легко перейти к «доказательству от бедности» (povertythesis) и к выводу, что именно экономическая и социальная отсталость ответственны за нестабильность и что, следовательно, модернизация – путь к стабильности. «Нет сомнения в том, – утверждал министр обороны США Макнамара, – что существует неопровержимая связь между насилием и экономической отсталостью». Или, как писал один исследователь, «всепроникающая бедность подрывает систему управления – любую. Это постоянный источник нестабильности, делающий демократию практически неосуществимой». Если принять, что эта связь имеет место, то очевидно, что распространение образования, грамотности, массовых коммуникаций, индустриализация, экономический рост, урбанизация должны приводить к росту политической стабильности. Однако эти по видимости убедительные выводы из корреляции между модернизацией и стабильностью неверны. На самом деле модернизированность порождает стабильность, но сам процесс модернизации порождает нестабильность.
Видимую связь между бедностью и отсталостью, с одной стороны, и нестабильностью и насилием, с другой, следует признать ложной. Не отсутствие модернизированности, а усилия по ее обретению являются источником политического беспорядка. Если бедные страны оказываются нестабильными, то это не потому, что они бедны, а потому, что они стремятся разбогатеть. Чисто традиционное общество было бы невежественным, бедным и стабильным. К середине XX в., однако, все прежде традиционные общества стали одновременно переходными, модернизирующимися. Как раз распространение модернизации по всему миру и привело к глобальному росту насилия. На протяжении двух десятилетий после Второй мировой войны американская внешняя политика в отношении модернизирующихся стран была в значительной мере направлена на поддержку экономического и социального развития, поскольку это должно было привести к политической стабильности. Достижениями этой политики можно, однако, считать как возросший уровень материального благосостояния, так и возросший уровень внутреннего насилия. Чем активнее человек борется со своими исконными врагами – бедностью, болезнью, невежеством, – тем в большей мере он борется с самим собой.
К 1960-м гг. всякая отсталая страна была уже страной модернизирующейся. Есть тем не менее основания считать, что причины насилия в этих странах коренятся в модернизации, а не в отсталости. Богатые страны обычно более стабильны, чем менее богатые, но беднейшие страны, те, которые находятся на самых низших ступенях международной экономической лестницы, менее подвержены насилию и нестабильности, чем страны, расположенные на этой лестнице непосредственно над ними. Даже статистика, использованная самим Робертом Макнамарой, лишь отчасти подкрепляет его выводы. Всемирный банк, например, отнес шесть из двадцати латиноамериканских республик к числу «бедных», что означает, что их валовой национальный продукт на душу населения составил менее 250 долларов. В шести же странах из той же двадцатки в феврале 1966 г. наблюдались затяжные гражданские войны. Но только одна страна, Боливия, попала в обе эти категории. Вероятность мятежей в тех латиноамериканских странах, которые не были бедны, была вдвое выше, чем в тех, которые были бедны. Аналогично 48 из 50 африканских стран были отнесены к числу бедных и в одиннадцати из них происходили вооруженные конфликты. Можно, однако, с уверенностью утверждать, что вероятность конфликтов в двух африканских странах, которые не были бедны – Ливии и Южной Африке, – была столь же высока, как и в бедных странах и территориях. Более того, вооруженные конфликты, существовавшие в 11 странах, были, по-видимому, связаны в четырех случаях с сохраняющимся колониальным правлением (как, например, в Анголе и Мозамбике), а в других семи – с ярко выраженными племенными и расовыми различиями в населении (как в Нигерии и Судане). Колониализм и этническая неоднородность оказались много более существенными основаниями для предсказания вспышек насилия, чем бедность. На Ближнем Востоке и в Азии в 10 из 22 стран, отнесенных к числу бедных, в феврале 1966 г. наблюдались вооруженные конфликты. С другой стороны, столкновения происходили и в трех из четырех стран, которые не были бедными (Ирак, Малайзия, Кипр, Япония). В этом случае также вероятность вооруженного конфликта в более богатой стране примерно в два раза выше, чем в бедной. И здесь тоже этническая неоднородность выступает как более вероятный источник насилия, чем бедность.
В пользу отсутствия выраженной прямой корреляции между бедностью и нестабильностью свидетельствуют и другие данные. Хотя корреляция между ВНП на душу населения и смертностью от внутреннего группового насилия составила -0,43 (и = 74), наибольшее количество насилия наблюдалось не в беднейших странах с душевым ВНП меньше 100 долларов, а в несколько более богатых с душевым ВНП от 100 до 200 долларов. При значении показателя выше 200 долларов размеры насилия существенно снижаются. Эти данные привели к выводу, что «в слаборазвитых странах следует ожидать довольно высокого уровня внутренней нестабильности в течение некоторого времени и в очень бедных странах вероятен рост, а не снижение внутреннего насилия в следующие несколько десятилетий». Аналогичным образом Экстейн обнаружил, что 27 стран, в которых внутренние насильственные конфликты были редкостью в период 1946–1959 гг., распадаются на две группы. Девять из них принадлежали к числу наиболее современных (такие как Австралия, Дания, Швеция), тогда как 18 других – это «сравнительно слаборазвитые страны, в которых элиты оставались тесно связаны с традиционными типами и структурами жизни». В их числе оказалось несколько все еще отсталых европейских колоний, а также такие страны, как Эфиопия, Эритрея и Саудовская Аравия. Близок к этому и результат, согласно которому зависимость нестабильности от распределения стран по уровню грамотности описывается колоколообразной кривой. Нестабильными оказались 95 % стран в среднем диапазоне 25–60 % грамотности в сравнении с 50 % стран с грамотностью меньше 10 % и 22 % стран с более чем 90 % грамотности. В другом исследовании средние показатели нестабильности были подсчитаны для 24 современных стран (268), 37 стран переходного типа (472) и 23 традиционных стран (420).
Таблица 2
Грамотность и стабильность
Источник: Ivo К., Feierabend R. L., Nesvold В. A. Correlates of Political Stability (доклад, представленный на ежегодном заседании Американской ассоциации политической науки, сентябрь 1963 г.). Р. 19–21.
Резкое различие между странами переходного типа и современными наглядно демонстрирует справедливость того тезиса, что модернизированность означает стабильность, а модернизация – нестабильность. Слабость различия между традиционными обществами и переходными обществами отражает тот факт, что граница между ними была проведена произвольно, только чтобы образовать группу «традиционных» стран, равную по величине группе стран современных. Поэтому практически все общества, отнесенные к числу традиционных, в действительности переживали начальные этапы модернизации. Однако данные все же свидетельствуют о том, что, если бы чисто традиционное общество существовало, оно было бы более политически стабильным, чем общество в переходном состоянии.
Таким образом, фактор модернизации (modernization thesis) объясняет, почему утверждение о роли бедности (poverty thesis) могло получить некоторую видимость убедительности в конце XX в. Он объясняет наблюдаемое обратное отношение между модернизированностью и стабильностью для некоторых групп стран. В Латинской Америке, к примеру, богатейшие страны характеризуются средними уровнями модернизации. Неудивительно поэтому, что они должны быть менее стабильными, чем более отсталые латиноамериканские страны. Как мы видели, в 1966 г. только одна из шести беднейших стран Латинской Америки, но пять из 14 более богатых стран переживали внутренние вооруженные конфликты. Коммунистические и другие радикальные движения были сильны на Кубе, в Аргентине Чили и Венесуэле – в четырех из пяти богатейших из 20 латиноамериканских республик и трех из пяти наиболее грамотных. Частота революций в Латинской Америке напрямую связана с уровнем экономического развития. Для континента в целом корреляция душевого дохода и числа революций составляет 0,50 (и = 18); для недемократических стран этот показатель много выше (г = 0,85; и = 14). Таким образом, латиноамериканские данные, предполагающие связь между модернизированностью и нестабильностью, по существу, подкрепляют вывод о связи нестабильности с модернизацией.
Эта связь сохраняется и для вариаций внутри страны. В модернизирующихся странах насилие, нестабильность и экстремизм чаще наблюдаются в более богатых частях страны, чем в беднейших. Анализируя ситуацию в Индии, Хозелитц и Вайнер обнаружили, что «корреляция между политической стабильностью и экономическим развитием слабая и даже отрицательная». При британском правлении политическое насилие чаще всего наблюдалось в «наиболее экономически развитых провинциях»; после достижения независимости вероятность насилия осталась более высокой в индустриализованных и урбанизированных регионах, нежели «в самых отсталых и слаборазвитых областях Индии». Во многих слаборазвитых странах уровень жизни в крупных городах в три-четыре раза выше, чем в сельской местности, но при этом именно города часто являются центрами нестабильности и насилия, тогда как сельские районы остаются мирными и стабильными. Политический экстремизм также обычно сильнее выражен в богатых, нежели в бедных областях. В 15 западных странах процент отдавших голоса коммунистам был наиболее высок в наиболее урбанизированных областях наименее урбанизированных стран. В Италии центр коммунистического могущества располагался на богатом севере, а не на нищем юге. В Индии коммунисты были сильнее всего в Керале (где выше всего уровень грамотности в сравнении с другими индийскими штатами) и в индустриализованной Калькутте, а не в экономически более отсталых зонах. На Цейлоне «областями наибольшего марксистского влияния являются наиболее вестернизированные» и те, где самый высокий душевой доход и самый высокий уровень образования. Таким образом, и внутри стран центрами насилия и экстремизма оказываются модернизирующиеся области а не остающиеся традиционными.
Мало того, что социальная и экономическая модернизация рождает политическую нестабильность, уровень нестабильности зависит от темпов модернизации. В истории Запада огромное количество свидетельств в пользу этого наблюдения. «Быстрый приток большого числа людей во вновь развивающиеся городские районы, – отмечает Корнхаузер, – стимулирует массовые движения». Опыт европейских (особенно скандинавских) стран показывает, что там, где «индустриализация проходила быстро, порождая резкие разрывы между доиндустриальной и индустриальной стадиями, возникавшее рабочее движение носило более экстремистский характер». Сходным образом корреляция комбинированного индекса скорости изменений, рассчитанного по шести из восьми индикаторов модернизации (начальное и среднее образование; потребляемое число калорий; стоимость жизни; охват радиосвязью; детская смертность; урбанизация; грамотность; национальный доход) для 67 стран в период 1935 1962 гг., с политической нестабильностью в этих странах в период с 1955 по 1961 г. составила 0,647. Чем выше темпы изменений в направлении современности, тем выше уровень политической нестабильности в статике или динамике. Возникающий обобщенный образ нестабильной страны таков. Это – страна, «открытая влиянию современного мира; социально оторванная от традиционного уклада; испытывающая давление в направлении изменений экономических, социальных и политических; соблазняемая новыми, „лучшими“ способами производства товаров и услуг; фрустрированная процессом модернизации вообще и неспособностью правительства удовлетворить растущие ожидания в особенности».
Азия, Африка и Латинская Америка стали местами особенно высокой политической нестабильности в значительной мере потому что модернизация проходила там намного более высокими темпами, чем в странах, где модернизация совершилась раньше. Модернизация Европы и Северной Америки растянулась на несколько столетий; как правило, там приходилось в каждый отрезок времени решать одну проблему или справляться с одним кризисом. В ходе же модернизации незападных регионов мира проблемы централизации власти, национальной интеграции, социальной мобилизации, экономического развития, политической активности населения, социального обеспечения вставали не постепенно, а одновременно. «Демонстрационный эффект», который ранние модернизаторы оказывают на последующих модернизаторов, усиливает сначала ожидания, а затем фрустрацию. Разница в темпах модернизации отчетливо видна в том, какое время понадобилось странам, чтобы осуществить, по выражению С. Блэка, консолидацию модернизирующего руководства. Для первой модернизирующейся страны, Англии, эта фаза растянулась на 183 года, с 1649 по 1832 г. Для второй, США, этот период длился 89 лет 1776–1865 гг. Для 13 стран, вступивших в эту фазу во время наполеоновских войн (1789–1815), средняя ее длительность составила 73 года. Но уже для 21 из 26 стран, которые начали модернизацию в первой четверти XX в. и завершили в 1960-е гг., средняя длительность равнялась всего 29 годам. По оценке К. Дейча, в XIX в. основные показатели социальной мобилизации в модернизирующихся странах менялись со скоростью 0,1 % в год, тогда как в модернизирующихся странах XX в. они изменялись на 1 % в год. Очевидно, что темпы модернизации резко выросли. Ясно также, что возросшая тяга к социальным и экономическим изменениям прямо связана с ростом политической нестабильности и насилия, отличавшим Азию, Африку и Латинскую Америку в годы после Второй мировой войны.
Социальная мобилизация и нестабильность. Связь между социальной мобилизацией и нестабильностью представляется достаточно прямой. Урбанизация, рост грамотности, образования и охвата средствами коммуникации – все это способствует росту ожиданий, который, не получая удовлетворения, политически активизирует индивидов и группы. В отсутствие сильных и гибких политических институтов такого рода рост политической активности населения способствует нестабильности и насилию. Здесь отчетливо проявляется та парадоксальная закономерность, что модернизированность рождает стабильность, а модернизация – нестабильность. К примеру у 66 стран корреляция между процентом детей, посещающих начальную школу, и частотой революций оказалась равной -0,84. В то же время у других 70 стран корреляция между ростом доли детей, посещающих начальную школу, и политической нестабильностью составила 0,61. Чем быстрее просвещается население, тем чаще свергается правительство...
Вообще, чем выше уровень образования безработных, отчужденных и в других отношениях неудовлетворенных жизнью людей, тем более крайние формы принимает их дестабилизирующее поведение. Отчужденные выпускники университетов готовят революции; отчужденные выпускники технических училищ и средних школ планируют перевороты; отчужденные люди, получившие начальное образование, оказываются участниками более распространенных, но менее значительных форм политического протеста. В Западной Африке, к примеру, «бывшие школьники, хотя и охваченные раздражением и беспокойством, оказываются не в центре, а на периферии крупных политических событий. Характерными формами политических волнений, ими вызываемых, являются не революции, а такие действия, как поджоги, угрозы и оскорбления в адрес политических оппонентов».
Проблемы, порождаемые быстрым распространением начального образования, заставили некоторые правительства пересмотреть свою политику. К примеру, в дебатах по вопросам образования в восточном регионе Нигерии, происходивших в 1958 г., Азикиве высказал мысль, что начальное образование может превращаться в «непродуктивный социальный фактор», а один из членов кабинета напомнил, что Великобритания следовала «порядку, при котором сначала развивалось производство и повышалась его производительность, а потом обеспечивалась свобода образования. Не стоит начинать со свободы образования, поскольку должны существовать рабочие места, которые могли бы занять получившие образование, и только промышленность и торговля могут предоставить достаточное количество таких мест...». Нам следует поостеречься и не создавать политическую проблему безработицы. Грамотные и полуграмотные поставляют рекрутов для экстремистских движений, порождающих нестабильность. Бирма и Эфиопия имели в 1950-е гг. одинаково низкий душевой доход; относительная стабильность второй в сравнении с первой, вероятно, отражала тот факт, что среди эфиопов грамотных было 5 %, тогда как доля грамотных среди бирманцев составляла 45 %. Аналогичным образом Куба стояла на четвертом месте в Латинской Америке по уровню грамотности, когда она стала коммунистической, а единственный индийский штат, избравший коммунистическое правительство, Керала, также имеет самый высокий уровень грамотности в Индии. Ясно, что коммунисты обычно адресуются скорее к грамотным, чем к неграмотным. Много раз обсуждались проблемы, связанные с распространением избирательного права на большие массы неграмотного населения; говорили, что демократия не может удовлетворительно функционировать, если значительная часть электората не умеет читать. Но политическая активность неграмотных вполне может, как в Индии, оказаться менее опасной для демократических политических институтов, чем активность грамотных. Последние, как правило, имеют более сильные стремления (aspirations) и предъявляют правительству более высокие требования. Кроме того, участие в политике неграмотных с большой вероятностью будет ограниченным, тогда как активность грамотных имеет тенденцию расти как снежный ком с потенциально разрушительными последствиями для политической стабильности.
Экономическое развитие и нестабильность. Социальная мобилизация повышает ожидания. Экономическое развитие, предположительно, повышает способность общества удовлетворять эти стремления и тем самым должно уменьшать социальную неудовлетворенность и порождаемую ею политическую нестабильность. Можно также предположить, что быстрый экономический рост создает новые возможности для предпринимательства и рабочие места и тем самым направляет на зарабатывание денег те амбиции и таланты, которые иначе могли быть использованы в заговорщической деятельности. На это, впрочем, можно возразить, что само экономическое развитие представляет собой в высокой степени дестабилизирующий процесс и что те самые изменения, которые необходимы для удовлетворения стремлений, на деле склонны порождать новые стремления. Высказывалась точка зрения, что быстрый экономический рост:
? разрушает традиционные общественные группировки (семью, класс, касту) и тем самым увеличивает «численность деклассированных индивидов... которые поэтому оказываются в обстоятельствах, благоприятных для зарождения революционного протеста»;
? порождает нуворишей, плохо адаптирующихся к существующему строю и плохо им ассимилируемых, но при этом претендующих на политическое влияние и социальный статус, соизмеримые с их новым экономическим положением;
? повышает социальную мобильность, что тоже подрывает общественные связи и, в частности, способствует ускоренной миграции из сельских районов в города и тем самым способствует росту отчуждения и политического экстремизма;
? повышает число людей, чей уровень жизни снижается, и тем самым может увеличивать разрыв между богатыми и бедными;
? у некоторой части людей ведет к абсолютному росту доходов, но не относительному, увеличивая этим их неудовлетворенность существующим строем;
? требует общего ограничения потребления ради повышения капиталовложений, рождая этим общественное недовольство;
? повышает грамотность, уровень образования, охват средствами массовой информации, что ведет к росту стремлений выше того уровня, на котором возможно их удовлетворение;
? обостряет региональные и этнические конфликты из-за распределения инвестиций и потребления;
? расширяет возможности групповой организации и тем самым масштабы требований, предъявляемых группами правительству, до пределов, когда правительство оказывается неспособным их удовлетворять.
В той мере, в какой эти зависимости имеют место, экономический рост повышает материальное благосостояние, но еще более быстрыми темпами растет социальная неудовлетворенность.
Связь экономического развития, особенно быстрого, с политической нестабильностью нашла классическое изображение в данной Токвилем интерпретации Французской революции. Перед революцией, писал он, «общественное благосостояние растет с невиданной доселе быстротой». «По мере того как растет описанное мною благополучие, в умах, по-видимому, накапливается неудовлетворенность и беспокойство», и «именно тем областям Франции, где больше всего заметен прогресс, было суждено стать основными очагами революции».[95] Подобный же рост экономического благополучия предшествовал, по мнению историков, Реформации, английской, американской и русской революциям, а также возбуждению и недовольству в Англии в конце XVIII и начале XIX в. Мексиканская революция также произошла после двадцати лет впечатляющего экономического роста. Высокая корреляция темпов изменения душевого ВНП в течение семи лет перед успешным переворотом с масштабами насилия в таких переворотах наблюдалась в странах Азии и Ближнего Востока в 1955–1960 гг., но не в Латинской Америке. Сообщалось далее, что опыт Индии в период с 1930-х по 1950-е гг. показывает, «что экономическое развитие вместо того, чтобы способствовать политической стабилизации, усиливает политическую нестабильность». Эти данные очевидным образом согласуются с тем наблюдением, что во время Второй мировой войны недовольство продвижением по службе было более распространено в военно-воздушных силах, чем в других родах войск, несмотря на то или благодаря тому, что в действительности продвижение по службе в ВВС происходило и чаще, и быстрее, чем в других частях.
Существует, таким образом, множество очевидных подтверждений связи между быстрым экономическим ростом и политической нестабильностью (табл. 3). На более общем уровне, однако, связь между ними не столь ясна. В период 1950-х гг. корреляция между темпами экономического роста и внутренним групповым насилием была слабо отрицательной (-0,43). В Западной Германии, Японии, Румынии, Югославии, Австрии, СССР, Италии и Чехословакии наблюдались очень высокие темпы экономического роста, но было очень мало проявлений внутреннего насилия. В то же время в Боливии, Аргентине, Гондурасе и Индонезии наблюдалась высокая смертность от внутреннего насилия при очень низких, а в некоторых случаях отрицательных темпах роста. Аналогичным образом корреляция для 70 стран темпов роста национального дохода в 1935–1962 гг. с уровнем политической нестабильности в 1948–1962 гг. составила -0,34; корреляция между изменением национального дохода и колебаниями стабильности для тех же стран в те же годы была равна -0,45. Нидлер обнаружил, что в Латинской Америке экономический рост стал предпосылкой институциональной стабильности в странах с высоким уровнем политической активности населения.
Таблица 3
Быстрый экономический рост и политическая нестабильность
Источник: Russette В. et al. World Handbook of Political and Social Indicators. New Haven, 1964. Табл. 29, 45. Периоды, в которые измерялся рост, различаются, но в основном это 7-12 лет в районе 1950-х гг.
Эти противоречивые данные заставляют предполагать, что связь между экономическим ростом и политической нестабильностью, если она существует, должна быть непростой. Возможно, зависимость изменяется с уровнем экономического развития. На одном конце некоторая степень экономического роста необходима, чтобы сделать нестабильность возможной. Простая апелляция к бедности не выдерживает критики, поскольку люди, которые действительно бедны, слишком бедны, чтобы участвовать в политике, и слишком бедны, чтобы протестовать. Они безразличны, апатичны и мало подвержены воздействию средств информации и других стимулов, которые могли бы возбудить в них такие ожидания, которые подтолкнули бы их к политической активности. «Люди, испытывающие крайнюю нужду, – пишет Эрик Хоффер, – пребывают в страхе перед окружающим миром и не стремятся к переменам... Существует, таким образом, консерватизм обделенных, столь же глубокий, как и консерватизм привилегированных, и первый является столь же важным фактором сохранения общественного строя, как и последний». Сама бедность является барьером на пути нестабильности. Тот, кто думает лишь о том, где ему следующий раз поесть, не слишком склонен беспокоиться о крупных преобразованиях в обществе. Бедные становятся маргиналами и постепеновцами, озабоченными только небольшими, но абсолютно насущными улучшениями существующей ситуации. Подобно тому как социальная мобилизация необходима для появления мотивов к дестабилизации, также и некоторая степень экономического развития необходима для появления средств дестабилизации.
На другом конце, где располагаются страны, достигшие сравнительно высокого уровня экономического развития, высокие темпы экономического роста оказываются совместимыми с политической стабильностью. Отрицательные корреляции между экономическим ростом и нестабильностью, приводимые выше, являются в значительной мере результатом соединения в рамках одного анализа высокоразвитых и слаборазвитых стран. Экономически развитые страны более стабильны и имеют более высокие темпы роста, чем страны-аутсайдеры. В отличие от других социальных индикаторов темпы экономического роста имеют тенденцию к прямой, а не обратной зависимости от уровня развития. В странах небогатых темпы экономического роста не очень сильно связаны с политической нестабильностью: для 34 стран с душевым ВНП ниже 500 долларов корреляция между темпом экономического роста и смертностью от внутреннего группового насилия составила -0,07. Таким образом, зависимость между темпом экономического роста и политической нестабильностью варьируется пропорционально степени экономического развития. На низких уровнях существует положительная связь, на средних существенной связи не наблюдается, на высоких уровнях эта связь становится отрицательной.
Гипотеза разрыва. Социальная мобилизация оказывает больший дестабилизационный эффект, чем экономическое развитие. Разрыв между этими двумя формами изменения может служить своего рода измерителем влияния модернизации на политическую стабильность. Урбанизация, грамотность, образование, средства массовой информации – все это подвергает традиционного человека воздействию новых форм жизни, новых возможностей удовлетворения потребностей. Этот опыт разрушает познавательные и установочные барьеры традиционной культуры и рождает новые уровни стремлений и желаний. Однако способность переходного общества удовлетворять эти новые ожидания увеличивается много медленнее, чем сами стремления. Отсюда – разрыв между стремлениями и ожиданиями, между формированием желаний и их удовлетворением, или между функцией стремлений и функцией уровня жизни. Этот разрыв порождает социальные фрустрации и неудовлетворенность. На практике величина разрыва может служить неплохим показателем политической нестабильности.
Причины такой зависимости между социальной фрустрацией и политической нестабильностью не столь просты, как может показаться на первый взгляд. Эта зависимость во многом объясняется отсутствием двух потенциальных промежуточных переменных; возможностей для социальной и экономической мобильности и гибких политических институтов. Со времен Реформации энергичный новатор в экономике и убежденный революционер при качественно различных целях имели поразительно сходные аспирации, которые в обоих случаях были продуктом высокого уровня социальной мобилизации. Следовательно, то, в какой мере социальная фрустрация способствует росту политической активности населения, зависит в значительной степени от характера экономической и социальной структуры традиционного общества. Можно представить себе, что фрустрации устранимы посредством социальной и экономической мобильности, если традиционное общество достаточно открыто, чтобы предоставить возможности такой мобильности. Отчасти именно это имеет место в сельских регионах, где внешние возможности для горизонтальной мобильности (урбанизация) способствуют относительной стабильности села в большинстве модернизирующихся стран. В то же время недостаточные возможности вертикальной (профессиональной и экономической) мобильности в городах способствуют их большей нестабильности. Однако, если не считать урбанизации, в большинстве модернизирующихся стран уровень социально-экономической мобильности невысок. В сравнительно немногих обществах существуют традиционные структуры, поощряющие экономическую, а не политическую активность. Землю и все другие виды экономического богатства в традиционном обществе прочно удерживает в своих руках сравнительно немногочисленная олигархия, либо же эти богатства находятся под контролем зарубежных корпораций и инвесторов. Ценности традиционного общества нередко находятся в противоречии с предпринимательством, и последнее может оказаться в значительной мере монополизировано этническим меньшинством (греки и армяне в Османской империи, китайцы в Юго-Восточной Азии, ливанцы в Африке). Кроме того, современные ценности и идеи, вводимые в систему, часто связаны с акцентом на роли государства (социализм, плановая экономика) и могут поэтому побуждать мобилизованных индивидов сторониться предпринимательства.
В этих условиях участие в политике становится для социально мобилизованного индивида средством продвижения. Социальные фрустрации побуждают предъявлять более высокие требования к власти и к расширению своего участия в политике, что, в свою очередь, усиливает требовательность к власти. В то же время отсталость страны в сфере политической институциализации делает трудным, если не невозможным, чтобы требования к власти выражались в законных формах и могли умеряться и встраиваться в политическую систему. В итоге резкий рост политической активности порождает политическую нестабильность. Влияние модернизации, таким образом, предполагает следующие зависимости:
Отсутствие возможностей для мобильности и низкий уровень политической институциализации в большинстве модернизирующихся стран приводят к корреляции между социальными фрустрациями и политической нестабильностью. В одном исследовании были выявлены 26 стран с низким отношением формирования желаний к их удовлетворению и тем самым низкой «системной фрустрацией» и 36 стран с высоким отношением и, соответственно, высокой «системной фрустрацией». Из 26 стран с удовлетворенным населением только шесть (Аргентина, Бельгия, Франция, Ливан, Марокко и Южно-Африканский Союз) имели высокий уровень политической нестабильности. Из 36 «неудовлетворенных» стран только две (Филиппины, Тунис) характеризовались высоким уровнем политической стабильности. Общая корреляция между фрустрацией и нестабильностью равнялась 0,50. Различия в числе голосов, подаваемых за коммунистов в индийских штатах, также могут отчасти объясняться соотношением между социальной мобилизацией и экономическим благосостоянием в этих штатах. Аналогично было показано, что в Латинской Америке конституционная стабильность является функцией экономического развития и политической активности населения. Резкий рост политической активности населения вызывает нестабильность, если он не сопровождается соответствующим изменением уровня экономического благосостояния.
Политическая нестабильность в модернизирующихся странах является, таким образом, в значительной мере функцией разрыва между стремлениями и ожиданиями, порождаемого ростом стремлений, особенно характерным для ранних фаз модернизации. В некоторых случаях аналогичный разрыв с аналогичными же результатами может быть вызван уменьшением ожиданий. Революции часто происходят, когда период устойчивого экономического роста сменяется резким экономическим спадом. Такой спад происходил, по-видимому, во Франции в 1788–1789 гг., в Англии в 1687–1688 гг., в Америке в 1774–1775 гг., перед восстанием Дорра в 1842 г.,[96] в России (как следствие войны) в 1915–1917 гг., в Египте в 1952 г. и на Кубе в 1952–1953 гг. (когда Кастро предпринял свое первое выступление против режима Батисты). Кроме того, известно, что в Латинской Америке перевороты чаще происходят в те годы, когда экономические условия ухудшаются, чем тогда, когда душевой доход растет.
Неравенство и нестабильность. Аристотель видит причину всех мятежей в неравенстве. Политическое неравенство есть по определению неотъемлемая сторона нестабильности. А экономическое неравенство? Скудость данных о распределении доходов и богатства затрудняет проверку предположения, что экономическое неравенство связано с политической нестабильностью. Для 18 стран была получена корреляция 0,34 между индексом Джини неравенства в доходах перед уплатой налогов и смертностью от политического насилия; для 20 стран корреляция между неравенством доходов после уплаты налогов и политическим насилием оказалась равной 0,36. Существуют, однако, более убедительные данные в поддержку связи между неравенством во владении землей и смертностью от внутреннего группового насилия. Не столь высокие показатели корреляции были получены для связи между неравенством во владении землей и частотой случаев насилия. Связь между концентрацией земельных владений и насилием оказывалась, однако, существенно более заметной, если принималась во внимание доля населения, занятого в сельском хозяйстве. В преимущественно сельскохозяйственных странах, как можно предположить, возможности для социально-экономической мобильности лиц, занятых в сельском хозяйстве, ниже, и поэтому неравенство в распределении земли должно быть более тесно связано с насилием. Так это, разумеется, и есть, и корреляция между неравенством во владении землей и насильственной смертностью для сельскохозяйственных стран оказывается равной 0,70.
Модернизация воздействует на экономическое неравенство и тем самым на политическую нестабильность двумя путями. Во-первых, обычно богатство и доходы в бедных странах распределены менее равномерно, чем в экономически развитых странах. В традиционном обществе это неравенство воспринимается как часть естественного порядка вещей. Социальная мобилизация, однако, повышает сознание неравенства и, вероятно, его неприятие. Поток новых идей ставит под вопрос прежний порядок распределения и подсказывает мысль об осуществимости и желательности более справедливого распределения доходов. Очевидным представляется путь быстрых изменений в распределении доходов с помощью государства. Но обычно власть принадлежит как раз тем, кому принадлежат доходы. Таким образом, социальная мобилизация превращает традиционное экономическое неравенство в стимул к насильственному изменению строя.
Во-вторых, в долгосрочном плане экономическое развитие приводит к более справедливому распределению доходов, чем то, которое существовало в традиционном обществе. В краткосрочном же плане ближайшим следствием экономического роста часто оказывается возрастание экономического неравенства. Достижения быстрого экономического роста часто концентрируются в руках немногих групп, тогда как потери распределяются на многих; в результате число обедневших может даже возрасти. Быстрый рост часто связан с инфляцией; инфляционные цены обычно растут быстрее заработной платы с последующей тенденцией в направлении большего неравенства в распределении богатства. Влияние западных правовых систем на незападные общества часто побуждает к замене общинных форм землевладения на частную собственность, а это обычно усиливает неравенство в распределении земли сравнительно с традиционным обществом. Кроме того, в менее развитых обществах распределение доходов в более современном, несельскохозяйственном секторе обычно более неравномерно, чем в сельском хозяйстве. В сельской Индии, к примеру, в 1950 г. 5% семей получали 28,9 % доходов, тогда как в городской части Индии 5 % семей получали 61,5 % доходов. Поскольку же и общее распределение доходов более равномерно в менее сельскохозяйственных, развитых странах, постольку неравенство в распределении доходов в несельскохозяйственном секторе слаборазвитой страны является много более глубоким, чем в таком же секторе развитой страны.
В отдельных модернизирующихся странах влияние экономического роста на экономическое неравенство может становиться весьма заметным...
Экономическое развитие усиливает экономическое неравенство, а при этом социальная мобилизация подрывает его легитимность. Таким образом, оба эти аспекта модернизации вместе способствуют политической нестабильности.
Т. Горр. Почему люди бунтуют[97]
Измерение сильных беспорядков характеризуется в значительной степени спонтанной борьбой в виде мятежей и демонстраций. Это в корне отличается – и статистически, и по существу – от того, что может быть названо измерением революционности, которое характеризуется более организованной и интенсивной борьбой. Это измерение революционности имеет два компонента, предстающие в некоторых видах анализа как отдельные измерения:
1) внутренняя война, как правило, включающая в себя гражданские войны, партизанские войны и некоторые виды переворотов;
2) заговор, обычно охватывающий собственно заговоры, восстания и большинство государственных переворотов.
Эти типы не следует считать абсолютно различными. Анализ, упоминавшийся выше, показывает, что на более обобщенном аналитическом уровне политическое насилие – это более гомогенный мир. Однако внутри этого мира некоторые виды насилия имеют тенденцию возникать одновременно, и появление некоторых видов насилия предотвращает появление других. Принципиальные различия между беспорядками и революцией – это различия в степени организованности и сосредоточенности, отмечаемые Экштейном в его композитной типологии. Основные различия между внутренней войной и компонентами заговора в революционном измерении образуют лишь одну из шкал. Общие определения этих трех форм политического насилия, рассматриваемых в данном анализе, приводятся ниже.
Беспорядки. Относительно спонтанное политическое насилие с реальным и значительным участием населения, включая политические забастовки, бунты, политические столкновения и локализованные восстания.
Заговор. Высокоорганизованное политическое насилие с ограниченным участием населения, включая организованные террористические акты политического характера, маломасштабный терроризм, маломасштабные партизанские войны, перевороты и мятежи.
Внутренняя война. Высокоорганизованное политическое насилие с широкомасштабным участием населения, предназначенное для свержения режима или уничтожения государства и сопровождаемое обширными актами насилия, включая широкомасштабный терроризм и партизанские войны, гражданские войны и революции...
Относительная депривация и аналогичные причины политического насилия
Относительная депривация, определяемая как воспринимаемое расхождение между ценностными экспектациями и ценностными возможностями, носит сущностно общий характер для того, чтобы охватывать или соотноситься с большинством из общих «предпосылок революции», идентифицируемых в других теоретических анализах. Некоторые из этих концептуальных связей рассматриваются здесь не для того, чтобы продемонстрировать, что RD – это «правильное» понятие, а другие нет, а чтобы показать, что дополнительно к ее относительно четкому определению она может синтезировать различные другие понятия.
Согласно Аристотелю, главной причиной революции является стремление к политическому или экономическому равенству со стороны людей, которым этого равенства не хватает, и стремление олигархов к еще большему неравенству, нежели то, которое уже установилось, т. е. расхождение в обоих случаях между тем, что люди имеют из политических и экономических благ, в соотношении с тем, чем, как они считают, должны по справедливости обладать. Эдварде, писавший примерно двадцатью тремя столетиями позднее, считает, что все революции обязаны своим возникновением «подавлению элементарных желаний» и что насилие в любой революции пропорционально степени такого подавления. Ощущение репрессии или «препятствия» развивается, когда «люди начинают чувствовать, что их законные стремления и идеи подавляются или извращаются, что их вполне пристойные желания и амбиции запрещаются и пресекаются...». Введенное Петти понятие «спазм» также схоже с RD. Люди чувствуют «спазм», когда обнаруживают, что удовлетворение их базовых потребностей в свободе и безопасности подвергается чьему-то воздействию и более того, такое давление рассматривается как необходимое и неизбежное, а следовательно неподсудное.
Аналогичные понятия используются современными теоретиками. Лассуэлл и Каплан атрибутируют политическую нестабильность расхождению между экспектациями и «степени... реализации ценностей для масс... Именно низкая степень реализации – несоответствие между реально занимаемой ценностной позицией и ценностью требуемой и ожидаемой – оказывает наиболее прямое воздействие». Золшан утверждает, что вся деятельность, включая революционную активность, начинается с «крайности», определяемой как «расхождение (для личности) между осознанно или неосознанно желаемым или ожидаемым состоянием событий и реальной ситуацией». Оба этих понятия исходят из предположений о состояниях ума революционных акторов, равно как и понятия, упоминавшиеся в предыдущем параграфе. Джонсон не делает такого рода предположений, идентифицируя «выведенную из равновесия социальную систему» как необходимую предпосылку революции, подразумевая под этим макроаналитическое понятие. Однако его выражения на индивидуальном уровне анализа можно без труда интерпретировать с точки зрения RD: она устанавливает расхождения между ценностными ожиданиями людей (на коллективном уровне – их ценностными структурами) и теми средствами, которыми они располагают для получения этих ценностей (на коллективном уровне – «паттернами адаптации к окружению» социальной системы и ее способностью «выполнить функциональные требования»).
Некоторые теоретики неявно используют понятия «фрустрация» или «депривация» для того, чтобы представить побуждение к коллективному насилию. Дэйвис атрибутирует революционные вспышки той фрустрации, которая проистекает из кратковременного спада в достижениях, следующего за длительным подъемом, который порождает экспектации своего продолжения. Подобно этому Лернер описывает разрыв между тем, чего люди хотят, и тем, что они получают, как «фрустрирование» и предполагает, что именно этот разрыв имеет революционные последствия. «Распространение фрустрации в регионах, развивающихся менее быстро, чем того хотелось бы живущим в них людям, может рассматриваться как глубокий дисбаланс между достижением и стремлением... Стремление обгоняет реальное достижение настолько далеко, что многие люди испытывают фрустрацию, даже если они имеют некоторый прогресс в продвижении к своим целям, вследствие того, что они получают гораздо меньше, чем хотелось бы». Крозье говорит, что есть один элемент, общий для всех мятежей, это фрустрация, определяемая как «неспособность кого-то сделать что-то, чего он очень сильно хочет сделать, в силу обстоятельств, находящихся за пределами его контроля». Фейерабенды ассоциируют политическую нестабильность с агрессивным поведением, о котором говорится, что оно меняется со степенью «системной фрустрации». Степень системной фрустрации – это отношение удовлетворения социального желания к конструкции социального желания, или, с точки зрения RD, расхождение между наличной ценностной позицией и ценностными экспектациями.
Козер связывал относительную депривацию с фрустрацией и применял эту связь к объяснению показателей самоубийства. Хозелиц и Уиллнер, расширяя различие между экспектациями и устремлениями, связывают депривацию с потенциалом революции: «Нереализованные устремления продуцируют чувства разочарования, но нереализованные экспектации находят свой выход в ощущениях депривации. Разочарование обычно терпимо; депривация часто нестерпима. Депривированный индивид чувствует побуждение к тому, чтобы исправить какими бы то ни было доступными средствами возникшие у него материальные и психические фрустрации. Поскольку разочарование может порождать семена начинающейся революции, депривация служит катализатором революционного действия».
Антропологическая литература, посвященная ответам американских индейцев на белое завоевание, также использует понятие депривации. К примеру, Нэш показывает, как может возникать депривация, будь то принятие или отвержение ценностей белых и их умений, и предполагает, что агрессивные компоненты индейской тактики выживания являются ответом на эту депривацию. Гешвендер относит мятеж американских негров 1960-х гг. к «относительным депривациям», определяемым в общепринятом социологическом смысле расхождения статуса в отношении референтной группы. Гальтунг, хотя и не пользуется понятием относительной депривации как таковым, относит агрессию внутри общества и между обществами к статусному расхождению или «неустойчивости ранга», что, в сущности, являет собой обобщенную перефразировку аристотелевского тезиса, с которого мы начали этот каталог понятий. Если люди или группы занимают высокий уровень в одном измерении стратификационной системы, но низкий в другом (например, они обладают высоким уровнем власти или образования, но низким доходом), то считается, что они склонны использовать агрессию для достижения высокой или равновесной позиции по всем измерениям...
Паттерны относительной депривации
Следовательно, социетальные условия, в которых искомые и достигаемые ценностные позиции находятся в приблизительном равновесии, могут рассматриваться как «нормальные», однако не всегда имеющие место в современном мире и образующие некую среднюю линию, от которой и производится оценка паттернов изменения. Можно определить три различных паттерна нарушения равновесия:
1) убывающая депривация, при которой групповые ценностные экспектации остаются относительно постоянными, а ценностные возможности воспринимаются как снижающиеся;
2) устремленная депривация, при которой возможности относительно статичны, в то время как экспектации возрастают или интенсифицируются;
3) прогрессивная депривация, при которой наблюдается существенное и одновременное возрастание экспектации и снижение возможностей.
Все три паттерна упоминались в качестве каузальных, или предрасполагающих, факторов политического насилия.
Рис. 1. Убывающая депривация
Модель, графически изображенная на рис. 1, представляет условия, при которых групповой консенсус относительно законно ожидаемых ценностных позиций с течением времени меняется слабо, a средний уровень доступных ценностных позиций существенно понижается. В таких обстоятельствах люди испытывают раздражение вследствие потери того, что когда-то имели или, как они считают, могли бы иметь; они испытывают RD относительно прошлых условий жизни. Ценностная позиция общества в целом может падать вследствие снижения производства материальных благ, снижения способности политической элиты обеспечить порядок или устранить кризис, вмешательства иностранного правления, а также потерь в социальной интегрирующей системе убеждений и сопутствующих норм деятельности. Ценностные возможности могут также падать в одном или более сегментах общества вследствие того, что их члены проиграли в абсолютном выражении в борьбе с другими группам за недостающие ценности. Примеры включают в себя воздействие прогрессивного налогообложения богатых и регрессивного налогообложения бедных; утрату политического влияния элитой и оппозиционными группами, недавно отстраненными от политической деятельности; снижение статуса и влияния, ощущаемое группами среднего класса по мере возрастания статуса групп рабочего класса. Ценностная позиция или потенциал конкретной группы также могут рассматриваться как приходящие в упадок не вследствие какого-либо сокращения или перераспределения общей суммы доступных ценностей, а вследствие сокращения числа возможностей, например в сфере занятости для работников неквалифицированного труда в высоко индустриализированных обществах, и недостатка устойчивых общинных связей у мигрантов, недавно прибывших в город из сельской местности...
Ряд теоретиков относят политическое насилие полностью или частично на счет убывающей депривации...
Устремленная депривация
Модель устремленной депривации, изображенная на рис. 2, характеризуется возрастанием ценностных экспектаций без сопутствующего изменения в ценностной позиции или потенциале. Те, кто испытывает устремленную RD, не предвидят или не испытывают значительной потери того, чем они обладают; они приходят в раздражение от ощущения того, что не располагают средствами для достижения новых или возрастающих экспектаций. Рост ценностных экспектаций может отражать запрос все большего количества материальных благ и большей степени политического порядка и справедливости. Это может быть запрос новых ценностей, какими никогда прежде не обладали, таких как политическое участие для жителей колоний и личное равенство для представителей низших классов и кастовых групп. Кроме того, это может представлять собой интенсификацию (или усиление) претензий на ценностную позицию, которой раньше добивались слабо, например интенсификацию запросов на предметы роскоши среди тех, кто испытывает упадок общинной жизни на ранних этапах модернизации, и интенсификацию требований на доступ к позициям политической элиты среди восходящих слоев буржуазии в Европе XVII и XVIII вв. Степень и отчетливость ценностных экспектаций очень часто возрастают одновременно, но необязательно в тесной связи между собой. Например, современные запросы черных американцев на социальное равенство, сравнимые с требованиями, выдвигавшимися в 1940-х гг., являются отражением возрастания отчетливости статусных ценностей среди негров, сдвига от едва ощутимых стремлений к равенству к интенсивно возрастающему убеждению, что они заслуживают равенства здесь и сейчас, – опережающего возрастание степени искомого равенства.
Рис. 2. Устремленная депривация
Многие из источников возрастания ценностных экспектаций идентифицируются в исследованиях RD и политической нестабильности. Для некоторых традиционных народов простой показ лучшего в материальном смысле образа жизни или знание о нем предполагают возрастание экспектаций. В Европе периода Средневековья и раннего Возрождения рост индустриальных и коммерческих центров демонстрировал новые возможности, лежащие за пределами того, что могла предоставить жизнь крестьянина. Новые способы достижения этих возможностей привлекали отчасти избыточное население, но также и тех, кто был по тем или иным причинам не удовлетворен жизнью в феодальном поместье. «По мере расширения социальных и экономических горизонтов, нужда, нищета и зависимость переставали быть неминуемой долей простого люда». Особый случай демонстрации возможностей – это «относительная депривация» в узком смысле слова, т. е. размещение ценностных экспектаций по отношению к более высоким ценностным позициям какого-то другого индивида или группы. В частности, повышение уровня экспектаций нередко ускоряется демонстрацией примера других групп, положение которых улучшается, в то время как положение собственной группы остается без изменений. Броган наблюдал, как новые способы и новые богатства, порождаемые Индустриальной революцией, пробуждали революционный пыл у многих интеллектуалов. Люди, подобные Фридриху Энгельсу, «были шокированы тем парадоксом, что средства благосостояния возрастали и что прибыли этих благосостоянии все более и более вознаграждались». Расхождение между относительной долей благосостояния, которой обладает индивид или группа, власти и межличностных ценностей также особым образом соотносится многими теоретиками с политическим насилием, и среди них Аристотель, который писал, что источником предрасположенности к революции «является стремление к равенству, провоцирующее людей к мятежу, когда они полагают, что обладают малой долей... даже если эта доля равна той, что есть у немногих привилегированных, и именно стремление к неравенству или, другими словами, – к превосходству провоцирует к мятежу олигархов, когда они считают, что, несмотря на наличие неравенства, их доля не больше, чем у других, а равна ей или даже меньше»...
Прогрессивная депривация
Третий паттерн RD, изображенный на рис. 3, – это обобщенная версия модели, предложенной Дэйвисом, который относит ее к гипотезе так называемой «j-кривой»: революции с наибольшей вероятностью происходят тогда, когда продолжительный период экономического и социального восходящего развития сменяется периодом резкого изменения его направления на обратное. Его можно рассматривать как особый случай устремленной RD, при котором долгосрочное, более или менее устойчивое улучшение ценностных позиций людей порождает у них экспектаций продолжения улучшения. Если ценностные возможности стабилизируются или начинают снижаться после такого периода улучшения, результатом этого становится RD. Этот паттерн наиболее распространен в обществах, претерпевающих одновременные системные и идеологические изменения. Такое воздействие может оказать экономическая депрессия в растущей экономике. То же самое относится к артикуляции идеологии модернизации в обществах, обладающих структурной ригидностью, которая препятствует выходу ценностной экспансии за пределы заданных рамок. Эта модель может быть также использована для классификации некоторых теорий революции, использующих понятие «социального изменения», которые в общей их форме постулируют, что политическое насилие является следствием снижения отзывчивости социальных структур, убеждений, норм или всех их вместе взятых на объективно происходящие изменения.
Рис. 3. Прогрессивная депривация
Дэйвис подчеркивает, что революционное состояние сознания требует «продолжительной, даже привычной, но динамичной экспектации более обширных возможностей для удовлетворения базовых потребностей», под которыми он подразумевает все типы ценностей – физических, социальных и политических. Кроме того, требуется «постоянная, неослабевающая угроза удовлетворению этих потребностей: не та угроза, которая реально возвращает людей в явное состояние борьбы за выживание, а то, что приводит их в ментальное состояние убежденности, что они не могут удовлетворить одну или более из своих базовых потребностей... Решающим фактором является смутный или конкретно осознаваемый страх, что фундамент, создававшийся в течение длительного времени, будет утрачен».
Политическая система воспринимается как источник таких страхов; они генерируются, «когда существующее правительство подавляет или обвиняется в подавлении таких возможностей». В поддержку этого тезиса Дэйвис идентифицирует «j-кривую» паттерна прогресса, сопровождаемого относительным спадом, в кейз-стади предпосылок ряда революций и бунтов, включая Французскую, Русскую и Нацистскую революции, Американскую гражданскую войну и Египетскую революцию 1952 г. Он показывает, например, что восстание Дорра на Род-Айленде в 1842 г. произошло после сорокалетнего периода улучшения экономических условий и расширения политических прав. Экономическая депрессия 1835–1840 гг. и отказ олигархического правительства удовлетворить требования дальнейшего расширения прав привели к разработке проекта Народной конституции, попытке захвата государственных зданий и спорадическим вспышкам насилия. <...> Доходы негров относительно доходов белых в сопоставимых единицах быстро вырастали в направлении уравнивания между 1940 и началом 1950-х гг., а затем эти темпы начали уменьшаться, так что к началу 1960-х была утрачена половина прироста предшествующего периода. По терминологии этого исследования оба кейза характеризовались возрастанием ценностных экспектации, приведенным в движение продолжительным опытом повышения ценностных позиций. Снижение возможностей, проявившееся в нежелании политиков расширить политические права, в экономическом спаде, создало базовые условия, необходимые для вспышки насилия.
Имеет сходство с аргументацией «j-кривой» и предложенное Ле Вайном объяснение неорганизованного насилия африканских колониальных народов, направленного против их правителей. Об этих беспорядках говорится, что они являлись следствием психологического конфликта, возникшего в результате поощрения экспектации самоуправления со стороны колониальной администрации, заявленного в их политике и практической деятельности, но впоследствии сменившегося другой политикой, которая, как считали африканцы, приходила в столкновение с достижением этих экспектации. Ле Вайн описывает семь случаев, которые подтверждают эту гипотезу. Гипотеза «/-кривой» подразумевается также в той интерпретации, которую Дейч приводит для объяснения связи между способностями правительств и политической стабильностью в обществах, находящихся на ранних и средних этапах модернизации. Возрастание возможностей как объект правительственной политики требует усиления мобилизации граждан на участие в рыночной экономике и политической жизни. «Однако такая мобилизация сопровождается возрастанием потребностей и экспектаций, которые не должны быть фрустрированы, если желательно сохранить стабильность». Чтобы сохранить стабильность, т. е. минимизировать RD и последующее побуждение к насилию, производительность должна продолжать расти. Дейч приводит только два типа возрастания производительности: увеличение дохода на душу населения и расширение правительственной деятельности, но его аргументацию легко распространить и на другие классы ценностей.
Прогрессивная RD является общей темой во многих старых и новых теориях, которые атрибутируют революционный потенциал общему социальному изменению. Некоторые версии этих теорий подчеркивают структурную негибкость, т. е. неспособность социальных и политических институтов адаптировать свое производство ценностей к изменяющимся условиям. Йодер, например, полагает, что изменение в социальной жизни непрерывно и что организованная группа должна – и обычно делает это – приспосабливаться к изменениям ситуации, происходящим вследствие изобретений, открытий, культурных контактов и т. д. Однако в некоторых случаях группы внутри общества желают сохранения старого порядка – «традиционных институтов, испытанных временем обычаев, нравов», даже если они нерелевантны нынешним обстоятельствам. Разработанная Джонсоном теория социал-дисфункции источников политического насилия принадлежит к тому же жанру, хотя ее словарь более современен. Одним из условий революции является выведение социальной системы из равновесия, т. е. расхождение между структурой убеждений в обществе и разделением труда в нем, которое может быть результатом любой комбинации внутренних сил или внешних изменений в ценностях или технологиях. Второе необходимое условие – это отказ («непримиримость») элиты предпринять действия, направленные на уменьшение нарушения равновесия (разбалансировки). Следствием этого становится потеря элитой авторитета и возлагание ею надежд на укрепление своих позиций с помощью силы. Достаточной причиной революции в такой ситуации является «акселератор (ускоритель) дисфункции», любое условие, которое снижает способность элиты к осуществлению контроля над ее вооруженными силами...
Детерминанты интенсивности: степень относительной депривации
Большая часть свидетельств, приведенных выше, основана на измерениях RD относительно ценностей благосостояния. Полная оценка степени RD относительно каждой из нескольких категорий должна была бы использовать общие шкалы ценностных позиций, такие как у Кантрила, или шкалы для измерения степеней RD относительно каждой из нескольких категорий ценностей. Хотя изначально это исследование не имело дела с разработкой операциональных средств для оценки теоретических переменных, можно предложить два операционально полезных определения степени RD. Одно из них – отношение расхождения между ожидаемой и достигаемой ценностными позициями к ожидаемой ценностной позиции, или:
где Ve – это ожидаемая ценностная позиция, a Vc – это ценностная позиция, воспринимаемая как достижимая. Определение с этой точки зрения полагает, что возможен определенный порядок количественных измерений.
Например, итальянских индустриальных рабочих в 1955 г. спрашивали, каков их реальный месячный заработок и сколько, по их мнению, они должны бы получать; они получали в среднем 90 долларов, но хотели бы 176. Для сравнения: французские рабочие получали в среднем 114 долларов, а рассчитывали на 170 долларов. Если бы мы приравняли Vcк реально получаемой зарплате, аУ, – к желаемой, то уровень RD для итальянских рабочих составил бы 0,55, а для французских рабочих – 0,35. Отдельно взятый рабочий, уволенный и не имеющий перспектив трудоустройства или других в будущем, будет испытывать RD максимально возможно высокого уровня в 1,00. Расчеты отношения могут быть также использованы для ценностных позиций, определяемых в дихотомических единицах. К примеру можно было бы определить порог статусно-ценностного континуума и присвоить значение 1 индивидам и группам, обладающим ценностной позицией выше пороговой, а 0 – тем, чья ценностная позиция ниже пороговой. В этом случае единственно возможными значениями уровня RD будут 0 и 1, но такие отметки можно усреднить для любого ряда индивидов и групп.
Таблица 4
Устремленная RD в тринадцати национальных популяциях (1960) и размеры беспорядков в 1961–1965 гг.
Источник: Репрезентативные кросс-национальные выборки, о которых сообщалось в: Cantril H. The Patterns of Human Concerns. New Brunswick, 1965. P. 187.
aИз этого сравнения исключены данные по Соединенным Штатам на том основании, что там высокие уровни беспорядков можно отнести на счет сегментной RD черных американцев, которые неправильно репрезентированы в любом национальном измерении RD. Общий уровень средней депривации по США составляет 3,4.
ьСреднее число единиц измерения разрыва между ценностной позицией респондентов на момент измерения и устремлением их ценностной позиции по одиннадцатибалльной шкале взято из: Cantril H. The Patterns of Human Concerns. P. 187. Верхняя и нижняя граница шкалы были «зафиксированы» путем обращения к каждому респонденту с просьбой указать его возможно наилучшее и возможно наихудшее будущее; затем его просили указать реальную позицию на момент интервью.
сОсновано на пересмотре данных из: Gurr T. A Causal Model of Civil Strife. Величина измерения беспорядков берет в расчет долю населения, принимавшего участие в таких беспорядках, как демонстрации и бунты, продолжительность событий и их пропорциональную интенсивность. Сравнительно высокий уровень депривации в Польше и Югославии в соотношении с размерами беспорядков можно отнести на счет функций коерсивной политики этих режимов.
dКоэффициент корреляции Спирмена г. Для и = 13 корреляция значима при уровне 0,05.
Альтернативное операциональное определение уровня депривации заключается в том, что в качестве его принимают разность между ожидаемой и достигаемой ценностной позициями. Например, можно было бы сконструировать порядковую шкалу для ценностного измерения уровня политического участия, включающую такие категории, как «никакого участия» (0), «периодическое голосование с эффективным выбором» (3), «лидерство в местной политической организации» (5) и «политическое лидерство на национальном уровне» (8). Индивид или ряд индивидов, которые желают достичь уровня пятого порядка, но смогли достичь лишь третьего, будут иметь ранговое различие уровня RD в два, которое можно усреднить, а также подвергнуть сравнению с другими...
Детерминанты масштабов относительной депривации
Некоторая неудовлетворенность существует почти у всех членов всех обществ, так что в глобальном анализе, который не делает различий между социальными группами или типами интенсивности RD, масштаб RD приближается к 1. Но, вероятно, в любой данной группе существует диапазон неудовлетворенности, в общей форме показанный на рис. 4. Решающий эмпирический вопрос заключается в том, какая доля населения или какие особые сегменты его, вероятно, будут неудовлетворенными за пределами некоего порогового значения X. Выбор порога зависит от конкретных эмпирических целей и процедур. При использовании опросных методик одним из возможных порогов может стать согласие респондента с таким ответом, как «я думаю, что люди должны предпринять любые действия, законные или незаконные, чтобы исправить сложившийся порядок вещей». Используя социетальные данные, можно оценить примерную долю населения, которая со структурных позиций будет, вероятно, испытывать неблагоприятное воздействие определенного типа событий или условий. Поскольку последний подход наиболее применим для кросс-национальных сравнительных исследований коллективного насилия, он может оказаться полезным при выборе альтернативных стратегий и разработке выводов о масштабах RD и для того, чтобы наметить некоторые путеводные линии для определения масштабов RD, вызванной различными типами ценностно-депривирующих условий. Дискуссия будет также иллюстрировать типы дополнительных условий, способных вызвать RD.
Рис. 4. Гипотетическое распределение интенсивности RD в коллективности
М.Доган. Эрозия религиозных мотивов и голосования по классовому признаку в Западной Европе[98]
...На протяжении последней четверти века почти во всех западных демократиях эти два фактора – религия и социальный класс, которые в совокупности определяли электоральное поведение, – постепенно утратили свою статистическую значимость.
Упадок значимости обоих факторов сопровождался падением роли партий и идеологий в политической жизни. Это явление, требующее объяснения, было частично поглощено последствиями упадка значимости роли класса и религии.
Переплетение различий в плюралистических демократиях
Плюралистические демократии представляют собой сложные общества, характеризующиеся множественностью форм расслоения. Равновесие в таких обществах достигается за счет взаимопересечения границ экономического, социального, религиозного и культурного расслоения. Существуют два типа расслоений. Вертикально общество разделяется по таким культурным признакам, как религия, язык, этническая принадлежность и социальная память. Горизонтальное расслоение формирует экономические и социальные слои, характеризующиеся такими признаками, как классовая принадлежность, уровень дохода, уровень образования, тип поселения (городской или сельский), профессиональная принадлежность и т. д.
Во всех европейских странах существуют оба типа расслоения, хотя в различных сочетаниях. В каждой из стран границы слоев пересекаются по-своему, что и придает своеобразие конкретному обществу. Страна, где существует только вертикальное разделение, обречена на раскол. Если обществу навязано множество форм горизонтального расслоения, не уравновешенного вертикальными различиями, то в стране будут происходить социальные волнения. Ткань надежно устоявшейся демократии формируется путем переплетения различий. Лучший способ изучения социологии выборов – сосредоточить внимание именно на этих узлах переплетения различий.
Горизонтальные конфликты значительно легче разрешить, чем вертикальные. Многие политические явления, результаты выборов в частности, могут объясняться этим неравенством возможностей, возникающим при необходимости разрешить социально-экономические или культурные конфликты. В течение долгого времени в большинстве стран вертикальные различия брали верх над горизонтальными, но сегодня, как представляется, эти типы различий в определенной степени уравновешивают друг друга.
В сфере экономических, социальных и финансовых проблем возможно достижение компромиссов. Верно, что найденные решения могут оказаться лучше или хуже: значительное повышение уровня зарплаты может нарушить экономический баланс, к такому же результату может привести и чрезмерное сокращение рабочего времени. Решения могут иметь положительные или отрицательные последствия. Однако в данном случае нас интересуют не результаты компромиссов, а возможность договариваться. Конкретная социальная или экономическая реформа может быть продолжена или остановлена; положение данной социальной группы может улучшиться или ухудшиться в зависимости от направленности задействованных сил, стратегии групп давления, искусства их лидеров и текущей экономической конъюнктуры; однако имеется возможность диалога и достижения соглашения, хотя цена может оказаться высокой. Совсем иначе обстоит дело с компромиссами по культурным проблемам – их достичь нелегко, а иногда и невозможно...
Классическая модель электорального поведения
В течение длительного периода для объяснения тех или иных изменений в электоральном поведении было вполне достаточно двух социальных индикаторов – класса и религии. Исходя из совокупного эффекта этих факторов, можно было предсказывать результаты выборов. Однако относительная значимость каждого из них в разных странах была различной. В этом отношении страны распадались на две группы: в первой (самой большой) религиозный фактор доминировал, во второй (состоящей из относительно небольшого числа стран) доминировал фактор класса.
При исследованиях выборов социальный класс был, образно говоря, помещен на пьедестал. Утверждение о доминирующей роли класса в электоральном поведении можно обнаружить в десятках книг о Западной Европе, особенно примечательно то, что авторами нескольких из них являются американские ученые. Однако это рискованное обобщение оспаривалось в работах Догана (1960), Сарто-ри (1969), Роуза и Эрвина (1969), Роуза (1974), Лейпхарта (1968, 1973, 1976), Инглхарта (1990), Липсета (1981, 1991), написанных на основе сравнительных материалов, а также в работах многих других специалистов, базирующихся на материалах отдельных стран. Пора отказаться от этого глубоко укоренившегося взгляда, разделяемого даже немарксистскими авторами. Он основан на данных 1950-х и 1960-х гг., полученных в небольшой группе стран, где исследования в области социологии выборов начались лишь после войны. В упомянутую группу входят Соединенные Штаты, Великобритания и скандинавские страны – все они по большей части являются протестантскими. В 1950-е гг. положение индивида в социальной структуре общества этих стран и уровень его дохода в большей степени влияли на голосование, чем религиозная принадлежность (протестантская или католическая) либо чем такой признак, как соблюдение религиозных обрядов. Обсуждение примера США увело бы нас слишком далеко от сути вопроса. Достаточно отметить поддержку католиками демократической партии, подвижность границ социальных слоев, низкий уровень участия в голосовании представителей бедных слоев, влияние этнической принадлежности избирателей в полиэтническом обществе. В то же время пример Великобритании заслуживает особого внимания.
Литература об электоральном поведении англичан обширна и содержит несколько исследований высокого научного уровня. Великобритания считается классической моделью классового голосования, поэтому ее пример особенно убедителен. Рассмотрим имеющиеся результаты. Р. Роговски, осуществив вторичный анализ данных опроса, проведенного Батлером и Стоуксом, показал, что попытки сконструировать улучшенный социальный индикатор электорального поведения с помощью регрессивного анализа, учитывающего профессию, уровень образования, социальный статус отца, членство в профсоюзе, жилищный статус (владение или найм) и проч., дали достаточно разочаровывающие результаты. Все эти признаки социального класса помогли объяснить подоплеку голосования не более чем 28 % избирателей в 1963 г., т. е. в то время, когда социальный класс все еще считался фактором огромной важности. Если бы в регрессивный анализ включались признаки вертикального разделения общества, то результаты могли быть более удовлетворительными. Вертикальные и горизонтальные слои подобны сообщающимся сосудам.
Однако каково бы ни было объяснение ситуации в этих странах, даже если принять гипотезу о том, что там в 1950-е гг. социальный класс являлся самым существенным фактором при голосовании, то обобщение данных, относящихся лишь к нескольким протестантским странам, до уровня общеевропейских не выдерживает эмпирической проверки.
На деле оказалось, что для десяти европейских стран на протяжении многих десятилетий, и особенно в 1950-е и 1960-е гг., признаки вертикального разделения (религиозная принадлежность, глубина религиозной веры, соблюдение религиозных обрядов, этническая или языковая принадлежность и проч.), именуемые на языке социологии «аскриптивными признаками», были более характерны, чем «приобретенные признаки», которые относятся к категории социально-экономических. В эту десятку входят: Франция, Италия, Германия, Голландия, Бельгия, Австрия, Швейцария, Ирландия, Испания и Португалия (для двух последних взят период после установления там демократии). Сегодня, несколько расширяя пределы Западной Европы, мы могли бы включить в данный перечень Словению, Хорватию, Чешскую Республику, Словакию, Польшу, Венгрию, Румынию, Литву, Латвию, Эстонию, Боснию, Герцеговину и Кипр. Почти во всех этих странах Восточной Европы национальная, этническая и религиозная идентичность значительно глубже, чем классовая...
Класс и религия, которые некогда выступали в качестве важнейших факторов, объясняющих электоральное поведение, некоторое время назад утратили свою прогностическую ценность – как индивидуальную, так и совокупную. Эта эрозия классической модели может определяться глубокими изменениями в обществе, а также падением значимости социального класса, религии и роли политических партий...
Падение роли классового голосования
Хотя в постиндустриальном обществе количество синеворотничковых рабочих сократилось, социалистические партии, получившие в Европе повсеместное распространение (за исключением Ирландии), по-прежнему процветают, что стало возможным только благодаря приливу в ряды демократического социализма представителей средних классов. Иными словами, диверсификацию электората социалистов можно объяснить скорее ростом численности средних классов, чем сокращением численности рабочего класса...
Простая статистика показывает, что различное соотношение электората среднего класса и рабочего класса в 1960 г. и в 1990 г. влияет на величину доли голосов каждого, поданных за левых, и общий состав голосов, отданных социалистам. Две тенденции отражаются на положении рабочего класса – сокращение его численности и изменение состава.
При любых оговорках в адрес обновленного индекса классового голосования, который представлен в научной литературе, следует исходить из того, что имеющиеся данные указывают на ослабление роли социального класса как фактора, объясняющего электоральное поведение.
Во Франции доля избирателей, относимых к промышленным рабочим, упала с 51 % в 1951 г. до 41 % в 1965 г., а затем до 30 % в 1968 г. До недавних пор Франция демонстрировала значительные различия по географическому распределению электората. Имеются данные экономического, религиозного и политического характера за период 1950–1970 гг. по 3 тыс. административных единиц, называемых кантонами, которые стали предметом территориального изучения. Агрегатный анализ и результаты опросов показывают, что в 1950-е гг. существовала значительная корреляция между принадлежностью к социально-экономическим слоям и голосованием, однако ее уровень менее высок, чем уровень корреляции между соблюдением религиозных обрядов и голосованием.
Индекс классового голосования значительно упал за десятилетний период правления голлистов. На деле более трети голосов электорального большинства, полученного голлистами на выборах 1962, 1965 и 1968 гг., принадлежала избирателям из рабочего класса, хотя в это время промышленные рабочие составляли от 38 до 41 % трудового населения. На президентских выборах 1974 г. и парламентских выборах 1978 г. индекс классового голосования, измеряемый по схеме «правые» – «левые», изменился весьма незначительно вследствие притока к социалистам голосов нижнего среднего класса, т. е. лиц, работающих по найму, и падения числа голосов рабочих за коммунистов (хотя абсолютное число избирателей из рабочих сократилось). На выборах 1978 г. разница между долей голосов рабочего класса (65 %) и долей голосов учителей начальных школ, техников и конторских служащих, поданных за левых, сократилась. Левые тогда получили среди последних трех категорий избирателей соответственно 65, 57 и 54 % голосов.
Избрание социалиста на пост президента в 1981 г. и его переизбрание в 1988 г. в сочетании с результатами парламентских выборов того периода способствовали завершению превращения социалистов в партию среднего класса и продемонстрировали постепенное падение влияния коммунистов в рабочем классе. Индекс классового голосования получил еще один удар: в 1988 г. разрыв между долей голосов рабочих и долей голосов служащих, поданных за левых, практически исчез: показатели соответственно составили 68 и 64 % (SOFRES, 1988).
Редкое явление в электоральной истории Франции произошло на президентских выборах 1995 г., когда значительное число промышленных рабочих проголосовало за крайне правых (то же самое в свое время произошло в Веймарской республике); опрос на выходе из избирательного участка показал, что 31 % промышленных рабочих проголосовали именно таким образом. По данным этого опроса общее число голосов, поданных за кандидата коммунистов и крайне правого кандидата, составило не более 22 %, за кандидата социалистов – 21 %, а за правоцентристских кандидатов – 25 %. Другими словами, более половины избирателей из рабочего класса отдали голоса за крайне правого и крайне левого депутатов, демонстрируя неудовлетворенность годами правления социалистов. Наиболее значительная доля голосов рабочего класса, поданных за крайне правых, отмечалась в городах и округах со значительным числом иммигрантов-неевропейцев. Такова была реакция избирателей на социальные условия. В определенных социальных условиях обнаруживалось сходство между крайне правыми и крайне левыми. Уже в 1993 г. разница в доле голосов рабочих и служащих, поданных за социалистических и коммунистических кандидатов, была весьма незначительной. В 1995 г. индекс классового голосования составил отрицательную величину, и это была не просто неудача, а провал.
В Италии в 1950-е гг. бедное сельское население составляло пятую часть электората: в одних районах оно голосовало за коммунистов, а в других – за христианских демократов. Постепенно численность сельского населения, включая фермеров-арендаторов, стала сокращаться. В то же время росло число промышленных рабочих, сконцентрированных на окраинах крупных городов северной и центральной Италии.
Италия дает пример значительных региональных различий как социального, так и политического характера. Они выявляются с помощью социологического анализа агрегированных данных в сочетании с анализом сведений, полученных в ходе выборочных опросов. Ограничиваясь анализом контингента промышленных рабочих, мы находим, что в 1950-е гг. около двух третей из них голосовали за коммунистов, социалистов и социал-демократов (в 1958 г. эти партии получили соответственно 37, 29 и 5 % их голосов). Христианские демократы получили четверть голосов рабочих. Этот раскол голосов классов впечатляющ, но он не столь существенен, как раскол по признаку религии. Начиная с 1970 г. равновесие влияния коммунистов и социалистов стало нарушаться в положении последних, однако в совокупности партии по-прежнему завоевывали большинство голосов рабочего класса. Между тем социалистическая партия привлекла на свою сторону все больше голосов служащих. Рост рядов средних классов и числа работающих по найму также способствовал укреплению однородности электората ком-мунистов в период 1980-х гг. То же самое произошло и с другими партиями.
В начале 1990-х гг. в условиях глубокого кризиса, когда легитимность режима оказалась под угрозой, старые партии были перестроены, некоторые из них раскололись, многие лидеры исчезли с политической арены, доктрины изменились, появились новые партии. Коллапс режима «партократии» привел к ослаблению связей между социальными слоями и партиями. «Социальный класс» лишился своего места в системе и даже в политических идеологиях.
Бейкер, Дальтон и Хильдебрандт провели на материале пяти парламентов выборов в Германии периода 1953–1970 гг. анализ корреляции их результатов такими факторами, как социальный статус, религиозный статус, региональная принадлежность и место жительства избирателей (город или сельская местность). На основе этого исследования ученые заключили: «Мы обнаружили, что за прошедшие два десятилетия имело место заметное снижение совокупно значимости этих четырех социоструктурных факторов». Они видят причину такого явления в экономическом процветании. В качестве индикаторов социального статуса ученые использовали данные о профессии, уровне дохода и образования, которые коррелируют между собой. Именно изменение социального статуса в значительно большей степени, чем изменение других переменных (особенно религиозного статуса), является причиной уменьшения числа голосов рабочего класса, подаваемых за социалистическую партию. Р. Дальтон в новом исследовании, охватывающем 1953–1983 гг., обновляет индекс Элфорда и демонстрирует его резкое снижение в ходе девяти последовательных парламентских выборов: 30, 37, 26, 12, 17, 16, 16, 10. Значимость «социального класса» в качестве основного фактора, объясняющего исход голосования, падает почти до предела...
Швеция являет собой идеальный пример для проведения сравнительного исследования классового голосования. Эта страна – модель неокорпоративистской демократии, где социал-демократы находились у власти 44 года подряд, вплоть до 1976 г., а затем после шестилетнего перерыва снова стали правящей партией. В 1980 г. треть рабочей силы Швеции была занята в госсекторе; в результате роста таких сфер, как здравоохранение, пенсионное обеспечение, образование, строительство субсидируемого жилья, социальная помощь семье и проч., на долю промышленности, шахт и строительства оставалась лишь треть рабочей силы. Доля ВНП, контролируемая (присваиваемая и перераспределяемая) государством и муниципалитетами, резко выросла с 30 % в 1960 г. до 70 % в 1983 г. Индекс Элфорда был рассчитан группой шведских специалистов для периода 1956–1982 гг., охватывающего девять парламентских выборов. Падение его величины очевидно, несмотря на отдельные незначительные колебания, обусловленные большей или меньшей степенью успешности деятельности партии: 53, 55, 47, 42, 39, 44, 36, 38, 35. Это падение связано с увеличением числа голосов наемных рабочих из числа среднего класса, отдаваемых социал-демократической партии.
Классовое голосование падало и в других скандинавских странах по тем же основным причинам, что и в Швеции: рост обслуживающего сектора и поддержка социал-демократов со стороны значительной части «беловоротничкового электората», занятого в этом секторе. В Дании индекс классового голосования снизился наполовину за период девяти выборов, происходивших с 1957 по 1984 г.: 58, 56, 56, 53, 43, 27, 36, 43, 27. В Финляндии отмечалось сходное падение индекса за период между 1948 и 1984 г.: 46, 54, 40, 32; а в Норвегии зафиксировано столь же резкое падение за период семи выборов между 1949 и 1979 г.: 49, 44, 44, 40, 36, 37, 29. Эти доходчивые цифры появились в результате многофакторного анализа. Авторы признают, что использование приема, построенного на двойной дихотомии («левые» – «правые» и промышленные рабочие – средний класс), ведет к упрощенчеству, они допускают также, что за исследуемый период социальная структура претерпела изменения. Однако несмотря на критику, которая может быть направлена в адрес указанного приема, нужно признать, что обобщение требует упрощения. Нет иного способа получить некую квинтэссенцию в результате переработки огромного объема электоральной статистики.
Р. Роуз и Д. Эрвин считают, что партию, которая получает две трети голосов от избирателей одной и той же социальной категории, следует рассматривать как «сплоченную», а партию, которая получает меньше двух третей таких голосов, следует квалифицировать как «разнородную». На деле же мы здесь имеем статистический артефакт. Рассмотрим пример социалистов. Если проанализировать длительный период с начала века, то можно сформулировать нечто вроде социологического закона: когда социалистические партии были небольшими, они в основном объединяли рабочих, когда же они выросли и стали массовыми, а иногда и правящими, то превратились в социально разнородные партии. Этот феномен был заметен уже в конце 1950-х гг.: «чем больше голосов получают социалисты, тем меньшую часть их электората составляет рабочий класс». В нынешних плюралистических демократиях нет ни одной ведущей партии, которая была бы однородной в социальном или религиозном отношении. Только небольшие партии могут иметь однородный состав...
Падение роли религии в электоральном поведении
Практически во всех европейских демократиях упало влияние религиозного фактора на электоральное поведение, поскольку там повсеместно ослабли вера и соблюдение религиозных обрядов. Здесь нет смысла углубляться в историю данного явления, многие недавние опросы свидетельствуют об этом.
Наиболее оптимальный вариант описания ослабления религиозного раскола в обществе связан с исследованием какого-то определенного четкого, идеального случая, поэтому обратимся к примеру Голландии, поскольку ее опыт в религиозной сфере начиная с 1917 г. и до наших дней имеет первостепенное значение в качестве урока для Европы в целом. В голландском обществе католики, кальвинисты, протестанты-реформисты, либералы и агностики с давних пор были отделены друг от друга непроницаемой стеной. Децентрализованная страна имела несколько крупных городов, среди которых ни один не играл доминирующей роли, Голландия сформировалась как федерация общин и муниципалитетов. В 1917 г. в разгар Первой мировой войны она ввела принцип пропорционального представительства. Объединенная демократия была установлена на основе признания «блоков» и «колонн». Как массы, так и элиты были вертикально структурированы. В таком обществе классовое голосование носило рудиментарный характер.
Ситуация начала меняться в середине 1960-х гг., в то самое время, когда объединенная демократия приближалась к поре зрелости. Процесс секуляризации порождал упадок влияния трех партий, опиравшихся на различные религиозные общности. Эти партии были вынуждены самораспускаться и слиться в единую Христианско-де-мократическую партию, которая потерпела серьезное поражение на выборах 1994 г.
Доля голландцев, заявлявших, что они не принадлежат ни к одной религиозной конфессии, выросла с 24 % в 1958 г. до 42 в 1975 г., 54 % – в 1987 г. и 57 % – в 1992 г. Доля заявивших о принадлежности к католицизму или протестантизму упала с 75 % в 1958 г. до 38 % в 1992 г., в то же время совокупная доля приверженцев иных идеологий (социализма, либерализма, гуманизма, коммунизма, агностицизма) выросла с 25 до 61 %. Некогда Голландия являла в Европе пример наиболее жестко структурированной и наименее гибкой в религиозном отношении страны, а сегодня она (наряду со Швецией) – наименее религиозная страна в этом регионе. Раньше религиозный фактор во многом определял особенность электорального поведения. Однако ныне его место занял отнюдь не классовый фактор. Сегодня электоральное поведение определяют текущие проблемы материального характера, а также имеющиеся политические альтернативы...
По Германии имеется богатый документальный материал более чем за 40 лет, отражающий зависимость голосования от религиозной принадлежности степени соблюдения обрядов. Он свидетельствует о постепенном падении значимости религиозного фактора. Если 30 лет назад с помощью двух критериев – религиозная принадлежность и соблюдение обрядов – можно было в основном объяснить электоральное поведение, ныне они дают очень немного для его понимания, к тому же только в отношении голосования престарелых избирателей.
В Италии результаты множества опросов, проводившихся Институтом Доке в период 1953–1963 гг., показывают, что две трети населения считали коммунизм и католицизм совершенно несовместимыми понятиями. Предполагалось, что в одно и то же время нельзя быть «хорошим католиком» и «хорошим коммунистом». В соответствии с теми же данными почти половина итальянцев полагала, что католицизм точно так же несовместим и с социализмом, который в то время еще носил марксистский характер. В 1960-е гг. подавляющее большинство итальянцев было против любого альянса между Социалистической и Христианско-демократической партиями, поскольку видели противоречие между социалистической доктриной и ценностями католицизма. Только позже, во время споров вокруг легализации разводов, сопротивление такому альянсу ослабело больше среди мужчин, чем среди женщин.
В 1969 г. доминирующей электоральной мотивацией была приверженность избирателей католическим традициям. Но постепенно влияние церкви падало, частично это происходило вследствие сдержанной позиции самой церкви. На выборах 1980-х гг. значение религиозного фактора в определении результатов голосования упало. Выбор избирателя стал определяться причинами, коренящимися в конкретных проблемах: инфляции, неэффективности работы государственных органов, недоверии нынешней политической элите, коррупции, скандалах, недоверии традиционным партиям и т. д. На выборах 1993 г. не было представлено ни одной религиозной платформы. Сегодня большинство итальянского электората «неоконфессионально» в политическом отношении...
В Испании за период 1976–1983 гг. доля католиков, соблюдающих обряды, упала с 56 до 31 %. Между 1969 и 1984 г. религиозная вера теряла позиции еще быстрее. Испанское общество традиционно делилось по трем признакам: региональному, религиозному и классовому. Ныне по способности привлекать общественное внимание и вызывать разногласия в обществе на первое место можно поставить регионализм, а на последнее – классовый фактор. Внушительное число голосов за Социалистическую партию показывает, насколько слабым стало влияние религии (хотя этот факт необязательно означает укрепление влияния класса). Сегодня региональная фиксация, как представляется, играет по крайней мере более существенную роль, чем религиозный и социально-классовый факторы.
В Португалии доминирующее положение религиозного фактора по сравнению с социально-экономическим четко выявляется при социологическом анализе данных из десяти северных провинций, где доля жителей, соблюдающих религиозные обряды, колеблется от 24 до 63 % населения, и из десяти южных провинций, где она колеблется в пределах от 2 до 11 %. На выборах 1976, 1979 и 1980 гг. отмечалась тесная корреляция между соблюдением обрядов и голосованием, но в то же время зафиксировано отсутствие какой бы то ни было существенной связи между долей индустриальных рабочих в населении и числом голосов, отданных левым (социалистам, социал-демократам и коммунистам). В сельской местности, однако, обнаружена заметная разница в политическом поведении мелких землевладельцев и сельскохозяйственных рабочих, хотя на деле она выявляет различие в религиозной практике между этими двумя категориями сельского населения. Влияние религии на голосование постепенно падало...
Падение роли партий
Политические партии более не играют той роли в функционировании демократии, что принадлежала им в 1950-х и 1960-х гг. После выхода книги «Конец идеологии» появились такие понятия, как «партии, охотящиеся за любыми голосами», «ослабление партийной идентификации», «неустойчивость партий», их «деполяризация», «роль рационально настроенных избирателей», «постматериалистические ценности», «нестабильностьэлекторального поведения», «либерализация социализма»; стали уделять внимание вопросам, наносящим ущерб партийной идентификации электората.
Эмпирическое исследование показало, что за последние несколько десятилетий произошло значительное сужение идеологического пространства. Если представить, что расстояние между крайне правыми и крайне левыми составляло в 1960 г. 1 метр, то сегодня оно не превышает нескольких дециметров, особенно в тех странах, которые в 50-е гг. пережили сильнейшую поляризацию. В Италии коммунисты и неофашисты пересмотрели свои доктрины и даже изменили название своих партий. Во Франции можно наблюдать значительную сдержанность в отношении старых идеологий, ныне вытесненных проблемами иного характера.
Большинство людей почти во всех европейских странах занимают позицию в центре политического спектра между левыми и правыми. В своем скрупулезном исследовании периода 1978–1994 гг. Э. Неле-Нейманн показал доминирующую роль центра по сравнению с крайними политическими позициями. Анализ материала по девяти другим странам Европы, проведенный в 1960-е гг., также выявляет сдвиг в сторону центра и ослабление поляризации. Привлекательность центра отчетливо проявилась на выборах 1973, 1978 и 1983 гг. во Франции. Совсем недавно левые согласились с постулатами экономического либерализма, а правые – с постулатами социальной солидарности...
Деполяризация – лишь один из аспектов ослабления партийной идентификации. Колебание настроений электората – еще один аспект этого явления. Во Франции еще за месяц до президентских выборов 1995 г. половина избирателей не определила своей позиции. Каждый третий сделал свой выбор только за 15 дней до голосования (данные различных опросов в марте, апреле и мае 1995 г.). Та же черта поведения электората обнаружена на выборах в Соединенном Королевстве: на выборах 1980 г. – буквально в последнюю минуту. Неуверенность избирателей свидетельствует о склонности поддержать какую-то из доктрин и об ослаблении влияния последних, а также о том, что многие избиратели решили отдать предпочтение политическим проблемам, а не партиям...
Сокращение числа партийных активистов, трудности, с которыми сталкивается партийная пресса, и перемены в политическом словаре – вот символы ослабления роли партий в политической жизни. Еще одним признаком этого явления являются исчезновение партий «объединяющих» (за исключением малых экстремистских партий) в противовес партиям «представляющим».
Заключение: индивидуализация электорального поведения
Повсюду в Европе электоральное поведение большинства избирателей в течение долгого времени испытывало воздействие, а иногда и обусловливалось их принадлежностью к определенной религии, социально-экономическим статусом (реальным или воображаемым), а также принадлежностью к региональной или языковой общности. Однако сегодня, с развитием системы образования и средств массовой информации, более чем когда-либо в прошлом все больше избирателей ведут себя скорее как независимые личности, чем как члены общности. Индивидуальная эмансипация человека как избирателя есть проявление общего роста индивидуализма, отмечаемого такими теоретиками, как Элиас, Гидденс, Луман, Инглхарт и Тербон. Новая книга Истера, Хэлмана и де Мура носит название «Индустриализация общества», что в краткой форме выражает суть процесса освобождения личности.
Колебания настроений электората и его отход от партий, анализируемые многими авторами, являются последствиями индивидуализации электорального поведения, которое в свою очередь есть результат параллельного воздействия таких факторов, как ослабление влияния религии; процесс социальной диверсификации; рост культурного уровня; сокращение численности и изменение состава рабочего класса; сокращение традиционного сельского населения; гомогенизация национальной территории государств, благодаря развитию средств связи, а также многих других факторов.
Короче говоря, усиление индивидуализации электорального поведения есть результат происходящего одновременно с этим падения влияния класса и религии, а также ослабления связи электората с партиями, сопряженные со всеми преимуществами и опасностями, которые несет с собой эта независимость выбора.
Раздел XV Политическая модернизация
Проблематика, связанная с политическими изменениями и политической модернизацией, обсуждается и исследуется в политической науке с начала 60-х гг. XX в. Центральной темой данного раздела теоретической политологии является переход к демократии.
Одной из первых в данной области считается работа Д. Растоу Американский политолог рассматривает основные фазы перехода к демократии, давая характеристику тем процессам, которые происходят в каждой из них.
В приводимом фрагменте из книги А. Пшеворского «Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке» процесс перехода к демократии рассматривается как результат взаимодействия между самими внутри-элитными группами, так и между элитами и гражданским обществом. Процесс демократического транзита рассматривается им не только как достаточно сложный и противоречивый, но и как имеющий альтернативы с точки зрения финала.
Отрывок из работы немецкого политолога К. фон Бейме посвящен широко обсуждаемой в научном сообществе проблеме консолидации демократии. С точки зрения минималистского подхода консолидация сводится к формированию и утверждению режима, соответствующего семи критериям полиархии Р. Даля. С позиции максималистской трактовки консолидации она предстает как результат формирования дееспособного гражданского общества, правового государства, лояльной к демократии бюрократии и институционализации рыночной экономики.
С. Хантингтон рассматривает демократизацию как глобальный процесс, в развитии которого прослеживаются периоды увеличения и уменьшения численности демократических стран. Основные положения его теории «третьей волны» демократизации сформулированы в представленном отрывке из его работы.
Многие положения теории С. Хантингтона не бесспорны. Об этом пишет Л. Даймонд в работе «Прошла ли „третья волна“ демократизации?». Заслуживает внимания постановка вопроса американским политологом не только о количественном расширении демократических стран, но прежде всего о качестве возникающих новых демократий.
Д. Растоу. Переходы к демократии: попытка динамической модели[99]
А. Предварительное условие
Отправной точкой модели служит единственное предварительное условие – наличие национального единства. Понятие «национальное единство» не содержит в себе ничего мистического типа плоти и крови (Blut und Boden) и ежедневных обетов верности им, или личной тождественности в психоаналитическом смысле, или же некой великой политической миссии всех граждан в целом. Оно означает лишь то, что значительное большинство граждан потенциальной демократии не должно иметь сомнений или делать мысленных оговорок относительно того, к какому политическому сообществу они принадлежат. Требование национального единства отсекает ситуации, когда в обществе наличествует латентный раскол, подобный тому, который наблюдался в габсбургской или оттоманской империях и присутствует сегодня в ряде африканских стран, равно как и те, когда, напротив, имеется сильная тяга к объединению нескольких сообществ, как во многих странах арабского мира. Демократия – это система правления временного большинства. Чтобы состав правителей и характер политического курса могли свободно сменяться, границы государства должны быть устойчивыми, а состав граждан – постоянным. По афористичному замечанию И. Дженнингса, «народ не может решать, пока некто не решит, кто есть народ».
Национальное единство названо предварительным условием демократизации в том смысле, что оно должно предшествовать всем другим стадиям процесса – в остальном время его образования не имеет значения. Оно может сложиться в доисторические времена, как в Японии или Швеции; может опережать другие фазы перехода к демократии на столетия, как во Франции, или лишь на десятилетия, КЭ.К В Турции.
Не имеет значения и то, каким образом достигалось национальное единство. Возможно, географическое положение страны было таким, что никакой серьезной альтернативы национальному единству просто никогда не возникало – здесь наилучшим примером служит та же Япония. Но чувство национальной принадлежности могло стать и следствием внезапной интенсификации социального общения, воплощенной в специально придуманной для ее обозначения идиоме. Могло оно быть и наследием некоего династического или административного процесса объединения...
Тезис о том, что национальное единство представляет собой единственное предварительное условие перехода к демократии, подразумевает, что для демократии не требуется какого-либо минимального уровня экономического развития и социальной дифференциации. Экономические и социальные факторы подобного рода входят в модель лишь опосредованно как возможные основы национального единства или же глубинного конфликта (см. ниже). Те социальные и экономические индикаторы, на которые исследователи так любят ссылаться как на «предварительные условия» демократии, выглядят по меньшей мере сомнительными. Всегда можно найти недемократические страны, чей уровень развития по выдвинутым в качестве индикаторов показателям подозрительно высок – к примеру, Кувейт, нацистская Германия, Куба или Конго-Киншаса. Напротив, Соединенные Штаты 1820 г., Франция 1870 г. и Швеция 1890 г. вне всякого сомнения не прошли бы тест по какому-нибудь из показателей, касающихся уровня урбанизации или дохода на душу населения, не говоря уже о количестве экземпляров газет в обращении или числе врачей, кинофильмов и телефонных номеров на каждую тысячу жителей.
Поэтому модель умышленно оставляет открытым вопрос о возможности существования демократий (действительно заслуживавших бы такого наименования) в досовременные, донациональные времена и на низком уровне экономического развития. Найти содержательное определение демократии, которое охватывало бы современные парламентские системы наряду со средневековыми лесными кантонами, античными городами-государствами (теми, где не было рабов и метеков) и некоторыми доколумбовыми племенами индейцев, может оказаться весьма сложно. Решение подобной задачи выходит за рамки настоящего исследования, и все же мне не хотелось бы исключать возможность такого рода попытки.
Б. Подготовительная фаза
Согласно моей гипотезе, динамический процесс демократизации в собственном смысле слова – при наличии указанного выше предварительного условия – запускается посредством длительной и безрезультатной политической борьбы. Чтобы политическая борьба обрела названные черты, ее основные участники должны представлять прочно укоренившиеся в обществе силы (как правило, социальные классы), а спорные вопросы, вокруг которых она ведется, должны иметь для сторон первостепенное значение. Подобная борьба чаще всего начинается вследствие появления новой элиты, поднимающей угнетенные и лишенные ранее руководства социальные группы на согласованное действие. При этом конкретный социальный состав противоборствующих сторон – и лидеров, и рядовых членов, – равно как и реальное содержание спорных вопросов будут разниться от страны к стране, а также от периода к периоду в жизни каждой отдельно взятой страны.
Так, в Швеции на рубеже XIX и XX вв. основными участниками борьбы были сперва фермеры, а затем низший средний и рабочий классы, с одной стороны, и консервативный альянс бюрократии, крупных землевладельцев и промышленников – с другой; в качестве объекта разногласий выступали тарифы, налогообложение, воинская повинность и избирательное право. В Турции же в последнее двадцатилетие идет спор между деревней и городом, точнее между крупными и средними фермерами (которых поддерживает большинство сельского электората) и наследниками кемалевского военно-бюрократического истеблишмента; предмет спора – индустриализация или приоритетное развитие сельского хозяйства. В каждом из приведенных примеров основную роль играют экономические факторы, однако векторы причинно-следственных связей имеют противоположную направленность. Рубеж веков был для Швеции периодом бурного экономического развития, породившего новые политические напряженности; и в один решающий момент стокгольмским рабочим удалось преодолеть налоговый барьер, лишавший их ранее права голоса. Напротив, в Турции выдвижение требования сельскохозяйственного развития явилось следствием, а не причиной начавшейся демократизации...
В своем классическом компаративном исследовании Дж. Брайс пришел к заключению, что «в прошлом к демократии вел лишь единственный путь – стремление избавиться от неких осязаемых зол». Демократия не была изначальной или основной целью борьбы, к ней обращались как к средству достижения какой-то другой цели, либо же она доставалась в качестве побочного продукта борьбы. Но поскольку осязаемых зол, постигающих человеческие сообщества, несметное число, брайсовский «единственный путь» распадается на множество отдельных дорог. В мире нет двух демократий, которые бы прошли через борьбу одних и тех же сил, ведущих спор по одному и тому же кругу вопросов и с теми же самыми институциональными последствиями. Поэтому представляется маловероятным, чтобы какая-либо будущая демократия в точности повторила путь одной из предшествующих... Чтобы прийти к демократии, требуется не копирование конституционных законов или парламентской практики некоей уже существующей демократии, а способность честно взглянуть на свои специфические конфликты и умение изобрести или позаимствовать эффективные механизмы их разрешения.
Серьезный и продолжительный характер борьбы, как правило, побуждает соперников сплотиться вокруг двух противоположных знамен. Поэтому отличительной чертой подготовительной фазы перехода к демократии является поляризация, а отнюдь не плюрализм. Тем не менее степень раскола общества имеет свои пределы, обусловленные требованием национального единства, которое, конечно же, должно не только предшествовать началу процесса демократизации, но и присутствовать на всех его стадиях. Если линия раскола точно совпадает с региональными границами, результатом скорее всего будет не демократия, а сецессия. У противоборствующих сторон, даже если их интересы имеют четко выраженную географическую направленность, должно сохраняться некое ощущение сообщности или же существовать некое региональное равновесие сил, которое исключит возможность массового изгнания соперников и геноцида... Важное значение на подготовительной фазе могут иметь перекрещивающиеся расколы, способные оказаться средством укрепления и поддержания чувства сообщности...
...Конечно, во время подготовительной фазы многое может пойти не так, как надо. Схватка может тянуться и тянуться до тех пор, пока стороны не устанут, а спорные вопросы не утратят свою актуальность, но по ходу дела не родится никакого демократического решения. Или же одна из групп найдет в конечном итоге способ сокрушить оппонента. Подобным или каким-то иным образом кажущееся развитие по направлению к демократии может быть прервано; и на подготовительной фазе этому произойти легче, чем когда-либо еще.
В. Фаза принятия решения
Р. Даль писал, что «узаконенная партийная оппозиция – недавнее и случайное изобретение». Данное замечание полностью согласуется с приводившимся выше утверждением Брайса о том, что средством продвижения к демократии является преодоление осязаемых поводов для недовольства, а также с высказанным в настоящей статье предположением, что переход к демократии – сложный и запутанный процесс, тянущийся многие десятилетия. Все это, однако, не исключает сознательного выдвижения в ходе подготовительной фазы таких целей, как избирательное право или свобода оппозиции. Не означает это и того, что страна может стать демократией лишь по недоразумению. Напротив, подготовительная фаза завершается лишь тогда, когда часть политических лидеров страны принимает сознательное решение признать наличие многообразия в единстве и институционализировать с этой целью некоторые основополагающие механизмы демократии. Именно таким было принятое в 1907 г. в Швеции решение (я называю его «великим компромиссом» политической жизни этой страны) ввести всеобщее избирательное право вкупе с пропорциональным представительством. Подобного рода решений может быть не одно, а несколько. Как известно, принцип ограниченного правления утвердился в Англии в результате компромисса 1688 г., кабинетное правление развилось в XVIII в., а реформа избирательного права была проведена аж в 1832 г. Даже в Швеции за «Великим компромиссом» в 1918 г. последовала дальнейшая реформа избирательной системы, закрепившая также принцип кабинетного правления.
Приобретается ли демократия «оптом», как в 1907 г. в Швеции, или же «в рассрочку», как в Англии, в любом случае она – результат сознательного решения со стороны по крайней мере верхушки политического руководства...
Решение в пользу демократии проистекает из взаимодействия нескольких сил. Поскольку условия сделки должны быть четко оговорены и кто-то должен взять на себя риск относительно ее возможных будущих последствий, непропорционально большую роль здесь играет узкий круг политических лидеров. Среди групп, задействованных в переговорах, и их лидеров могут быть представлены бывшие соперники по подготовительной борьбе. К числу других потенциальных участников переговоров относятся группы, отколовшиеся от основных противоборствующих сторон или только что вышедшие на политическую сцену. В Швеции, например, такие новообразованные и промежуточные группы сыграли решающую роль. В течение 1890-х гг. консерваторы и радикалы (первых возглавляли промышленники, вторых – интеллектуалы) заострили спорные вопросы и придали им отчетливую форму. Затем наступил период пата, когда рухнула дисциплина во всех недавно образованных парламентских партиях, – начался своего рода процесс хаотизации, в ходе которого были придуманы и опробованы многочисленные варианты компромиссов, комбинаций и перегруппировок. Формула, взявшая верх в 1907 г., была выработана при решающем участии умеренно консервативного епископата и умеренно либерального фермерства – сил, которые ни до, ни после этой фазы принятия решения не играли сколько-нибудь существенной роли в политике.
Варьируются не только типы сил, обеспечивших выбор демократического решения, и не только содержание такого решения, но и мотивы, по которым оно предлагается и принимается. Охранительные силы могут уступить из опасения, что, продолжая сопротивляться, они в конечном итоге обрекут себя на гораздо большие потери. (Подобными соображениями руководствовались английские виги в 1832 г. и шведские консерваторы в 1907 г.) Или же они могут, пусть с запозданием, возжелать быть достойными давно провозглашенных принципов: так было при переходе Турции к многопартийной системе, объявленом в 1945 г. президентом И Иненю. В свою очередь радикалы способны принять компромисс в качестве первого «взноса», будучи уверены, что время работает на них и другие «взносы» неизбежно последуют. И консерваторы, и радикалы могут устать от длительной борьбы или же испугаться, что она перерастет в гражданскую войну. Страх перед гражданской войной, как правило, приобретает гипертрофированные размеры, если общество прошло через подобную гражданскую войну в недавнем прошлом...
Принятие демократического решения в каком-то смысле может рассматриваться как акт сознательного, открыто выраженного консенсуса...
Г. Фаза привыкания
...Демократия, по определению, есть конкурентный процесс, а в ходе демократической конкуренции преимущества получают те, кто может рационализировать свою приверженность новой системе, и еще большие – те, кто искренне верит в нее. Яркой иллюстрацией данного тезиса может служить метаморфоза, произошедшая со шведской консервативной партией за период с 1918 г. по 1936 г. За эти два десятилетия лидеры, которые скрепя сердце смирились с демократией или приняли ее из прагматических соображений, ушли в отставку или умерли, а их место заняли те, кто действительно верил в нее. Такая же разительная перемена наблюдалась и в Турции, где на смену руководству И. Иненю, который поддерживал демократию из чувства долга, и А. Мендереса, видевшего в ней великолепное средство реализации своих амбиций, пришло молодое поколение лидеров, понимавших демократию более широко и всем сердцем преданных ей. Короче говоря, в ходе самого функционирования демократии идет дарвинистский отбор убежденных демократов, причем по двум направлениям – во-первых, среди партий, участвующих во всеобщих выборах, и во-вторых, среди политиков, борющихся за лидерство в каждой из этих партий.
Но политика состоит не только из конкурентной борьбы за правительственные посты. Помимо всего прочего, это – процесс, направленный на разрешение внутригрупповых конфликтов, будь то конфликты, обусловленные столкновением интересов или связанные с неуверенностью в завтрашнем дне. Новый политический режим есть новый рецепт осуществления совместного рывка в неизведанное. И поскольку одной из характерных черт демократии является практика многосторонних обсуждений, именно этой системе в наибольшей степени присуще развитие методом проб и ошибок, обучение на собственном опыте. Первый великий компромисс, посредством которого устанавливается демократия, если он вообще оказывается жизнеспособным, сам по себе является свидетельством эффективности принципов примирения и взаимных уступок. Поэтому первый же успех способен побудить борющиеся политические силы и их лидеров передать на решение демократическими методами и другие важнейшие вопросы. <...>
III
Из представленной выше модели вытекают три общих вывода. Во-первых, модель устанавливает, что для генезиса демократии требуется несколько обязательных компонентов. С одной стороны, должно иметься чувство национального единства. С другой – необходимо наличие устойчивого и серьезного конфликта. Кроме того, нужен сознательный выбор демократических процедур. Наконец, и политики, и электорат должны привыкнуть к новым правилам.
Во-вторых, из модели следует, что названные компоненты должны складываться по одному, в порядке очередности. Каждая задача имеет свою логику и своих естественных протагонистов: сеть администраторов или группу националистически настроенной интеллигенции – при решении задач национального объединения; массовое движение низших классов, возможно, возглавляемое инакомыслящими представителями высших слоев, – при подготовительной борьбе; узкий круг политических лидеров, искусных в ведении переговоров и заключении компромиссов, – при формулировании демократических норм; разного рода организаторов и организации – при процессе привыкания. Иными словами, модель отказывается от поиска «функциональных реквизитов» демократии, поскольку подобный поиск означает смешение задач, что делает суммарную работу по демократизации практически невыполнимой. Данный аргумент аналогичен тому, который был выдвинут А. Хершменом и некоторыми другими экономистами против теории сбалансированного экономического роста. Не отрицая, что переход от примитивной натуральной экономики к зрелому индустриальному обществу требует изменений по всем параметрам – в навыках труда, в строении капитала, в структуре потребления, в денежной системе и т. д., – Хершмен и его единомышленники указывали, что любая страна, которая попытается решать все эти задачи одновременно, на практике окажется полностью парализованной, ибо самое прочное равновесие – равновесие стагнации. Поэтому, по их мнению, основной проблемой тех, кто нацелен на развитие экономики, должно стать выявление очередности задач, иными словами, поиск такой их последовательности, при которой они станут разрешимыми.
В-третьих, модель показывает, что при переходе к демократии последовательность процессов должна быть следующей: от национального единства как подосновы демократизации, через борьбу, компромисс и привыкание – к демократии. О важности ее соблюдения говорит, в частности, опыт Турции после 1945 г., где развитие шло по другому сценарию. Переход Турции к демократии свершился при отсутствии изначального открытого конфликта между основными социальными группами или их элитами. В 1950 г. вследствие формирования нового электорального большинства произошла первая смена правительства, но не прошло и десяти лет, как новоизбранная правящая партия начала скатываться к авторитарным методам, и в 1960–1961 гг. демократический эксперимент был прерван военным переворотом. Связь между всеми этими событиями безусловна: 1960 г. был расплатой за то, что страна получила свой первый демократический режим в качестве добровольного дара из рук диктатора. В результате кризиса 1960–1961 гг. социальный и политический конфликт в обществе приобрел серьезный размах, и впервые в истории страны там началось широкое обсуждение всего круга социальных и экономических вопросов. Противостоящими силами в оформившемся конфликте стали военные, с одной стороны, и представители аграрного большинства – с другой. Заключение компромисса между ними позволило в 1965 г. возобновить демократический эксперимент, но уже на более прочном фундаменте.
В целях компактности модели число ее основных компонентов сведено к четырем; вопрос о социальных условиях и психологических побуждениях, которые могли бы служить наполнением каждого из компонентов, оставлен полностью открытым. Особо следует отметить, что модель безусловно отвергает необходимость наличия тех двух факторов, которые иногда выдаются за предпосылки демократии, а именно: высокого уровня экономического и социального развития, а также изначального консенсуса – будь то по вопросам принципов или процедур. Разумеется, экономический рост может быть одним из обстоятельств, порождающих требуемые для подготовительной фазы (фазы конфликта) напряженности, но возможны и другие типы обстоятельств, которые имеют те же самые следствия. Появление же служб, обеспечивающих массовое образование и благосостояние, является, скорее, результатом, а не причиной демократизации.
Что касается консенсуса по вопросам фундаментальных принципов, то он вообще не может быть предпосылкой демократии. Если люди не находятся в состоянии конфликта по каким-то достаточно принципиальным вопросам, им и не нужно изобретать сложные демократические механизмы разрешения конфликтов. Принятие таких механизмов также логически является частью процесса перехода, а не его предварительным условием. Предлагаемая модель переводит различные аспекты консенсуса из категории статичных предпосылок в категорию активных элементов процесса. Здесь я следую за Б. Криком, который замечательно писал: «...Часто думают, что для того, чтобы „царственная наука“ [т. е. демократическая политика] могла действовать, должны уже иметься в наличии некая принимаемая всеми идея „общего блага“, некий „консенсус“ или согласие права (consensus juris). Но общее благо, о котором идет речь, само есть процесс практического согласования интересов различных... совокупностей, или групп, образующих государство, а не некое внешнее и неосязаемое духовное связующее... Различные группы держатся вместе, во-первых, потому, что все они заинтересованы в выживании, во-вторых, потому, что они занимаются политикой, – а не потому что соглашаются по неким «фундаментальным принципам» или придерживаются некоей идеи, слишком неопределенной, слишком личной, слишком божественной, чтобы портить ее политикой. Духовный консенсус свободного государства не есть нечто мистическим образом предшествующее политике или стоящее над ней – это продукт жизнедеятельности (цивилизаторской деятельности) самой политики».
Основа демократии – не максимальный консенсус, но тонкая грань между навязанным единообразием (ведущим к какого-то рода тирании) и непримиримой враждой (разрушающей сообщество посредством гражданской войны или сецессии). Тот элемент, который можно назвать консенсусом, является составляющей по крайней мере трех этапов генезиса демократии. Необходимо изначальное чувство сообщности, причем желательно такое, которое бы молчаливо воспринималось как нечто само собой разумеющееся и, соответственно, стояло над просто мнением и просто согласием. Необходимо сознательное принятие демократических процедур, но в них должны не столько верить, сколько их применять – сначала, возможно, по необходимости и постепенно по привычке. По мере того как демократия будет успешно преодолевать очередной пункт из длинного списка стоящих перед ней проблем, само использование этих процедур будет шаг за шагом расширять зону консенсуса.
Но список проблем будет постоянно пополняться, и новые конфликты будут ставить под угрозу раз достигнутое согласие. Типичные для демократии процедуры – предвыборные выступления, избрание кандидатов, парламентские голосования, вотумы доверия и недоверия – это, вкратце, набор приемов выражения конфликта и – тем самым – разрешения его. Суть демократии – в привычке к постоянным спорам и примирениям по постоянно меняющемуся кругу вопросов и при постоянно меняющейся расстановке сил. Это тоталитарные правители должны навязать единодушие по вопросам принципов и процедур, прежде чем браться за другие дела. Демократия же – та форма организации власти, которая черпает свои силы из несогласия до половины управляемых.
А. Пшеворский. Демократия и рынок[100]
Либерализация
Всем диктатурам, какими бы ни были в них пропорции «кнута и пряника», свойственна одна общая черта: они терпеть не могут и не терпят независимых организаций. Дело в том, что когда нет «коллективных» альтернатив, отношение отдельных лиц к существующему режиму мало сказывается на его стабильности. Уже Вебер отмечал, что «люди смиряются при отсутствии приемлемой альтернативы, в этом случае отдельная личность чувствует себя слабой и беспомощной». Авторитарным режимам угрожает не подрыв их легитимности, а организация контргегемонии: коллективные проекты альтернативного будущего. Только наличие коллективных альтернатив дает отдельной личности возможность политического выбора. Поэтому авторитарные режимы испытывают ненависть к независимым организациям и стараются или подчинить их контролю, или же подавить с помощью силы...
Независимо от того, что проявит себя первым – раскол в руководстве или массовое движение, – либерализация следует одной и той же логике. Различны лишь темпы. Массовое движение диктует ритм преобразований, вынуждая режим решать: применить ли репрессии или кооптацию, или передать власть. И сколько бы ни продолжалась либерализация – годы, месяцы или дни, – режим и оппозиция всегда имеют дело с одним и тем же набором возможностей.
Проекты либерализации, выдвигаемые силами, принадлежащими к авторитарному истеблишменту, неизменно предполагают контролируемую «открытость» политического пространства. Обычно они возникают в результате разногласий в авторитарном блоке, порождаемых разного рода сигналами, которые возвещают о назревающем кризисе, скажем, о массовых волнениях. Проект либерализаторов обычно нацелен на снижение социальной напряженности и укрепленной базы режима. Он состоит в том, чтобы разрешить самостоятельную организацию гражданского общества и инкорпорировать новые группы в существующие авторитарные институты. Таким образом, либерализация оказывается зависимой от того, насколько ее результаты совместимы с интересами или ценностями авторитарного блока. Так, либерализацию называют открытостью (aperture), смягчением напряженности (distensao), обновлением (obnowa) или перестройкой (perestroпka – т. е. реконструкция дома). Эти термины недвусмысленно указывают на границы реформ...
Рассмотрим ситуацию с точки зрения протолиберализаторов в тот момент, когда на горизонте возникает возможность сделать режим более открытым. Протолиберализаторы могут сохранить свою позицию в руководстве, и тогда результатом будет статус-кво. Это обозначается на рис. 1 как СКДИК (статус-кво диктатура). Или же они могут дать понять, что готовы терпеть некоторые независимые организации, не входящие во властные структуры, т. е. «открыться». Если организованные силы в гражданском обществе решают вступить в новые организационные формы, созданные режимом, обычно в какой-нибудь Фронт национального согласия, и в дальнейшем никаких независимых движений больше не возникает, результатом является СМДИК (смягченная диктатура) и стратегия либерализации достигает успеха. Если гражданское общество продолжает организовываться независимым образом, либерализаторы оказываются перед выбором: или вернуться в дом отчий и согласиться на репрессии, или начать переход к демократии. Репрессии, однако, могут оказаться неэффективными. Если же они увенчаются успехом, то в результате складывается ТДИК (твердая диктатура) (narrower dictatorship), при которой судьба либерализаторов будет зависеть от милости исполнителей приказов. Если репрессии оказываются безрезультатными, в стране вспыхивает восстание.
Рис. 1
Заметим, что процесс либерализации может начаться только в том случае, если некоторые группы в авторитарном режиме предпочитают не статус-кво, а смягченную диктатуру. Либерализаторы предпочитают СМДИК, а не СКДИК потому, что расширение социальной базы укрепляет режим в целом, а также потому, что группы, входящие в режим, становятся естественными союзниками либерализаторов в их борьбе со сторонниками твердой линии. Восстание – наихудший исход для всех.
Итак, если все знают обо всем и все знают одно и то же, то единственными исходами могут быть или статус-кво диктатура, или смягченная диктатура. Либерализация начинается тогда, когда либерализаторы уверены в успехе. Предположим, что предпочтения либерализаторов выстраиваются следующим образом: СМДИК > СКДИК > ПЕРЕХОД > ТДИК > ВОССТАНИЕ. Либерализаторы знают, что если общество организуется, то им придется превратиться в реформаторов. Таким же знанием обладает и гражданское общество. Поэтому если либерализаторы открываются, общество организуется. Но для либерализаторов более предпочтительна СКДИК, а не переход к демократии. Поэтому они никогда не открываются. В свою очередь, предположим, что предпочтения либерализаторов таковы: СМДИК > СКДИК > ТДИК > ПЕРЕХОД > ВОССТАНИЕ, – и что либерализаторы считают в высшей степени вероятным успех репрессий. Тогда либерализаторы знают, что они выберут репрессии, если общество начнет организовываться. Но об этом знает и гражданское общество. Поскольку для общества СМДИК > ТДИК, общество соглашается на инкорпорацию, зная, что либерализаторы выберут репрессии, если общество организуется. И поскольку для либерализаторов СМДИК > СКДИК, они открываются. Результатом является СМДИК.
Каким же образом процесс приводит к переходу! Я вижу два возможных пути.
1. Предположим, что либерализаторы на самом деле являются нротодемократизаторами. Их предпочтения выстраиваются следующим образом: СМДИК > ПЕРЕХОД > СКДИК > ТДИК > ВОССТАНИЕ. Однако либерализаторы должны иметь в виду, что сторонники твердой линии никогда бы не согласились на либерализацию, если бы знали, что либерализаторы намереваются пройти весь путь до конца. Поэтому либерализаторы заявляют, что они предпочитают СМДИК > СКДИК > ТДИК > ПЕРЕХОД, и сторонники твердой линии им верят.
Теперь предположим, что решение об «открытии» зависит от согласия сторонников твердой линии. Если либерализаторы предлагают открыться и сторонники твердой линии решают согласиться, игра продолжается; если же они не разрешают открыться, то результатом является статус-кво. Предположим далее, что а) сторонники твердой линии предпочитают ТДИК, а не СКДИК, и что б) сторонники твердой линии убеждены, что общество ошибается, принимая либерализаторов за фактических протодемократизаторов. Тогда сторонники твердой линии представляют себе ситуацию следующим образом. Если они соглашаются на «открытие», общество, надеясь, что либерализаторы не выберут репрессии, начинает организовываться. Между тем с точки зрения сторонников твердой линии либерализаторы предпочитают репрессии. Поэтому сторонники твердой линии думают, что результатом «открытия» будет ТДИК. И они соглашаются на «открытие». Однако, в силу истинных предпочтений либерализаторов, действительным итогом оказывается переход.
Это объяснение предполагает, что либерализаторы с самого начала знают, что и почему они делают, и преднамеренно вводят в заблуждение сторонников твердой линии, одновременно посылая правильные сигналы обществу. Трудно оценить правдоподобие этого сценария, и именно по той причине, что в таком случае либерализаторы должны стратегически раскрывать свои предпочтения. Мы должны решить, искренни ли либерализаторы, когда утверждают, что хотят только оживить режим, расширяя его базу. Если судить по их публичным заявлениям, то они отменные лжецы или же все значительно сложнее.
2. Допустим, что предпочтения либерализаторов таковы: СМДИК > СКДИК > ТДИК > ПЕРЕХОД > ВОССТАНИЕ, а оценка ими успешности репрессий высока. Результатом будет СМДИК. Сторонники твердой линии в данном случае не играют никакой роли, возможно, что режим не расколот или что либерализаторы обладают контролем над оружием. Либерализаторы открываются, ожидая, что общество к ним присоединится. Но у общества оценка успешности репрессий ниже, и оно думает, что таково же и мнение либерализаторов. Поэтому общество организуется. Как только либерализаторы замечают, что общество продолжает организовываться, они снижают свою оценку успешности репрессий и теперь предпочитают переход, а не то, что можно было ожидать в результате репрессий. Итак, гражданское общество организуется, а либерализаторы наблюдают за улицей и по ходу дела корректируют свои взгляды на эффективность репрессий...
Эти два объяснения предполагают, что предпочтения четко определены и что действующие стороны рациональны, хотя и плохо информированы. Но правдоподобно выглядят и два других объяснения.
Первое – социологическое. По ходу организации гражданского общества становятся известны его руководители, на различных уровнях налаживаются личные контакты, и либерализаторы узнают, что оппозиция не так уж и страшна...
Второе объяснение – психологическое. Либерализаторы могут и не быть рациональными. Рациональные акторы формируют свои убеждения на основании поступающей информации и действуют в соответствии со своими желаниями исходя из этих убеждений. Если они по-настоящему рациональны, то используют убеждения, чтобы умерять свои желания. Что касается иррациональных акторов, то они позволяют своим желаниям влиять на убеждения и блокировать нежелательную информацию. Допустим, что у режима нет другого выбора и он должен стать открытым. Давление из-за рубежа, экономическое и политическое удушение могут не оставить другого выхода, кроме либерализации (как произошло в Никарагуа). Массовое движение может стать неудержимым, как это случилось в Польше. В таких обстоятельствах либерализаторы будут убеждать себя, что открытость увенчается успехом и они одержат победу на выборах, если пойдут по пути демократии...
...Либерализация – открытость, имеющая результатом расширение социальной базы режима без изменения его структуры, – может быть осуществлена только в том случае, если все располагают полной и точной информацией о предпочтениях всех остальных и о вероятности успешных репрессий. Одни ошибки в оценках приводят либерализацию к переходу, другие – к репрессиям. Вечную трагедию либерализаторов Маркс обрисовал еще в 1851 г.: они хотят демократии, писал он, которая удержала бы их у власти, и чувствуют себя уязвленными, когда эта демократия оборачивается против них. Они пытаются удержаться как можно дольше, но в какой-то момент им приходится решать, следует ли идти назад к авторитарной реставрации или вперед к демократической эмансипации.
Демократизация
Введение
После краха диктатуры центральной оказывается следующая проблема: согласятся ли политические силы на существование институтов, допускающих открытую, пусть даже ограниченную, конкуренцию? И способны ли такие институты обеспечить спонтанное подчинение; т. е. подчиняя свои интересы не предрешенному заранее исходу соперничества и готовые согласиться с его результатами, способны ли они привлечь политические силы в качестве участников демократического процесса?
Заметим, что конфликты, имеющие место в периоды переходов к демократии, часто происходят на двух фронтах: 1) между противниками и сторонниками авторитарного режима и 2) между самими протодемократическими деятелями за лучшие шансы в условиях будущей демократии. Образ демократии как борьбы общества против государства – полезный вымысел, лозунг, объединяющий противостоящие авторитарному режиму силы. Но общество разделено по многим основаниям, и самая суть демократии заключается в конкуренции политических сил, имеющих противоположные интересы. Эта ситуация создает дилемму: чтобы прийти к демократии, антиавторитарные силы должны объединиться в борьбе против авторитаризма, но чтобы победить в условиях демократии, они должны соперничать друг с другом. Поэтому борьба за демократию всегда ведется на два фронта: против авторитарного режима за демократию и против союзников за лучшее положение при будущей демократии.
И хотя эти два разных аспекта демократизации – высвобождение из-под авторитарного режима и конституирование демократического правления – иногда сливаются воедино, для целей нашего исследования полезно рассмотреть их по отдельности...
Высвобождение
...Следуя О'Доннеллу (O'Donnell, 1979), а О'Доннеллу и Шмиттеру (O'Donnell, Scmitter, 1986), различим четыре политические силы: сторонников твердой линии и реформаторов (которые могут быть, а могут и не быть либерализаторами) внутри авторитарного блока, умеренных и радикалов, находящихся в оппозиции. Сторонников твердой линии обычно можно найти в репрессивных структурах авторитарного правления: в полиции, среди юридической бюрократии, цензоров, журналистов и т. д. Реформаторы рекрутируются из политиков, функционирующих в рамках режима, и из некоторых групп, не входящих в государственный аппарат: из представителей буржуазии при капитализме и хозяйственных руководителей при социализме. Умеренные и радикалы могут представлять (хотя и не обязательно) различные интересы. Они отличаются только по своему отношению к рискованным предприятиям. Умеренными могут быть те, кто опасается сторонников твердой линии, но это не обязательно те, кто ставит менее радикальные цели.
Высвобождение из-под авторитаризма может произойти только в результате взаимопонимания между реформаторами и умеренными. Оно возможно, если: 1) реформаторы и умеренные достигают соглашения об институтах, при которых представляемые ими социальные силы имели бы заметное политическое влияние в демократической системе; 2) реформаторы в состоянии добиться согласия сторонников твердой линии или нейтрализовать их; 3) умеренные способны контролировать радикалов. Два последних условия логически предшествуют первому, поскольку определяют возможные действия реформаторов и умеренных. Какой бы договоренности они ни достигли, она должна побудить сторонников твердой линии действовать заодно с реформаторами и – сдерживать радикалов. Когда эти условия выполнимы?
Если процесс высвобождения контролируют военные, они либо должны выступать за реформы, либо их должны склонить к сотрудничеству или по крайней мере к пассивности реформаторов. Умеренные платят свою цену. Но если реформаторы являются жизнеспособным собеседником для умеренных только в том случае, когда они контролируют или имеют на своей стороне вооруженные силы, то умеренные политически незначимы, если не в состоянии сдерживать радикалов. Умеренные джентльмены в галстуках годны для цивилизованных переговоров в правительственных дворцах, но когда улицы заполняют толпы народа, а предприятия захватываются рабочими, умеренность оказывается неуместной. Поэтому умеренные должны или обеспечить терпимые условия для радикалов, или же, если они не способны добиться этого от реформаторов, оставить в руках репрессивного аппарата достаточно власти, чтобы радикалов можно было запугать. С одной стороны, умеренные нуждаются в радикалах, чтобы с их помощью оказывать давление на реформаторов; с другой же – умеренные боятся, что радикалы не согласятся на сделку, которую они (умеренные) заключат с реформаторами. Неудивительно, что достижимое часто оказывается нереализованным.
Когда может быть достигнуто соглашение, снимающее все эти напряжения? Реформаторы стоят перед стратегическим выбором. Им нужно решить: либо сохранить авторитарный альянс со сторонниками твердой линии, либо стремиться к демократическому союзу с умеренными. Умеренные, в свою очередь, могут или вступить в союз с радикалами и стремиться к полному разрушению политических сил, организованных при авторитарном режиме, или начать переговоры с реформаторами и стремиться к примирению. Предположим, что структура ситуации такова, как это отображено в табл. I.[101]
Таблица 1
Если реформаторы объединяются со сторонниками твердой линии, а умеренные с радикалами, то образуются две оппозиционные коалиции, которые вступают в схватку друг с другом. Если реформаторы заключают союз с умеренными, а умеренные с реформаторами, то в результате получается демократия с гарантиями. Если умеренные вступают в альянс с радикалами, а реформаторы с умеренными, то реформаторы принимают демократию без гарантий, которая возникает из коалиции «радикалы умеренные». Если реформаторы объединяются со сторонниками твердой линии, а умеренные с реформаторами, умеренные принимают либерализацию. Они присоединяются в указанном выше смысле слова.
В таких условиях реформаторы держатся главного стратегического курса, а именно альянса со сторонниками твердой линии. Если умеренные объединяются с радикалами, оппозиции наносится поражение и авторитарный блок сохраняется в неприкосновенности, что для реформаторов предпочтительнее, чем демократия без гарантий, результат коалиции умеренных и радикалов. Если умеренные стремятся к союзу с реформаторами, то делаются некоторые уступки за счет сторонников твердой линии. Для реформаторов эти уступки ценнее, чем демократия, пусть даже с гарантиями. Поэтому потенциальные реформаторы всегда оказываются в лучшем положении, защищая авторитарный режим в союзе со сторонниками твердой линии...
Таблица 2
Предположим, что у реформаторов, если им даны институциональные гарантии, хватает политической силы, чтобы конкурировать в условиях демократии. Достаточно ли этого, чтобы сделать выбор в пользу демократии? Посмотрим на табл. 2. Здесь реформаторы имеют политический вес независимо от сторонников твердой линии. Они могут рассчитывать на определенную поддержку в условиях конкуренции и предпочитают демократию с гарантиями всем другим альтернативам. Однако результат зависит от действий умеренных. Если умеренные выбирают гарантии, то реформаторы оказываются в лучшем положении при демократии; но если умеренные объединяются с радикалами, реформаторы проигрывают. Умеренные предпочитают демократию без гарантий. Исследуем структуру этого конфликта более подробно. Допустим, что вначале реформаторы решают, что делать, предвидя реакцию умеренных (рис. 2).
Рис. 2
Реформаторы анализируют ситуацию следующим образом. Если они объединятся со сторонниками твердой линии, то в результате сохранится статус-кво и это будет не лучшим итогом. В условиях демократии с гарантиями положение реформаторов было бы лучше. Но если они решат вести переговоры с умеренными, последние выскажутся за союз с радикалами – и результат окажется наихудшим. Поэтому реформаторы остаются на стороне режима.
Но не может ли наступить демократия в результате повторения этой ситуации? Представим себе: все знают, что эта стратегическая ситуация наверняка должна будет повториться. Умеренные знают, что если они ответят на открытость, поддержав требования радикалов, то реформаторы объединятся со сторонниками твердой линии. Поэтому наградой умеренным за то, что они не дезертируют, в первом раунде будет (4, 1, 1,...) или другое сочетание четверок и единиц, в зависимости от избранной реформаторами стратегии наказания. Но если умеренные решат дать гарантии в первом раунде, то реформаторы пойдут навстречу, и награда умеренным будет (3, 3, 3,...). Легко видеть, что у реформаторов имеется множество способов наказания, которые должны убедить умеренных в необходимости сотрудничества. Поэтому если исходная ситуация повторится, возможно спонтанное развитие демократии.
Но я не думаю, что ситуации, в которых на кон поставлено изменение режима, воспроизводимы. Это уникальные ситуации: происходит сбой в аппарате авторитарной власти, какая-то группа людей начинает чувствовать, что, вероятно, она предпочла бы делить власть, а не насильно ее монополизировать; она решает сделать первый шаг и ищет заверений относительно своей роли в условиях будущей демократии. Как только реформаторы решают сделать первый шаг, alйa jacta est – жребий брошен, – они уже не могут вернуться к статус-кво. Награда за будущее изменение появится в результате действий, совершенных сегодня. <...> Реформаторы, решившие пойти назад, почти никогда не остаются на плаву. Это ни в коей мере не означает, что «открытие» не может быть осуществлено еще раз, другими реформаторами; такое случалось в Южной Корее и Польше. Но то были уже иные силы, в иных обстоятельствах. И если стратегия реформаторов успешна и демократия становится реальностью, то меняются и награды. Передача власти демократическим институтам необратима, даже если демократия подвергается после этого разрушению. <...>
Если радикалы отказываются участвовать в институтах, созданных реформаторами и умеренными, умеренные тем не менее могут предпочитать демократию, при которой значительно влияние сил, представляемых реформаторами, а не демократию, в которой доминируют радикалы. При подобных обстоятельствах награды в «игровом дереве» (см. рис. 2) взаимозаменяются: умеренные безусловно предпочтут демократию с гарантиями для реформаторов, а не альянс с радикалами. Зачастую это означает, что отдельные секторы (общества), связанные с авторитарным режимом, продолжают находиться под защитой вооруженных сил. Если реформаторы обладают собственной политической силой и если умеренные предпочитают институциональное устройство, в котором вооруженные силы остаются независимыми и выполняют роль противовеса требованиям радикалов, тогда реформаторам нет оснований опасаться демократии. В этих условиях результатом равновесия будет демократия – но демократия, при которой вооруженные силы свободны от гражданского контроля и опекают демократический процесс.
Но зачем умеренным терпеть независимость военных? Зачем им соглашаться на их опеку, которая ограничивает гражданских политиков и является источником нестабильности демократии?
Один очевидный ответ состоит в следующем: умеренные боятся, что всякая попытка учредить гражданский контроль немедленно спровоцирует именно то, что он призван устранить: военное вмешательство. Стратегические расчеты должны выглядеть так. Во-первых, вероятность немедленного переворота после любой попытки установить гражданский контроль выше, чем в том случае, если военных оставляют в покое. Поэтому даже если гражданский контроль заметно уменьшает вероятность военного вмешательства, вероятность того, что переворот произойдет, ниже без гражданского контроля.
Конституирование
...Группы, вступающие в конфликт по поводу выбора демократических институтов, сталкиваются с тремя общими проблемами: содержание versus процедура, договор versus соперничество и мажоритарная система versus конституционализм. В какой степени социальные и экономические результаты должны быть оставлены непредрешенными и в какой степени некоторые из них должны быть гарантированы и защищены независимо от исхода соперничества? Какие решения следует принимать путем договоренностей, а какие – в ходе конкретной борьбы? Должны ли некоторые институты, такие как конституционные трибуналы, вооруженные силы или главы государства, оставаться арбитрами и стоять над конкурентными процессами или им следует периодически выносить электоральные вердикты? Наконец, в какой степени и каким образом общество должно себя ограничить, с тем чтобы предотвратить будущие преобразования? Таковы центральные вопросы, связанные с конфликтами вокруг институтов.
Чего же нам ожидать при различных условиях? Обратим внимание на два условия: участникам известно соотношение сил в тот момент, когда принимается институциональная структура, и это отношение может быть неравновесным или же равновесным. Соответственно этим условиям принимаются определенные типы институтов, они определяют и то, насколько эти институты окажутся стабильными. Здесь возникают три гипотезы: 1) если ex ante известно, что соотношение сил неравновесно, то институты ратифицируют это соотношение, и они устойчивы, только если сохраняются первоначальные условия; 2) если ex ante известно, что соотношение сил равновесно, может случиться все что угодно: начнется долгая гражданская война, будет достигнута договоренность о нежизнеспособных институтах или стороны придут к согласию относительно институциональной структуры, которая в конце концов обретает конвенциональную силу; 3) если соотношение сил ex ante не известно, институты сформируют сильную систему контроля и балансов и сохранятся, несмотря на любые условия. Обсудим эти гипотезы.
Соотношение сил известно и неравновесно. В такой ситуации институты подгоняются под конкретное лицо, конкретную партию или конкретный альянс. Когда в Латинской Америке после авторитарного периода возникала новая партийная система, всякий раз принималась и новая конституция (Geddes, 1990). Новые институты задумывались для того, чтобы консолидировать новые соотношения сил. Истоки и роль таких институтов наилучшим образом описаны Хей-вордом (Hayward, 1983) на характерном примере Франции. «Французы не верили в долгую жизнь режимов – ведь их конституции выходили наподобие периодических изданий, – и Конституция как таковая не пользовалась никаким авторитетом. Каждый документ рассматривался в качестве соглашения, закрепляющего временное распределение власти. Не будучи основополагающим и нейтральным, он считался всего лишь процедурным средством, содержащим формальные условия, в соответствии с которыми правительству дозволялось править».
В Польше конституция 1921 г. предполагала слабую президентскую власть, поскольку оппоненты маршала Пилсудского знали – избран будет именно он. Пилсудский отказался баллотироваться на этих условиях и пришел к власти в мае 1926 г. в результате государственного переворота. Спустя девять лет была выработана новая конституция, имевшая целью закрепить его властные полномочия. Через год Пилсудский умер, и оказалось, что нет никого, кто мог бы его заменить. Во Франции конституция Пятой Республики была выкроена специально по мерке генерала де Голля, но выдержала тест на cohabitation, когда президент-социалист сосуществовал с правым парламентским большинством.
Конституции, закрепляющие существующие соотношения сил, прочны до тех пор, пока сохраняются эти соотношения. Прекрасной иллюстрацией служит чилийская конституция 1925 г. (далее я следую Стантону (Stanton, 1990)). Эта конституция была принята только в 1932 г., после заключения соглашения, которое оставляло землевладельцам право контроля над голосами крестьян и предоставляло сельским районам большинство мест в представительных органах. По существу конституция 1932 г. была картелем, который объединял городские секторы и latifunistas и имел целью удерживать цены на сельскохозяйственную продукцию на низком уровне, позволяя землевладельцам снижать заработную плату. Этот пакт был отменен лишь в 1960-е гг., когда к власти пришли христианские демократы, искавшие поддержки крестьян. В 1968 г. система рухнула, а в 1973 г. была ликвидирована и демократия. Отметим, что соответствующие институты просуществовали 41 год. Однако с самого начала они были построены таким образом, что не могли пережить существенного изменения: предоставления полных избирательных прав сельскому населению.
Соотношение сил известно и равновесно. В этом случае совокупность обстоятельств гораздо сложнее. Предположим, что конфликтующие политические силы по-разному видят пути организации политической жизни общества. Одна часть страны предпочитает унитарное правление, другая – федеральную систему. Какие-то группы населения считают, что их интересы будут лучше всего защищены в условиях парламентской системы, другие настаивают на системе президентского правления. Один альянс сил стоит за отделение церкви от государства, другой призывает к государственной религии. Вообразим, что одно объединение сил (назовем их условно «синими») сочтет более полезной для демократии институциональную систему А, в то время как другое объединение («зеленые») увидит в этой системе угрозу для демократии и предпочтет Б. Достичь согласия им не удается (табл. 3).
Таблица 3
Эта ситуация не может быть сбалансирована чисто стратегическими способами, и одним из возможных исходов является гражданская война. Так случилось в Аргентине между 1810 и 1862 гг. после двух неудачных попыток принять конституцию, и стабильность была достигнута лишь после того, как провинция Буэнос-Айрес потерпела поражение в войне (Saguir, 1990). Похоже, такая же ситуация складывается в настоящее время в Советском Союзе, где националистические, федералистские и унитаристские силы конфликтуют друг с другом, не находя взаимоприемлемого решения.
Между тем перспектива конфликта, гражданской войны, которая продлится, возможно, на протяжении жизни целых поколений, мало кого привлекает. Поэтому политическим силам приходится принимать какую-то институциональную структуру – любую структуру в качестве временного решения. Как отмечал Растоу (Rustow, 1970), когда никто не в состоянии навязать свое решение в одностороннем порядке, «длительная ничья заставляет соперников искать компромиссное решение, которое, впрочем, хуже оптимального».
В ряде стран это уже имело место: конфликты по поводу институтов быстро заканчивались. В Бразилии новая конституция была принята, хотя все понимали, что ее невозможно будет соблюдать. Она принималась для того, чтобы снизить интенсивность конфликта, и обещала удовлетворить в будущем всевозможные требования. В Аргентине было восстановлено действие конституции 1853 г., хотя прежде она никогда не была действенной и не было оснований думать, что она заработает.
Предположим, что в условиях конфронтации для политических сил любое решение предпочтительнее, чем продолжение конфликта. Но система, принятая как временное средство его прекращения, благоприятствует шансам одних политических групп в ущерб другим. Запускаются два механизма. Во-первых, проигрывающая сторона знает, что ее шансы на победу при этой системе меньше, чем при альтернативной системе. Ее ожидания оправдываются, и эта сторона раз за разом проигрывает. Следовательно, expost-ситуация отличается от ситуации exante. Если бы, несмотря на мизерные шансы, она оказалась в выигрыше, расклад был бы совершенно иным. Во-вторых, деятели соответственно уменьшают свои ожидания, касающиеся системы институтов, и обнаруживают, что риск повторения конфликта по поводу институтов не так велик, как представлялось ранее.
Допустим, что это рассуждение верно. Тогда временные решения принимались потому, что продолжение борьбы считалось слишком опасным делом. Но если результаты окажутся болезненными, соответствующие политические силы будут пытаться избежать потерь, связанных с конкуренцией по демократическим правилам, или по крайней мере улучшить свои шансы в будущем соперничестве. Так что политические силы, способные добиваться альтернатив, будут их добиваться.
Соотношение сил неизвестно. Предположим, что страна выходит из длительного периода авторитарного правления и никто не знает, каким будет соотношение сил. Тогда немаловажным оказывается время написания конституции. Если это отложить до тех пор, пока выборы и другие события не прояснят упомянутое соотношение сил, мы вновь будем иметь дело с известными ситуациями. Система может оказаться неравновесной, и институты будут задуманы так, чтобы закрепить существующие преимущества; или же она может оказаться равновесной со всеми возможностями, которые из этого следуют. В Польше определение времени выборов президента, парламента и написания конституции послужило предметом конфликта, и решено было провести выборы президента до того, как будет написана конституция. Но представим себе, что сначала принимается конституция, как это было в Греции, или что сначала проводятся выборы, не имеющие никакого значения, как это произошло в Испании.
Если прав Ролз и никто не знает о своей политической силе в условиях демократических институтов, все выбирают решение по принципу максимина: т. е. институты, контролирующие балансы и максимизирующие политическое влияние меньшинств или же проводящие политику, которая полностью игнорирует колебания общественного мнения. Каждая из конфликтующих политических сил будет стремиться к институтам, которые гарантируют от временных политических неудач, неблагоприятных всплесков общественного мнения, от смены союзников. В Швеции либералы и социал-демократы были готовы дать гарантии, которых требовали консерваторы; по словам лидера консерваторов епископа Г. Биллинга, он предпочел бы «прочные гарантии и дальнейшее расширение избирательного права, а не слабые гарантиии ограничения избирательного права».
Итак, конституции, которые пишутся в период, когда соотношение сил еще не прояснилось, скорее всего будут противодействовать возвращению к прежней власти, они страхуют тех, кто терпит поражение, и снижают ставки в борьбе соперников. Они способствуют тому, чтобы проигравшие смирились с поражением и приняли участие в текущих делах. Таким образом, они скорее всего окажутся устойчивыми при самом широком спектре исторических условий.
Предварительные выводы состоят в следующем. Институты, принятые в периоды, когда соотношение сил неизвестно или неясно, скорее всего сохранятся. Институты, принятые в качестве временных решений в периоды, когда известно, что соотношение сил равновесно и различные группы отдают предпочтение альтернативным решениям, могут обрести силу конвенции, если сохранятся на протяжении достаточно долгого времени. Но вряд ли они удержатся долго. Наконец институты, закрепляющие временное преимущество, скорее всего будут столь же прочными. Как и условия, которые их порождают.
В условиях демократии перед любой оппозицией встает классическая проблема: до какой степени быть оппозиционной и какими средствами при этом пользоваться. Если оппозиция не противопоставляет себя существующему режиму – не предлагает альтернатив и не обещает воплотить их в жизнь, – тогда политические институты, с их способностью мобилизовать и инкорпорировать, остаются слабыми. Демократия начинает страдать анемией. Если же оппозиция действует слишком решительно, то под угрозой может оказаться демократия как таковая. Непримиримая оппозиция в состоянии создать неуправляемую ситуацию – особенно в периоды экономических трудностей. Если всякий раз, когда какая-нибудь партия проигрывает на выборах или правительство проводит непопулярные меры, оппозиция будет устраивать всеобщую стачку, это может ослабить демократические институты и привести к вмешательству военных.
Одно из решений этой дилеммы состоит в том, чтобы заключать политические пакты – соглашения между лидерами политических партий (или протопартий): 1) распределяющие правительственные учреждения независимо от результатов выборов, 2) определяющие основные политические ориентации и 3) исключающие, а при необходимости и подавляющие аутсайдеров. Такие пакты имеют давнюю традицию в Италии, Испании и Уругвае и называются transformisme. Примером может служить венесуэльский пакт 1958 г., заключенный в Пунто-Фихо, по которому три партии поделили между собой правительственные посты, согласовали политику, направленную на развитие частной собственности и исключающую коммунистов из политической системы. Этот пакт весьма успешно содействовал демократическим переменам в государстве.
Задачей таких пактов является защита эмбриональных демократических институтов путем снижения накала конфликтов, возникающих в связи с политическим курсом и кадровыми назначениями. Если институциональные пакты устанавливают правила игры, а остальное отдают на откуп конкуренции, то они играют существенно важную роль, устраняя главные политические вопросы из сферы соперничества. Такие пакты необходимы для защиты демократических институтов от давления, которому они еще не способны противостоять. Заметим, однако, что такие пакты возможны только в том случае, если их участники получают от демократии ощутимую личную выгоду; заметим также, что стричь купоны можно, только отстранив аутсайдеров от участия в конкурентной борьбе. Пакты опасны тем, что могут стать своеобразными «картелями» существующих должностей против соперников – «картелями», которые ограничивают конкуренцию, преграждают соперникам путь к успеху и распределяют выгоды, связанные с политической властью, только среди своих. Тогда демократия с легкостью превращается в частное предприятие лидеров нескольких политических партий и корпоративных союзов, в олигополию, сговор с целью исключения посторонних.
К. Бейме. Партии в процессе демократической консолидации[102]
Консолидация демократии
Зачастую создание институтов рассматривается как часть фазы консолидации демократии. Более уместно институционализацию демократии рассматривать как элемент второй фазы перехода. Изучение этой фазы еще более подчеркивает значение институциональных условий консолидации. Никто больше не довольствуется тем минимальным тестом, который предложил Хантингтон: проведение двух свободных выборов или осуществление двукратной смены власти в соответствии с конституцией (Huntington, 1991). В Западной Европе второй критерий всегда вызывал вопросы. Так, ФРГ пережила первую смену правительства лишь по истечении двух десятилетий. Лишь после смены власти 1982–1983 гг. немецкую послевоенную демократию, по Хантингтону, следовало бы рассматривать как консолидированную. В Италии, где демократия, казалось бы, была консолидированной, действительной смены власти не было до 1994 г. В последнее время в случае Италии говорят (правда, ретроспективно) о «неадекватности первого перехода», приведшего к возникновению Второй республики (Massari, 1996). «Второй республики» в Италии все же пока в действительности не предвидится. Но даже если бы она установилась, не возникало бы сомнений в преемственности демократии, как показал французский пример перехода от Четвертой к Пятой республике – несмотря на рассуждения Миттерана о «перманентном перевороте» (coup d'йtat permanent). Для исследователей процесса трансформации после успешной консолидации демократии может открываться новая область анализа. Она могла бы звучать так: «Переход от демократии к демократии».
В Восточной Европе «анократии» произвели такое количество смешанных форм правового государства и аномии, что можно сбиться со счета. В Албании произошла смена правительства, но выборы, последовавшие за учредительными, оппозиция в дальнейшем не признавала честными. В Словакии произошел уникальный случай, когда правительство прежних коммунистов лишилось власти путем выборов, а после этого снова пришло к власти через выборы. При этом никто не стал бы считать эти страны консолидированными демократиями.
В случае Албании это остается пока без последствий из-за ее периферийного положения для европейской политики. Но по отношению к Словакии за кулисами Европейского Союза уже обсуждается, что следует сделать, если северная часть Восточной Европы достигнет уровня требований Европейского Союза, а Словакия не выполнит минимальных критериев для вступления в этот «клуб». Простого устранения ущемления в правах меньшинств, благодаря чему Словакия осилила вступление в Совет Европы, будет здесь недостаточно. К тому же экономические индикаторы также говорят против быстрого получения Словакией членства в Европейском Союзе. А они, в конце концов, более весомы, так как «клуб» не забыл, что он, несмотря на всю политическую риторику объединения Европы, на первый план ставит экономическое сообщество.
Критерии консолидации в политологических дискуссиях непрерывно ужесточаются, хотя минималисты и максималисты пока не пришли к согласию. Минималисты в исследованиях консолидации довольствуются в значительной степени формальными критериями семи индикаторов полиархии Даля (O'Donnell, 1996), определяемыми нормами права и институтами. Максималисты, в свою очередь, исходят из того, что демократия – это больше, чем политический режим. Это – сочетание нескольких сфер, или «арен» (Linz, Stepan, 1996). К ним относится свободное и жизнеспособное гражданское общество, автономное политическое общество, наличие правового государства, лояльная по отношению к демократии бюрократия и институционализированное экономическое общество (Linz, Stepan, 1996). Принимая это определение, следует признать, что большинство восточноевропейских трансформационных режимов не соответствуют критериям консолидации. Классическая литература по модернизации порог прохождения успешной демократизации устанавливала за счет целого ряда «необходимых предпосылок» (pre-requisites), без которых попытка демократизации не будет успешной. Многие из этих предпосылок могут быть применены к анализу и фазы демократизации, и фазы консолидации.
1. Эффективно функционирующая рыночная экономика с минимальным благосостоянием принадлежала к широко распространенным предпосылкам демократизации. Она снова была привнесена в 1990-е гг., отчасти в виде термина «экономическое общество» (Linz, Stepan, 1996). Посткоммунистические общества по сравнению с постфашистскими обществами оказываются в этом отношении более пострадавшими. Фашизм создал экономику под опекой государства, но не посягал на структуры частной собственности. Испания, страна с сильнейшими автаркическими тенденциями при фашизме, в поздний период правления Франко осуществила переход к миру открытой экономики.
Слишком строго, однако, критерий «рыночная экономика» использовать нельзя. Максималисты, изучающие консолидацию, должны усвоить, что и западные демократии знали самые различные формы государственной собственности и государственного вмешательства. Они оказались совместимы с демократией, пока государственное вмешательство не вело к параличу экономики и ущемлению демократии. Но этот критерий может быть применим и для авторитарного режима, начиная с авторитаризма «азиатских драконов» и кончая коротким периодом относительно успешного «гуляш-коммунизма» в Венгрии или коммунизма «польского Фиата».
В начале 1990-х гг. исследователи заразились восточноевропейским воодушевлением. Экономически детерминированные «учения о предпосылках» были отвергнуты Шмиттером и другими авторами. Причинно-следственные связи стали обратными: демократия оказалась стилизована под предпосылку успешной рыночной экономики. Так как это предположение не было слишком убедительным, его подкрепили структурами международной поддержки: только у демократических режимов есть перспектива получения западной помощи и надежда быть принятыми в западные организации. План Маршалла для Восточной Европы не состоялся, и результаты помощи выглядят скромно по прошествии нескольких лет. Характер восприятия международной помощи в Восточной Европе по результатам опросов надо признать просто катастрофическим (von Beyme, 1994).
Но в то же время раздавались скептические голоса, прежде всего в самой Восточной Европе. Один венгерский посол сформулировал девиз: ни одна страна не может оставаться демократической, если ВНП не составляет 6000 долл. США на душу населения. Тем самым он гарантировал, что Венгрия могла быстро стать демократической, в то время как Румыния – едва ли в средние сроки. То, что тогда звучало скорее как злоупотребление традиционными культурными ценностями исследований модернизации и ошибкой неадекватной конкретизации (fallacy of misplaced concretness), после первых неудач одновременных политических и экономических реформ снова обрело смысл. Пшеворский (Przeworski, 1996) резюмирует в одном сравнительном исследовании, что демократическая система «с доходом на душу населения, превышающим 6000 долл. США в год... должна наверняка выжить». Это неопровержимое доказательство было смягчено, правда, другим, не менее проблематичным детерминизмом, в том виде, в каком его представил тезис Линца. Парламентские системы даже в бедных нациях выживают вдвое чаще, чем президентские системы. Однако здесь допускаются переменные промежуточного характера, отражающие контекст политической системы. Если взять показатель ВВП на душу населения в год начала демократизации, то лишь Чехия (7424 долл. США), Словения (6540) и Венгрия (5330) имели хорошие шансы на консолидацию. Болгария (5113) и Польша 4086) находились в допустимых границах. Все остальные имели менее 3000 долл. США. Вполне утешительно выглядит сравнение с консолидированными демократиями третьей волны в Южной Европе. Испания обладала тогда 4159 долл. США, Греция 3224 долл. США и Португалия 2397 долл. США на душу населения ВНП (Schmidt, 1995). Эти подсчеты без учета политических факторов были сделаны тем же автором, который ранее смело выступал против обобщений теорий модернизации и зависимости демократизации от экономических факторов, поскольку это не подтвердилось в случае Испании (Przeworski, 1991). Этот подход, возможно, правильный, но только потому, что он применяется для «всех без исключения» стран. Противоположный расчет Хантингтона на то, что демократия лучше всего сохраняется там, где продолжает существовать американское влияние или наследие европейского колониализма, оказывается, правда, не менее проблематичным. Но он хотя бы не забывает о политических факторах международного влияния.
2. Одним из пяти условий консолидации является лояльная бюрократия (Linz, Stepan, 1996). Однако именно этот показатель демонстрирует необыкновенный разброс. Бывшие фашистские государства «чистили» свои бюрократии лишь незначительно. Лояльность не подвергалась проверке, за исключением испанской попытки путча в 1981 г. В Италии время от времени предлагались разоблачения фашиствующих заговоров высших бюрократов и военных, но и здесь страну миновала проверка на лояльность. Пока еще отсутствуют количественные исследования о смене элит в ходе четвертой волны демократизации. Считается, что в Венгрии политические элиты сменились на 80 % (Agh, 1995).
Студенческие движения в 1916-м г. во многих странах разоблачили лицемерное отношение элит к прошлому. В литературе эта проблема рассматривалась довольно редко. Лишь такой консерватор, как Хантингтон, мог себе позволить отговаривать от преследования приспешников диктатуры при смене системы, поскольку в этом случае «политические издержки перевешивают моральную выгоду» (Huntington, 1991).
Несмотря на множество преступлений и ущемлений прав человека, реальный социализм задним числом не может причисляться в большинстве случаев к преступному режиму. Только в Чехии было принято законодательное положение о преследовании преступников режима. Правда, здесь «закон о люстрации» от 1991 г. привел к увольнению такого большого числа функционеров, что даже такой человек, как Дубчек, должен был уйти со своего поста. Позже, став главой парламента, он отказался подписать этот закон. Даже этот жесткий закон классифицировался как закон-алиби. В нем постулировались критерии несовместимости постов в авторитарном и демократическом режимах. Это было сделано для того, чтобы не расследовать каждый конкретный случай несправедливости. Только в Германии после 1990 г. этой проблемой могла заниматься вся бюрократия в ведомстве Гаука без опасения слишком высоких политических издержек, так как управляющей элиты Западной Германии это не касалось.
Вне зависимости от того, как исследователь отвечает на вопрос: «простить и забыть» или «преследовать», никто не может требовать большого усердия от бюрократов, которые вплоть до среднего звена не были уволены и до сих пор воспроизводят клики и обычаи номенклатуры и, в крайнем случае, оказываются тормозом на пути консолидации демократии из-за своего пассивного сопротивления.
В целом партийное государство (Parteienstaat) благоприятствует постепенной смене административных элит, минимизирующей угрозу дестабилизации. Из органов управления увольняется меньше старых функционеров, чем выдвигается новых управленцев от партии, выигравшей выборы. В то же время происходит нормальная смена поколения. Консолидация демократической бюрократии – это вопрос времени.
С. Хантингтон. Третья волна. Демократизация в конце XX века[103]
Волны демократизации
Политические системы с демократическими характеристиками не являются исключительно приметой нашего времени. Во многих уголках мира веками выбирали племенных вождей, а в некоторых местах демократические политические институты долго существовали на уровне села. Кроме того, понятие демократии, разумеется, было известно еще в Древнем мире. Однако демократия древних греков и римлян отстраняла от участия в политической жизни женщин, рабов, а зачастую и другие категории населения, например проживающих в данном государстве чужестранцев. Степень ответственности правящих органов даже перед столь ограниченным кругом людей на практике тоже чаще всего была невысока.
Современная демократия – это не просто демократия села, племени или города-государства; это демократия национального государства, и возникновение ее тесно связано с развитием последнего. Первоначальный импульс развитию демократии на Западе был дан в первой половине XVII в. Демократические идеи и демократические движения являлись весьма существенной, хотя и не главной чертой английской революции. Основные Законоположения Коннектикута, принятые гражданами Хартфорда и близлежащих городков 14 января 1638 г., стали «первой письменной конституцией современной демократии». В общем и целом, однако, пуританские перевороты не оставили наследия в плане демократических институтов ни в Англии, ни в Америке. Более ста лет после 1660 г. система правления в обеих странах неуклонно становилась даже более закрытой и менее представляющей широкие слои населения, чем прежде. Самыми разными путями происходила аристократическая и олигархическая реставрация. В 1750 г. в западном мире не существовало никаких общенациональных демократических институтов. В 1900 г. такие институты были во многих странах. Еще больше государств обрели демократические институты к концу XX в., и возникали они во времена волн демократизации (табл. 4).
Таблица 4
Волны демократизации и откаты
Примечание. Классификация стран в табл. 4:
А – Австралия, Исландия, Ирландия, Канада, Новая Зеландия, Соединенное Королевство, США, Финляндия, Швеция, Швейцария;
В – Чили;
С – Австрия, Бельгия, Дания, Западная Германия, Италия, Колумбия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Япония;
D – Аргентина, Венгрия, Греция, Уругвай, Чехословакия;
Е – Восточная Германия, Испания, Польша, Португалия;
F – Латвия, Литва, Эстония;
G – Ботсвана, Венесуэла, Гамбия, Израиль, Коста-Рика, Малайзия, Мальта, Тринидад-и-Тобаго, Шри-Ланка, Ямайка;
H – Боливия, Бразилия, Индия, Пакистан, Перу, Турция, Филиппины, Эквадор, Южная Корея;
I – Нигерия;
J – Бирма, Гайана, Гана, Индонезия, Ливан, Фиджи;
К – Болгария, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Монголия, Намибия, Никарагуа, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Румыния, Сальвадор, Сенегал;
L – Гаити, Судан, Суринам.
Волна демократизации – это группа переходов от недемократических режимов к демократическим, происходящих в определенный период времени, количество которых значительно превышает количество переходов в противоположном направлении в данный период. К этой волне обычно относится также либерализация или частичная демократизация в тех политических системах, которые не становятся полностью демократическими. В современном мире имели место три волны демократизации. Каждая из них затрагивала сравнительно небольшое число стран, и во время каждой совершались переходы и в недемократическом направлении. Вдобавок не все переходы к демократии происходили в рамках этих волн. История не отличается упорядоченностью, и политические изменения невозможно разложить по удобным историческим полочкам. История также не является однонаправленной. За каждой из первых двух волн демократизации следовал откат, во время которого некоторые, хотя и не все, страны, совершившие прежде переход к демократии, возвращались к недемократическому правлению. Чаще всего определить момент перехода от одного режима к другому можно лишь условно. Условно определяются и даты волн демократизации и откатов. Тем не менее доля условности нередко бывает полезна, так что даты волн смен режима выглядят примерно следующим образом:
? первая, длинная волна демократизации 1828–1926; первый откат 1922–1942;
? вторая, короткая волна демократизации 1943–1962; второй откат 1958–1975.
? третья волна демократизации 1974-...
Первая волна демократизации. Корни первой волны в американской и французской революциях. Однако действительное возникновение национальных демократических институтов – это феномен XIX в. В большинстве стран демократические институты постепенно развивались в течение всего столетия, поэтому определить конкретную дату, после которой некая политическая система может считаться демократической, весьма трудно и возможно лишь с долей условности. Тем не менее Джонатан Саншайн выдвигает два веских критерия, позволяющих установить, когда политические системы XIX в. достигали демократического минимума в контексте той эпохи: 1) 50 % взрослого мужского населения имеет право голоса; 2) ответственный глава исполнительной власти должен либо сохранять за собой поддержку большинства в выборном парламенте, либо избираться в ходе периодических всенародных выборов. Если принять эти критерии на вооружение, применяя их достаточно свободно, можно сказать, что первая волна демократизации началась с Соединенных Штатов около 1828 г. Отмена имущественного ценза в старых штатах и присоединение новых штатов с избирательным правом для всех взрослых мужчин помогли довести долю белых мужчин, действительно голосовавших на президентских выборах 1828 г., более чем до 50 %. В последующие десятилетия и другие страны постепенно расширяли свое избирательное право, сокращали возможность подачи голоса одним лицом в нескольких избирательных округах, вводили тайное голосование и устанавливали ответственность премьер-министров и кабинетов перед парламентами. Швейцария, заморские британские доминионы, Франция, Великобритания и несколько мелких европейских стран совершили переход к демократии к концу столетия. Незадолго до Первой мировой войны более или менее демократические режимы установили у себя Италия и Аргентина. После войны демократическими были только что обретшие независимость Ирландия и Исландия, массовое движение к демократии разворачивалось в государствах, ставших преемниками империй Романовых, Габсбургов и Гогенцоллернов. В самом начале 1930-х гг., когда первая волна уже успешно завершилась, демократические ряды пополнили Испания и Чили. В общем и целом за сто лет свыше тридцати стран ввели у себя по крайней мере минимальные общенациональные демократические институты. В 1830-х гг. Токвиль предсказал этот тренд, когда он только зарождался. В 1920 г. Джеймс Брайс, рассматривая его историю, размышлял о том, не является ли «тенденция к демократии, просматривающаяся ныне повсеместно, естественной тенденцией в силу общего закона социального прогресса».
Первый откат. Однако уже в то время, когда Брайс размышлял о будущем демократической тенденции, она сходила на нет и превращалась в свою противоположность. Доминантой политического развития 1920-1930-х гг. были уход от демократии и либо возврат к традиционным формам авторитарного правления, либо установление новых, массовых, гораздо более жестоких и всеобъемлющих форм тоталитаризма. Такое движение вспять происходило главным образом в тех странах, которые восприняли демократические формы буквально накануне Первой мировой войны или сразу после нее, для которых не только демократия, но и, во многих случаях, нация были чем-то новым. Из дюжины стран, создавших у себя демократические институты до 1910 г., лишь одна – Греция – пережила после 1920 г. откат. Из семнадцати стран, воспринявших демократические институты в 1910–1931 гг., лишь четыре сохранили их на протяжении 1920-1930-х гг.
Первый откат начался в 1922 г. с месяца марта в Риме, когда Муссолини с легкостью получил в свое распоряжение непрочную и по рядком коррумпированную итальянскую демократию. Чуть больше десятилетия понадобилось, чтобы едва оперившиеся демократические институты в Литве, Польше, Латвии и Эстонии были свергнуты в результате военных переворотов. Такие страны, как Югославия и Болгария, никогда не знавшие реальной демократии, подчинились новым формам более жесткой диктатуры. Захват власти Гитлером в 1933 г. покончил с демократией в Германии, сделал неизбежной гибель австрийской демократии в следующем году и, разумеется, в итоге положил в 1938 г. конец чешской демократии. Греческая демократия, уже в 1915 г. расшатанная Национальным Расколом, была окончательно похоронена в 1936 г. Португалия в 1926 г. стала жертвой военного переворота, повлекшего за собой долгую диктатуру Салазара. Военные путчи произошли в 1930 г. в Бразилии и Аргентине. Уругвай вернулся к авторитаризму в 1933 г. Военный переворот 1936 г. привел к гражданской войне в Испании и гибели Испанской республики в 1939 г. Новая, ограниченная демократия, установленная в 1920-е гг. в Японии, в начале 1930-х гг. оказалась вытеснена военным правлением.
Эти смены режимов отражали расцвет коммунистических, фашистских и милитаристских идеологий. Во Франции, Великобритании и других странах, где демократические институты сохранились, антидемократические движения набирали силу, черпая ее в отчуждении 1920-х гг. и депрессии 1930-х гг. Война, которая велась ради того, чтобы завоевать мир для демократии, вместо этого стимулировала движения, как справа, так и слева, настойчиво стремящиеся уничтожить ее.
Вторая волна демократизации. Вторая мировая война положила начало второй, короткой волне демократизации. Союзническая оккупация способствовала введению демократических институтов в Западной Германии, Италии, Австрии, Японии и Корее, хотя в то же время Советы задушили зарождавшуюся было демократию в Чехословакии и Венгрии. В конце 1940-х – начале 1950-х гг. пришли к демократии Турция и Греция. В Латинской Америке Уругвай вернулся к демократии во время войны, а в Бразилии и Коста-Рике демократические перемены произошли в конце 1940-х гг. В четырех других латиноамериканских странах – Аргентине, Колумбии, Перу и Венесуэле – выборы 1945 и 1946 гг. привели к власти всенародно избранные правительства. Однако во всех четырех демократическая практика оказалась недолгой, и к началу 1950-х гг. там утвердились диктатуры. Аргентина и Перу во второй половине 1950-х гг. вернулись к ограниченной демократии, правда, очень нестабильной из-за конфликта между военными кругами и популистскими движениями апристов и перонистов. В Колумбии же и Венесуэле элиты в конце 1950-х гг. договорились о мерах, призванных покончить с военными диктатурами в этих странах, и ввести демократические институты, которые остались бы надолго.
Между тем начало конца западной колониальной системы породило на свет ряд новых государств. Во многих из них не делалось никаких реальных попыток ввести демократические институты. В некоторых демократия была весьма скудная: в Пакистане, к примеру, демократические институты никогда по-настоящему не пользовались властью и были формально отменены в 1958 г. Малайзия, став независимой в 1957 г., сохранила свою «квази-демократию», за исключением краткого периода чрезвычайного положения в 1969–1971 гг. В Индонезии некая непонятная форма парламентской демократии существовала с 1950 по 1957 г. В нескольких новых государствах – Индии, Шри-Ланке, на Филиппинах, в Израиле – демократические институты продержались лет десять и более, а в 1960 г. крупнейшее государство Африки, Нигерия, вступило в жизнь как демократическое.
Второй откат. К началу 1960-х гг. вторая волна демократизации исчерпала себя. В конце 1950-х политическое развитие и транзит режимов приняли отчетливо авторитарный характер. Наиболее крутые перемены произошли в Латинской Америке. Сдвиг в сторону авторитаризма начался в 1962 г. в Перу, когда военные вмешались в ход выборов с целью изменить их результаты. На следующий год президентом был избран штатский, устраивавший военных, но военный переворот 1968 г. сместил и его. В 1964 г. военные перевороты свергли гражданские правительства в Бразилии и Боливии. Аргентина последовала их примеру в 1966 г., Эквадор – в 1972 г. В 1973 г. военные режимы пришли к власти в Уругвае и Чили. Согласно одной теории, военные правительства Бразилии, Аргентины, а также (что несколько более спорно) Чили и Уругвая представляли собой примеры нового типа политической системы – «бюрократического авторитаризма».
В Азии в 1958 г. военные установили режим военного положения в Пакистане. В конце 1950-х гг. Ли Сын Манн повел подкоп под демократические процедуры в Корее, а демократический режим, пришедший ему на смену в 1960 г., был свергнут в результате военного переворота в 1961 г. Этот новый «полуавторитарный» режим был легитимирован выборами 1963 г., а полностью в крайне авторитарную систему превратился в 1973 г. В 1957 г. Сукарно заменил парламентскую демократию управляемой демократией в Индонезии, а в 1965 г. индонезийские военные уничтожили и управляемую демократию, взяв бразды правления страной в свои руки. Президент Фердинанд Маркое ввел в 1972 г. военное положение на Филиппинах, в 1975 г. Индира Ганди, временно отказавшись от демократической практики, объявила чрезвычайное положение в Индии. На Тайване недемократический гоминьдановский режим кое-как терпел либеральных диссидентов в 1950-е гг., но в «мрачную эпоху» 1960-х гг. разгромил их и заставил смолкнуть «политический дискурс любого рода».
В Средиземноморье греческая демократия пала под ударами монархического переворота 1965 г. и военного – 1967 г. Турецкие военные свергли гражданское правительство страны в 1960 г., возвратили власть выборному правительству в 1961-м, вновь совершили «полупереворот» в 1971-м, позволили вернуть выборное правительство в 1973-м и, наконец, осуществили полномасштабный военный переворот в 1980 г.
В 1960-е гг. несколько неафриканских колоний Великобритании получили независимость и установили демократические режимы, продержавшиеся у власти значительный период времени. Это Ямайка и Тринидад-и-Тобаго (1962), Мальта (1964), Барбадос (1966) и Маврикий (1968). Однако большая часть новых стран, ставших независимыми в 1960-е гг., находилась в Африке. Наиболее важная из них – Нигерия – начала свой путь как демократия, но в 1966 г. пала жертвой военного переворота. Единственной африканской страной, стойко придерживавшейся демократической практики, была Ботсвана. Тридцать три других африканских государства, получивших независимость между 1956 и 1970 гг., стали авторитарными в тот же самый момент или очень скоро после него. Деколонизация Африки привела к сильнейшему в истории увеличению числа независимых авторитарных правительств.
Глобальный поворот прочь от демократии в 1960-х – начале 1970-х гг. приобрел впечатляющие размеры. По одному подсчету, в 1962 г. плодами государственных переворотов во всем мире являлись тринадцать правительств; к 1975 г. – тридцать восемь. По другой оценке, треть из 32 действующих демократий, существовавших в мире в 1958 г., превратилась в авторитарные режимы к середине 1970-х.
В 1960 г. в девяти из десяти южноамериканских испаноязычных стран были демократически избранные правительства; в 1973 г. – только в двух, Венесуэле и Колумбии. Эта волна переходов от демократии к авторитаризму тем более поразительна, что увлекла за собой некоторые страны, такие как Чили, Уругвай («Швейцария Южной Америки»), Индия и Филиппины, где демократические режимы держались четверть века и дольше. Авторитарные транзиты подобного рода не только вызвали к жизни теорию бюрократического авторитаризма, призванную объяснить перемены, происходящие в Латинской Америке. Они породили значительно более пессимистический взгляд на пригодность демократии для развивающихся стран и усилили озабоченность жизне– и работоспособностью демократии в странах развитых, где она существовала многие годы.
Третья волна демократизации. И вновь диалектика истории опрокинула теоретические конструкции, созданные социальной наукой. В течение пятнадцати лет после падения португальской диктатуры в
1974 г. демократические режимы пришли на смену авторитарным почти в тридцати странах Европы, Азии и Латинской Америки. В некоторых странах произошла значительная либерализация авторитарных режимов. В других движения, выступающие за демократию, обрели силу и легальность. Совершенно очевидно, что существовало сопротивление, бывали неудачи, как, например, в Китае в 1989 г., но, несмотря на все это, движение к демократии, казалось, приобрело характер неудержимой глобальной приливной волны, катящейся от одной победы к другой.
Сначала этот демократический прилив проявил себя в Южной Европе. Через три месяца после португальского переворота рухнул военный режим, правивший Грецией с 1967 г., и там пришло к власти гражданское правительство, возглавляемое Константине Караманлисом. В ноябре 1974 г. в ходе жаркого избирательного соревнования греческий народ отдал решающее большинство голосов Караманлису и его партии, в следующем месяце подавляющим большинством проголосовал за то, чтобы не реставрировать монархию. 20 ноября
1975 г., всего за пять дней до того, как Эанеш разгромил марксистов-ленинистов в Португалии, смерть генерала Франсиско Франко положила конец его тридцатишестилетнему правлению в Испании. В течение следующих восемнадцати месяцев новый испанский король Хуан Карлос при поддержке своего премьер-министра Адольфо Суареса добился одобрения парламентом и народом закона о политической реформе, что повлекло за собой избрание нового законодательного собрания. Законодательное собрание составило проект новой конституции, которая была ратифицирована референдумом в декабре 1978 г. и на основе которой в марте 1979 г. прошли парламентские выборы.
В конце 1970-х гг. демократическая волна докатилась до Латинской Америки. В 1977 г. военные лидеры в Эквадоре заявили о своем желании уйти из политики; в 1978 г. там был составлен проект новой конституции; в 1979-м в результате выборов было сформировано гражданское правительство. Сходный процесс ухода военных со сцены в Перу в 1978 г. привел к выборам в учредительное собрание, в 1979-м – к принятию новой конституции, в 1980-м – к избранию гражданского президента. В Боливии отступление военных повлекло за собой четыре сумбурных года переворотов и срывавшихся выборов; началось все это в 1978 г., но в итоге все же завершилось в 1982 г. избранием гражданского президента. В том же году поражение в войне с Великобританией подорвало позиции аргентинского военного правительства и привело к избранию гражданского президента и правительства в 1983 г. Переговоры между военными и политическими лидерами в Уругвае закончились избранием гражданского президента в ноябре 1984 г. Два месяца спустя долгий процесс abertura («открытия»), начавшийся в Бразилии в 1974 г., достиг критической точки с избранием первого гражданского президента этой страны начиная с 1964 г. Между тем военные покидали руководящие посты и в Центральной Америке. В Гондурасе гражданский президент появился в январе 1982 г.; сальвадорские избиратели в ходе остросоревновательных выборов в мае 1984 г. избрали президентом Хосе Наполеона Дуарте; Гватемала провела выборы учредительного собрания в 1984 г., гражданского президента – в 1985-м.
Демократическое движение заявило о себе и в Азии. В начале 1977 г. первая демократия третьего мира – Индия, прожив полтора года в условиях чрезвычайного положения, вернулась на демократический путь. В 1980 г. турецкие военные в ответ на разгул насилия и терроризма в третий раз захватили бразды правления страной. Однако в 1983 г. они ушли со сцены, и в результате выборов было сформировано гражданское правительство. В том же году убийство Бениньо Акино положило начало цепи событий, которые в конце концов привели в феврале 1986 г. к уничтожению диктатуры Маркоса и восстановлению демократии на Филиппинах. В 1987 г. военное правительство Южной Кореи выдвинуло своего кандидата на пост президента, который после острого соревнования в ходе предвыборной кампании победил на относительно справедливых выборах. На следующий год оппозиция добилась контроля над южнокорейским парламентом. В 1987 и 1988 гг. правительство Тайваня значительно смягчило ограничения, наложенные на политическую деятельность в этой стране, и взяло на себя обязательство создать демократическую политическую систему. В 1988 г. закончилось правление военных в Пакистане, и оппозиция, возглавляемая женщиной, победив на выборах, получила контроль над правительством.
В конце десятилетия демократическая волна захлестнула коммунистический мир. В 1988 г. в Венгрии начался переход к многопартийной системе. В 1989 г. выборы на съезд народных депутатов СССР принесли поражение нескольким высокопоставленным партийным лидерам и позволили создать весьма независимый Верховный Совет. В начале 1990 г. стали развиваться многопартийные системы в Прибалтийских республиках, а коммунистическая партия Советского Союза отказалась от руководящей роли. В Польше «Солидарность» одержала в 1989 г. полную победу на выборах в государственный сейм, и на свет появилось некоммунистическое правительство. В 1990 г. лидер «Солидарности» Лех Валенса был избран президентом, сменив на этом посту коммуниста генерала Войцеха Ярузельского. В последние месяцы 1989 г. рухнули коммунистические режимы в Восточной Германии, Чехословакии и Румынии, и в 1990 г. в этих странах прошли соревновательные выборы. В Болгарии коммунистический режим также начал либерализоваться, народные движения, выступающие за демократию, появились в Монголии. В 1990 г. в обеих этих странах состоялись, как кажется, достаточно беспристрастные выборы.
Между тем в Западном полушарии мексиканская правящая партия в 1988 г. впервые выиграла президентские выборы лишь с самым минимальным перевесом, а в 1989 г. впервые потеряла власть в государстве. Чилийская общественность в 1988 г. проголосовала во время референдума за то, чтобы положить конец затянувшемуся пребыванию у власти генерала Аугусто Пиночета, и на следующий год избрала гражданского президента. Военная интервенция США в 1983 г. уничтожила марксистско-ленинистскую диктатуру в Гренаде, а в 1989 г. – военную диктатуру генерала Мануэля Норьеги в Панаме. В феврале 1990 г. потерпел поражение на выборах марксистско-ленинистский режим в Никарагуа, в декабре было избрано демократическое правительство на Гаити.
1970-е и начало 1980-х гг. стали также финальной фазой европейской деколонизации. Конец португальской империи породил пять недемократических правительств. Однако в 1975 г. Папуа-Новая Гвинея стала независимой с демократической политической системой. Ликвидация остатков британской империи, главным образом на островах, произвела на свет дюжину крошечных новых наций, и почти все они сохранили демократические институты, хотя в Гренаде эти институты пришлось восстанавливать с помощью военной интервенции из-за рубежа. В 1990 г. получила независимость Намибия, причем ее правительство было избрано на выборах, проходивших под контролем международных наблюдателей.
В Африке и на Среднем Востоке движение к демократии в 1980-е гг. происходило в ограниченных пределах. Нигерия в 1979 г. сменила военный режим на демократически избранное правительство, но последнее, в свою очередь, было свергнуто в результате военного переворота в начале 1984 г. К 1990 г. некоторая либерализация произошла в Сенегале, Тунисе, Алжире, Египте и Иордании. Южноафриканское правительство в 1978 г. начало медленный процесс свертывания апартеида и расширения политического участия в пользу цветных меньшинств, однако не в пользу подавляющего большинства чернокожего населения страны. После некоторой паузы, а затем – избрания президентом Ф. В. де Клерка этот процесс в 1990 г. был возобновлен переговорами между правительством и Африканским национальным конгрессом. К 1990 г. стали раздаваться требования демократии в Непале, Албании и других странах, имевших прежде весьма скромный демократический опыт или не имевших его вовсе.
В целом движение к демократии носило глобальный характер. За пятнадцать лет демократическая волна прокатилась по Южной Европе, затопила Латинскую Америку, дошла да Азии и уничтожила диктатуру в Советском блоке. В 1974 г. восемь из десяти южноамериканских стран управлялись недемократическими правительствами, в 1990 г. в девяти правительства были демократически избраны. В 1973 г., по данным Фридом-Хауза, 32 % мирового населения проживало в свободных странах; в 1976 г., из-за введения чрезвычайного положения в Индии, – менее 20 %. В 1990-м, однако, в свободных обществах жило почти 39 % человечества.
В каком-то смысле волны демократизации и откаты укладываются в схему «два шага вперед – шаг назад». До настоящего времени каждый откат аннулировал некоторые, но не все переходы к демократии, совершившиеся в предыдущую волну демократизации. Правда, последняя колонка в табл. 5 предполагает менее оптимистичный прогноз на будущее. Государства многократно меняли очертания и размеры, за десятилетия, прошедшие после Второй мировой войны, число независимых государств удвоилось, а доля демократических государств в мире изменялась с завидной регулярностью. В низших точках двух откатов 19,7 % и 24,6 % стран в мире были демократическими. На пиках двух волн демократизации – 45,3 % и 32,4 %. В 1990 г. демократические системы были примерно в 45,4 % независимых государств мира – практически как в 1922 г.
Таблица 5
Демократизация в современном мире
Примечание. Здесь не учитываются страны с населением менее 1 млн чел.
Совершенно очевидно, что вопрос о наличии демократии в Гренаде менее важен, чем вопрос о наличии ее в Китае, и не все соотношения общего числа стран и числа демократических государств в равной степени значимы. Кроме того, в 1973–1990 гг. абсолютное количество авторитарных государств впервые снизилось, хотя к 1990 г. третья волна демократизации еще не привела к увеличению процентной доли демократических государств в мире по сравнению с предыдущим пиком, достигнутым шестьдесят восемь лет назад.
Л. Даймонд. Прошла ли «третья волна» демократизации?[104]
С того времени как в апреле 1974 г. рухнул диктаторский режим в Португалии, число демократий в мире резко возросло. До начала этого глобального движения к демократии насчитывалось примерно 40 стран, которые можно было с той или иной долей условности отнести к демократическим. Количество их постепенно увеличивалось, по мере того как в конце 1970-х – начале 1980-х гг. в ряде стран стал осуществляться переход от авторитарного (преимущественно военного) к демократическому правлению. Однако в середине 1990-х гг. темпы распространения демократии по планете заметно ускорились, и к настоящему моменту существует от 76 до 117 демократий (сколько именно, определяется системой подсчета). Именно от системы подсчета в решающей степени зависят и представления о том, будет ли число демократий и дальше расти (или хотя бы сохраняться на прежнем уровне) либо нет. По сути дела, здесь встает фундаментальный вопрос о том, что понимать под демократией.
В своей основополагающей формулировке С. Хантингтон окрестил период после 1974 г. «третьей волной» глобальной экспансии демократии. Согласно его определению, «волна демократизации» – это просто «совокупность происходящих в некий промежуток времени транзитов от недемократических к демократическим режимам, когда число таких транзитов значительно превосходит число осуществленных в тот же временной отрезок переходов в противоположном направлении». Ученый выявил две предшествовавшие волны демократизации: длительную, медленную волну, тянувшуюся с 1828 по 1926 г., и волну 1943–1964 гг. Примечательно, что обе эти волны повлекли за собой то, что Хантингтон назвал «откатными волнами» крушения демократий (первая продолжалась с 1922 по 1942 г., вторая – с 1961 по 1975 г.), в ходе которых пала часть недавно созданных (или восстановленных) демократических режимов. Но хотя каждая откатная волна заметно сокращала количество демократий в мире, в целом их оставалось все же больше, чем до начала соответствующей волны демократизации. Откатные волны наносят огромный ущерб политической свободе, правам человека и миру [на планете]. Поэтому, как я постараюсь доказать, предотвращение такого поворота событий должно занимать первостепенное место среди политических целей демократических акторов и институтов всех стран...
Эмпирические тенденции периода «третьей волны»
Но из каких бы критериев мы ни исходили, сфера распространения демократии в мире с момента начала «третьей волны» значительно расширилась. Если отталкиваться от минималистской, или формальной, концепции, [следует констатировать, что] как число, так и доля демократий на планете резко возросли (табл. 6). В 1974 г. в мире насчитывалось 39 демократий, из которых лишь 28 имели население свыше 1 млн человек (или настолько приблизились к этой отметке, что к 1995 г. преодолели ее). Только около 23 % стран с населением свыше 1 млн человек и чуть больше 27 % всех стран формально относились к демократическим. Различие между приведенными показателями иллюстрирует любопытную взаимосвязь между размерами страны и типом существующего в ней режима, прослеживавшуюся на протяжении всей «третьей волны»: очень маленькие страны (с населением менее 1 млн человек) имеют значительно больше шансов стать демократиями (особенно либеральными), чем крупные. Действительно, 2/3 стран с населением менее 1 млн человек являются сегодня либеральными демократиями, тогда как среди стран с населением свыше 1 млн человек таковых лишь около 11 %.
Таблица 6
Численность формальных демократий (1974,1990–1995)[105]
Источники: Freedom House. Freedom in the World: The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties. N. Y, 1991–1995; Freedom Review. 1996. January-February. Vol. 27.
К началу 1996 г. число стран, отвечающих по крайней мере двум необходимым критериям электоральной демократии, составило 117. Мало того, хотя в течение всего периода «третьей волны» количество независимых стран непрерывно увеличивалось (примерно на треть), доля стран, которые были, как минимум, формально демократическими, выросла более чем в два раза, превысив 60 %. Но еще поразительнее то, насколько значительная доля роста пришлась на 1990-е гг., когда рухнул советский и восточноевропейский коммунизм и [одновременно] «третья волна» докатилась до прилегающих к Сахаре районов. Как видно из табл. 6, начиная с 1990 г. число и доля демократий в мире ежегодно увеличивались. Эту ситуацию нельзя охарактеризовать иначе как беспрецедентный демократический прорыв. Еще в 1990 г., когда Хантингтон писал свою «Третью волну», он обнаружил, что к демократиям относятся лишь 45 % государств (с населением свыше 1 млн человек) – доля, практически идентичная существовавшей в 1922 г., т. е. на пике «первой волны». Даже если мы аналогичным образом ограничим свой обзор странами с населением свыше 1 млн человек, доля формальных демократий в мире составит сегодня 57 %.
Какими же были тенденции в распространении либеральной демократии? Как и следовало ожидать, и число, и доля стран, отнесенных Домом Свободы к категории «свободных», также увеличились, хотя и не столь резко. С 1972 г., когда был опубликован первый «Обзор» Дома Свободы, и вплоть до 1980 г. число «свободных» государств выросло лишь на 10 (в процентном исчислении этот рост едва заметен – с 29 % до 32 %). Мало того, наблюдались изменения и противоположного характера: за первые шесть лет «третьей волны» демократия потерпела крах или подверглась разложению в пяти государствах, в результате чего они перестали считаться «свободными». Фактически, хотя в годы «третьей волны» общемировая тенденция режимного изменения в целом шла в направлении укрепления демократии и свободы, за период с 1974 по 1991 г. демократия пала в 22 странах, а в дальнейшем ситуация еще больше ухудшилась.
Самые мощные всплески свободы в ходе «третьей волны» пришлись на вторую половину 1980-х и начало 1990-х гг. Как видно из табл. 7, за период с 1985 по 1991 г. (критический год кончины советского коммунизма) число «свободных» государств подскочило с 56 до 76, а их доля среди государств мира выросла с 33 % до более чем 40 %. Кроме того, доля откровенно авторитарных («несвободных») государств сократилась, опустившись в 1991 г. до рекордно низкого уровня – 23 %, причем падение продолжалось и в следующем, 1992 г. (почти до 20 %). Для сравнения [напомню, что] в 1972 г. чуть менее половины всех независимых государств были оценены в качестве «несвободных».
Прошла ли «третья волна» демократизации?
Таблица 7
Состояние свободы в независимых государствах (1972–1995 гг.)[106]
Источники: Gastil R. D. Freedom in the World: Political Rights and Civil Liverties, 1988-89. N. Y, 1989; Freedom House. Freedom in the World: The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties. N. Y, 1991–1995; Freedom Review. 1996. January-February. Vol. 27.
В 1991–1992 гг. распространение свободы в мире, похоже, достигло высшей точки. С 1991 г. доля «свободных» государств начала медленно снижаться, а в 1992 г. резко поднялась доля «несвободных». В первой половине нынешнего десятилетия, несмотря на устойчивый рост числа электоральных демократий, количество «свободных» государств оставалось на прежнем уровне, а «приобретения» в сфере свободы уравновешивались потерями. В 1993 г. в 43 странах было зарегистрировано падение показателей свободы, тогда как в 18 – усиление. В 1994 г. восемь стран повысили свой статус с точки зрения уровня свободы (а именно, были переведены из категории «частично свободных» в категорию «свободных»), а четыре – понизили; в целом же показатели свободы улучшились в 22 странах, а ухудшились – в 23. В 1995 г. тенденция оказалась несколько более позитивной: четыре страны поднялись на ступень выше по уровню свободы, три – спустились на ступень ниже; 29 стран улучшили свои показатели по [критериям] свободы, 11 – ухудшили. Однако общее число свободных государств осталось тем же, что и год назад.
Сравнение двух дивергентных тенденций, прослеживающихся в 1990-е гг., – продолжающийся рост электоральной демократии при застое в развитии демократии либеральной – указывает на все более поверхностный характер демократизации на исходе «третьей волны». На протяжении 1990-х гг. пропасть между электоральной и либеральной демократией постоянно расширялась. Доля «свободных» государств (т. е. либеральных демократий) среди всех имеющихся в мире демократий сократилась с 85 % в 1990 г. до 65 % в 1995 (см. табл. 8). В эти годы во многих наиболее важных и влиятельных молодых демократиях «третьей волны», в том числе в России, Турции, Бразилии и Пакистане, качество демократии (измеряемое объемом политических прав и гражданских свобод) заметно упало, и одновременно рухнули надежды на казавшийся весьма близким переход к демократии самой населенной африканской страны – Нигерии. В тот же самый период произошло вырождение политической свободы в ряде давно сложившихся демократий развивающегося мира, в частности в Индии, Шри-Ланке, Колумбии и Венесуэле. Фактически, если абстрагироваться от некоторых достойных внимания исключений (Северная Корея, Польша и Южная Африка), общая тенденция развития последнего десятилетия, коснувшаяся прежде всего влиятельных в региональном масштабе стран, заключается впосте-пенном угасании свободы в электоральных демократиях. Это тем более тревожно, если учесть, что, согласно Хантингтону, «сила примера» (а данный фактор играет крайне важную роль в волнообразном распространении или откате демократии), исходящего от влиятельных в региональном или общемировом масштабе стран, диспропорционально велика.
Откат «третьей волны» особенно разителен в Латинской Америке. За период после 1987 г. в десяти из 22 стран с населением более 1 млн человек, расположенных ниже Рио-Гранде, наблюдалось заметное падение уровня свободы, тогда как подъем – лишь в шести. Из пяти стран, совершивших [в годы «третьей волны»] переход к формальной демократии (Чили, Никарагуа, Гаити, Панама и Парагвай), «свободной» стала только Чили, а шесть стран региона утратили статус «свободных». Нисходящая тенденция [в развитии свободы] была зафиксирована и в некоторых остающихся «свободными» государствах (таких как Аргентина, Эквадор и Ямайка). Хотя обычно считается, что сегодня демократиями являются все государства Латинской Америки, в конце 1995 г. только 8 из 22 важнейших стран региона были отнесены к категории «свободных» (в 1987 г. таковых было 13). Хотя число откровенно авторитарных режимов в Западном полушарии сократилось, то же самое можно сказать и о либеральной демократии. В регионе происходит процесс «конвергенции», ведущий к появлению «более смешанных разновидностей полудемократических режимов»...
Таблица 8
Соотношение формальной и либеральной демократии (1990–1995 гг.)
Источники: Freedom House. Freedom in the World: The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties. N. Y, 1991–1995; Freedom Review. 1996. January-February. Vol. 27.
Как уже отмечалось, тенденция к усилению (или сохранению) неупорядоченности, к росту нарушений прав человека, неэффективности законодательной и судебной властей, коррупции, а также к безнаказанности военных и увеличению их привилегий прослеживается и в других демократиях «третьей волны» – причем не только в крупных странах типа Турции и Пакистана, но и в более мелких, таких как Замбия или большинство электоральных режимов бывшего Советского Союза. Действительно, на территории бывшего Советского Союза, в Африке, в ряде регионов Азии и на Ближнем Востоке сами выборы становятся все более и более показными и неконкурентными, превращаясь в оболочку, за которой скрывается авторитарная гегемония деспотов и правящих партий...
Возможно, наиболее поразительной чертой «третьей волны» является то, как мало осталось на земле режимов (лишь немногим более 20 %), которые никогда не допускали никакой многопартийной конкуренции, будь то конкуренция уровня либеральной, электоральной или псевдодемократии. Столь широкое распространение [многопартийной конкуренции] свидетельствует об идеологической гегемонии «демократии» в сложившемся после окончания холодной войны мире, но – одновременно – о поверхностном характере этой гегемонии. От стран Латинской Америки и Карибского бассейна США и мировое сообщество требуют электоральной демократии (в обмен на признание и экономическую помощь), однако не слишком настаивают на соблюдении прав человека и власти закона. Что касается государств Африки, то по отношению к ним ведущие западные державы придерживаются еще более низких критериев: единственное, на чем они настаивают, – это наличие оппозиционных партий, способных состязаться за власть, даже если такими партиями манипулируют, если они подвергаются преследованиям и лишаются победы во время выборов.
Период статистического равновесия
Если учесть, что часть либеральных демократий находится сейчас в состоянии стагнации, что качество многих демократий, возникших в период «третьей волны», а также демократий развивающихся стран резко ухудшается и что перспективы перехода к демократии в обозримом будущем наиболее мощных и влиятельных в мире авторитарных государств – Китая, Индонезии, Ирана и Саудовской Аравии – крайне малы или вообще отсутствуют, неизбежно возникает вопрос: завершилась ли «третья волна»?
Думается, что число аргументов в пользу утвердительного ответа возрастает с каждым днем. Если мы посмотрим, что скрывается за фасадом демократической формы (наличие такой формы все больше и больше предполагается мировой культурой и международными организациями), то увидим прогрессирующие эрозию и загнивание, уравновешивающие либерализацию и консолидацию. Распространение в мире либеральной демократии прекратилось, то же самое произошло и с политической свободой в более общем смысле. И если всерьез исходить из тезиса о либеральном содержании демократии, [придется признать, что] «третья волна» демократизации приостановилась или даже совсем окончилась. В ближайшие годы мы можем стать (а можем и не стать) свидетелями появления нескольких новых электоральных демократий, но дальнейший заметный скачок [в этом направлении] представляется маловероятным, поскольку в странах, где имелись наиболее благоприятные условия для демократизации, она уже произошла. Кроме того, есть основания считать, что прогресс электоральной демократии будет скорее всего компенсирован движением в обратном направлении – ведь многие еще не оперившиеся демократии Африки и других регионов либо открыто свергаются (как в Гамбии и Нигере), либо уничтожаются, не успев родиться (как в Нигерии), либо их придушивают путем снижения честности [электорального] соперничества и терпимости по отношению к оппозиции (как в Перу, Камбодже и ряде бывших коммунистических стран). В этой ситуации все большее и большее число стран может попытаться удовлетворить демократические ожидания, прибегнув к наиболее показной форме «демократии», т. е. к псевдодемократии.
Означает ли это, что мы находимся на пороге третьей «откатной волны» демократизации? Такая, весьма пугающая перспектива еще не стала неотвратимой: «откатной волны», безусловно, можно избежать... Существует теоретическая вероятность, что за волной демократической экспансии последует не откат, а нечто вроде равновесия, при котором общее число демократий в мире заметно не увеличится, но и не уменьшится. Именно в период подобного статистического равновесия мы, надо думать, и вступаем.
Поскольку многие юные демократии «третьей волны» переживают сегодня серьезные трудности, некоторые утверждают, что размывание демократического содержания является предвестником фактической приостановки или ниспровержения демократии. Самоназначению (autogolpe) президента Перу Альберто Фухимори предшествовали годы постепенного сокращения политических прав и гражданских свобод. Исторический опыт показывает, что почву для военных переворотов и других форм крушения демократии подготавливают [следующие факторы]: накопление неразрешимых проблем, рост коррупции, сбои в функционировании демократических институтов, разрастание и усиление полномочий исполнительной власти, широкое недовольство граждан политикой и политиками. Все эти факторы налицо во многих демократиях «третьей волны» (и в нескольких сложившихся ранее).
Тем не менее сегодняшняя ситуация отличается [от существовавшей прежде] по трем параметрам.
1. В настоящее время военные круги по ряду причин крайне нерасположены идти на открытый захват власти. Среди таких причин можно назвать: отсутствие массовой поддержки идеи переворота (связанное, в частности, с дискредитацией военных, обусловленной жестокостью и неэффективностью прежних режимов подобного рода); резкое падение веры военных в свою способность справиться со сложными экономическими и социальными проблемами; пришедшее к ним за годы прежних попыток осуществлять правление собственными силами осознание, сколь «губительным образом это сказывается на единстве, эффективности и дисциплинированности армии», и, что не менее важно, незамедлительные и весьма серьезные санкции, решимость применять которые в случае подобного свержения демократических порядков все больше демонстрируют утвердившиеся демократии. Кроме того, многие демократии «третьей волны» добились громадных успехов в создании системы «объективного гражданского контроля» по образцу той, которая существует в индустриализированных демократиях. Эта система предусматривает высокий уровень профессионализма военных и ограниченность выполняемых ими ролей; подчинение военных гражданским специалистам, принимающим решения; независимость военных в узкой сфере их профессиональной компетенции и ведет к «минимизации вмешательства военных в политическую сферу, а политиков – в военную».
2. Даже там, где прогресс в области демократической консолидации является частичным и медленным, а качество демократии в некоторых отношениях ухудшается (например, в Турции, на Филиппинах, в Бразилии, Пакистане и Бангладеш), общественность не выказывает никакого желания вернуться к авторитарному правлению любого рода; в культурном плане демократия остается той целью, которой дорожат.
3. Наконец, не появилось никакой антидемократической идеологии, которая обладала бы притягательностью для всего мира и могла бы бросить вызов сохраняющейся глобальной идеологической гегемонии демократии как принципа и формальной структуры правления.
Взятые вместе, эти факторы пока что предотвращали возникновение новой волны крушения демократий. Вместо того чтобы окончательно испустить дух, во многих странах мира демократии постепенно высыхают изнутри (hollowed out), сохраняя оболочку многопартийного электоризма – нередко с подлинной конкуренцией и неопределенностью результатов [процесса выборов], – достаточную для международной легитимации и получения экономической помощи. А вместо открытого выступления против конституционной системы политические лидеры и группы, которые не нуждаются в демократии или, используя термин X. Линца, «полулояльны» по отношению к ней, скорее прибегнут к косвенным и частичным атакам на демократические порядки (либо будут попустительствовать им), например к подавлению причиняющих особое беспокойство оппозиций и меньшинств. Взамен захвата власти путем переворота военные могут постепенно истребовать себе большую оперативную независимость и контроль над вопросами внутренней безопасности и борьбы с повстанческими движениями, как они сделали в Гватемале, Никарагуа, Колумбии, Пакистане и, похоже, в Индии и Шри-Ланке. Вместо уничтожения многопартийной электоральной конкуренции и провозглашения однопартийной (или беспартийной) диктатуры, как это происходило во время первой и второй «откатных волн», потерпевшие поражение главы исполнительной власти могут (подобно А. Фухимори в Перу) временно приостановить действие конституции, распустить и реорганизовать законодательный орган и перестроить в своих интересах конституционную систему – но так, что по своей формальной структуре она будет оставаться демократией (или сохранять видимость таковой). Или же они могут вести игру в кошки-мышки с международными донорами, осуществляя под их давлением политическую либерализацию, но одновременно – ради сохранения своей власти – подавляя ее в той мере, в какой это может пройти безнаказанно (такую тактику использовали, например, некоторые прежние однопартийные режимы в Африке: Даниеля арап Мои – в Кении, Омара Бонго – в Габоне и Поля Бийя – в Камеруне).
Неужели именно так и окончится «третья волна» демократизации: смерть путем тысячи вычитаний?
Необходимость консолидации
Если мы не хотим повторения традиционной схемы и стремимся избежать очередного «отката», прежде всего необходимо, чтобы в самые ближайшие годы произошла консолидация тех демократий, которые возникли в годы «третьей волны». Суть консолидации заключается в достижении широкой и глубокой легитимации, такой, когда все важнейшие политические акторы – как на элитном, так и на массовом уровне – уверены, что для их страны демократический режим лучше любой другой реальной альтернативы, которую они могут себе вообразить. Как (наряду с другими) подчеркивают X. Линц и А. Степан, подобная легитимация не должна сводиться к абстрактной преданности идее демократии; ей следует также включать в себя разделяемую [большинством общества] нормативную и поведенческую приверженность специфическим правилам и порядкам конституционной системы данной страны. Именно благодаря такому безусловному принятию демократических процедур и формируется решающий элемент консолидации, а именно: снижение присущей демократии неопределенности, касающееся не столько результатов, сколько правил и методов политической конкуренции. По мере углубления консолидации все больше расширяется круг политических акторов, которые ожидают от своих соперников демократического поведения и демократической лояльности, «инструментальная» приверженность демократическим структурам постепенно сменяется «принципиальной», растет доверие и сотрудничество между политическими конкурентами и происходит соответствующая социализация (являющаяся результатом как целенаправленных усилий, так и демократической практики в политике и гражданском обществе) населения в целом. И хотя современные исследователи почему-то всячески стараются избежать употребления термина «политическая культура», я убежден, что под влиянием перечисленных составляющих процесса консолидации происходит сдвиг как раз в политической культуре.
Демократической консолидации способствует ряд институциональных, политических и поведенческих изменений. Многие из них непосредственно улучшают управление, укрепляя дееспособность государства, обеспечивая либерализацию и рационализацию экономических структур, защищая социальный и политический порядок при сохранении базовых свобод, совершенствуя горизонтальную подотчетность и власть закона, сдерживая коррупцию. Другие стимулируют эффективную реализацию представительных функций демократии путем усиления политических партий и их связей с общественными группами, сокращения фрагментации партийной системы, упрочения самостоятельности законодательных органов и местных властей и одновременно их подконтрольности общественности, оздоровления гражданского общества. Большинство новых демократий нуждаются в подобных институциональных реформах и в такого рода укреплении. Ряду из них также требуется последовательная программа реформ, направленных на сокращение вмешательства военных в вопросы, не относящиеся к сфере их компетенции, и установление контроля и надзора за деятельностью вооруженных сил и разведывательных служб со стороны выборных гражданских лидеров. А некоторые испытывают потребность в изменениях правового и институционального характера, которые бы способствовали примирению и взаимной безопасности различных этнических и национальных групп.
Однако за всеми этими специфическими проблемами кроется одно: тесная взаимосвязь между углублением демократии и ее консолидацией. Хотя часть новых демократий достигла консолидации уже по ходу «третьей волны», ни одна из появившихся в эти годы «нелиберальных» электоральных демократий так и не превратилась в консолидированную. А те электоральные демократии, которые возникли еще до начала «третьей волны» и утратили во время нее «либеральность», опустившись до положения «нелиберальных» (Индия, Шри-Ланка, Венесуэла, Колумбия, Фиджи), стали менее устойчивыми и консолидированными.
Чем меньше уважения к политическим правам, гражданским свободам и конституционным ограничениям власти государства выказывают в своем поведении ключевые государственные деятели, представители правящей партии и другие политические акторы, тем слабее процедурный консенсус, подпирающий демократию. В такой ситуации консолидация будет затруднена по определению. Мало того, чем более поверхностным, эксклюзивным, бесконтрольным является электоральный режим, чем больше злоупотреблений по отношению к личным и групповым правам он допускает, тем сложнее ему обрести (или сохранить) глубинную легитимацию на массовом уровне и тем легче будет избранному президенту или военным свергнуть существующую систему или низвести ее до уровня псевдодемократии. В этом случае сложности в достижении консолидации или ее разрушение окажутся следствием институциональной ограниченности и разложения. Поэтому, чтобы добиться консолидации, электоральные демократии должны стать глубже и либеральнее. Это потребует усиления ответственности исполнительной власти (и военных) перед законом, увеличения контроля над ними со стороны других ветвей власти и общественности, снижения преград на пути политической мобилизации и участия маргинализированных групп, более эффективной защиты политических и гражданских прав всех жителей. Углублению демократии будет способствовать также институ-ционализация такой системы политических партий, которая будет стимулировать массовое участие, вовлекать [в политическую жизнь] маргинализированные группы и установит живые связи между организациями гражданского общества, партийными отделениями и должностными лицами на местном уровне.
Раздел XVI Международные отношения
Международные отношения представляет собой сложную и многоуровневую конструкцию. Элементами или, точнее, действующими лицами, акторами ее являются национальные государства и союзы государств, региональные и международные общественные организации и, наконец, Всемирная Организация Объединенных Наций, специально созданная для поддержания международной безопасности и сохранения мира.
Таким образом, существует национальный, региональный, международный и всемирный уровни международных отношений.
В политической науке существует множество подходов к анализу международных отношений. В настоящей хрестоматии приводятся отрывки из произведений Мортона Каплана и Ганса Моргентау.
М. Каплан – представитель системного подхода – рассматривает международные отношения как международную политическую систему. Элементы международной политической системы связаны между собой разнообразными связями – международными отношениями: политическими, экономическими, военно-промышленными, военно-стратегическими, геополитическими, культурными и т. д. Кроме того, в мировой политической системе действуют нормы международного права, нормы дипломатии, нормы международной торговли, культурного обмена и даже нормы ведения войны. Международная политическая система – это не застывшая, а динамическая и развивающаяся конструкция.
Г. Моргентау, фрагмент работы которого также представлен в хрестоматии, считается основоположником теории политического реализма, с позиций которой деятельность политиков и государств на международной арене можно объяснить на основе существующих национальных интересов.
М. Каплан. Система и процесс в международной политике[107]
Глава 2 Международная система
Далее рассматриваются шесть международных систем или, точнее, состояний равновесия одной сверхстабильной международной системы: 1) система «баланса сил», 2) гибкая биполярная система, 3) жесткая биполярная система, 4) универсальная система, 5) иерархическая система, 6) система единичного вето...
Обсуждаемые международные системы являются эвристическими моделями. Все они, кроме первых двух, никогда не воплощались в истории.
Анализ систем, не имевших исторических прообразов, обладает определенной ценностью. Во-первых, модели тех международных систем, которые существовали в истории, позволяют прогнозировать с известной степенью вероятности возможность возникновения (при наличии определенных условий) новых видов международных систем. Поэтому установление характеристик международных систем, не имевших аналога в истории, проводится на основе моделей существующих систем. Во-вторых, желательно прогнозировать поведение подобных международных систем, если они возникнут. В противном случае прогнозы относительно трансформации существующих систем будут слишком неточными для того, чтобы на них можно было полагаться.
Модели системы «баланса сил» и гибкой биполярной системы более простые, чем существующие аналоги. Возможно, что в рассмотрении не учитывались некоторые важные правила данных систем. Если это так, то указанные недостатки будут обнаружены при попытках применения моделей. Система отношений будет представлена в наиболее простой и устойчивой форме при условии простоты моделей. Но если теоретизирование останавливается (а не начинается) на простых моделях, то это означает отсутствие прогресса и наращения операционального знания. Реальной проверкой степени упрощения является ответ на следующий вопрос: помогает ли упрощение развитию исследования или оно затемняет важные взаимоотношения и, таким образом, уводит науку от решения интересных задач?
Система «баланса сил»
Термин «баланс сил» мы приводим в кавычках, поскольку буквально любое состояние международного равновесия представляет собой баланс сил. В этом смысле данный термин тавтологичен и даже тривиален: он не дает новой информации о том, что происходит или что должны делать акторы в этой системе. Вместе с тем термин «баланс сил», широко распространенный в литературе, дает некоторое интуитивное понимание, если он относится к международной системе, которая существовала на всем протяжении XVIII–XIX вв. и, возможно, в начале XX в.
Система «баланса сил» отличается от других международных систем следующими характеристиками. Она представляет собой международную систему без политической подсистемы (или, иначе говоря, с нулевой политической подсистемой). Акторы этой системы – международные акторы, относящиеся к категории национальных акторов. Основных акторов («основной» – это неопределяемое понятие) в этой системе должно быть не менее пяти, а желательно больше.
В широком смысле в период, предшествовавший Первой мировой войне, Великобританию, Францию, Германию, Австро-Венгрию, Италию, США следует включить в категорию основных национальных акторов. При этом не столь важно, какие именно страны мы определяем в качестве основных национальных акторов, но существование минимального количества акторов этой категории жизненно важно для такой системы.
Хотя в международной системе «баланса сил» нет единой политической системы, индивидуальные действия национальных акторов дополняют друг друга; таким образом реализуются основные правила этой системы, описывающие поведение акторов. По своему характеру они универсальны.
Система «баланса сил» характеризуется следующими основными правилами.
1. Действовать с целью расширения своих возможностей, но лучше путем переговоров, чем путем войны.
2. Лучше воевать, чем упустить случай расширения возможностей.
3. Лучше прекратить войну, чем полностью уничтожить одного из основных национальных акторов.
4. Действовать против любой коалиции или единичного актора, который стремится приобрести доминирующее положение по отношению к остальной части системы.
5. Действовать против акторов, которые поддерживают наднациональные организационные принципы.
6. Позволять тем из основных национальных акторов, которые были побеждены или ограничены в действиях, вновь включаться в систему и принимать их как ролевых партнеров или же способствовать вхождению ранее неосновных акторов в категорию основных национальных акторов. Рассматривать всех основных акторов как приемлемых ролевых партнеров.
Первое правило указывает на то, что каждый основной национальный актор стремится усилить свое влияние. Однако это должно достигаться, если возможно, без войны, без тех разрушающих равновесие последствий, которые может иметь война для системы «баланса сил».
Согласно второму правилу, долгом каждого национального актора является защита его собственных интересов. Это означает, что если основной актор не может защитить собственные интересы, то эти интересы, как правило, не будут превалировать. Таким образом, возможности должны расширяться даже ценой войны.
Первые два значимых правила, по-видимому, восходят к эгоистическим предписаниям в духе Гоббса. Они соответствуют тому, что называется «войной всех против всех», и вместе с тем соответствуют классическим философским стандартам. Если существуют практические ограничения размеров сообщества, то возможность справедливого порядка между сообществами – хотя и желательного – должна быть подчинена разумной необходимости: сохранению способности самостоятельно противостоять возможным врагам.
Третье правило отвечает классическим стандартам, но не стандартам Гоббса. Основные национальные акторы не должны расширяться настолько, чтобы превышать оптимальный размер справедливого и законного сообщества. Это правило соблюдается как в отношениях между легитимными династическими режимами, так и между современными национальными территориальными государствами. Выход за рамки этого правила представляет собой явное исключение или несовместим с национальной идентичностью.
Четвертое и пятое правила – просто рациональные требования, необходимые для сохранения международной системы. Формирование доминирующей коалиции или стремление основного национального актора к доминирующему положению в системе или к подчинению остальных основных акторов, представляют собой угрозу интересам национальных акторов которые не принадлежат данной коалиции. Кроме того, если коалиция преуспеет в установлении отношений подчинения в международной системе, доминирующий член (или члены) коалиции смогут оказывать политическое давление также и на менее значимых членов той же коалиции. Поэтому коалиции, как правило, получают противовес – формируются противостоящие коалиции. Они возникают в тех случаях, когда первые коалиции начинают угрожать государствам, не участвующим в них, и поэтому становятся уязвимыми, и когда они начинают угрожать интересам собственных членов. При этом государства, которые испытывают давление со стороны доминирующих членов коалиции, могут счесть более выгодным занять нейтральное положение по отношению к коалиции или присоединиться к противостоящей коалиции. Эти правила перекликаются с третьим правилом. Нужно ограничивать некоторые стремления государств и не уничтожать других основных национальных акторов; тогда в будущем они смогут при необходимости войти в какую-либо коалицию.
Шестое правило указывает, что сама жизнеспособность системы зависит от согласованности поведения акторов с главными правилами и нормами системы «баланса сил». Если количество основных акторов уменьшается, международная система «баланса сил» становится нестабильной. Таким образом, сохранение количества основных национальных акторов в определенных пределах – необходимое условие стабильности системы. Для этого права полного членства в системе возвращаются потерпевшим поражение или проводится реформирование ранее девиантных акторов. <...>
Если правила международной системы «баланса сил» точно описывают действия национальных акторов XVIII–XIX вв., данная система могла казаться людям, жившим в то время, абсолютной, универсальной, и правила «баланса сил» могли рассматриваться как универсальные. Однако описанная система не изоморфна существующей биполярной международной системе... поэтому понятно, что она может существовать только в определенных условиях. Для того чтобы объяснить переход от одной системы к другой, необходимо выявить критические условия, в рамках которых может функционировать система «баланса сил».
Условия, при которых система «баланса сил» становится нестабильной, следующие: существование значимых национальных акторов, которые не соглашаются играть по правилам; наличие национального актора, национальная политика которого ориентирована на установление некоторой наднациональной политической организации; недостатки в информационном обеспечении системы принятия решений национальных акторов или персональные действия отдельных политиков, которые отклоняются от правил данной системы; изменения ресурсов, которые характеризуются положительной обратной связью; сложности в применении ряда правил, например правил возрастания влияния, правил восстановления потерпевших поражение акторов; конфликты между правилами и серьезными национальными потребностями; трудности материально-технического обеспечения «баланса», объясняющиеся малым количеством основных акторов или недостаточной гибкостью механизма «балансировки».
Если один из основных национальных акторов не усваивает правила системы «баланса сил», он может нарушить стабильность системы. В системе «баланса сил» равновесие или правила системы поддерживаются взаимодополняющими действиями основных национальных акторов. Однако здесь нет внешней полицейской силы, которая была бы способна восстановить положение, если участники, т. е. основные национальные акторы, своевременно не предпримут компенсирующих действий. <...>
Когда международная система «баланса сил» становится неустойчивой, события, которые раньше были не в состоянии вывести ее из положения равновесия, смогут трансформировать ее в другую систему. Такие события, как мировая война или усиление тоталитарного блока, могут вызвать трансформацию системы. Новая международная система подчинится набору новых значимых правил, и, возможно, изменятся характеристики некоторых акторов.
Наиболее вероятна трансформация системы «баланса сил» в биполярную систему. Она произойдет в случае, если два национальных актора и их союзники образуют доминирующие блоки, особенно если структуру одного из блоков невозможно ослабить организационно посредством предложения вознаграждения.
Г. Моргентау. Политические отношения между нациями: борьба за власть и мир[108]
Ключевой категорией политического реализма является понятие интереса, определенного в терминах власти. Именно это понятие связывает между собой мысль исследователя и явления международной политики. Именно оно обусловливает специфику политической сферы, ее отличие от других сфер жизни экономики (понимаемой в категориях интереса, определенного как богатство), этики, эстетики или религии. Без такого понятия теория политики, внутренней или внешней, была бы невозможна, поскольку в этом случае мы не смогли бы отделить политические явления от неполитических и внести хоть какую-то упорядоченность в политическую сферу.
Мы предполагаем, что политики думают и действуют, опираясь на понятие интереса, определенного в терминах власти, и исторические примеры это подтверждают. Данное предположение позволяет нам предугадать и проследить действия политика. Мысля в терминах интереса, определенного как власть, мы рассуждаем так же, как и он, и как беспристрастные наблюдатели понимаем смысл его действий, может быть, лучше, чем он сам.
Понятие интереса, определенного в терминах власти, заставляет исследователя быть аккуратным в своей работе, вносит упорядоченность в множество политических явлений и, следовательно, делает возможным теоретическое осмысление политики. Политику это понятие позволяет действовать рационально и проводить цельную внешнюю политику, не зависящую от его мотивов, предпочтений, профессиональных и моральных качеств.
Ошибочна точка зрения, согласно которой ключом к пониманию внешней политики являются исключительно мотивы государственного деятеля, ибо мотивация – это психологический феномен, при изучении которого возможны искажения вследствие заинтересованности или эмоции со стороны как политика, так и исследователя. Действительно ли мы знаем, каковы наши мотивы? И что мы знаем о мотивах других людей?
Однако даже если мы правильно понимаем мотивы государственного деятеля, это вряд ли поможет нам при исследовании внешней политики. Знание его мотивов может быть одним из ключей к пониманию общего направления его внешней политики, но оно не поможет нам в предсказании его конкретных шагов на международной арене. В истории не существует примеров жесткой связи между характером мотивов и характером внешней политики. <...>
Теория политического реализма избегает другой частой ошибки – выведения внешней политики из философских и политических взглядов лидеров государства. Конечно, политики, особенно в современных условиях, могут пытаться представить свою внешнюю политику как проявление их мировоззренческих позиций в целях получения народной поддержки. При этом они будут разграничивать свои официальные обязанности, заключающиеся в отстаивании национальных интересов, и личные интересы, связанные с распространением и навязыванием их собственных моральных ценностей и политических принципов. Политический реализм признает значимость политических идеалов и моральных принципов, но он требует четкого разграничения между желаемым и возможным: желаемым везде и во все времена и возможным в данных конкретных условиях места и времени.
Стоит сказать, что не всякая внешняя политика следует рациональному, объективному курсу. Личные качества, предубеждения, субъективные предпочтения могут привести к отклонениям от рационального курса. Это особенно проявляется при демократических режимах, где необходимость заручиться поддержкой избирателей может отрицательно повлиять на рациональность внешней политики. Однако теория политического реализма должна абстрагироваться от иррациональных элементов и попытаться раскрыть рациональную суть внешней политики, не учитывая случайных отклонений от нормы. <...>
Политический реализм полагает, что понятие интереса, определенного в терминах власти, является объективной категорией, хотя сам интерес может меняться. Тем не менее понятие интереса раскрывает суть политики и не зависит от конкретных обстоятельств места и времени. Согласно Фукидиду, «общность интересов является наиболее прочным связующим звеном как между государствами, так и между индивидами». Эту же мысль высказал в XIX в. лорд Солсбери, по мнению которого «единственная прочная связь» между государствами – это «отсутствие конфликта интересов». Данный принцип был положен в основу деятельности правительства Джорджа Вашингтона, который утверждал: «Реальная жизнь убеждает нас в том, что большинство людей руководствуется в ней своими интересами. Мотивы общественной морали могут иногда побуждать людей совершать поступки, идущие вразрез с их интересами, но они не в состоянии заставить человека соблюдать все обязанности и предписания, принятые в обществе. Очень немногие способны долгое время приносить личные интересы в жертву общему благу. И не следует обвинять человеческую природу в развращенности. Во все времена люди руководствовались прежде всего своими интересами, и если мы хотим изменить это, то вначале надо изменить саму природу человека. Ни одно общество не будет прочным и процветающим, если не будет учитывать этого факта».
Подобная точка зрения нашла свое отражение в работах Макса Вебера: «Интересы (как материальные, так и духовные), а не идеи определяют действия людей. Тем не менее „представления о мире“, созданные этими идеями, очень часто могут влиять на направление развития интересов». <...>
Политический реалист говорит о специфике политической сферы, но это не означает, что он отрицает важность других сфер общественной жизни. Политический реализм основывается на плюралистическом понимании природы человека. Реальный человек состоит из «экономического человека» и «политического человека», «этического человека», «религиозного человека» и т. д. Человек, являющийся только «политическим человеком», – животное, ибо он не ограничен никакими моральными нормами. Человек, являющийся только «моральным человеком», – глупец, ибо он лишен благоразумия. Человек, являющийся только «религиозным человеком», – святой, ибо он не испытывает никаких земных желаний. <...>
Примечания
1
Истон Д. Политическая наука в Соединенных Штатах: прошлое и настоящее // Современная сравнительная политология: Хрестоматия / Под. ред. В. Гельмана, Г. Голосова. М., 1997. С. 9–25.
(обратно)2
Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины // Политическая наука: новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. Пер. с англ. Науч. ред. русского издания проф Е Б Шестопал M, 1999 С 69 – 112
(обратно)3
Так же было в Древней Индии и странах средневекового ислама, о чем пишут, соответственно, Рангаваджан (1987) и Раби (1967)
(обратно)4
Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. М., 1994. С. 326–328. Сочинение написано Платоном в форме диалога, который ведут известные философы и государственные деятели Афин: Сократ, Главкон, Полемарх, Фрасимах, Адимант, Кефал (Б. И.).
(обратно)5
Платон считал государственное устройство Крита и Спарты (Лакедемона) наиболее близким к аристократическому, а следовательно, идеальному (Б. И.).
(обратно)6
Аристотель. Политика // Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 4. М. 1983. С. 457–459, 467, 503, 505, 507–508.
(обратно)7
Фукидид. История. М., 1993. С. 79–80
(обратно)8
Речь была произнесена по поводу торжественного погребения афинских моряков, погибших в одном из сражений Пелопонесской войны. В это время Афины достигли вершины своего могущества и наивысшего расцвета культуры (Б. И.).
(обратно)9
Полибий. Всеобщая история в сорока книгах. Т. П. СПб., 1995. С. 8, 14–16.
(обратно)10
Цицерон. Диалоги. О государстве. О законе. М., 1994. С. 20, 21, 23, 26. Сочинение в подражание Платону написано в форме диалога, который ведут Сципион Африканский Младший (ок. 185–129 г. до н. э.) – известный полководец и консервативный политик, сокрушитель Карфагена, поклонник эллинской культуры и римских традиций, и члены так называемого «сципионовского кружка», окружения, клики Сципиона: Туберон, Фурий, Лелий, Фил, Муций, Манилий и др (Б И)
(обратно)11
Мир политической мысли. Хрестоматия по политологии / Под ред. А. К. Голикова, В. Е. Юстузова. СПб., 1993. Часть П. Политическая мысль Средневековья и Нового времени. Книга 1. Средневековье, эпоха Возрождения и Реформации. С. 39, 41, 42–47.
(обратно)12
Макиавелли Я. Государь. М., 1990. С. 4, 20, 53–54.
(обратно)13
Кальвин Ж. О христианской жизни М., 1995. С 54–58.
(обратно)14
Антология мировой философии: В 4 т. М., 1970. Т. 2. Европейская философия от эпохи Возрождения по эпоху Просвещения. С. 141–147.
(обратно)15
Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1994. С. 48–51, 71, 74, 171–173.
(обратно)16
Спиноза Б. Трактаты. М., 1998. С. 185, 187–191.
(обратно)17
Гоббс Т. Соч.: В 2 т. М., 1991. Т. 2. С. 6–7, 93, 95–99.
(обратно)18
Локк Дж. Два трактата о правлении // Соч.: В 3 т. Т. 3. М., 1988. С. 346–349, 352–353.
(обратно)19
Монтескье Ш. Л. О духе законов. М., 1999. С. 137–140, 144, 146–147.
(обратно)20
Дается по: Шелдон Г. У. Политическая философия Т. Джефферсона. М., 1996. С. 212–213,217-219.
(обратно)21
Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре: Трактаты. М., 2000. С 207–209.
(обратно)22
«К вечному миру» И. Канта. М., 1989. С. 24–27, 29–30, 33–34, 36-37
(обратно)23
Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990. С. 227–228, 231, 233, 279, 283.
(обратно)24
Токвиль А. де. Демократия в Америке. М., 1992. С. 204–205.
(обратно)25
Бергер П., Бергер Б. Социология: биографический подход // Личностно-ориентированная социология / Пер. с англ. В. Ф. Анурина. М., 2004. С. 283–290.
(обратно)26
Legitimation (франц.) – узаконение.
(обратно)27
Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehende Soziologie. 5. Aufl. Tubingen, 1980. Кар. III. Die Typen der Herrschaft. S. 122–176. Пер. с нем. к. ф. н., доц. Н. А. Головина.
(обратно)28
Вебер М. Харизматическое господство // Социс. 1988. № 5. С. 139–147. Пер. с нем. Р. П. Шлаковой
(обратно)29
Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehende Soziologie. 5. Aufl. Tubingen, 1980. Кар. III. Die Typen der Herrschaft. S. 122–176. Пер. с нем. к. ф. н., доц. Н. А. Головина.
(обратно)30
Доган М. Эрозия доверия в развитых демократиях // Мировая экономика и международные отношения. 1999. № 6. С. 42–43. Пер. с франц. И. Гришиной.
(обратно)31
Comparative Politics. 1978. № 10. P. 320.
(обратно)32
Comparing Pluralist Democracies: Strains on Legitimacy. Boulder, 1988. P. 66.
(обратно)33
Истон Д. Категории системного анализа политики / Пер. с англ. К. А. Зубова // Антология мировой политической мысли. М., 1997. Т. П. С. 630–642
(обратно)34
Алмонд Г, Пауэлл Дж, Стром К, Далтон Р Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор: Учебное пособие / Под ред. М. В. Ильина, А. Ю. Мельвиля. Сокр. пер. с англ. А. С. Богдановского, Л. А. Галкиной. М., 2002. С. 74–84.
(обратно)35
Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики/Пер. с англ. А. Н. Нестеренко. М., 1997. С. 17–26.
(обратно)36
О'Доннелл Г. Делегативная демократия//Пределы власти. 1994. № 2/3. С. 54–57.
(обратно)37
Меркель В., Круассан А. Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях/Пер. с англ. Н. Б. Яргомской//Полис. 2002. № 2. С. 20–24.
(обратно)38
Элейзер Д Дж Сравнительный федерализм//Полис 1995 № 5 С 106-115
(обратно)39
Конфедерация древнегреческих городов в Пелопоннесе (ок. 280–146 гг. до н. э.). – Пер.
(обратно)40
Объединение 7 нидерландских провинций (XVI–XVIII вв.). – Пер.
(обратно)41
Fuero– старинный испанский закон, гарантирующий привилегии каких-то городов или регионов.
(обратно)42
Шугарт М., Кэрри Дж. Президентские системы // Современная сравнительная политология. Хрестоматия / Под ред. В. Гельмана, Г. Голосова. М., 1997. С. 200–218.
(обратно)43
Риггс Ф. Сравнительная оценка президентской формы правления // Сравнительная социология. Избранные переводы. М., 1995. С. 102–104.
(обратно)44
Линц X Опасности президентства// Пределы власти. 1994. № 2/3. С. 3–24.
(обратно)45
Таагепера Р., Шугарт М. С. Описание избирательных систем // Полис. 1997. № 3. С. 114–117, 120–123. Пер. с англ. Г. В. Голосова.
(обратно)46
Lijphart A. Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. Yale University, 1999. C. 143–170. Перкин., доц. Е. А. Шаскольской.
(обратно)47
Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 672–676, 680, 687.
(обратно)48
Лоуэлл А. Правительство и политические партии в государствах Западной Европы. М., 1905. С. 49–50, 67–74, 288–289.
(обратно)49
Под интерпелляциями понимаются депутатские запросы к правительству, имеющие целью вызвать обсуждение какого-либо вопроса в Палате, высказать мнение о деятельности Правительства (Б. И.).
(обратно)50
Дюверже М. Политические партии. М., 2000. С. 41–44.
(обратно)51
Росс У. Лоббисты в Конгрессе // США: экономика, политика, идеология 1994. № 4. С. 91–93.
(обратно)52
Шмиттер Ф Неокорпоратизм//Полис 1997 № 2 С 14 – 20
(обратно)53
Арендт X. Истоки тоталитаризма / Пер. с англ. М., 1996. С. 410–433.
(обратно)54
Хайек Ф. Дорога к рабству//Вопросы философии. 1990. № 11. С. 134–135. Пер. с англ. М. Б. Гнедовского
(обратно)55
То, что экономический контроль распространяется на все сферы жизни, хорошо видно на примере операций с иностранной валютой. На первый взгляд государственный контроль за обменом валюты никак не затрагивает личную жизнь граждан, и для большинства из них безразлично, существует он или нет. Однако опыт большинства европейских стран показал мыслящим людям, что введение такого контроля является решающим шагом на пути к тоталитаризму и подавлению свободы личности. Фактически эта мера означает полное подчинение индивида тирании государства, пресечение всякой возможности бегства – как для богатых, так и для бедных. Когда людей лишают возможности свободно путешествовать, покупать иностранные журналы и книги, когда контакты с заграницей могут осуществляться только по инициативе или с одобрения официальных инстанций, общественное мнение оказывается под гораздо более жестким контролем, чем это было при любом абсолютистском режиме XVII или XVIII в
(обратно)56
Эрме Гu. Авторитаризм//Политология вчера и сегодня. М., 1991. Вып. 3. С. 181–206.
(обратно)57
Даль Р. Демократия и ее критики / Пер. с англ. под ред. М. В. Ильина. М., 2003. С. 163–164, 167, 170, 340–343.
(обратно)58
Лейпхарт А Конституционные альтернативы для новых демократий // Полис 1997-№ 2. С. 135–146.
(обратно)59
Даймонд Л. Прошла ли «третья волна» демократизации? // Полис. 1999. № 1. С. 11–16.
(обратно)60
Р. Скляр использует для обозначения «горизонтальной» подотчетности термин «конституционная демократия» и указывает на взаимоусиливающее воздействие «горизонтальной» и «вертикальной» форм ответственности.
(обратно)61
О'Доннелл Г. Делегативная демократия // Пределы власти. 1994. № 2/3. С. 57–60.
(обратно)62
Меркель В., Круассан А. Формальные и неформальные институты в современных демократиях / Пер. с нем. Н. Б. Яргомской, науч. ред. П. Штыкова и В. Я. Гельмана // Полис. 2002. № 1, 2. С. 6–17.
(обратно)63
Всеобщие, равные, свободные (и относительно справедливые) выборы.
(обратно)64
Мы определяем «дефектную демократию» как систему господства, в которой доступ к власти регулируется посредством значимого и действенного универсального «выборного режима» (свободных, тайных, равных и всеобщих выборов), но при этом отсутствуют прочные гарантии базовых политических и гражданских прав и свобод, а горизонтальный властный контроль и эффективность демократически легитимной власти серьезно ограничены.
(обратно)65
Исчерпывающий обзор формулировок «демократии с прилагательными» см.: Collier, Levitsky, 1997.
(обратно)66
Например, «делегативная демократия» (O'Donnell, 1994), «гибридные режимы» (Karl, 1995), «электоральная демократия» (Diamond, 1996), «нелиберальная демократия» (Zakaria, 1997), «дефектная демократия» (Merkel, 1999), «заблокированная демократия» (Tetzlaff et al., 1998).
(обратно)67
Если исключить восьмой (и последний) критерий полиархии, который может считаться – по крайней мере, частично – конституционным критерием разделения властей (институционализированная ответственность правительства за выборные решения), далевский концепт станет еще более минималистским (см. Dahl, 1989).
(обратно)68
Такой подход отнюдь не являются чем-то оригинальным. Однако же эти проблемы были практически полностью исключены из компаративных теорий демократии – от И. Шумпетера до Даля (Lipset, 1959; Downs, 1968; O'Donnell, Schmitter, 1986; Przeworski, 1991; Linz, 1994; O'Donnell, 1997) – и даны на откуп философии права (Holmes, 1988; Ackerman, 1991; Maus, 1992; Habermas, 1994; Dworkin, 1995).
(обратно)69
В парламентских системах при мажоритарных правительствах и дисциплинированных парламентских фракциях контроль над исполнительной властью со стороны парламента на практике оказывается весьма незначительным. Тем не менее теоретически возможность его осуществления сохраняется.
(обратно)70
Мы говорим здесь о демократии с прилагательным «конституционно-правовая». Будучи нормальной формой западной либеральной демократии, она отнюдь не единственный допустимый или реально существующий тип демократии.
(обратно)71
Южную Африку времен апартеида (до 1990 г.) нельзя назвать даже подтипом дефектной демократии. Во-первых, часть населения, принадлежащая к демосу, составляла менее 10 % взрослого населения. Во-вторых, и тогдашняя система демократического господства, и полномочия правового государства, и контроль над военными и службой безопасности, и гарантии гражданских прав были существенно ограничены.
(обратно)72
В отличие от Г. Хеллера (Heller, 1971), мы не рассматриваем социально-экономическое неравенство в качестве «дефекта» либеральной, конституционно-правовой демократии.
(обратно)73
Поэтому во многие конституции не включены основные права и свободы личности (см.: Hoeffe, 1996).
(обратно)74
«Самоограничение» (Selbstbmdung) государственной власти, как и ограничение господства законами, приобретает свои особые очертания в правовом государстве благодаря разделению властей. В частности это означает: 1) разделение государственной власти на три горизонтально, функционально и организационно отделенные друг от друга ветви, принципиально автономные по своему воздействию и персональному составу; 2) ограничение действий государства законами; 3) содержательное и формальное фиксирование норм законодательства и его связь с соблюдением основных прав; 4) увязку правоприменительной практики права с социальными нормами, а также 5) защиту прав граждан от государства с помощью независимого судебного контроля над актами верховной власти и действиями государства (см. Boekenfoerde, 1991).
(обратно)75
Имеются в виду также так называемые азиатские формы демократии
(обратно)76
Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии / Пер. с англ. Л. А. Галкиной // Полис. 1992. № 4. С. 122–134.
(обратно)77
В книге Алмонда и Вербы (гл. 1) выделяются три основных типа политической культуры: приходская, где нет конкретизации политических ролей и где ориентация обыкновенно не конкретизируется; подданническая культура, где отношение к политической системе в целом является пассивным; третий тип – культура участия, в которой члены общества четко ориентированы на систему в целом. Как отмечается в книге, гражданин есть производное от «участника», «подданного» и «прихожанина», а гражданская культура – производное от перечисленных трех типов культур. (Прим. ред.).
(обратно)78
Инглхарт Р Постмодерн меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // Полис. 1997. № 4. С. 6–23.
(обратно)79
Под «паттерном» здесь понимается самовоспроизводящаяся объективная структурная схема, обеспечивающая распознаваемую устойчивость явления во многих его вариантах – Примеч ред
(обратно)80
Инглхарт Р. Культура и демократия // Культура имеет значение Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу / Под ред. Л. Харрисона и С. Хантингтона. Пер. с англ. М., 2002. С. 121–126.
(обратно)81
Антология мировой политической мысли: В 5 т. М., 1997. Т. I. Зарубежная политическая мысль истоки и эволюция С 556-559
(обратно)82
Валлерстайн И. После либерализма M, 2003 С 95-100
(обратно)83
Шапиро И Введение в типологию либерализма//Полис 1994 № 3 С 7-12
(обратно)84
Берк Э. Размышления о революции во Франции и заседаниях некоторых обществ в Лондоне, относящихся к этому событию. М., 1993. С. 52, 71, 86, 88–92, 116, 143.
(обратно)85
Рормозер Г. Кризис либерализма. М., 1996. С. 203–207.
(обратно)86
От Женевы к Стокгольму: материалы конгрессов социалистического интернационала. Часть I. M., 1992. С. 10–17.
(обратно)87
Социал-демократия сегодня. М., 2002. С. 8–16.
(обратно)88
Парето В. Трактат по общей социологии // Осипова Е. В. Социология Вильфредо Парето: политический аспект. М., 2004. С. 132–140.
(обратно)89
Моска Г. Правящий класс // Социс. 1994. № 10. С. 187–197. Пер. с англ. Т. Н. Самсоновой.
(обратно)90
Эндосмос – процесс просачивания жидкостей и растворенных веществ из внешней среды внутрь клетки.
(обратно)91
Экзосмос – процесс просачивания жидкостей и растворенных веществ из клетки во внешнюю среду
(обратно)92
Олсон М. Логика коллективных действий: общественные блага и теория групп / Пер. с англ. Е. Окороченко. Под ред. Ю. Парамонова. Науч. ред. Р. Нуреев. М., 1996. С. 109–115.
(обратно)93
Блондель Ж. Политическое лидерство. М., 1992. С. 3–6.
(обратно)94
Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах / Пер. с англ. В. Р. Рокитянского. М., 2004. С. 57–88.
(обратно)95
Токвиль А. Старый порядок и революция. М., 1997. С. 138, 140–141.
(обратно)96
Восстание Дорра – восстание 1842 г. против правительства штата Род-Айленд за более либеральную конституцию штата. Восстание, возглавленное Томасом У. Дорром, было подавлено, но некоторые из предложенных восставшими реформ были воплощены в жизнь.
(обратно)97
Гарр Т. Почему люди бунтуют / Пер. с англ. В. Анурина. СПб., 2005. С. 49–50, 75–77, 84–85, 88–93, 108–110, 129–130.
(обратно)98
Доган М. Эрозия религиозных мотивов и голосования по классовому признаку в Западной Европе // Международный журнал социальных наук. 1996. № 13. С. 21–37.
(обратно)99
Растоу Д. Переходы к демократии: попытка динамической модели // Полис. 1996. № 5. С. 5–15.
(обратно)100
Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке. М., 1999. С. 95–134.
(обратно)101
Первая цифра в каждой графе – значение этого исхода для реформаторов; вторая цифра – для умеренных (4 лучше 3 и т. д.). Эти цифры не характеризуют личности; они только ранжируют возможности. Поэтому умеренные могут чувствовать себя несчастными со своим второсортным выбором, в то время как реформаторы могут чувствовать себя с тем же выбором вполне счастливыми людьми.
(обратно)102
Бейме К. Партии в процессе демократической консолидации // Повороты истории. Постсоциалистические трансформации глазами немецких исследователей. СПб.; М.; Берлин, 2004. С. 73–78. Т. 2. Постсоциалистические трансформации в сравнительной перспективе.
(обратно)103
Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века / Пер. с англ. М., 2003. С. 17–37.
(обратно)104
Даймонд Л. Прошла ли «третья волна» демократизации? // Полис. 1999. № 1. С. lull, 16–24.
(обратно)105
Показатели за 1990–1995 гг. даны на конец календарного года. Цифры за 1974 г. отражают ситуацию апреля этого года (т. е. на момент начала «третьей волны»).
(обратно)106
Данные отражают статус государства на конец календарного года.
(обратно)107
Каплан М. Система и процесс в международной политике // Теория международных отношений: Хрестоматия. М., 2002. С. 220–223, 225–226, 235.
(обратно)108
Моргентау Г. Политические отношения между нациями: борьба за власть и мир // Теория международных отношений: Хрестоматия. М., 2002. С. 74–78, 82.
(обратно)
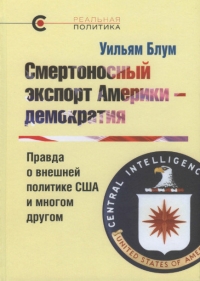


Комментарии к книге «Политология», Александр Тургаев
Всего 0 комментариев