Иоганн Генрих Песталоцци Избранное
© Оформление. ООО Издательский дом «Карапуз», 2009
© Калинченко А.В., составление, вступительная статья, примечания, 2009
Вступительное слово
Всю свою жизнь знаменитый швейцарский педагог Иоганн Генрих Песталоцци (1746–1827) посвятил детям. Он воодушевленно занимался их обучением, воспитанием и развитием. Песталоцци не был теоретиком педагогики – свои идеи он находил и совершенствовал в практике работы с детьми. Весь его педагогический опыт строился на уверенности в том, что ребенок должен вырасти здоровым, умным, доброжелательным, честным, отзывчивым, порядочным человеком, добиться успехов в профессиональной сфере, то есть стать гармоничной, всесторонне развитой личностью. Он утверждал взаимосвязь трудового, физического, умственного и нравственного воспитания, говорил о том, что начинать развивать ребенка нужно как можно раньше. Песталоцци говорил о воспитании как о создании благоприятных условий для социализации ребенка, что полностью соответствует современным взглядам на обучение.
Несмотря на то, что семья Песталоцци жила небогато, Иоганн Генрих получил образование, которое было доступно только детям знатных семей Цюриха. Он окончил начальную школу, где занимался чтением, письмом, элементарным счетом, заучивал наизусть молитвы. После поступил в среднюю латинскую школу, в которой изучал древние языки и религиозные тексты. Продолжил свое образование в гуманитарном коллегиуме и высшей школе, коллегиуме[1] Каролиниум[2].
Песталоцци рано лишился отца. Воспитанный матерью и няней в любви и заботе, он вырос очень добрым и отзывчивым человеком. По своему характеру склонный к состраданию, проникнувшись гуманными идеями великих философов-просветителей, он искал себе занятие, которое могло бы принести пользу обществу: пробовал себя в профессиях юриста и священника, затем решил стать сельским хозяином. Свое поместье он хотел превратить в образцовое, чтобы своим примером обучить крестьян новым, усовершенствованным способам ведения сельского хозяйства.
Желание научить крестьян обеспечивать себе достойную жизнь привело его к созданию трудовой школы для бедных детей в своем поместье Нейгофе (1774–1780). Песталоцци обучал воспитанников чтению, письму, счету, а ремесленники учили их прясть и ткать. В Нейгофе педагог утвердился в идее всестороннего развития детей, в необходимости построения обучения в соответствии с законами природы. Он признавал природу лучшим учителем, но утверждал, что нельзя ждать, когда способности сами проснутся в ребенке, – необходимо увидеть и развить его природные задатки, стимулировать механизмы развития, заложенные в человека природой. Однако этот первый педагогический опыт оказался неудачным, так как дети не могли окупить приют, у Песталоцци же не оставалось денег, чтобы их содержать. Он разорился, и школу пришлось закрыть.
Почти 20 лет Песталоцци не удавалось вернуться к работе с детьми. Именно в это время он начал описывать свои подходы к организации обучения, чаще всего в письмах к друзьям и политикам, с призывом признать правильность его взглядов на образование и оказать материальную поддержку. Письма «Просьба к друзьям человечества и покровителям о милостивой поддержке учреждения, имеющего задачей дать бедным детям воспитание и работу в сельской местности» (1775), «Письма г-на Песталоцци к г-ну Н.Э.Ч. о воспитании бедной сельской молодежи» (1777) и др. были опубликованы и приобрели известность. И.Г. Песталоцци писал о необходимости всестороннего развития личности, о невозможности подготовить детей к работе без формирования у них элементарных знаний по математике и языку. Невозможно повысить производительность, если работники не будут понимать значимость их деятельности, экономно относиться к сырью, искать рациональные пути работы. Для этого необходимо обладать знаниями, хорошим физическим здоровьем, добросовестно относиться к труду. Эти требования предопределяют подходы к обучению бедных крестьянских детей.
Идеи Песталоцци часто оставались непонятыми его современниками. В занимательной форме басен он пытается обратиться к обществу с призывом уделять больше внимания подрастающему поколению. И.Г. Песталоцци создает серию басен «Фигуры к моей азбуке, или к начальным основам моего мышления (басни)». Работа над баснями велась в течение десяти лет, приблизительно с 1780 по 1790 г. Всего было написано 237 басен, на русский язык переведены лишь некоторые из них. Часто басни имеют двойной смысл. Это не только обличение общества, но и высмеивание неправильных, неэффективных способов обучения.
Смысл басен перекликается с главным произведением И.Г. Песталоцци, романом «Лингард и Гертруда», первая часть которого была опубликована в 1781 г. Роман неоднократно перерабатывался в течение всей жизни автора. Каменщик Лингард и его жена Гертруда – идеальная крестьянская семья, заботящаяся о своих детях. Гертруда не только учит их домашней работе, шитью и прядению, но и занимается с ними чтеним и арифметикой. Счетом и вычислениями дети овладевают, считая нитки и стежки, увеличивая или уменьшая их количество и т. д. Так занятия не отвлекают детей от работы. Вечерами они с удовольствием читают и обсуждают с матерью книги (религиозные, нравоучительные), беседуют о произошедшем за день, рассуждают, правильно ли они поступали по отношению к другим людям. Всего лишь внимание, уделяемое детям, позволяет родителям не только обучить их профессии, но и умственно и нравственно развить. Этот пример актуален и в наше время: гармоничное воспитание ребенка основано на общении родителей с детьми, совместном труде и играх.
Литературная деятельность принесла Песталоцци широкую известность. В 1798 г. правительство предложило педагогу организовать в Станце приют для сирот. Период работы в приюте (1798–1799) был наиболее сложным временем в жизни Песталоцци. В «Письме к другу о пребывании в Станце» (1799) он подробно рассказывает, что ему приходилось одному заниматься воспитанием 80 детей, истощенных голодом и болезнями. Несмотря на то, что приюту не хватало средств на существование и через полгода он был закрыт, а самому педагогу (Песталоцци в приюте пришлось быть еще и директором, поваром, служителем, учителем) после закрытия приюта требовался продолжительный отдых, метод обучения был реализован, он показал свою практическую состоятельность: всего за несколько месяцев дети пристрастились к учебе и прониклись благодарностью к учителю.
Ученики приюта испытывали большие трудности при изучении языка, арифметики и других наук, поэтому И.Г. Песталоцци постоянно подбирал новые, более эффективные педагогические подходы. Надо заметить, что его педагогические взгляды формировались под влиянием философских учений той эпохи. Несмотря на то, что сам он никогда не считал себя философом и не писал философских трудов, на него, несомненно, повлияли идеи эпохи Просвещения. Философия во времена И.Г. Песталоцци основывалась на культе науки и механистического мировоззрения. Законы механики И. Ньютона, Г.В. Лейбница и др. были возведены в ранг всеобщих, и на их основе разрабатывались учения о природе, человеке, обществе. Возникают убеждения в рациональном устройстве мира, положения о том, что все мироздание можно разложить на составляющие его элементы, такие же определенные, как геометрические линии и фигуры. Поэтому основой обучения в приюте стал принцип от простого к сложному, то есть обучение начиналось с овладения простейшими элементами (единицей, линией, звуком). Обязательным средством обучения при этом являлась наглядность. Дети должны были отсчитывать по единице, уметь рисовать линии, слышать и воспроизводить каждый звук языка. Поиск элементарных подходов обучения позже стал делом всей жизни И.Г. Песталоцци и позволил сделать немало открытий в области педагогики, которые и сегодня остаются прогрессивными.
С 1799 г. Песталоцци начинает преподавать в школах Бургдорфа. Он не имел возможности строить обучение по своей системе и был вынужден постоянно доказывать целесообразность новшеств, вводимых им в традиционное образование. В этот период он создает большое количество педагогических трудов. Песталоцци старается осмыслить и теоретически обосновать свой практический опыт работы с детьми. Его произведения эмоциональны, он часто переходит с одной мысли на другую, как будто хочет все скорее записать, ничего не упустить, и от этого часто противоречит себе. Так, справедливо доказывая целесообразность использования учебного материала как средства развития умственных способностей, предлагает упражнения, требующие заучивания, а не осмысления фактов действительности.
Но вот, когда в Бургдорфе открывается средняя школа с интернатом и при ней отделение для подготовки учителей, Песталоцци предлагают возглавить это отделение. Это доказывает, насколько прочно уже тогда его метод утвердился в педагогике. В период своего преподавания в Бургдорфе И.Г. Песталоцци создает теоретические труды: «Как Гертруда учит своих детей» (1801), «Памятная записка парижским друзьям о сущности и цели метода» (1802), «Фрагмент об основах образования» (1803), «О значении чувства слуха в связи с использованием звука и языка в обучении» (1804), «Светская женщина и мать» (1804) и др. В них он впервые в педагогике говорит о том, что обучение необходимо строить с учетом психологических закономерностей. Это стало открытием фундаментального направления педагогики. Понимание того, что обучение должно основываться на психологических теориях и положениях, является точкой отсчета для построения современных систем обучения.
В 1801 г. выходит в свет книга Песталоцци «Как Гертруда учит своих детей», первым названием которой было «Изложение нового метода воспитания». Произведение состоит из 14 писем, адресованных цюрихскому книготорговцу и издателю Генриху Гесснеру (1768–1813). В письмах приводятся размышления о педагогической деятельности И.Г. Песталоцци, обоснование целесообразности использования его метода.
Это произведение имеет огромное значение для современной практики раннего развития ребенка. В нем И.Г. Песталоцци говорит о пробуждении духовных сил детей при помощи «полного усвоения основных начал». Он пишет: «Учебник ребенка – его жизненные впечатления. И роль родителей ненавязчиво направлять эти впечатления, делая их более разнообразными и исподволь раскрывая перед ребенком красоту и гармонию мира». Он описывает свой опыт работы с детьми, который направлен на развитие наблюдательности, умения сравнивать, рассказывать о своих впечатлениях. В этом педагог видит основу развития ребенка. Он подчеркивает, что обучать ребенка в соответствии с «естественным путем познания» нужно с младенчества.
В настоящее время доказано, что обучение должно начинаться с первичного восприятия объекта, формирования представления о нем и переходить к изучению подлинно научных понятий, выраженных в слове.
Песталоцци не ставит целью тренировать механизмы восприятия окружающего: они, по его мнению, развиваются в процессе осознанного, глубокого изучения мира. Так, он описывает ситуацию, когда детям показывается картинка и ставится условие ее внимательного рассмотрения. Это делается не для того, чтобы развить внимание ребенка, а для того, чтобы ученик мог увидеть все важные подробности картинки. Песталоцци отмечает, что внимательность детей, с которыми он занимался подобным образом, значительно возрастала.
Ключевое значение имеет мнение Песталоцци о том, что через обучение, ознакомление с предметами и явлениями мира у ребенка развиваются умственные способности. Это положение смогли по достоинству оценить только в наше время, и оно сыграло важную роль в педагогике. Были открыты закономерности развития психических процессов: восприятие – первый процесс, появляющийся у ребенка, и только через восприятие развивается мышление и речь. Это открытие подтвердило идею, высказанную великим педагогом еще в XVIII в.
Однако сам И.Г. Песталоцци видел развивающую роль обучения только на начальных этапах, когда ребенок начинал знакомиться с окружающим миром (сразу после рождения) и когда приступал к изучению основ наук. По его мнению, в этот период в ребенке развивается способность к самообучению, к самостоятельному обобщению фактов действительности. Для более глубокого изучения науки он считал достаточным дать детям наглядный материал, относящийся к этой науке. В его методике не предусматривается изучение общих правил, определений, без которых приобретенные наглядные представления остаются бессистемными, поверхностными[3].
Например, автор предлагает детям, умеющим хорошо говорить, до автоматизма повторять звуки и их сочетания. Это нецелесообразно. Не менее странно звучит в наше время и предложение заучивать названия городов в алфавитном порядке. Изучение счета у И.Г. Песталоцци основывается на запоминании образов числа, состава числа и не предусматривает обучение алгоритмам выполнения арифметических действий. В последствии такие подходы привели к широкому внедрению метода обучения математике, основанного на заучивании. Этот метод осуждали многие педагоги уже в конце XIX века.
Многие произведения И.Г. Песталоцци пишет для матерей, настаивая, чтобы именно они занимались образованием детей. Он говорит о том, что заботливая и любящая мать может сделать для развития ребенка больше, чем учитель, подчеркивает роль матери в формировании «зародыша любви», воспитании нравственных качеств. В произведении «О значении чувства слуха в связи с использованием звука и языка в обучении» И.Г. Песталоцци рассуждает о значении речевого развития и роли матери в усвоении ребенком значений слов и правильном построении высказываний.
В 1805 г. И.Г. Песталоцци переводит свой институт в Ивердон. К этому времени вокруг него собрались педагоги-единомышленники, которые преподавали по разработанному им методу и обучали молодых учителей. В Ивердоне И.Г. Песталоцци открывает, как сказали бы современным языком, целую лабораторию: работали начальная и средняя школы, при институте был открыт учительский семинар. Перенимать опыт обучения детей приезжали из разных стран Европы, в том числе из России.
От преподавателей И.Г. Песталоцци требовал осуществления всестороннего воспитания детей. Особое внимание уделялось нравственному воспитанию. Каждый учитель должен был заботиться о детях, есть с ними за одним столом, спать в их комнате, принимать участие в их играх и, не прерывая обычного течения жизни, реализовывать задачи воспитания.
Во время работы в Ивердонском институте (1805–1827) И.Г. Песталоцци создает книги «Азбука наглядности, или Наглядное учение об измерении» и «Наглядное учение о числе» – справочники по выполнению операций с целыми и дробными числами. Автор подробно излагает математические выражения и их значения с целью наглядно продемонстрировать преобразования величин. Здесь опять наблюдается противоречие между теоретическими положениями метода И.Г. Песталоцци и его подходами к обучению детей математике (а также языку, географии, истории и т. д.).
«Книга для матерей, или Способ учить дитя наблюдать и говорить» создавалась И.Г. Песталоцци вместе с преподавателем Бургдорфского института Германом Крюзи в период 1801–1804 гг. По первоначальному замыслу существенную часть «Книги матерей» должны были составлять раскрашенные картинки с краткими подписями. Несмотря на то, что много таких наглядных таблиц было уже выполнено по заказу Песталоцци, в процессе работы над книгой он от этой мысли отказался и, стремясь познакомить детей с природой непосредственно, без помощи картинок, положил в основу книги наблюдения ребенка над его собственным телом.
Это произведение подверглось критике еще при жизни автора за излишне детализированное описание человеческого тела и его возможностей: говорилось о том, что такие подробные сведения нужны только «стригущим овец и анатомам». Однако И.Г. Песталоцци был прав в том, что детям необходимо подробно объяснять назначение частей тела, хотя бы потому, что в его времена такие знания имели далеко не все взрослые. Книга должна была в первую очередь познакомить матерей с частями человеческого тела, научить правильно их называть, помочь изучить их свойства и функции с тем, чтобы они могли передать свои знания детям. Сегодня благодаря системе школьного обучения все знакомы с предметами и явлениями, описанными автором, но интерес для современного читателя в этом произведении Песталоцци представляют его рассуждения о том, как нужно учить детей, на что следует обратить особое внимание. Кроме этого, необходимо заметить, что детям следует давать разъяснения о мире именно так подробно, как это делал Песталоцци.
Работая в Ивердоне, И.Г. Песталоцци много пишет и издает. Его труды «Взгляды, опыты и средства, содействующие успеху природосообразного метода воспитания» (1806), «Памятная записка о семинарии в кантоне Во» (1806), «О народном образовании и индустрии» (1806) и др. значительно обогатили педагогическую науку. Последним произведением Песталоцци стала «Лебединая песня» (1826), в которой он подводит итог своей педагогической деятельности, подробно описывает свой метод, обосновывает его, показывает его достоинства при осуществлении педагогической практики и рассуждает о трудностях его использования, раскрывает недостатки.
И.Г. Песталоцци до конца жизни был убежден в правильности своего метода. Может быть, именно эта вера в правильность выработанных им подходов, а может, бесконечная любовь к детям помогли ему, несмотря на все трудности, доказать необходимость раннего всестороннего развития ребенка.
О раннем развитии детей
Как Гертруда учит своих детей
Письмо первое
Час рождения ребенка есть первый час его обучения. С той минуты, когда его чувства стали восприимчивыми, с этой минуты начинает учить его природа. Сама жизнь есть не что иное, как только что пробудившаяся способность воспринимать впечатления; она есть не что иное, как пробуждение созревших физических ростков, которые теперь изо всех сил, всеми отпрысками стремятся к развитию и самообразованию; она есть не что иное, как пробуждение сформировавшегося теперь животного, которое хочет и должно стать человеком.
Всякое обучение людей, следовательно, есть не что иное, как искусство помочь этому естественному стремлению человека к развитию, и это искусство, в сущности, основывается на пропорциональности и гармонии впечатлений, усвояемых ребенком, со степенью развития его сил. Следовательно, неизбежно существует известная последовательность в тех впечатлениях, которые ребенок должен получить при помощи обучения; начало же и развитие этого ряда впечатлений должны идти нога в ногу с развитием сил ребенка. Таким образом, я скоро увидел, что исследование подобных рядов по всему кругу человеческих знаний и особенно по основным пунктам, которые служат точками отправления для развития человеческого ума, есть простой и единственный путь когда-либо получить настоящие книги для чтения и учебники, удовлетворяющие требованиям нашей природы и нашим потребностям. Я скоро также увидел, что при составлении подобных книг самое главное, собственно, должно заключаться в том, чтобы распределить составные части всякого обучения сообразно со степенью возрастания детских сил, и во всех отделах обучения определить с величайшей точностью, что из его составных частей соответствует каждому возрасту, чтобы, с одной стороны, не лишить ребенка того, к чему он вполне способен, а с другой – ничем не обременять и ничем не смущать его таким, к чему он не совсем способен.
Следующее стало для меня ясным: надо довести до высокой степени реальные (опытные) и формальные познания ребенка, надо научить его читать или хоть складам, прежде чем разовьется его разум; и вместе с этим заключением во мне созрело другое: дети в самом раннем возрасте нуждаются в руководстве, основанном на знании психологии, для разумного наблюдения над всеми предметами. Но так как подобное руководство немыслимо в людях, каковы они есть, без содействия искусства и нечего его ожидать, то, естественно, я должен был подумать о необходимости книг для наглядного обучения, которые бы предшествовали азбукам, чтобы при помощи хорошего подбора существующих предметов в их натуральном виде или в виде искусно сделанных моделей и рисунков сделать для детей, благодаря этой наглядности, ясными те понятия, с которыми хотят их познакомить при посредстве языка. Счастливый опыт самым очевидным образом подтвердил мое незрелое мнение об этом предмете, при всей ограниченности моих средств и при неправильности и односторонности осуществления моей попытки. Одна чувствительная мать вверила мне лично для обучения свое едва еще трехлетнее дитя[4]. Некоторое время я ежедневно наблюдал его по часу; я пробовал учить его с помощью букв, фигур и всего, что было под рукой, т. е. при помощи всего этого возбудить в нем определенные понятия и добиться от него суждений. Я заставлял его точно называть все известное ему в какой-нибудь вещи, например цвета вещи, части, положение, вид и число. Я даже должен был оставить источник первых мучений юности, злосчастные буквы, – он хотел одних только картин и предметов и скоро стал точно предъявлять те предметы, которые были в пределах его знания. Он находил на улице, в саду и в комнатах материал для своих сведений и скоро дошел до того, что стал правильно произносить даже труднейшие имена растений и животных, сравнивать совершенно неизвестные для него предметы с известными и таким образом порождать в себе определенный взгляд на них. Хотя этот опыт сильно сбивал с пути, содействуя чуждому и отдаленному в ущерб впечатлениям от нужного и близкого, однако он проливал свет на средства возбудить способности ребенка; но, с другой стороны, этот опыт по отношению к тому, чего я искал, был тем еще неудовлетворителен, что ребенок прожил уже целых три года в бездействии, а я убежден, что природа уже до этого времени дает детям точнейшие понятия о громадном количестве предметов. Нам только надо применить к этим понятиям искусственную речь, основанную на данных психологии, чтобы сделать эти понятия в высшей степени ясными для детей и этим самым дать каждому ребенку возможность связать основные данные различных искусств и разнообразной деятельности с тем, чему научила его сама природа, а с другой стороны, воспользоваться тем, чему научила его природа, в качестве комментария ко всем основным данным искусства и действительности, которые ему будут даны. И то и другое, т. е. и сила детей, и их опытность, в этом возрасте уже велики; но наши антипсихологические школы, в сущности, не что иное, как машины для уничтожения всех результатов силы и опыта, пробужденных в них самой природой.
Ты знаешь это, мой друг. Но представь себе еще раз хоть на мгновенье весь ужас этого убийства. Детям предоставляют до пятилетнего возраста вполне наслаждаться природой; дают каждому впечатлению, получаемому от природы, действовать на них; они чувствуют ее силу; они уже далеко зашли в наслаждении природной свободой и всеми ее прелестями, и свободный, естественный ход развития материально-счастливого дикаря уже принял в нем определенное направление. И после того, как дети целых пять лет наслаждались блаженством этой жизни, вдруг заставляют исчезнуть природу из их глаз; тиранически заставляют исчезнуть всю привлекательность непринужденности и свободы; как овец, сбитых в кучу, бросают их в какую-нибудь вонючую комнату; по целым часам, дням, неделям, месяцам и годам неумолимо держат их на рассматривании жалких, неинтересных и однообразных букв и на строе жизни, до такой степени отличном от прежнего их положения, что можно с ума сойти.
Больше не стану описывать, а то я перейду еще к изображению громадного числа учителей, тысячи которых в наши дни только по своей неспособности найти себе честный заработок каким-нибудь другим путем подчиняются тяжелым условиям этого состояния, но и в нем, пропорционально со своей неспособностью к чему-нибудь лучшему, они по большей части получают столько, сколько еле-еле хватает на то, чтобы спасти их от голодной смерти. Как неизмеримо много при таких обстоятельствах должны страдать дети или, по крайней мере, в каком они должны быть пренебрежении!
Друг! Скажи мне: мог ли удар меча, упадающий на шею преступника и лишающий его жизни, произвести на его тело большее действие, чем то, которое производит на душу ребенка подобный переход от продолжительного, прекрасного руководства природы к жалкому ходу дела в школе? Неужели люди вечно будут слепы и никогда не дойдут до первоисточника, от которого происходят беспорядочность нашей души, разрушение нашей беспорочности, гибель наших сил и последствия всего этого, ведущие нас к неудовлетворяющей нас жизни, а тысячи из нас к смерти в госпиталях и к беснованиях в темницах и оковах?
Дорогой Гесснер! Как хорошо мне будет в могиле, если я хоть немного посодействую ознакомлению людей с этими источниками. Как хорошо мне будет в могиле, если мне удастся так же тесно соединить природу и искусство в народном обучении, как насильственно они разъединены в нем в настоящее время! Ах, как это возмущает меня: ведь природа и искусство в этом обучении не только разъединены, они даже яростно враждуют в нем. Как будто какой-то злой дух в продолжение веков берег все это для нашей части света и для нашего века, чтобы наградить нас самым утонченным искусством производить этот адский разрыв, чтобы в этот философский век сделать нас бессильнее и несчастнее, чем был человеческий род когда бы то ни было и где бы то ни было вследствие самообмана, притязательности и самоослепления.
С какой охотой я забываю мир, где это происходит, и как хорошо я чувствую себя около моего дорогого, маленького Людвига, капризы которого заставляют меня самого глубже вникнуть в дух начальных книг для малолетних. Да, мой друг, они-то, собственно, и нанесут и должны нанести удар бессмыслию современного преподавания. Характер этих книг становится мне все яснее. Они должны исходить от самых простых составных частей человеческого знания; они должны глубоко запечатлевать детям существеннейшие формы всех предметов; они должны рано и отчетливо развивать в них первое понятие об отношениях чисел и мер; они должны дать им умение выражать словом всю сумму их знаний и опыта, а также всюду и вполне заменять им первые ступени лестницы знаний, по которой сама природа приводит нас к приобретению всякого искусства и всякой силы.
Какой пробел составляет для нас недостаток этих книг! Нам недостает их не только в том случае, когда нам самим, при помощи собственного искусства, приходится давать все вышеупомянутое, но даже в том случае, когда нам и не приходится этого давать. Даже духа их, жизнью которого окружает нас вся природа, сама, без нашего содействия, даже этого духа у нас нет, и мы сами себя насилуем, угашая в себе нашими жалкими народными школами и односторонним словесным ученьем последний след пламенного резца, которым природа хочет запечатлеть в нас этот дух.
Но я снова возвращаюсь к своему пути.
Изыскивая, с одной стороны, первоначальные практические способы для согласного с психологией развития человеческих сил и способностей начиная с колыбели, а с другой стороны, принужденный в то же самое время обучать детей, которые до тех пор развивались и воспитывались совершенно не в духе этих взглядов и этих средств, я, естественно, впадал в своей практике во многие противоречия с самим собою: я прибегал и должен был прибегать к таким мерам, которые, казалось, вполне противоречили моим взглядам и в особенности психологической последовательности в приобретении реальных и формальных познаний, на основании которой должны были развиваться детские понятия. Я не мог поступить иначе, я должен был ощупью узнавать в детях степень их сил, основание которым сам я не мог положить в них. Я делал это всеми способами, которые только были возможны, и постоянно находил, даже под мусором самой величайшей заброшенности, силы более развитые, чем казалось мне возможным при громадном недостатке у них всякого искусственно полученного знания и всякой искусственно развитой способности. Поскольку люди имели на них влияние, я находил у них необыкновенное бессилие; но и за этим бессилием природа все-таки не была убита. Теперь я это испытал и могу в настоящее время сказать: много, неимоверно много пройдет времени, прежде чем заблуждение и безумие человеческого рода совершенно истребит природу в уме и сердце какого-нибудь ребенка. Бог вложил в душу противодействие нашему неистовству в отношении собственной личности. Жизнь и правду всей природы, парящей вокруг нашего бытия, поддерживают и это противодействие, и вечная благосклонность Творца, который не хочет, чтобы святое в нашей природе погибло от нашей слабости и от нашего неведенья, а хочет, чтобы все сыны человеческие до тех пор, наверно, достигали познания истины и права, пока они сами от себя не потеряют свое природное достоинство, пока по собственной вине и вполне сознательно не запутаются в лабиринте заблуждения и в пучине порока. Но большинство современников едва ли знают, что Бог для них делает, и не придают никакого значения громадному влиянию природы на наше воспитание; напротив, они сберегают всякую крупицу, которую они глупо и некстати прибавляют к великому действию природы, как будто их искусство все значит для человеческого рода, а природа – ничего; и тем не менее одна только природа и делает нам добро; она одна неподкупно и бестрепетно ведет нас к истине и мудрости. Чем более я шел по ее следам, стараясь связать свои действия с ее действиями, и чем более напрягал свои силы, чтобы соразмерять свой шаг с ее шагом, тем более громадным казался мне этот шаг; но в той же мере громадной казалась мне и способность ребенка следовать за нею. А следовало только взвалить на повозку, которая в себе самой заключает способность двигаться, или когда надо было лишь вызвать из детской души то, что в ней заключено, надо было лишь пробудить это в ней, а не в нее вкладывать. Теперь я стал трижды передумывать, прежде чем насчет чего-нибудь решать, что дети этого не могут сделать, и 10 раз стал передумывать, прежде чем высказать: для них то или другое невозможно.
Они делали то, что мне самому казалось невозможным для их возраста. Я заставлял трехлетних детей читать по складам бессмысленнейшую галиматью только потому, что это было до безумия трудно. Друг! Ты слышал, как дети, не достигшие еще четырех лет, наизусть произносили длиннейшие и труднейшие предложения. Счел ли бы ты это возможным, если бы сам этого не видел? Точно так же я заставлял их заучивать целые листы, наполненные географическими именами и написанные с самыми сильными сокращениями, и читать самые незнакомые слова, обозначенные только двумя буквами, в то время, когда они едва лишь по складам читали печатное. Ты сам видел, как правильно они читали эти листы и как легко выучивали их наизусть. Я даже делал попытку пояснять некоторым детям постарше очень запутанные и для них совершенно непонятные предложения из естественной истории. При помощи пересказа и чтения они выучивали эти предложения наизусть, а также и вопросы, которые разрешались этими предложениями. Вначале это было, как и всякое катехизирование[5], простым попугайским повторением темных, непонятных слов. Однако резкое разграничение отдельных понятий, определенный порядок в этих разграничениях, вполне усвоенное и глубокое знание этих темных слов, но в самой своей темноте дающих нечто подобное свету и объяснению, постепенно все более приводили их к сознанию истины и к уразумению данного предмета, проглядывавшим постепенно, как солнечный луч из самого густого облака.
При подобного рода первоначальных опытах, при этом хождении впотьмах, при этом смешении неправильных мер и ясных понятий насчет своих целей, во мне самом мало-помалу развивались определенные взгляды на собственное дело. Мне с каждым днем становилось яснее, что в раннем возрасте вовсе не следует резонерствовать с детьми, а надо ограничиться следующими средствами для их умственного развития:
a. как можно более расширять круг их наблюдений;
b. прочно и систематически укреплять в них наблюдения, ими усвоенные;
c. дать им обширное знакомство с языком для выражения словом всего того, с чем познакомили их и должны познакомить природа и человек.
В то время как, говорю я, эти три принципа[6] с каждым днем становились для меня яснее, постепенно развивалось во мне и убеждение
a. в необходимости для первоначального возраста книг, приноровленных к наглядному обучению;
b. в необходимости определенного способа объяснять эти книги;
c. в необходимости основанного на этих книгах и на этом способе объяснения руководства для усвоения имен и слов, произносить которые дети должны уметь бегло, прежде даже, чем наступит время заниматься с ними складами.
Выгода раннего и быстрого усвоения обширной номенклатуры неоценима для детей. Прочное усвоение названий заставляет их удерживать в памяти самый предмет, как скоро они его узнают, и ряд названий, правильно скомбинированный, развивает и поддерживает в них сознание действительной связи предметов. Выгоды от этого прогрессивно увеличиваются. Никогда только не следует думать, что если ребенок в чем-нибудь не все понимает, так это для него совсем бесполезно. Известно, что если ребенок вместе с изучением азбуки и благодаря этому изучению сам усвоит себе звуковую сторону научной номенклатуры, то от этого он получает то же преимущество, которым пользуется ребенок в обширном торговом доме, с колыбели ежедневно узнающий названия бесчисленного множества предметов. <…>
Письмо шестое
Друг! Ты видишь, по крайней мере, старание, которое я прилагаю к тому, чтобы уяснить теорию своего дела. Поставь мне это в некоторого рода оправдание, если чувствуешь, что мое намерение мало удалось. Собственно, для философствования в истинном смысле этого слова я погиб уже с 20-го года моей жизни; к счастью, для практического осуществления моего плана мне не нужно было той философии, которая дается мне с таким трудом. По отношению ко всему, что я задумывал, я жил в кругу, в котором действовал до высшей степени напряжения моих нервов; я знал, чего хотел; я не заботился о завтрашнем дне, а относительно обстоятельств, особенно интересовавших меня, почти в каждое данное мгновенье чувствовал то, что для них было существенно нужно. И если мое воображение толкало меня на сто шагов далее того места, где я находил твердую почву, то завтра я снова отступал на эти сто шагов. Это случалось со мной тысячи раз. Тысячи раз я считал себя ближе к своей цели и затем снова вдруг находил, что эта мнимая цель есть только новая гора, на которую я наталкиваюсь. В особенности так происходило со мною тогда, когда принципы и законы физического механизма начали все более уясняться для меня; теперь я стал думать, что в настоящее время ничего более не требуется, как просто применять их к тем отделам обучения, которые вековым опытом даны в руки роду человеческому для развития его способностей и на которые я смотрел, как на основу всякого искусства и всякого знания, т. е. применять их к обучению письму, чтению, арифметике и т. п.
Но по мере того как я думал об этом, во мне постепенно развивалось убеждение, основанное на все увеличивающемся опыте, что на эти отделы преподавания вовсе нельзя смотреть как на основы искусства преподавания, что они, напротив, должны быть подчинены более общим взглядам на предмет. Сознание этой важной для преподавания истины долго являлось мне только в связи с той или другой специальностью, к которой относился тот или другой опыт.
Так, при обучении чтению я находил необходимым подчинить его умению говорить; и при своих стараниях найти средство научить детей говорить, находил основание к соединению этого искусства с теми последовательными ступенями, по которым природа переходит от звука к слову и от этого последнего лишь постепенно к языку.
При своих стараниях научить детей письму я наталкивался на потребность подчинить это искусство рисованию, а при старании научить рисованию находил необходимым связать с умением измерять это последнее искусство и подчинить его умению измерять. Даже обученье складам развивало во мне потребность в книге для первоначального возраста, посредством которой я рассчитывал сделать фактические познания трех-четырехлетних детей более обширными, чем познания семи-восьмилетних школьников. Но эти опыты, которые, конечно, приводили меня к тем или другим практически определенным, вспомогательным приемам обучения, все-таки дали мне почувствовать, что я не знаю еще своего предмета во всем его истинном объеме и во всей его глубине.
Я долго искал общий психологический первоисточник всех этих искусственных приемов обучения, так как я был убежден, что только через это можно найти ту форму, которая назначена самой природой для развития человечества; было очевидно: эта форма имеет свои корни в нашей умственной организации, при помощи которой наш разум в своем представлении приводит к единству те впечатления, которые чувства получают от природы, т. е. формирует в понятия, а эти понятия затем развивает до значительной степени ясности.
Каждая линия, каждая мера, каждое слово, говорил я самому себе, есть продукт разума, рождающийся от зрелых наблюдений, и на него следует смотреть как на средство к прогрессивному уяснению наших понятий. И всякое обучение, в сущности, есть не что иное, как это; потому его принципы и должны получиться путем отвлечения от неизменной первоначальной формы развития человеческого разума.
Поэтому все сводится к точнейшему знанию этой первоначальной формы[7]. В силу этого я постоянно обращал внимание на первоначальные пункты, из которых эта форма должна получиться посредством отвлечения.
Мир, говорил я себе в этом фантастическом разговоре с самим собою, представляется нам в виде переливающего моря беспорядочных наблюдений; дело обучения и искусства заключается в том, что при посредстве их действительно и без вреда для нас ускоряется наше развитие, при посредстве одной только природы подвигающееся не совсем для нас быстро, ускоряется тем, что при помощи их уничтожается беспорядочность в наблюдениях, предметы разграничиваются, однородные и близкие по своей идее снова соединяются, все они через это делаются для нас понятными и, достигши полной ясности, обращаются в определенные понятия. Это они делают, представляя нам в отдельности следующие одно за другим, беспорядочные наблюдения, затем эти отдельные наблюдения показывая в различных изменяющихся положениях и, наконец, приводя их в связь со всеми прежде приобретенными нами знаниями.
Таким образом, наши познания из беспорядочных делаются определенными, из определенных – ясными и из ясных – очевидными.
Но природа в этом развитии постоянно придерживается того великого закона, который ставит ясность моего знания в зависимость от близости или отдаленности предметов, имеющих соприкосновение с моими чувствами. Все, что тебя постоянно окружает, представляется твоим чувствам, caeteris paribus[8], крайне спутанным и с таким трудом становится ясным и понятным для тебя самого в том случае, если оно удалено от твоих чувств; напротив, все представляется тебе тем более определенным, тем более легким, ясным и понятным, чем ближе оно находится от твоих пяти чувств.
Ты сам в качестве физически живого существа есть не что иное, как твои пять чувств; следовательно, ясность или неясность твоих понятий находится в безусловной и существенной зависимости от близости или отдаленности расстояния, с которого все внешние предметы касаются пяти чувств, т. е. тебя самого или того центра, около которого в тебе самом группируются твои представления.
Это центр всех твоих наблюдений, ты сам становишься предметом наблюдений для самого себя; все, что ты сам, для тебя легче сделать ясным и понятным, чем все находящееся вне тебя; все, что ты чувствуешь относительно себя, может быть для тебя неопределенным наблюдением; следовательно, ход твоих познаний, поскольку он касается тебя самого, на одну ступень короче, чем в том случае, когда он исходит из чего-либо другого, вне тебя находящегося. Все, что ты узнал о самом себе, ты узнал точно; все, что ты сам знаешь, находится в тебе самом, и сущность этого определена тобой самим; следовательно, таким способом легче и вернее открывается путь к получению ясных понятий, чем каким бы то ни было другим, и изо всего, что ясно, ничего не может быть теперь яснее, как принцип: познание человеком истины из самопознания.
Друг! Таким образом долго носились в моей душе живые, но неясные мысли об основах обучения, и таким образом я изображал их в своем докладе, и тогда еще не имея возможности открыть непрерывную связь между ними и законами физического механизма, не будучи также в состоянии с точностью определить первоначальные пункты, из которых должен исходить ряд наших искусственных воззрений или, скорее, та форма, в которой было бы возможно поставить развитие человечества в зависимость от самой его природы, пока, наконец, и то недавно, внезапно, как Deux ex machina[9], не пролила нового света на то, что я искал, следующая мысль: средства, выясняющие все наши познания, почерпнутые из наблюдений, исходят из числа, формы и языка.
Однажды после долгих усилий добиться своей цели, или, скорее, после беспорядочных мечтаний об этом предмете, я совершенно просто обратил внимание на способ, как каждый образованный человек в каждом отдельном случае принимается и должен приниматься за дело, если хочет надлежащим образом растолковать и постепенно уяснить себе что-нибудь такое, что находится пред ним в беспорядочном и неясном виде.
В таком случае каждый раз он должен будет обращать и непременно обратит внимание на следующие три правила:
a. сколько различных предметов проносятся у него пред глазами;
b. как они выглядят; что за форма их и контур;
c. как они называются; как он может каждый из них выразить себе посредством одного звука, одного слова.
Очевидно, что для успеха в этом способе действия предполагаются у подобного человека развитыми следующие способности:
a. способность схватывать неодинаковые по форме предметы и давать себе отчет в их сущности;
b. способность различать эти предметы по числу и ясно представлять их себе в виде одного или в виде множества предметов;
c. способность выразить при помощи языка отдельно представление о числах предметов и отдельно представление об их форме и запечатлеть это в своей памяти.
Я так сужу: число, форма и язык есть элементарные средства обучения, так как все внешние свойства какого-либо предмета заключаются в пределах его контура и в его числовых отношениях и при посредстве языка делаются достоянием моего сознания. Искусство, следовательно, должно исходить из следующего троякого основания и следующим образом действовать (и это сделать неизменным законом своего развития):
a. учить детей смотреть на каждый предмет, который предлагается их сознанию, как на целое, т. е. отдельно от тех предметов, с которыми он, по-видимому, связан;
b. познакомить их с формой каждого предмета, т. е. с его мерой и пропорциями;
c. как можно раньше познакомить их с полным запасом слов и названий всех узнанных ими предметов.
И так как обучение детей должно исходить от этих трех основных пунктов, то очевидно также, что и первые усилия искусства должны быть направлены к тому, чтобы развить с помощью высшего психологического искусства основные потребности – считать, измерять и говорить, – хорошие качества которых составляют основу правильного познания всех видимых предметов, укрепить их и придать им силу, а следовательно, довести средства развития и образования этих трех способностей до высшей степени простоты и устойчивости и до величайшего согласия между собою.
Единственным затруднением, встретившимся мне при признании этих трех основных пунктов, был вопрос: почему все качества вещей, которые мы узнаем посредством пяти чувств, не являются основами нашего знания, подобно числу, форме и названию? Но я скоро убедился: все предметы без исключения имеют число, форму и название, остальные же качества, познаваемые нами посредством пяти чувств, ни у одного предмета не бывают общими со всеми другими предметами, но лишь одни с одним предметом, другие с другим (притом еще это качество с первого же взгляда так нам бросается в глаза, что на основании его мы можем различать те или другие предметы). Таким образом я нашел между числом, формой и названьем всех предметов и между остальными качествами существенное различие, а именно: я не мог смотреть на другие качества предметов как на основные пункты человеческого знания; даже напротив, я нашел, что все остальные признаки предметов, познаваемые нашими пятью чувствами, могут быть непосредственно сведены к этим основным пунктам; что, следовательно, при обучении детей знание всех прочих качеств изучаемых предметов должно быть связано с предварительным знанием формы, числа и названий. Я теперь видел, что благодаря знакомству с количеством, формой и названием какого-либо предмета мое понятие об этом предмете становится точным понятием; благодаря постепенному знакомству со всеми остальными его качествами оно становится полным; чрез знакомство же со связью всех его признаков оно делается понятием вполне ясным.
Теперь я пошел дальше и нашел, что все наше знание вытекает из трех основных способностей:
a. из способности произносить звуки, из чего происходит способность речи;
b. из неопределенной, исключительно чувственной способности представления, из которой происходит знание всех форм;
c. из определенной, не исключительно чувственной способности представления, из которой следует выводить понимание количества, а вместе с последим и способность вычислять и считать.
Таким образом, я заключаю, что искусственное развитие человечества должно быть связано с первыми и простейшими последствиями этих трех основных способностей – со звуком, формой и числом. Обученье тем или другим частностям не может достичь и никогда не достигает успеха, удовлетворяющего нашу природу, если эти три простые следствия наших основных способностей не будут приняты за начальные пункты всякого обучения, раз они признаны таковыми самой природой; и если, вследствие этого признания, им не будут приданы такие формы, которые гармонически вытекают из главнейших результатов этих трех основных способностей нашей натуры и содействуют тому, что успех преподавания, до самого окончания последнего, выражается в виде непрерывного движения вперед, при равномерном упражнении всех этих основных способностей (что, в сущности, только и возможно сделать при посредстве этого), и одинаково, во всех этих трех областях, переходит от неясных наблюдений к определенным, от определенных наблюдений к ясным представлениями и от ясных представлений к ясным понятиям.
Я нахожу, наконец, что посредством всего этого искусство приобретает основательную и крепкую связь с природой или, скорее, с той основной формой, в которой природа вообще уясняет нам предметы, существующие в мире, и что этим разрешается задача: найти общее начало всех искусственных способов обучения, а вместе с тем и форму, какая самой сущностью нашей природы может быть указана для развития человеческого рода; этим же устраняется затруднение, как применить к формам обучения, которые опыт тысячелетий дал людям для саморазвития, т. е. письму, счету, чтению и т. п., те механические законы, которые я признаю основой человеческого обучения.
Письмо седьмое
Итак, первое основное средство обучения есть звук. Из него вытекают следующие специальные средства обучения:
a. обучение звуку, или средство развить орган речи;
b. обучение слову, или средство ознакомиться с теми или другими предметами;
c. обучение речи, или средство уметь ясно выражаться относительно предметов, ставших нам известными, и относительно всего, что мы в состоянии в них узнать.
Звук
В свою очередь обучение звуку делится на обучение звукам в речи и на обучение звукам в пении.
Что касается до звуков в речи, то нельзя предоставлять случаю, дойдут ли они до ушей ребенка рано или поздно, в изобилии или скупо. Важно, чтобы они стали ему известны в полном своем объеме и как можно раньше.
Это знакомство со звуками должно быть уже закончено в нем прежде еще чем разовьется у него способность произносить их; и в свою очередь, умение легко повторять все звуки должно вполне сформироваться, прежде чем положат перед ним формы букв и начнут с ним первоначальные упражнения в чтении.
Поэтому книга складов должна заключать в себе все те звуки, из которых состоит речь, и в каждой семье следует в этом именно количестве знакомить с ними слух ребенка, упражняющегося в складах, даже слух ребенка в колыбели, запечатлевать их в его памяти при помощи частого повторения и вообще навек запечатлевать их в памяти, прежде еще чем он будет в состоянии произнести хоть один из них.
Кто этого не видел, тот не может себе представить, до какой степени повторение этих простых слогов[10]: ба, ба, да, да, да, ма, ма, ма, ла, ла, ла и т. д. возбуждает внимание малых детей и нравится им; он не может себе также представить, насколько помогает способности детей к учению раннее знакомство с этими слогами.
Для того же, чтобы определить форму обучения языку, или, скорее, различные формы, посредством которых можно достигнуть цели этого обучения, т. е. посредством которых мы должны добиться того, что станем определенно выражаться о предметах, ставших нам известными, и обо всем, что мы можем в них узнать, мы должны спросить себя:
a. в чем заключается для человека главная цель языка?
b. какое есть средство, или, скорее, какой путь, которым сама природа ведет нас к этой цели при постепенном развитии языкознания?
Главная цель, достигаемая способностью речи, очевидна: вести человеческий род от неясных наблюдений к ясным понятиям. Средства, при помощи которых она постепенно приводит нас к этой цели, бесспорно, следующие:
I. Мы познаем какой-либо предмет вообще и называем его, как нечто целое, как предмет.
II. Постепенно мы узнаем его признаки и учимся их называть.
III. При помощи речи мы получаем возможность точнее определять эти качества предмета глаголами и наречиями и пояснять самим себе перемену, происходящую в них изменением значения самих слов и их совокупностью.
Относительно усилий выучиться называть предметы я объяснился выше. Усилия познакомить ребенка с отличительными признаками предметов и с их наименованиями разделяются:
● на усилия научить ребенка определенно выражаться относительно числа и формы. Число и форма, как настоящие основные качества всех вещей, есть два самые полные отвлеченные обобщения физической природы и сами по себе являются теми двумя пунктами, к которым примыкают все остальные средства для увеличения наших понятий;
● на усилия научить ребенка определенно выражаться не относительно одних числа и формы, но и относительно всех остальных особенностей предметов (как относительно тех, которые познаются посредством пяти чувств, так и относительно тех, которые познаются не путем простого наблюдения, а путем наших способностей – воображения и суждения).
Первые физические обобщения, выделять которые из числа остальных качеств предметов посредством пяти чувств мы научились после опыта целых тысячелетий, – число и форма – должны быть сначала представлены ребенку, для более быстрого ознакомления с ними, не просто как особенности, присущие тому или другому предмету, а как физические обобщения. Не только следует рано уметь называть какой-либо круглый и четырехугольный предмет круглым и четырехугольным, но надо, если возможно, еще прежде усвоить себе понятие круглого, четырехугольного, – как чисто абстрактное понятие, чтобы можно было все, что встретится в природе круглого, четырехугольного, простого, четверного и т. п., отнести к определенному слову, выражающему это понятие вообще; и здесь обнаруживается также причина, почему на язык смотрят, как на средство выражать число и форму, помимо и независимо от того, что на него смотрят как на средство выражаться относительно всех остальных качеств, которые пять чувств дают нам заметить в существующих в природе предметах.
Дальнейшие же шаги к этой цели следует отложить на будущее время, применяясь к упражнениями в речи; кроме того, они находятся в связи со специальными занятиями числом и формой, которые после окончательного обозрения упражнений в языке будут рассмотрены мною поодиночке, как основные пункты нашего знания.
Что же касается до тех свойств предметов, которые становятся нам известны не непосредственно при помощи пяти чувств, а через посредство нашей способности сравнивать, нашего воображения и нашей способности к абстракции, то и в этом отношении я остаюсь верным своему правилу – не стремиться к тому, чтобы преждевременно сделать какое-либо человеческое суждение лишь по-видимому зрелым. Я смотрю на твердое знание подобных отвлеченных слов у детей этого возраста единственно как на простое дело памяти и отчасти как на легкую пищу для игры их воображения и их способности догадываться. Напротив, относительно предметов, которые становятся нам известными непосредственно при помощи наших пяти чувств и относительно которых поэтому следует стараться как можно скорее довести ребенка до умения определенно выражать их, я принимаю следующие меры.
Я выбираю из словаря имена существительные, отличающиеся выдающимися признаками, которые мы распознаем в них посредством наших пяти чувств, и прибавляю к ним прилагательные, которые выражают их признаки, например:
угорь – гладкий, червеобразный, крепкокожий;
падаль – безжизненная, вонючая;
вечер – тихий, ясный, холодный, дождливый;
ось – крепкая, непрочная, грязная;
поле – песчаное, глинистое, засеянное, унавоженное, плодоносное, доходное, недоходное.
Затем я изменяю прием, таким же образом ищу в словаре имена прилагательные, выражающие выдающиеся признаки предметов, которые познаются при помощи наших чувств, и прибавляю к ним существительные, которым свойственны обозначенные прилагательными признаки, например:
круглый – ядро, шляпа, луна, солнце;
легкий – перо, пух, воздух;
тяжелый – золото, свинец, дуб;
теплый – печь, летние дни;
высокий – башни, горы, великаны, деревья;
глубокий – моря, озера, погреба, ямы;
мягкий – мясо, воск, масло;
гибкий – стальное перо, китовый ус и т. п.
Я вовсе, впрочем, не стараюсь многочисленностью этих пояснительных примеров уменьшить у ребенка самостоятельное мышление, – напротив, при всяком удобном случае даю ему лишь немногие, но вполне понятные для него примеры и затем тотчас же спрашиваю: «Не знаешь ли еще чего-нибудь подобного?» В большинстве случаев дети находят новые примеры в пределах своего опыта и очень часто такие, которые и в голову не пришли бы учителю; и вот таким-то образом расширяются и выясняются их познания, чего невозможно было бы достигнуть посредством катехизации, а если и возможно, то с гораздо большими ухищрениями и трудом.
При всякой катехизации ребенок связан отчасти рамками тех или других понятий, о которых его спрашивают, отчасти формой, в какой задаются ему вопросы, наконец, рамками учительских познаний и, что еще больше, рамками боязливой заботливости, как бы не вывести его из искусственной колеи. Друг! Сколько страшных для ребенка рамок, которые совсем исчезают при моем методе!
Второе элементарное средство, которое является и должно являться началом всякого человеческого знания, а следовательно, сущности всех способов обучения, заключается в следующем:
Форма
Учению о форме предшествует умение наблюдать вещи определенной формы, а искусство изображать их, примененное к делу преподавания, само должно вытекать частью из природы наблюдательной способности, частью же из известных целей самого обучения.
Вся сумма нашего знания приобретается:
a. при посредстве впечатлений от всего того, с чем случай приводит в соприкосновение наши пять чувств. Этот способ наблюдения беспорядочен, смутен и обладает ограниченным и очень медленным ходом;
b. при посредстве всего того, что предлагается чувствам искусственно, при помощи наших родителей и учителей. Наблюдения по этому способу, смотря, конечно, по степени ума и деятельности родителей и учителей каждого ребенка, более обширны, более связаны и расположены более или менее психологически; сообразно с этим они производятся более или менее быстро и более или менее скоро достигают цели всякого обучения, т. е. уяснения понятий;
c. при помощи собственного стремления, основывающегося на побуждении всех моих сил приобретать убеждения, познания и ловкость и самостоятельно добиваться различных способов производить наблюдения. Знания, получаемые от такого рода наблюдений, придают нашим убеждениями внутреннюю ценность и делают нас более способными к нравственному воздействию на свое образование, давая возможность результатами наших наблюдений свободнее существовать в нас самих;
d. благодаря усилиям и работе по своей специальности, а также благодаря всякой деятельности, имеющей в виду не одни только наблюдения, этот способ приобретать познания приводит мои наблюдения в связь с моим положением и отношениями, согласует их результаты с моими усилиями по отношению к долгу и добродетели и своими невольным ходом, своим бессилием изменить собственные же результаты производит значительное влияние на правильность, систематичность и гармонию моих взглядов и тем самым содействует достижению своей цели, ясности понятий;
e. наконец, и тот случай можно отнести к знанию, получаемому посредством наблюдения, когда оно знакомит меня со свойствами таких вещей, которые, собственно, никогда не были предметом моих наблюдений, но понятие о которых я получаю посредством отвлечения от других, сходных с ними предметов, которые мне удалось наблюдать.
Этот способ наблюдения обращает мой успех в приобретении познаний, который, как результат действительных наблюдений, есть только дело моих чувств, в дело моей души и всех ее сил, и благодаря этому я живу среди стольких же видов наблюдений, сколько у меня душевных сил. Но относительно только что упомянутых наблюдений слово имеет более широкое знание, чем при обыкновенном словоупотреблении, и обнимает собою также целый ряд чувств, которые нераздельны с природой моей души.
Очень важно познакомиться с разновидностями этих способов наблюдения, чтобы иметь возможность вывести для каждого из них соответствующие правила.
Рисование
Рисование есть искусство представить себе при помощи наблюдения над самим предметом его очертание и внутренние отличительные признаки в линиях и правильно им подражать.
Усвоение этого искусства чрезвычайно облегчается благодаря новому методу, так как теперь оно представляется во всех своих частях одним лишь легким применением форм, которые не только наглядно показаны ребенку, но благодаря упражнению в копировании стали в нем основанием действительного умения измерять.
Это происходит таким образом: как скоро ребенок начинает правильно и умело чертить горизонтальные линии, с которых начинается азбука наблюдений, то из хаоса всех наблюдаемых предметов ему изыскивают фигуры, очертание которых представляет не что иное, как применение хорошо известных ему горизонтальных линий, или требует лишь незаметного отступления от них.
Так переходят к отвесным линиям, затем к прямым углам и т. д. и, по мере того как в ребенке укрепляется умение применять эти формы, делают отступления от них в фигурах, в которых эти формы применяются.
Результаты этих мер, согласных с главнейшими физико-механическими законами, для искусства рисования никак не меньше, чем результаты азбуки наблюдений для способности детей к измерениям. Так как при подобном ведении дела доводятся до совершенства все, даже самые первоначальные рисунки, прежде чем дети перейдут к дальнейшим, то уже при первых шагах на поприще этого искусства у них развивается сознание тех последствий, которые получаются от полного развития их способностей, а вместе с этим сознание и стремление к усовершенствованию и упорное желание довершить дело, чего никогда не добивалась и не могла добиться та смесь глупости и беспорядочности, которая составляет достояние наших незнакомых с психологией людей и непсихологических образовательных средств. Основанием для подобных успехов у детей, лучше руководимых в этом отношении, служит не только их рука, но и сами основные силы человеческой природы; а затем уже книги, служащие для применения геометрических форм, дают им в руки целый ряд средств, при помощи которых это стремление, если им воспользоваться со знанием психологии и в пределах физико-механических законов, постепенно доводит детей до той степени совершенства, которой мы уже коснулись, а именно что дальнейшее наблюдение геометрических линий мало-помалу становится для них излишним, и от вспомогательных средств искусства для них ничего не остается, кроме самого искусства.
Искусство писать
Сама природа подчиняет это искусство рисованию и всем тем вспомогательным средствам, при помощи которых умение чертить развивается в детях и доводится до совершенства, следовательно, прежде всего и в особенности искусству измерения.
Изучение искусства писать, меньше даже чем само рисование, может быть начато и продолжаемо без предварительно развитого навыка в геометрических линиях, и не только потому, что оно есть, собственно, род линейного черчения и не допускает никакого произвольного отступления от определенного направления своих форм, но главным образом потому еще, что, раз оно вполне усвоено ребенком ранее черчения, оно неизбежно должно испортить ему руку для этого последнего, так как приноравливает руку к отдельным формам, прежде чем достаточно и прочно будет развита ее гибкость для всех форм, чего главным образом требует рисование. Рисование должно предшествовать обучению письму еще более потому, что им крайне облегчается для ребенка правильное написание букв и он избавляется от потери времени на отвыкание от кривых и неправильных форм, годами усвоенных; в то же время он получает от этого существенную выгоду для своего развития, так как при первых же шагах в усвоении этого искусства он сознает в себе силу довершать начатое и благодаря этому уже в самом начале обучения письму развивает в себе желание ничего не примешивать неопределенного, неправильного и несовершенного к первым своим шагам на поприще этого искусства, доведенным до известной степени правильности, определенности и совершенства.
Писать и чертить сперва надо попробовать грифелем на аспидной доске, так как ребенок в известном возрасте бывает способен довести буквы посредством грифеля до известной степени правильности, тогда как научить его водить пером в этом возрасте чрезвычайно трудно.
Далее, потому уже следует рекомендовать употребление грифеля раньше пера при письме и черчении, что неправильности на грифельной доске, во всяком случае, можно быстро стереть, тогда как на бумаге обыкновенно при сохранении неправильно написанной буквы присоединяется к первой еще более неправильная черта, и, таким образом, почти всегда с начала строки до конца и с начала листа тоже до конца получается нечто вроде очень заметной прогрессии в уклонении от образца, выставленного в начале строки и листа.
И наконец, я и на следующее смотрю как на очень существенное преимущество этой манеры: на грифельной доске ребенок постоянно стирает и вполне хорошее, и никто не поверит, как важно это, если вообще важно для людей не быть притязательными и не слишком рано придавать тщеславное значение делу своих рук.
Итак, я разделяю обучение письму на два периода:
a. когда ребенок должен хорошо усвоить себе форму букв и их связь, независимо от употребления пера;
b. когда он сам упражняет свою руку в употреблении орудия для письма, т. е. пера.
Уже в первый период я ставлю перед глазами ребенка буквы в точных измерениях; для этого я выгравировал прописи, при помощи которых дети почти сами собой, и без всякой дальнейшей помощи, могут развить в себе умение писать.
Преимущества этих прописей следующие:
a. они долго останавливают внимание ребенка на начальных и основных формах букв;
b. они лишь постепенно присоединяют друг к другу части сложных буквенных форм, так что на усвоение самых трудных букв следует смотреть только как на постепенное прибавление новых частей к усвоенным уже основным частям буквы;
c. с того самого момента, когда дети сумеют правильно написать хоть одну букву, они уже приучают пишущих к совокупности букв и шаг за шагом совершенствуют их в писании слов, состоящих из таких лишь букв, которые ребенок всегда прекрасно напишет;
d. наконец, они имеют то преимущество, что могут быть разрезаны на отдельные строки и предложены ребенку таким образом, что строка, на которой надо писать, для глаза и руки следует непосредственно под буквами прописи.
Во второй период, когда ребенок должен приступить к употреблению собственно орудий письма – перьев, он уже привык очень хорошо различать формы букв и их совокупностей, и учителю ничего больше не остается тогда делать, как обратить при помощи употребления пера умение чертить эти формы в настоящее искусство письма.
Между тем ребенок должен и в этом случае связать этот успех с тем отделом искусства, в котором он уже приобрел навык. Первою его прописью для пера должна быть его пропись для грифеля, и он должен начать употребление пера с писания букв в таком же формате, как и чертил их, и только постепенно привыкать к писанию букв меньшего формата, чем привычный.
Письмо восьмое
Третье элементарное средство для приобретения познаний есть
Число
Между тем как звук и форма приводят нас к ясным понятиям и умственной самостоятельности, но только приводят не прямо, а при помощи многих средств, арифметика есть единственный способ, не заключающий в себе никаких второстепенных средств, а являющийся во всех результатах своего влияния всегда лишь простым следствием основной способности, посредством которой мы в состоянии точно и совершенно наглядно понять отношение «больше» и «меньше», а также ясно и определенно представить себе это отношение увеличения или уменьшения до бесконечности.
Звук и форма очень часто несут в себе различные зародыши заблуждения и обмана. Число – никогда; оно одно приводит к несомненным результатам; и если искусство измерять высказывает такое же притязание, то может оправдать его только при помощи математики и в соединении с нею, т. е. оно потому несомненно, что оно высчитывает.
Так как на тот способ обучения, которым вернее всего достигается цель обучения – ясные понятия, надо смотреть как на важнейший, то ясно, что этот способ следует применять всюду, с особенным тщанием и искусством, и что для достижения главной цели преподавания в высшей степени важно, чтобы и этот способ получил форму, имеющую в себе все те преимущества, которые могут быть даны обучению глубоким знакомством с психологией и обширным знанием непреложных законов физического механизма. Поэтому я особенно старался сделать математику в глазах ребенка самым ясным результатом этих законов и не только ее основы довести в человеческом уме до той простоты, в какой они являются в действительности, в природе, но и дальнейшее их развитие во всех их изменениях привести в непрерывную связь с этой простотой первоначальной основы – в убеждении, что даже крайние пределы этого искусства только в том случае могут быть средствами для истинного просвещения, т. е. средствами для достижения ясных понятий и чистых взглядов, если развиваются в человеческом уме в той же последовательности, в какой они исходят от первых основ в самой природе.
Искусство счисления
Оно происходит из простого сложения и разложения чисел. Его основная форма, как уже сказано, собственно, следующая: один и один равняется двум, и один из двух остается один. И каждое число, как всегда оказывается, есть само по себе не что иное, как средство сокращать эту существенную первоначальную форму всякого счисления. Но важно то, что знание основной формы числовых отношений не ослабляеются в человеческом уме этим средством, сокращающим счисление, а тщательно и глубоко запечатлевается в нем посредством тех форм, в которых это искусство преподается, и всякий прогресс в этом искусстве основывается на достижении одной цели, именно на получении глубоко западающего в человеческий ум знания реальных отношений, составляющих сущность всякого счисления. Если же этого нет, то даже самое главное средство получить ясные понятия унижается до степени игры нашей памяти и воображения и так становится бессильным в достижении своей главной цели.
Иначе и быть не может; если, напимер, мы только наизусть учим: 3+4=7 – и затем на этих 7 будем основываться, как будто на самом деле знаем, что 3+4=7, то мы будем обманывать самих себя, потому что внутренняя правда этих семи не в нас, так как мы не знаем материальной основы, которая одна только может сделать для нас истиной это пустое слово. То же самое бывает во всех отделах человеческого знания. И черчение, вследствие того что не примыкает к измерению, из которого оно возникает, теряет свою главную внутреннюю правду, при помощи которой оно только и может возвысится до степени средства, приводящего нас к ясным понятиям. <…>
Письмо десятое
Друг! Следует отличать наблюдение, рассматриваемое как тот пункт, от которого исходит обучение, от искусства наблюдения, которое есть учение об отношениях всех форм; как общая основа всех трех первоначальных средств обучения оно предшествует искусству наблюдения так же, как искусству счисления и речи. Если рассматривать наблюдение в противоположность искусству наблюдения, отдельно и само по себе, то оно окажется, с одной стороны, простым появлением внешних предметов пред нашими чувствами, а с другой – простым возбуждением сознания тем впечатлением, которое они произвели; этим природа начинает всякое обучение; им пользуется младенец, оно дается матерью; но искусство ничего не сделало, чтобы в этом отношении идти наравне с природой. Напрасно пред его глазами было прекраснейшее зрелище – мать, показывающая мир своему ребенку; оно ничего, ровно ничего не связало с этим зрелищем на пользу народа[11].
Я хочу, любезный Гесснер, выписать тебе относительно этого пункта одно место, которое уже год тому назад было исторгнуто у меня мыслью о нашем вышеупомянутом искусстве: «С того мгновения, когда мать берет ребенка на руки, она учит его, делая доступнее его чувствам все то, что природа предлагает ему без связи, на большом расстоянии, без всякого порядка, и делая для него легким, приятным и привлекательным сам процесс наблюдения и, следовательно, само знание, от него зависящее.
Бессильная, необразованная, следуя за природой без руководства и помощи, мать в своем неведении даже не сознает, что делает; она не хочет учить, она хочет занять его; но, несмотря на это, она следует в своей чистой простоте высокому примеру природы, не зная, что эта последняя делает посредством нее, а природа делает посредством нее очень много; она этим путем открывает мир ребенку; она подготовляет его к пользованию своими чувствами и к раннему развитию его внимательности и его способности наблюдения.
Если бы в настоящее время воспользовались этим великим делом природы, если бы связали с ним то, что можно с ним связать, если бы при помощи искусства сделали возможным для материнского сердца сознательно, по доброй воле делать для взрослого то же самое, что она делает для младенца по слепому природному побуждению, если бы далее воспользовались для этой цели и сердцем и положением отца, и для него с помощью искусства сделав возможным наделение ребенка всеми соответствующими его положению и условиям способностями, необходимыми ему для того, чтобы, посредством хорошего попечения о его главнейших делах, всей своей жизнью достигнуть душевного спокойствия, – как легко было бы помочь человеческому роду и каждому отдельному человеку при всяком положении создавать себе тихую, спокойную и приятную жизнь даже среди затруднений, созданных неблагоприятными условиями, и среди всякого зла, в неблагоприятное время.
Боже! Что бы было сделано для человечества! Но мы даже и в этом отношении не так далеко ушли, как та аппенцеллернская женщина, которая повесила над колыбелью своего ребенка в первую же неделю его жизни большую бумажную птицу, пестро раскрашенную, и таким образом определенно обозначила пункт, с которого искусству следует начинать давать ребенку твердое и ясное понятие о предметах природы».
Дорогой друг! Кто видел, как двух– и трехнедельный ребенок тянется руками и ногами к этой птице, и подумает, как легко было бы искусству посредством ряда таких вещественных образов дать ребенку общую основу для наблюдения над всеми предметами природы и искусства (впоследствии подобное наблюдение постепенно и различными способами могло бы производиться точнее и расширяться); кто подумает обо всем этом и не почувствует, что мы упускаем с нашими не только готически-монашескими, но еще готически-монашески-расслабленными и нам самим опротивевшими старыми педагогическими приемами – право, в том пути не будет.
Для меня аппенцеллернская птица, как святыня, и я приложил все усилия, чтобы начать свое обучение с того пункта, от которого исходит аппенцеллернская женщина. Я иду еще далее: ни в самом начале, ни в последующем ряде способов приобретать познания не предоставляю случаю то, что природа, условия жизни и материнская любовь дают чувствам ребенка с самого первоначального его возраста; я употребил все усилия для того, чтобы дать возможность уже в этом возрасте чувствам ребенка пользоваться, опуская все случайное, самыми существенными из всех познаний, приобретаемых наблюдением, и впечатление, получаемое от них, сделать неизгладимым.
Число само по себе, без наблюдения, является для нашего ума лишь обманчивым видом представления, которое, правда, схватывается нашим воображением, но не может быть усвоено разумом в качестве истины. Ребенок должен правильно познавать настоящую сущность каждой формы, в которой могут проявляться числовые отношения, прежде чем будет в состоянии усвоить себе хоть одну из этих форм, как основание для ясного понимания увеличения этих отношений или уменьшения. Поэтому уже в «Книге матерей» я наглядно представил ребенку, находящемуся в этом возрасте, десять первых чисел в виде пальцев, копыт, листьев, точек, затем и в виде трех—, четырех—, восьмиугольников.
Утвердив в ребенке простое наблюдение как необходимую основу всякого опытного знания, я возвышаю затем наблюдение, опять-таки во всех этих отделах, на степень искусства, т. е. на степень средства представлять себе предметы наблюдения как объекты моей критической способности и моей искусственно выработанной сноровки.
Этим путем я привожу ребенка к «Азбуке искусства наблюдать», после того как познакомил его в «Книге матерей» с разносторонним наблюдением над предметами и с их именами. Эта книга должна дать ребенку возможность выработать себе, по отношению к форме всех вещей, определенные понятия об отношении их формы к равностороннему четырехугольнику и таким образом во всем этом отделе обучения найти целый ряд средств для того, чтобы перейти от неясных наблюдений к определенным понятиям.
И, таким образом, сперва я делаю для детей совершенно ясными и наглядными начала всякого счисления и в то же время заставляю их вполне усваивать себе те выражения, которыми обозначается их форма. Таким образом, я представляю им начала счисления вообще в, исследовательском виде, что с самого начала есть нечто иное, как психологически верный и непрерывный переход от хорошо усвоенных заключений, основанных на наблюдении, к небольшой прибавке нового наблюдения, но переходящего лишь от одного к двум и от двух к трем. Подтвержденный опытом результат этого приема заключается в том, что дети, вполне понявшие начала какого-нибудь способа счисления, с этих пор оказываются в состоянии без дальнейшей помощи таким же образом идти дальше и продолжать до тех пор, пока этого требует самый ряд по своей природе.
Вообще, относительно этого способа обучения следует заметить, что он настолько помогает детям уяснять себе основы каждого отдела, что они на каждой ступени своего учения должны вполне усваивать себе все, что только можно, так что, во всяком случае, на тех, которые сделали более успехов, можно смотреть как на наставников своих младших братьев и пользоваться ими в качестве таковых.
Самое существенное, что сделано мною для упрощения и уяснения обучения арифметике, заключается в следующем: посредством наглядности я не только заставляю ребенка навсегда усвоить истину всех числовых отношений, но и соединяю понимание действительной наглядности с действительным учением о величине и делаю равносторонний четырехугольник общим средством к произведению наблюдения и счисления.
Третье основное средство приобрести знание – язык – очень растяжимо по отношению к применению моих принципов.
Если, с одной стороны, знание формы и числа должно предшествовать знанию языка и это последнее отчасти должно проистекать из двух первых, то с другой – успех в знании языка является быстрее, нежели в наблюдении и в счислении. Собственно впечатление, производимое наглядностью в форме и числе, предшествует способности речи, способность же наблюдения и счисления, напротив, следует за способностью речи[12]. Великий отличительный признак особенности и высоких качеств нашей природы, язык, начинает развиваться со способности произносить звуки, становится затем через постепенное развитие звуков определенными словами, а из определенных слов – языком. Природе требовались века, чтобы дать людям вполне развитую способность речи, а мы в несколько месяцев выучиваемся тому, для чего природе требовались века; но мы должны (мы не смеем иначе) при изучении языка следовать с нашими детьми тому же пути, который природа проходила с людьми по отношению к этому предмету.
Но теперь спрашивается: как я сохранил этот естественный путь в те три периода, на которые природа и опыт разделили развитие способности речи, т. е. при изучении звуков, слов и речи, и как я согласовал формы своих способов обучения в этих отделах с только что указанными периодами? Учение о звуках я расширил по возможности больше, придавая значение гласным, как настоящей основе всех звуков, и постепенно прибавляя отдельные согласные впереди и позади гласных, и так сделал возможным прочное усвоение этих многочисленных звуков речи и их последовательности даже для грудного ребенка. Я сделал возможным, чтобы при этом обучении внутреннее наблюдение предшествовало у ребенка внешнему, которое указывает ребенку произвольные знаки для обозначения звуков, так как я обеспечил преимущество слуховому впечатлению перед зрительным, что по отношению к изучению звуков совершенно естественно. Кроме того, расположив в этой книге звуки в такой последовательности, я тем еще облегчил изучение этого отдела, что каждый следующий звук близок с предшествующим, благодаря величайшему сходству, и почти всегда отличается от него только прибавкой одной буквы. Таким образом, благодаря полному знанию слогов я перехожу к изучению слова в первой книге для чтения, в словаре, опять-таки в виде рядов, что вследствие очень большого сходства в их формах делает успех в обучении чтению легчайшей игрой, так как я составляю это слово посредством все новой и новой прибавки нескольких незнакомых слогов к прежним хорошо усвоенным и быстро произносимым слогам. При этом «Книга матерей» полагает как основу обучения речи и уяснения слов, которые ребенок должен произносить, самое разностороннее наблюдение.
Громадный круг знаний, почерпаемых из наблюдения, круг, с которым природа знакомит ребенка в самом раннем возрасте, расположен в этой книге и сконцентрирован согласно с требованиями психологии, и великий закон природы, по которому эта последняя всегда сильнее вкореняет в понятие ребенка что-либо близкое, нежели отдаленное, приводится здесь в связь со столь важным для обучения принципом: стремиться к тому, чтобы сущность вещей производила на детей более сильное впечатление, чем их переменчивые свойства. Громадная область языка и познаний, почерпаемых из наблюдений, сделана в этой книге легко обозримой для ребенка благодаря концентрации и психологическому расположению предметов; только отдельные предметы в природе бесчисленны, существенные же различия их невелики, потому и предметы могут быть сделаны легко доступными ребенку для обозрения, если распределены сообразно с этими особенностями.
Этим-то принципам я и подчиняю собственно учение о языке. Моя грамматика есть нечто иное, как ряд способов, долженствующих дать ребенку возможность точно выражать всякие числовые и временные отношения какого-либо предмета, ставшего ему известным из наблюдений, раз он может определенно выразить одно какое-либо числовое или временно́е его отношение. С этой целью я пользовался даже искусством письма, поскольку и на него можно смотреть как на учение о языке, и вообще старался употребить для этой цели все средства, данные мне природой и опытом для уяснения понятий. Эмпирический путь, которого я в этом случае придерживался, преимущественно показывал мне, что наше монашеское обучение, благодаря пренебрежению психологией, не только удаляет нас по всем отделам от этой последней цели обучения, но еще и содействует лишению нас тех средств, которые сама природа без помощи искусства предлагает нам для уяснения наших понятий и, благодаря нашей внутренней порче, делает для нас невозможным пользование этими средствами.
Цель, со знанием психологии и по законам физического механизма, доводит человека до ясных понятий и до последнего способа приобретать их, до определений, требует целого ряда (собственно, предшествующего этому последнему способу) всевозможных картин видимого мира, в которых совершается постепенный переход от наблюдения над отдельными предметами к их наименованию, от наименования к определению их качеств, т. е. к способности описать их, и от этой способности к умению уяснить или определить их. Разумное руководство при наблюдениях есть, стало быть, тот исходный пункт, на котором должен основываться этот ряд способов достигнуть определенных понятий, и ясно, что окончательное созревание цели всякого обучения, очевидность каждого понятия также существенно зависят от полной силы первого его ростка.
Если в обширной области всесозидающей природы какой-либо предмет развился, будучи несовершенным в своем зародыше, в таком случае и сама природа теряет свою способность довести его до совершенства при помощи постепенного созревания. Все, что несовершенно в ростке, все это явится изуродованным при возрастании, т. е. при внешнем развитии его частей; это так же истинно относительно произведений твоего ума, как и относительно произведений твоих гряд; это так же справедливо относительно результатов каждого отдельного понятия, полученного путем наблюдения, как и относительно известного состояния какого-либо выросшего кочана капусты.
Самое лучшее средство оградить человеческое развитие от беспорядочности, несовершенства и поверхностности, основывается, следовательно, главным образом на старании сделать для ребенка насколько можно более определенными, правильными и обширными первоначальные впечатления от главных предметов нашего познания, полученные при первом же наблюдении над ними. Уже начиная с колыбели младенца следует вырывать из рук слепой природы руководство над человеческим родом и передавать его в руки лучшей силы, получать которую нас научил тысячелетний опыт, касающийся сущности ее вечных законов.
Ты должен тщательно отличать законы природы от ее дела, т. е. от отдельных действий и представлений этих действий; что касается до законов, то в этом отношении природа есть вечная истина и всегдашнее руководство к достижению всякой истины; что же касается до тех изменений, при которых совершается применение ее законов к каждому индивидууму и к каждому индивидуальному случаю, то ее брошенная истина недостаточна для человечества и его не удовлетворяет. Реальная правда положения и обстоятельств каждого отдельного лица и каждого частного случая также имеет притязание, в силу одинаковых, вечных законов, на право быть необходимой, как и общие законы самой человеческой природы; следовательно, надо привести в согласие притязание и тех и других законов на необходимость, если они должны производить удовлетворительное действие на человечество. Забота об этом единении существенно важна для человеческого рода. Случайное, самым своим существованием и по своим последствиям, так же необходимо, как и вечное и неизменное, но самое существование случайного и следствия, неизбежно вытекающие из этого последнего, следует с помощью свободы человеческой воли привести в связь с тем, что есть вечного и неизменного в человеческой природе, и со всеми ее требованиями.
Физическая природа, от которой исходят безусловные законы самого существования и следствий всего случайного, по-видимому, посвящена лишь заботе о целом и сама по себе не печется об индивидууме и индивидуальном случае, которые определяются ею, благодаря ее внешнему воздействию. С этой стороны, она, собственно говоря, слепа, и в качестве таковой не согласуется, не старается согласоваться и не может быть в согласии со зрячей, духовной и нравственной природой человека; напротив, только сама духовная и нравственная природа в состоянии быть в согласии с физической – она может и обязана это сделать. Поэтому законы нашей материальной стороны, вследствие существенных требований самой нашей природы, должны быть подчинены законам нашей нравственной и умственной жизни. Без этого подчинения нашей материальной природы невозможно настоящим образом содействовать появлению окончательных результатов нашего развития, появлению человечности. Человек становится человеком благодаря своей духовной жизни, только так он становится самостоятельным, свободным и довольным. Физическая природа не так далеко и не туда ведет его; она слепа по самой своей сущности; ее пути суть пути мрака и смерти; поэтому развитие человеческого рода и руководство над ним следует вырвать из рук слепой, материальной природы и из-под влияния мрака и смерти; наоборот, их следует поручить нашей нравственной и духовной сущности, ее божественному, вечному внутреннему свету и ее божественной, вечной внутренней правде.
Все, все, что ты когда-либо беззаботно поручаешь внешней, слепой природе, все погибает. Это справедливо как в отношении неодушевленной, материальной природы, так и в отношении одушевленной. Если ты беззаботно поручаешь землю природе, то она приносит сорную траву и чертополох, а если ты предоставляешь ей развитие человеческого рода, то она приводит его только к путанице в наблюдениях, которые ни в отношении твоего, ни в отношении детского понимания вовсе не так производятся, как это требуется для первоначального обучения. Для того чтобы надежным способом привести ребенка к правильному и полному знакомству с каким-нибудь деревом или вообще растением, в общем, не есть самый лучший способ пустить ребенка без дальнейшей заботы в лес или на луг, где вместе растут всякого рода деревья и растения. Ни деревья, ни травы не попадаются ему на глаза таким образом, чтобы наглядно представить ему сущность каждого вида и первым же впечатлением от предмета подготовить его к общему понятию о целом отделе. Для того чтобы кратчайшим путем вести своего ребенка к цели обучения, к ясным понятиям, ты должен с величайшей заботливостью представить ему в каждом отделе знания сперва такие предметы, которые видимо и преимущественно имеют в себе существеннейшие признаки того отдела, к которому принадлежит этот предмет, и потому в особенности годятся для того, чтобы сущность предмета бросалась в глаза ребенку, в отличие от его изменчивых качеств; если же ты упустишь это из виду, то заставишь ребенка, при первом взгляде на предмет, смотреть на изменчивые свойства его как на существенные и таким образом принудишь его, по крайней мере, запоздать в познании истины и бросить кратчайший путь, которым в каждом отделе можно перейти от неясных наблюдений к определенным понятиям.
Если же ты избежишь этой ошибки в своем способе обучения и последовательность, в которой все предметы по всем отделам обучения будут представлены ребенку для наблюдения, с самого начала будет такова, что впечатление, производимое сущностью каждого предмета, при первых же наблюдениях над ним станет преобладать над впечатлением, производимым его качествами, то ребенок уже с этого первого впечатления научится подчинять сущности предмета то, что в нем есть изменчивого, и, несомненно, пойдет по верному пути, на котором с каждым днем будет развиваться его способность связывать понимание всех случайных качеств предметов с глубоким знанием сущности последних и их внутренней правды, и, таким образом ребенок будет читать во всей природе как в открытой книге. Как предоставленный самому себе ребенок неразумно смотрит на мир и, благодаря путанице, происходящей от случайно приобретенных обрывков знаний, ежедневно переходит от заблуждения к заблуждению, так, наоборот. ребенок, которого с колыбели ведут тем путем, ежедневно восходит от одной истины к другой. Все существующее или, по крайней мере, все пережитое им на опыте ясно связывается друг с другом при помощи его чистой и великой духовной силы, и в силу этого у него не бывает ошибки в самом основании его взглядов. Первые причины заблуждения и в характере его взглядов, и в нем самом устранены. В его душе не развивается искусственно и методически склонность к какому-либо заблуждению, и nihil admirari[13], которое в настоящее время является только как притязание искалеченной старости, станет, благодаря этому руководству, достоянием невинности и юности; достижение последней цели обучения, ясных понятий – все равно, приводят ли они нас к убеждению, что мы ничего не знаем, или к тому, что мы знаем все, – становится безусловно осуществимым, если только ребенок этого добивается и у него есть человеческие способности. Для того чтобы добиться этой высокой цели, чтобы организовать и обеспечить средства к достижению этого и особенно чтобы в полном объеме и вполне определенно выставить первые впечатления, полученные от наблюдения над материальными предметами (что существенно необходимо для того, чтобы на этой основе утвердить безупречный, предохраняющий от заблуждений и укрепляющий истину ряд наших познавательных средств), я обратил внимание, особенно в «Книге матерей», на крайнюю необходимость этой цели. И мне это удалось, друг, я настолько сумел укрепить этой книгой природную познавательную способность своих чувств, что дети, руководимые на основании этой книги, отвергнут всякую книгу и в природе и во всем, их окружающем, найдут лучшее руководство к достижению моей цели, нежели все те, которые я им дал.
Друг! Книга еще не существует, а я вижу уже ее исчезновение благодаря ее же воздействию. <…>
Письмо тринадцатое
Друг! Как я сказал, меня теперь завело бы слишком далеко, если бы я вошел в подробное изложение принципов и мероприятий, на которых основывается развитие самых существенных жизненных навыков; но мне не хочется кончить своих писем, не коснувшись заключительного камня моей системы, именно вопроса: в какой связи находится сущность Богопочитания с принципами, которые вообще признаны мною истинными по отношению к развитию человеческого рода?
И в этом отношении я ищу разрешения своей задачи в себе самом и спрашиваю себя: как зарождается в моей душе понятие о Боге? Как происходит то, что я верую в Бога, обращаюсь к нему и чувствую себя святым, если люблю его, надеюсь на него, благодарю его и следую ему?
Я скоро замечаю, что чувства любви, надежды, благодарности и способность послушания должны развиваться во мне раньше, чем я могу применить их в отношении к Богу. Я должен любить людей, должен доверять людям, благодарить людей, слушаться людей, прежде чем возвысится до любви к Богу, до благодарности, до упования и до послушания ему: ибо кто не любит своего брата, которого он видит, как будет он любить Отца своего небесного, которого не видит?
Итак, я спрашиваю себя: как я дохожу до любви к людям, до упования, до благодарности, до послушания им? Как являются во мне чувства, на которых, в сущности, основывается любовь, благодарность и доверие к людям, и способности, посредством которых развивается человеческое послушание? И нахожу, что главным образом они исходят из отношения малого ребенка к его матери.
Мать должна, она иначе не может, она будет вынуждена к этому силой простого чувственного инстинкта, – ухаживать за ребенком, кормить его, беречь и утешать. Делая это, она удовлетворяет своим потребностям. Она устраняет от него что ему неприятно, она помогает ему в его беспомощности – ребенок получает уход и утешение, в нем развивается зародыш любви.
Теперь пред его глазами находится предмет, никогда еще им не виданный, он удивляется, боится, плачет; мать крепче прижимает его к груди, она забавляет его и развлекает, плач его прекращается, но глаза его долго еще остаются влажными; предмет снова появляется – мать снова берет его на оберегающие его руки и снова улыбается ему, и теперь он больше не плачет, он отвечает на улыбку матери ясным, незатуманенным взором, в это время в нем развивается зародыш доверия.
При всяком требовании с его стороны мать спешит к его колыбели: она там, когда он голоден, она напоила его в минуту жажды; когда он заслышит ее шаги, он умолкает; когда он видит ее, то протягивает к ней руки; его взор блестит, когда он у ее груди, он сыт; «мать» и «быть сытым» для него синонимы, он благодарит.
Зародыши любви, доверия, благодарности скоро увеличиваются. Ребенок знает шаги матери, он улыбается ее тени; кто похож на нее, того он любит; существо, похожее на мать, для него доброе существо. Он улыбается образу своей матери, он улыбается человеческому образу; кто любезен матери, тот любезен и ему; кто падает в объятия матери, и он падает к тому в объятия, кто целует мать, того и он целует. Зародыши любви к людям, зародыши братской любви развиваются в нем.
Послушание в своем источнике есть способность, мотивы которой противодействуют первым склонностям физической природы. Его развитие основывается на искусстве. Оно не есть простое следствие чистого инстинкта, а только тесно связано с ним. Первое его развитие вполне инстинктивно. Как любви предшествует потребность, благодарности – исполнение просьбы, доверию – заботливость, так и послушанию предшествует бурное желание. Ребенок кричит, пока ожидает, он нетерпелив, прежде чем станет послушен; терпение развивается прежде послушания; он становится послушным, собственно, лишь благодаря терпению; первые проявления этой добродетели исключительно пассивны, они проявляются главным образом вследствие сознания суровой нужды. Но и это прежде всего развивается на лоне матери – ребенок должен ждать, пока она не откроет ему своей груди, он должен ждать, пока она не даст ее ему. Позднее развивается в нем активное послушание, а еще позднее действительное сознание, что для него хорошо слушаться матери.
Развитие человеческого рода исходит из сильного, мощного стремления к удовлетворению материальных потребностей. Грудь матери утешает первую бурю материальных желаний и порождает любовь; вскоре после этого развивается страх; рука матери утишает страх; этот способ действия порождает соединение чувств любви и доверия и развивает первые зародыши благодарности.
Природа высказывает себя жесткой в отношении бушующего ребенка – он ушибается о дерево и камень, природа остается непреклонной – он беснуется и кричит, он привыкает подчинять свою волю ее воле – первые зародыши терпения, первые зародыши послушания развиты.
Соединенные, послушание и любовь, благодарность и доверие развивают первый зародыш совести, первую легкую тень чувства, что несправедливо бушевать против любящей матери; первую легкую тень чувства, что мать существует на свете не ради одного его; первую тень сознания, что не все существует в свете лишь ради него; а вместе с этим развивается еще и другое чувство, что и он сам живет на свете не ради одного себя, – первая тень долга и права начинает проявляться.
Вот первые черты нравственного саморазвития, которое порождается естественными отношениями между ребенком и его матерью. Но в них в полном объеме заключается главный материальный зародыш того настроения, которое свойственно человеческой привязанности к виновнику своего бытия; т. е. зародыш всякого чувства преданности Богу через посредство веры есть, в сущности, тот же зародыш, который породил привязанность младенца к его матери. И способ развития этих чувств в обоих случаях один и тот же.
В обоих случаях младенец слышит – верит и слушается, но он не знает в это время, ни чему он верит, ни что делает. Между тем первые причины его веры и его тогдашних поступков скоро начинают исчезать. Развивающаяся собственная сила заставляет теперь ребенка бросать руку матери, он начинает сам сознавать себя, и в его груди развивается спокойная мысль: я больше не нуждаюсь в матери. Эта последняя читает в его глазах развивающуюся мысль, она крепче прижимает к сердцу своего любимца и говорит ему голосом, который он еще никогда не слыхал: дитя! если во мне ты больше не нуждаешься, то нуждаешься в Боге; Бог возьмет тебя в свои руки, если я больше не в состоянии тебя защищать, Бог приготовит для тебя счастье и радость, если я не в состоянии больше приготовить тебе их, – тогда начинает в груди ребенка бушевать нечто невыразимое, в груди ребенка поднимается нечто святое, некая склонность к вере, которая возвышает его над самим собою; он чувствует радость при имени Бога, когда мать произносит его. Чувства любви, благодарности, доверия, которые развились в нем у ее груди, расширяются, и с этих пор обнимают Бога, как отца и мать. Способность послушания получает более широкое поприще – ребенок, начинающий теперь верить в Всевидящее Око Божие, как прежде верил взору матери, поступает справедливо ради Бога, как до сих пор поступал справедливо ради матери.
При этом первом опыте со стороны материнской чистоты и материнского сердца соединить при помощи склонности к вере в Бога первое ощущение собственной силы с только что развившимся чувством нравственности открываются основные черты, на которые обучение и воспитание непременно должны обратить внимание, если хотят наверно достигнуть нашего усовершенствования.
Подобно тому как первый зародыш любви, благодарности, доверия и послушания был простым следствием совпадения инстинктивных чувств матери и ребенка, так и теперь дальнейшее развитие этих зародившихся чувств заключается в высоком человеческом искусстве, но в искусстве, нити которого тотчас же упадут из твоих рук, если ты хоть на мгновенье упустишь из вида начальные пункты, от которых исходит их тонкая ткань; опасность от этой потери велика для твоего ребенка и рано наступает; он лепечет имя матери, он любит, он благодарит, он верит, он слушается. Он лепечет имя Божие, он любит, благодарит, верит, слушается. Но мотивы благодарности, любви, веры исчезают при первом же появлении – он больше не нуждается в матери; мир, окружающий его теперь, взывает к нему со всей ласкающей чувства прелестью своих новых явлений: теперь ты мой.
Ребенок слушает голос новых явлений, он должен слушать. Инстинкт младенца в нем погас, место этого инстинкта занимает инстинкт растущих сил, и зародыш нравственности, поскольку он исходит из чувств, свойственных младенцу, внезапно глохнет и должен заглохнуть, если в это мгновенье никто не свяжет первое биение высших чувств его нравственной природы, как жизненную нить, с золотым веретеном творения. Мать, мать! свет начинает теперь отделять ребенка от твоего сердца, и если в это мгновенье никто не свяжет ему чувства его благородной натуры с новым явлением, с материальным миром, то все кончено. Мать, мать! Твой ребенок оторван от твоего сердца; новый мир становится для него Богом. Материальные наслаждения становятся для него Богом. Собственная сила становится для него Богом.
Мать, мать! Он потерял тебя, Бога и самого себя, светильник любви погас в нем; в нем нет более Бога, зародыш самоуважения умер в нем; он идет навстречу гибельному стремлению к материальным наслаждениям.
Человечество! Человечество! Здесь, при переходе от исчезающих младенческих чувств к первому ощущению прелести мира, независимой от матери; здесь, когда почва, на которой вырастают благороднейшие чувства нашей природы, впервые начинает колебаться под ногами ребенка; когда мать перестает быть для своего ребенка тем, чем была прежде, и, наоборот, в нем развивается зародыш доверия к новому явлению, к миру, и увлечение этим новым явлением начинает уничтожать и поглощать доверие к матери, которая теперь для него не то, чем была прежде, а вместе с этим уничтожает веру в невидимого и неведомого Бога, подобно тому как грубая ткань жестких, сильно переплетающихся корней сорных трав уничтожает и поглощает более тонкую ткань корней более благородных растений. Человечество, человечество! В это время разделения чувств доверия к матери и к Богу и чувств доверия к новому явлению, к миру и ко всему, что в нем есть: тут, на распутье тебе следовало бы пустить в ход все свое искусство и всю свою силу, чтобы сохранить в ребенке в чистоте чувства благодарности, любви, доверия и послушания.
Бог в этих чувствах, и вся сила твоей нравственной жизни тесно связана с их сохранением.
Человечество! Твое искусство должно прилагать все старания, чтобы при бездействии физических причин, порождающих чувства у младенца, иметь под рукой новые средства к их оживлению, и прелесть нового явления, мира, не иначе представить своему подрастающему ребенку, как в связи с этим чувством.
Вот когда ты должен впервые не вверять его природе, а все делать для того, чтобы вырвать руководство им из ее слепых рук и предоставить влияние на него тем мероприятиям и силам, которые даны опытом тысячелетий. Мир, являющийся теперь пред глазами ребенка, не первое творение Бога, он есть мир, одинаково пагубный и для чистоты материальных наслаждений ребенка, и для духовных чувств, мир полный борьбы из-за эгоистических побуждений, полный противоречий, насилия, притязательности, обмана.
Не первое творение Бога, а этот мир привлекает твоего ребенка в ту пучину водоворота, в глубине которого живут ненависть и нравственная смерть. Не Божье творение, а насилие и собственную порчу представляет этот мир твоему ребенку.
Бедный ребенок! Твоя комната есть твой мир, но твой отец привязан к своей мастерской, у твоей матери сегодня – досада, завтра – гости, послезавтра – капризы; тебе скучно; ты спрашиваешь, твоя служанка не отвечает тебе; тебе хочется на улицу, ты не смеешь; теперь ты споришь с сестрой из-за игрушки – бедный ребенок! Что за злосчастная, бессердечная, губящая сердце вещь твой мир; но он для тебя нечто большее, когда ты прогуливаешься в раззолоченном экипаже под тенью деревьев; твоя руководительница обманывает твою мать, ты меньше страдаешь, но ты становишься хуже всех страдающих. Что ты приобрел? Твой мир еще более в тягость, чем всем страдающим.
Этот мир так убаюкан в порче, в этом следствии его неестественного искусства и неестественного насилия, что более не имеет понятия о средствах сохранить чистоту сердца в груди человека, и, напротив, совершенно оставляет без внимания человеческую невинность в самый опасный момент, как бессердечная мачеха своего пасынка, и эта беспечность в сотне случаев против одного имеет и должна иметь решающее значение в деле крушения главной цели человеческого усовершенствования, потому что новое явление, мир, ставится в это время пред глазами ребенка без всякого противовеса односторонним и односторонне-возбуждающим чувственным впечатлениям, получаемым от него, и, таким образом, его увещание, и благодаря своей односторонности, и своей живости, получает у ребенка решительный перевес над впечатлением, производимым опытом и чувствами, которые лежат в основе умственного и нравственного развития человеческого рода. Вследствие этого, с этих пор эгоизм и порча ребенка получают такое великое и сильное развитие; в то же время душевное настроение, на материальной основе которого утверждены главнейшие его способности к нравственности и просвещению, также погибает, сами по себе узкие ворота его нравственности, так сказать, загромождаются, и вся его физическая природа должна принять такое направление, которое отделяет путь разума от пути любви, развитие ума от склонности к вере в Бога, делает более или менее тонкий эгоизм единственным мотивом для применения его силы и вследствие этого направляет к его погибели последствия его развития.
Непонятно, как люди не знают этих общих источников своей порчи; непонятно, почему общей целью их искусства не является стремление уничтожать их и подчинить воспитание человеческого рода принципам, которые должны не разрушать дело Божие, развивающее уже у младенцев чувства любви, благодарности и доверия, а содействовать в этот опасный момент большему развитию самим Богом данных нам средств к соединению воедино нашего умственного и нравственного совершенствования; содействовать также согласованию обучения и воспитания, с одной стороны, с законами физического механизма, на основании которых наш ум переходит от неясных наблюдений к ясным понятиям, с другой – с внутренними чувствами, с помощью которых постепенное развитие возвышается до признания и уважения нравственного закона. Непонятно, как люди не возвысятся до того, чтобы открыть непрерывный ряд всех способов к развитию ума и чувства, главной целью которых должно быть следующее: преимущества, даваемые обучением и его механизмом, основывать на сохранении нравственного совершенства; путем сохранения душевной чистоты предохранять эгоизм разума от его односторонних пагубных заблуждений и вообще подчинять чувственные впечатления убеждению, вожделения – благорасположению и благорасположение – исправленной воле.
Причины, требующие этого подчинения, глубоко заключены в моей природе. По мере того как развиваются мои материальные силы, их преобладание снова должно исчезнуть вследствие существенных требований моего совершенствования, т. е. должно наступить их подчинение высшему закону. Но и каждая ступень моего развития также должна быть закончена, прежде чем может наступить необходимость подчинения ее высшим целям, и это подчинение законченного еще незаконченному прежде всего требует чистого усвоения первоначальных пунктов всякого знания и самой определенной непрерывности в переходах от этих начал к последней цели, которой надо достигнуть. Но первый закон этой непрерывности следующий: первое обучение ребенка никогда не бывает делом головы, никогда не бывает делом разума – оно всегда бывает делом чувств, делом сердца, делом матери.
Второй после этого закон следующий: человеческое обучение лишь постепенно переходит от упражнения чувств к упражнению мышления, оно долго остается делом сердца, прежде чем станет делом разума, оно долго остается делом женщины, прежде чем начнет обращаться в дело мужчины.
Что мне еще сказать? Этими словами вечные законы самой природы снова приводят меня к твоему руководству, о, мать! Я лишь около тебя могу сохранить свою невинность, свою любовь, свое послушание, лишь около тебя могу я сохранить все, все преимущества моей благородной натуры при новых впечатлениях, полученных от мира.
Мать! Мать! Если есть еще у тебя рука, если есть еще у тебя сердце для меня, то не дай мне уклониться от тебя, и если никто не познакомил тебя с миром, как я должен был познакомиться с ним, то приди, мы вместе познакомимся с ним. Мать, мать! В то мгновение, в которое, благодаря новому явлению – миру, я подвергаюсь опасности удалиться от тебя, от Бога и от самого себя, не будем разлучаться. Мать, мать! Сохранив свое сердце для меня, освяти мне переход от твоего сердца к этому миру.
Дорогой друг! Надо замолчать, я взволнован, я вижу слезы на твоих глазах. Прощай!
О значении чувства слуха в связи с использованием звука и языка в обучении
Чувство слуха так же, как и каждое из пяти чувств, является животным чувством и по своему существу не отличается от остальных. Человек слышит, не проявляя для этого никакой активности, так же как он не проявляет никакой активности для того, чтобы видеть, чувствовать вкус, обонять и осязать. Природа воздействует на это чувство таким же образом, как и на остальные, делает для развития его столько же, сколько для развития остальных. Так же, как она показывает глазам человека предметы, которые вызывают зрительные ощущения, и представляет осязаемые предметы, чтобы человек мог их осязать, она находит для ушей человека предметы, воздействующие на слух. Природа, у которой никогда не бывает недостатка в материнской любви к человеческому роду, делает для развития слуха, как и для развития остальных чувств, гораздо больше, чем все, что может сделать в этом отношении человеческое искусство. То, что справедливо в отношении остальных чувств, справедливо и в отношении слуха; если путем искусства мы не сумеем сохранить в ребенке, усилить и развить для наилучшего использования, что дала ему природа, то тем самым все наши искусные попытки воспитательного воздействия на ребенка через слух лишаются реального фундамента, который необходим искусству также и в области слуха. Это имеет бесконечно большее значение, чем все остальное, в первую очередь потому, что природа во всем, что она делает для развития человека, воздействует на весь комплекс задатков и сил человеческой натуры, т. е. на весь в целом его интеллект, на все его чувства, на комплекс его физических сил. Следовательно, каждым своим шагом она приводит к гармонии ума, чувства и действий рук человеческих, и ни в одной из этих сфер она не действует с той односторонностью и узостью, к которым скатывается всякое человеческое искусство в момент, когда сходит с пути природы, дерзко пытается сорваться с крепкого поводка, на котором природа ведет род человеческий.
Способ же, которым природа подводит к ушам ребенка предметы, воздействующие на слух, заключается в том, что средоточие бытия ребенка, он сам и его ближайшее окружение, является тем, что при помощи слуха и всех остальных чувств в первую очередь доходит до его сознания. Природа, которая повсеместно установила этот неизменный исходный пункт своего влияния, исходит из него также и в отношении данного чувства. И здесь она следует великому закону, по которому через все чувства воздействует на развитие наших задатков и сил. Исходя из общего, центрального пункта своего влияния, природа далее всегда влияет на человеческую натуру, словно камень, упавший в стоячую воду, распространяет свое воздействие начиная с центрального пункта падения, затем оно равномерно постепенно расширяется по кругу все дальше вплоть до бесконечности, т. е. до незаметного исчезновения линии окружности в крайних пределах водоема.
Первым до слуха ребенка доходит его собственный голос и твой голос, мать. Он слышит твой голос как следствие своего голоса. Он кричит, и ты отвечаешь; он слышит голос отца и голоса членов семьи; он слышит звук, который испускает птица, поющая в комнате, звук, который производит кошка, мяукающая под столом, собака, лающая за дверью, корова, мычащая в стойле; звуки, которые производят двери комнаты, когда они открываются и закрываются. Однако все эти впечатления в тот момент, когда они впервые через слух доходят до сознания ребенка, представляют для него лишь звуки, о которых он ничего не знает – ни их причины, ни причины их различия. Но время это скоро проходит. Ребенок постепенно учится устанавливать связь звуков с их причиной; и это происходит в том же порядке, в котором они доходили до его сознания.
Первое ощущение связи звука с предметом, который его произвел, – это ощущение связи твоего голоса с тобой, мать! Дитя начинает признавать твой голос твоим, прежде чем оно научится различать таким образом на слух что-либо другое. Таким образом, ты являешься для своего ребенка вообще исходным пунктом восприятия всех чувственных впечатлений, а следовательно, и тех, которые дошли до его сознания через слух; ты являешься тем первым и чистым средством, которое использует природа в великой задаче развития твоего ребенка.
Мать! Познай свое высокое назначение! Познай себя как посредницу между природой и ребенком. Пусть развитие всех его пяти чувств происходит под твоим заботливым руководством[14], способность к которому вложена в тебя самим Богом. Судьба твоего ребенка, по Божьему установлению, зависит от того, как ты используешь эту способность. Твое поведение при руководстве его первыми впечатлениями, которые доходят до его сознания через его пять чувств, решает, получит ли ребенок правильное первоначальное направление в развитии ума и чувств или же с самого начала окажется запущенным. От тебя зависит, успокоят ли, развеселят и возвысят твоего ребенка первые чувства, возникающие в его сердце, первые начатки внимания и возникающие отсюда умственные навыки или они его смутят, унизят, растревожат и искалечат. Все это, вследствие того положения, которое ты, согласно Божьему произволению, занимаешь по отношению к ребенку, находится в твоих руках.
Я обращаюсь к матерям, которые понимают свое положение в отношении ребенка.
Мать, к которой я обращаюсь! Весь успех моего метода зависит от того, проникнешься ли ты священным чувством своего положения или нет. Мать! Мать! Не допускай колебаний в своем решении!
Мать, к которой я обращаюсь! Как только твой ребенок научится связывать твой голос с тобой самой, круг его познаний того же рода начинает все более расширяться: он постепенно начинает понимать связь птичьего пения с птицей, лая – с собакой, жужжания – с веретеном; короче говоря, он начинает устанавливать связь всякого происходящего в кругу его чувственного опыта действия – шевеления, хождения, падения, стука и т. д. – с теми находящимися в пределах его опыта предметами, которые ходят, падают и стучат. Он смотрит на дверной колокольчик, когда он звонит; на корову, когда та мычит; на дверь, когда в нее кто-нибудь стучит, и т. д. Осознание им звуков, их различий, причин этих различий все более расширяется. Он все лучше понимает связь между более сильными звуками и более сильными ударами, более слабыми звуками и более слабыми ударами и т. д. Точно так же он постепенно доходит до четкого понимания специфического сходства всех чирикающих, шуршащих, звенящих, свистящих, дребезжащих, воркующих и др., а также всех более высоких и более низких звуков; и так в нем развивается через чувство слуха общее понятие каждого типа звука как такового, т. е. того определенного и особенного, что присуще шуршанию, воркованию, разговору, пению, свисту и т. д. В тот же самый период через чувство зрения и опыт, который им дается, у ребенка складываются общие представления об особенности каждой формы, каждого цвета, каждого размера и т. д., а через чувство осязания – общее представление об определенности и своеобразии шершавости и гладкости, жесткости и мягкости, сухости и мокроты, тепла и холода. Природа обычно идет в развитии всех пяти чувств одним шагом. Вопрос заключается лишь в том, что может и должна добавить мать к тому, что делает природа. Я хотел бы это выразить кратко – самое себя.
Если неживая природа спокойно ждет, будут ли использованы ребенком впечатления, которые дает ему ее руководство, и когда это будет им сделано, то в матери инстинкт материнской любви будит беспокойство, вызывает нетерпение скорее и вернее достичь этой цели, а ее забота и искусство подсказывают ей нужные для этого средства. Таким образом, мать становится в буквальном смысле слова посредницей между природой и ребенком для более быстрого и верного достижения поставленных природой целей.
Своеобразие материнского обучения, несомненно, состоит в том, что вся его сущность и сила приспособляются к обстоятельствам и потребностям каждого данного ребенка. Почти каждый звук, который мать произносит перед ребенком и для него, она, несомненно, произнесла бы иначе, если бы она произносила его не около ребенка и не для него. Поэтому материнское преподавание вследствие своей тщательности самой природой отмечено как самое лучшее из возможных для развития разума ребенка.
То же относится и к воспитанию чувств ребенка. Милее твоего голоса для ребенка нет человеческого голоса; сердце его переполняется и любовь улыбается на его устах, как только ты заговоришь с ним. Ты для него все, потому что существует тесная связь между тем, что ты говоришь, и тем, что ты делаешь.
Лучше всего ты можешь воздействовать на его развитие, если ради ребенка становишься равной ему, сама превращаешься в ребенка. Подноси к своему ребенку вещи, которые производят звуки, или подноси к ним ребенка; звони перед ребенком своим колокольчиком – он любит этот звон; производи сама звуки: хлопай в ладоши, ударяй во что-нибудь, стучи, разговаривай, пой, – короче говоря, звучи для него, чтобы ребенок радовался, чтобы он к тебе привязался, чтобы тебя любил. Пусть слетающие с твоих губ звуки таят в себе для него высокое очарование; пусть благодаря своему голосу ты ему нравишься больше кого бы то ни было[15]. И не думай, что для этого тебе нужно какое-нибудь искусство; не думай, что для этого тебе нужно хотя бы уметь петь. Прелесть твоей речи, которая исходит у тебя от души, для образования твоего ребенка имеет несравненно большую ценность, чем любое искусство пения, в котором ты, во всяком случае, всегда уступишь соловью. Пой для него, если ты умеешь, подымай его до умения, где только возможно чувствовать гармонию и красоту, но знай, что во всем ты должна для ребенка значить больше, чем твое искусство. Хорошо развивать в ребенке чувство красоты и всяческой гармонии, но это чувство совершенствуется в нем только через тебя. Основа гармонии между ребенком и всем, что существует, покоится на гармонии между ним и тобой.
Мать, твой ребенок – человек; в отношении слуха благодаря твоему обучению и помощи он должен достичь большего, чем просто осознание звуков. Величайшая тонкость слуха в различении звуков и величайшее искусство в подражании им еще не развивают твоего ребенка в собственно человеческом смысле. Только обучение речи дает ему специфически человеческое развитие, или, вернее, только оно определяет момент, с которого образование человеческого рода, которое можно признать удовлетворительным, становится специфически человеческим.
Ребенок должен научиться узнавать и применять в качестве выражения своего самосознания и впечатлений своих органов чувств словесные знаки, которыми люди выражают осознанные ими результаты их внутреннего созерцания, а также впечатления, которые сознание получает от внешнего мира. Он должен научиться понимать не только связь между звоном колокола и самим колоколом, но и связь слова «колокол» с предметом, называемым колоколом, связь слова «звон» со звуком, называемым звоном.
Мать, природа ведет тебя к этой силе всем могуществом своего простого и принудительного воздействия (кроме случаев, когда ты должна не только уметь, но и желаешь применять эту силу свободно и самостоятельно). Тот самый инстинкт, который заставляет тебя произносить перед ребенком звуки лепета, чтобы развлечь его, заставляет тебя говорить перед ребенком, при нем, и, обращаясь к нему, вместе с ним выговаривать слова. А наши развитие, нужда, потребности и положение составляют основание, которое всей силой поддерживают твою склонность говорить перед младенцем, обращаться с речью к нему. Ты всегда находишься близко от него, он слышит все, что ты говоришь, даже то, что ты говоришь при нем, не имея при этом цели обращаться к нему.
Но в высшем свете не идут за нитью, проложенной природой. Светское [педагогическое] искусство, по-видимому, предполагает, что дети учатся говорить, как птицы чирикать. Оно упускает этот момент и, обучая детей, сообщает им вещи, о которых они еще не умеют говорить. При обучении детей светское искусство обучения запускает руку в море человеческого опыта, как в горшок с лотерейными билетами: среди сотни бессмысленностей и никчемностей, которые оно вытаскивает оттуда с большой надеждой, ему иногда удается вытянуть счастливый билет. Однако весь этот метод можно охарактеризовать так: это пустая растрата тех сил, которые стараются развить. Заставляют ребенка читать, прежде чем он выучится говорить; его заставляют разлагать слова на составные части, прежде чем он узнает, что эти слова обозначают; его принуждают, как попугая, повторять про себя и для учителя целые предложения на языке, которого он никогда не изучал и который является совсем не тем языком, на котором он ежедневно говорит.
Велика глупость человеческая. Люди создали великие искусства, чтобы лучше использовать свои силы; теперь путем применения этих средств они разрушают те самые силы, ради которых они изобрели эти искусства. Но средоточием наших ошибок и слабостей поистине является наше искусство обучения речи. Этот вопрос заслуживает более тщательного рассмотрения, и я беру на себя смелость более пристально исследовать источники этих заблуждений.
Письменный язык человечества возник, следовательно, в качестве пиктографического письма, затем перешел к иероглифическому письму и, наконец, к звуковому. Пиктографическое письмо являлось в отношении наших потребностей лишь очень ограниченным вспомогательным средством, иероглифическое же письмо явилось колоссальной силой, порожденной гигантским напряжением древнего мира. Однако односторонность и ограниченность, присущие этому гигантскому напряжению, должны были заковать человеческий дух в такие оковы, на возможность освобождения от которых он вряд ли мог рассчитывать в данном положении. И тем не менее это освобождение произошло. Его принесло звуковое письмо. Это письмо являлось единственно возможным средством сломать шею могучему чудовищу односторонности, которое наложило вечные оковы на духовное развитие человечества.
Слава этому великому изобретению! Но не ликуй, человечество, прежде чем ты не познаешь опасности, исходящие от односторонности и этого средства твоего образования, так же как и его преимущества. Не торжествуй, человечество, так как вследствие односторонности и этого средства ты подвергаешься опасности снова быть поглощенным и опрокинутым. Понимание звукового письма целиком базируется на произвольной оторванности от жизни, и в этой своей произвольности звуковое письмо может допускать бесконечно растяжимые толкования. Не ликуй, человечество, прежде чем ты не узнаешь новые опасности, которые тебе угрожают.
Я имею в виду, что нельзя себе представить чего-либо более отдаленного от внешней, образной связи языка со всем тем, что он выражает, чем звуковое письмо. Наиболее близким выражением живых впечатлений, которые предметы природы производят на людей, является пиктографическое письмо. Всей силой своей жизненности оно приковывало каждый произнесенный устами звук к предмету, который изображало. Иероглифическое письмо являлось уже ослаблением этой связи между впечатлениями от природы и их выражением; тем не менее каждое отдельное слово в иероглифическом письме было соединено крепкой цепью с предметом, который оно выражало. Звуковое письмо значительно больше, чем предыдущие виды письма, удаляет человечество от всякой живой связи между нашими представлениями и их выражением. Уже развитие языка как орудия искусства обучения подрывает живость отдельных впечатлений, получаемых людьми от природы, для которых словесное выражение своих впечатлений еще представляет трудности.
Мы не должны скрывать от себя, что, обладая этим искусством, человечество – такое, каково оно есть – легко утрачивает потребность в сохранении фундамента, из которого выросло это искусство. Мы не должны скрывать от себя, что, обладая искусством речи, мы особенно легко утрачиваем потребность в том, чтобы в основе всех словесных знаний обязательно лежало живое созерцание. Благодаря звуковому письму мы еще легче и в еще большей степени утрачиваем эту потребность. Поэтому мы либо должны отбросить это требование как ненужное, либо, напротив, мы должны признать, что, если мы хотим уберечь наше и будущие поколения от того, чтобы язык подчинил себе и поглотил естественные силы человеческой природы, мы сейчас больше, чем когда бы то ни было, должны бороться с этой опасностью. Направляя наши усилия в первую очередь на то, чтобы как можно раньше предупредить это зло, мы должны заботиться о том, чтобы сохранить в сознании детей живую связь между словами, обозначающими предметы, и их источниками. Мы не должны скрывать от себя, что только благодаря существованию этой связи возникли все воззрения человечества и развились его силы. Если эта связь утратится в сознании ребенка, то познания, сообщенные ему путем языка, утратят необходимый для них в сознании фундамент, а в результате этой утраты разрушатся и те духовные силы ребенка, благодаря наличию которых единственно только и вызваны к жизни и могут быть сохранены у человечества те воззрения, которые хотят привить ребенку. Исходя из истины, мы должны стараться привести в сознании ребенка звуки слова и обозначаемый ими предмет в то согласие, которое всегда является лишь результатом внутреннего или внешнего живого созерцания, которое мы выражаем словом.
При чтении и письме то согласие, которого мы таким образом пытаемся достичь в сознании ребенка, распространяется еще и на третий круг. При обучении в этом случае необходимо привести в соответствие предмет, звучание и воспринимаемый зрением знак этого звучания. Искусство обучения речи базируется, следовательно, на двух предпосылках:
● ребенок должен четко представлять себе предмет, о котором он хочет говорить, поскольку он хочет о нем говорить;
● он должен хорошо знать и произносить звуки, которые выражают его представления об этом предмете.
А так как чтение и письмо являются лишь расширением силы речи при помощи зрения и движения руки, то очевидно, что для того, чтобы научиться удовлетворительно читать и писать, необходимы те же самые условия, которые важны, чтобы научиться хорошо говорить. К этому, однако, присоединяется в таком случае еще требование: для того, чтобы каждый изображенный звук легко мог быть прочитан глазом, необходимо, чтобы ребенок точно знал, какие для этого употребляются знаки.
Через сознание формы этих обозначающих звуки знаков ребенок научится читать, а путем приобретения навыка изображать подобные им знаки рукой он научится писать.
Для того чтобы сделать упражнения в речи, чтении и письме упражнениями для развития разума, следует, согласно вышеуказанным положениям, приучать детей при каждом из этих упражнений правильно отличать предмет от звуков обозначающего его слова, а звуки слова, изображающего предмет, от тех знаков, которыми эти звуки передаются, чтобы они могли быть восприняты зрением.
Дети должны научиться четко понимать эти различия и уметь в каждом отдельном случае безошибочно и быстро ответить сами себе на вопросы: что именно я хочу обозначить словом? Как звучит слово, которым я хочу обозначить этот предмет? Какого рода письменными знаками я могу изобразить для глаза звуки слова, обозначающего эту вещь? Только таким способом возможно поднять обучение речи, чтению и письму до уровня упражнений для развития разума, а именно использовать звучащее и написанное слово в качестве средства развития понятий у ребенка и одновременно следить за тем, чтобы вес самого слова в сознании ребенка не оказался большим, чем это требуется, чтобы сам предмет, обозначаемый устным и письменным словом, сохранялся в сознании ребенка живым и полновесным.
Мать! Я сказал здесь много такого, что, собственно говоря, сюда не относится. Я снова возвращаюсь к более простым рассуждениям.
Сила, нужная для того, чтобы превратить обучение речи, чтению и письму в упражнения для разума, так же, как и все силы, необходимые для развития твоего ребенка, в основном исходит от тебя. Исходные пункты его воспитания в общем имеют лишь чувственный характер; внимание, которое ты вначале уделяешь своему младенцу, пока еще исходит только из животного начала твоей природы. Как и всякое другое млекопитающее, ты его вскармливала; чувственное наслаждение, которое ты испытываешь при таком обслуживании своего ребенка, испытывает и каждое животное. До сих пор природа заботилась о том, чтобы ты удовлетворяла животные потребности ребенка; теперь ты должна позаботиться о том, чтобы и человеческое воспитание он получил также через тебя.
В результате имевшего до сих пор место одностороннего чувственного ухода за твоим ребенком он получил через свои пять органов чувств бесконечное количество впечатлений, которые и сейчас еще сохраняются в нем, как они могут и должны сохраняться в каждом другом животном, имеющем пять чувств. Первые результаты новых впечатлений, которые мир производит на ребенка, имеют исключительно животный характер, однако и при их животной сущности ими можно руководить, можно добиваться более раннего и правильного их созревания, чем когда действует лишь одна, сама себе предоставленная природа. Для этого ты должна помочь своему ребенку, мать!
Эти впечатления недифференцированно воздействуют на органы чувств твоего младенца. То, что находится у него перед глазами, воспринимается им как нечто целое; даже боль воспринимается им как воздействие на все его существо. Он не знает, где ему больно; он не может различить дерево даже от земли, в которой оно растет. Он воспринимает дерево только как целое. Умение воспринимать его отдельно от земли, как состоящее из частей (корней, ствола, ветвей и побегов, коры, древесины, сердцевины, листьев), воспринимать дерево во всех свойствах – как дающий побеги росток, развивающееся деревцо, как молодое или старое, как покрытое листвой, цветущее, плодоносящее или лишенное листвы, засохшее, – это умение является результатом опыта, правда еще чувственного, животного опыта. Но так как этот опыт даже у ребенка младенческого возраста в полном своем объеме поддерживается природой и ее силами, то возникающие на основе этого опыта понятия несут в себе семя человеческого восприятия всех вещей; и именно ты, мать, должна растить и лелеять этот росток человеческого восприятия всех вещей, развивающийся у твоего младенца из оболочки, носящей, правда, только еще животный характер.
Мать! Как маловероятно, чтобы семя, первые ростки которого заглушены гущей сорняка, парализованы или раздавлены, сможет дать в конце концов зрелые плоды, и даже искусство полеводства окажется бессильным сравнять развитие такого заглушенного при прорастании и искалеченного растения с крепким ростом неповрежденного и с самого начала хорошо ухоженного растения, – так же маловероятно, мать, чтобы твой ребенок без твоей помощи при начале развития его сил смог подняться до свободного могучего роста своих способностей, до которого ты можешь его поднять. Еще раз повторяю тебе, мать! Первоначальные восприятия твоего ребенка носят животный характер, но в них заложен росток всех человеческих восприятий; и от тебя зависит, утвердятся ли в нем эти животные восприятия или они спокойно и в неискаженном виде перейдут в человеческие.
Мать! Осознай свое положение по отношению к ребенку! Ты можешь руководить развитием чувственного, животного восприятия всех вещей у твоего ребенка, усиливать и ускорять его, как не может этого сделать природа без твоей помощи. И, делая это, ты одновременно развиваешь в нем человеческое восприятие тех самых вещей, которые природа предлагает для животного восприятия его органам чувств.
Средствами для осуществления этой цели являются твой язык и твоя любовь. Каждое чувственное впечатление, к которому примешивается впечатление от твоей любви, становится человеческим впечатлением. Каждое чувственное впечатление, которое определяется через язык, является человеческим впечатлением. То, что дерево называется деревом; то, что слова «корень», «ствол», «сук», «ветвь» и т. д. являются названиями, обозначающими части дерева; далее, то, что зеленое, голое, цветущее, засохшее – слова, обозначающие свойства дерева, – все это входит в человеческое восприятие дерева. И человечность этого восприятия удваивается благодаря той любви, с которой ты называешь и показываешь эти предметы ребенку.
Мать! Следуй тому пути, по которому ведет тебя при этом природа. Не предоставляй простому случаю решать, попадет ли твоему ребенку на глаза дерево, когда именно и что именно он сам в нем заметит. Покажи ему дерево; покажи ему все части дерева, которые ты знаешь; покажи ребенку его ствол, крупные и мелкие ветви, его цветы и плоды; покажи ему кору и древесину; покажи ему корень дерева в том месте, где он не прикрыт землей. Если же дерево срублено, распилено и расколото, то покажи ему и внутреннее строение дерева, вплоть до сердцевины. Покажи наряду с великанами-дубами и липами также и крошечный росток, появляющийся из их семени; покажи, как этот росток разворачивается, растет, становится деревцом, затем деревом, живущим в течение нескольких человеческих поколений. Покажи ему дерево, покрытое листьями; как распускаются на нем цветы, как эти цветы осыпаются и из них развиваются плоды, как они постепенно растут и постепенно созревают и затем, наконец, тоже отпадают; как после всего этого дерево теряет листья и переходит к зимнему состоянию покоя. Скажи ребенку, когда дерево стоит у него перед глазами, что все это вместе – корень, ствол и ветви – называется деревом. Скажи ему, что ствол называется стволом, ветви называются ветвями и т. д. Скажи ему, когда он видит дерево, покрытое листвой, что в таком виде дерево называется зеленым, а когда он видит дерево, лишенное листвы, оно в таком состоянии называется «голым».
Мать! Когда ты в жару стоишь с ребенком в тени дерева, скажи ему, что дерево своей тенью тебя теперь защищает от жары, а когда ждешь под сенью дерева защиты от дождя, скажи ребенку, что дерево на некоторое время задерживает падающие капли дождя и тем самым защищает от него. Научи ребенка словам «бросать тень» именно тогда, когда он находится в тени дерева; научи его словам «укрыться от дождя» как раз тогда, когда он действительно укрывается от дождя. Научи его говорить «груша вкусная», сочная, мучнистая, сладкая и т. д. в тот момент, когда ребенок ест грушу. Вложи в душу ребенка мысль о том, что плоды дерева услаждают человека, именно тогда, когда он действительно услаждается ими. Когда он видит, что лошадь, лань, заяц не едят того самого плода, который ему так нравится, внуши ему, что человек создан таким, чтобы он ел яблоки, так же как яблоко создано для того, чтобы человек его ел. И когда ребенок преисполнен к тебе любви и благодарности за то, что ты дала ему в руки сладкий плод дерева, в тот именно момент, когда он наслаждается сладостью плода, подыми своего ребенка к тому, кто еще до того, как существовало дерево, сказал ему: «Стань!». И скажи ему: «Он мой Отец, он твой Отец».
Мать! Учи таким образом своего ребенка говорить. Это тебе легко дается. Твоя любовь освещает тебе этот путь, как путеводная звезда. Твоя любовь дает тебе разум для всего, что ты должна делать на этом пути. И поэтому милостью Божией любовь и разум витают на этом пути над каждым опытом, который ты даешь своему ребенку и который проделываешь вместе с ним. Верь своей путеводной звезде, но относись с недоверием ко всему, что отвлекает тебя от простого пути соединения твоих сердца и ума, соединения любви и рассудка. Разум без воли не существует. Разум есть результат гармонического развития человеческих сил; и поскольку хоть одна из этих сил осталась неразвитой или развита неправильно, постольку человек неразумен. Однако свет настолько преклоняется перед идолами суетного знания и приносящей прибыль хитрости, что он уже не понимает разницы, которая реально существует в природе между этими идолами и невидимой, незаметной силой рассудка. А эта разница, несомненно, так же велика, как разница между правом на владение мешком золота работника, таскающего его для своего господина на голове или в руках, и правом его хозяина, отстраняющего от себя мучительный труд таскания тяжести, но мановением руки распоряжающегося ценностью груза.
Я резюмирую сказанное.
Внутренняя возможность помочь природе, чтобы как можно скорее очеловечить впечатления, которые производит на ребенка окружающий мир, то есть использовать их в качестве фундамента для тех восприятий, которые должны дать ребенку знания, и тех чувств, которые должны облагородить его, – эта внутренняя возможность дать людям истинно сообразное человеческой природе воспитание в основном базируется, во-первых, на развитии способности к наблюдению; во-вторых, на тесной связи наблюдения и языка; в-третьих, на связи того и другого – языка и наблюдения – с любовью.
Наблюдение, язык и любовь представляют из себя, таким образом, общий фундамент воспитания человечества.
Мать! Если ты являешься матерью и сама знаешь себя, то в этих трех моментах ты чувствуешь свою силу. Все те объекты наблюдения, от которых твоему ребенку важно получить законченные впечатления, находятся близко от него и от тебя – ты не смеешь, ты не должна делать никакие далекие предметы исходным пунктом какого-либо обучения твоего ребенка. Бог и природа назначили близкое, и только близкое, служить исходным пунктом, от которого должно начинаться всякое обучение твоего ребенка, и в качестве такого исходного пункта у тебя есть язык. Нужда заставила тебя пользоваться языком, и, какую бы малую помощь ни оказывало тебе искусство, чтобы ты могла расширить свою силу дальше того, на что побудили тебя нужда и потребность, ты все же имеешь в своем распоряжении язык в качестве исходного пункта обучения. И если искусство начнет оказывать тебе в этом поддержку, ты способна, идя по пути изучения языка, продолжать и дальше вести им своего ребенка. Более того, в твоем распоряжении имеется не только язык; в качестве исходных пунктов ты имеешь язык своего очарования и своей любви, в которых с тобой никто не сравнится. Поэтому, мать, в тебе самой, как ни в ком другом, соединено все, что существенно необходимо для начального образования ребенка. Будь ты графиня или нищенка, этим ты своему ребенку заменяешь Бога, как никто другой ему Бога заменить не может.
Пойми, мать, что достижение всех задач морального воспитания и умственного образования твоего ребенка зависит от обязательного соединения средств развития – наблюдения, языка и любви. Язык без наблюдения немыслим; наблюдение без языка неплодотворно, а наблюдение и язык без любви не приводят в естественных условиях к тому, что делает воспитание человека человеческим воспитанием. Как легковесные педагогические приемы сторонников просвещения, которые можно сравнить с мыльными пузырями, так и обладающие скрытой силой педагогические приемы сторонников затемнения, вырывающие у тебя почву из-под ног, вытекают из разъединения этих в природе столь тесно связанных оснований человеческого воспитания. Однако способы расчленения этих основных средств нашей культуры имеют следующие главные различия.
a. Наблюдение без языка:
I. с любовью,
II. без любви.
b. Язык без наблюдения:
I. с любовью,
II. без любви.
c. Наблюдение в единстве с языком:
I. с любовью,
II. без любви.
a. Наблюдение без языка делает людей такими, какими мы видим основную массу крестьян. Какими бы живыми ни были полученные ими чувственные познания о всем круге их жизни и деятельности, которые они носят внутри себя, они никоим образом не могут четко выразить эти познания и объясниться. Поэтому они полностью лишаются преимущества, которое состоит в том, чтобы, руководясь своими точными знаниями, с помощью языка двигаться дальше в своем развитии. Отсюда легко понять, почему большая часть крестьян находит в себе так мало стимулов и воли интересоваться чем-либо, кроме того, что близко затрагивает их лично, принося им пользу или вред. Постепенно они становятся равнодушными также ко всему кругу человеческих воззрений и познаний, даже к правде и справедливости, поскольку и эти краеугольные камни нашего счастья покоятся на наших знаниях и воззрениях.
Грустно, что такое равнодушие у подобных людей еще приходится считать мудростью. Когда в своем теперешнем состоянии они пытаются спорить о предметах, правильное рассмотрение которых возможно только при владении речью, они обычно оказываются побитыми первым же встречным, который умеет лучше говорить, чем они. Вред и унижение, которые в наше время испытывает в результате этого значительное большинство людей, тем сильнее, что эти люди в своем словесном бессилии живут среди современного мира болтунов; в нем болтливые пройдохи каждую минуту своим словесным трюкачеством затрагивают то, что этим людям дорого и мило. Такое неблагоприятное положение в жизни такого множества людей в значительной степени объясняется их первоначальным воспитанием.
Там, где к наблюдениям ребенка, которые он по Божьему произволению получает через свои органы чувств, при начальном обучении не прибавляются словесные средства выражения, там упущен начальный момент его образования и разорвана нить, которая в человеческом сознании всегда должна связывать воедино вещь и слово. А в результате разрыва этой нити мы настолько опустились, что даже не знаем больше, что мы знаем; в результате этого разрыва меньше всего мы обладаем силой точно выразить именно то, что мы знаем наиболее живо, наиболее совершенно. Дело дошло до того, что очень многие люди, когда они слышали, как наши дети свободно называют внешние части своего тела, заявляли, что знать это подобает лишь «стригущим овец и анатомам»; и все же это – знания, и настолько общие, что, если бы человека лишили четырех чувств и оставили ему только пятое, он все же обладал бы ими.
Следовательно, необходимо, чтобы ребенок, как бы наивен он ни был, узнавал через осязание каждый раз, когда он закрывает глаза, что он закрывает своими веками глазное яблоко, а каждый раз, когда он открывает глаза, именно через это чувство узнавал, что веки его сокращаются над его глазами. Более того, именно этот ребенок, который вскоре ежеминутно будет узнавать зрением, что все люди расправляют и вновь стягивают свои веки, – этот ребенок совершенно точно знает, что у него есть веки и что эти части его глаз растяжимы. Если же ему никогда не говорят, что эти части глаз называются веками и что свойство этих частей, благодаря которому они при закрывании глаз кажутся больше или занимают большее пространство, обозначается словом растяжимость, то есть относящиеся сюда знания его остаются без словесного выражения, то в таком случае это его законченное природное знание остается мертвым грузом внутри него, он никак не сможет использовать его по-человечески, то есть для укрепления и расширения своих познавательных способностей. Чувственное впечатление от этого восприятия не поведет его дальше, чем такое же впечатление поведет обезьяну, собаку или кошку, которые также через чувства осязания и зрения могут осознать наличие у себя век и их растяжимость. Но лишь подаренный нам Богом язык делает чувственные познания людей человеческими. Если к тому, что представляют из себя наиболее совершенные чувственные впечатления внутри нас, мы не добавляем слова и, напротив, наполняем голову словами, для которых чувства не дают нам подтверждений, то мы сами себя запутываем и истина не пребывает с нами.
Мать! Я повторяю еще раз, Бог все хорошо устроил. Беда в том, что люди даже самым примитивным образом не используют божественных благодеяний. Я хочу сказать, что природа сама насильно толкает нас на это использование, а человек не обращает внимания на то, что лежит у него под ногами.
Между тем состояние народа, находящегося во власти чувственного восприятия и отставшего только в области языка, являлось бы еще терпимым, если бы эти восприятия жили в нем самом, жили бы в любви.
Таково положение в домах, где ребенок растет, наслаждаясь мирной семейной обстановкой, наслаждаясь тысячами радостей любви и повседневно напрягая свои силы для помощи своим родителям, своим сестрам и братьям. Когда дети растут в такой стране при таких условиях, при которых высшие сословия не злоупотребляют невинной простотой их стесненных обстоятельств, не презирают их, не издеваются над ними, когда эти сословия сами еще считают источником своей силы и своей безопасности святыню этой невинной простоты, – при подобных условиях положение тех людей, которые недостаточно владеют языком, более чем терпимое. Их любовь сама служит им языком; их взгляд говорит то, чего не могут выразить их уста; их рукопожатие весит больше, чем тысяча слов. Используемые ими немногосложные выражения многозначительны и достаточны для взаимопонимания в пределах всего круга понятий, которыми они владеют. Они не выходят за этот круг понятий и были бы счастливы в своей ограниченности, если бы эта ограниченность была общей для всей страны, если бы она считалась святыней и в качестве таковой оберегалась, защищалась и поддерживалась высоким, чистым, благородным, бескорыстным влиянием государства и церкви.
Однако положение в стране бывает иным. Простота и невинность домашней обстановки совершенно исчезли, и ребенок подрастает лишенным всех прелестей домашних удовольствий и домашнего покоя; в высшей степени раздраженный этой лишенной любви обстановкой, он вынужден впрягаться в любую работу, которую его заставят выполнять. Угасла святыня государства и церкви, и невинная простота домашней жизни не находит у них защиты. Наоборот, для удовлетворения жизненных наслаждений и честолюбивых помыслов великих и малых властителей церкви и государства выгодно разрушение такой невинности домашней жизни.
Ах, в такой период, в такой стране пустые внешние средства церковной службы не только мертвы с точки зрения сущности религии и любви, но поистине сами убивают их; лишенные любви внешние средства государственного управления не только бессильны поддерживать внутреннюю святость объединения общества, но, наоборот, сами разрушают его, так как дух любви, который должен лежать в основе всех церковных установлений, и дух права, который должен лежать в основе всех гражданских установлений, повсюду превратились в пустозвонство, в лишенную любви болтовню, которая поощряется общими корыстными интересами узкой клики наделенных церковной и гражданской властью людей. Там, где положение таково, человеческая природа, в невинной простоте своих восприятий лишенная выразительной силы языка, не в состоянии больше поддерживать в себе любовь. Любовь пропадает тогда в одиночестве нищенских хижин, как она уже раньше исчезла в сутолке, царящей в домах с высокими крышами. Чистейшая невинность и простота человеческой природы постепенно утрачивают присущее им любовное начало; их прямой, открытый характер постепенно переходит в лукавство и извращенность. Лучший человек, если его постоянно высасывают, в конце концов становится бессердечным. Самый доверчивый человек, которого постоянно обманывают и эксплуатируют, в конце концов превращается в подозрительного и хитрого. Короче говоря, при подобных обстоятельствах испорченность человеческой природы становится настолько всеобщей, что в тяжелом положении оказался бы добрый человек, которому больно было бы поверить в то, что испорченность среди людей приняла столь всеобщий характер, и который заявил бы, что имеются исключения. Как доброму Аврааму, ему пришлось бы снизить число их с пятидесяти до пяти, и в конце концов он вряд ли бы нашел и такое число[16].
Приходится, правда, признать, что внешние признаки испорченности у бессловесных народных масс сильнее, их грубость больше бросается в глаза, их ошибки становятся более неприличными, их пороки более нетерпимыми. Именно поэтому вся тяжесть внешней вины за такое состояние преимущественно падает на народные массы. Закон, который не смеет заткнуть источник преступления, кроющийся в самом духе образованных и богатых людей, карающей рукой хватается за его откровенное, неприкрытое проявление, за проступки бессловесной, пренебрегаемой, невежественной массы.
Даже те немногие люди из народа, которые, полностью замыкаясь в домашнем кругу, своей чистотой и невинностью при известных благоприятных условиях могут преодолеть преграды, которые ставит им их бессловесность, при отсутствии таких условий не могут справиться с этими препятствиями.
Еще значительно более сильна опасность подобной способности к наблюдению без возможности словесного его выражения в те страшные времена, когда необузданность масс приходит в столкновение с общественным насилием и государствам угрожает разрушение их древнейших связей. Несчастный, бессловесный народ поднимает в таких случаях руку на несправедливость и на насилие и открывает свою душу соблазнителю-болтуну, который выдает ему за истину то, что не является истиной, и за право то, что не является правом, и который предлагает ему такие якобы спасительные средства избавления от своих страданий, которые ввергнут его в несчастье, в десять раз более глубокое, чем прежде.
И при этих обстоятельствах, когда даже справедливость лишена любви и невинность призывает к убийству, тогда все живое втягивается в ужас разорения. Овцы вынуждены тогда выть вместе с волками, чтобы спасти себе жизнь. Но если это происходит с живым деревом, если даже невинность и чистая сила бессловесного добродушия гибнет в народе при подобных обстоятельствах, когда самый лучший отец и самый лучший ребенок в стране погружаются в бездну ужасов, которые несет в себе падение человеческой натуры, – что же произойдет тогда с сухим деревом? Что же случится, если испорченность отдельного человека в его домашнем кругу сравняется с испорченностью общества и обе они соединятся для того, чтобы спрятать подлинную человеческую природу в самых сокровенных складках своей одежды? Что при такой степени падения церкви и общества станет с ребенком, которого, правда, житейская нужда вынуждает ежедневно трудиться и благодаря этому получать разнообразные впечатления, но в котором эти впечатления отравляются в результате споров и раздоров, происходящих в его доме? Что выйдет из твоего ребенка, если в обстановке такого падения церкви и общества уже на коленях своей матери его настраивают на дурной лад, если повсюду с утра до вечера он живет в кругу впечатлений, которые характеризуются бессердечностью и насилием, и все чувства, мысли и действия его находятся в постоянном соответствии с этой бессердечностью и насилием? Мать! Мать! Что выйдет из твоего ребенка, если он с этой настроенностью на бессердечность и насилие затем включится во все отношения общественной жизни?
Мать! Мать! Посмотри! Вот твой ребенок, который не умеет выразить словами всех знаний, присущих облагороженной человеческой натуре, но который всегда найдет подходящее слово и живой оборот для выражения мыслей, существо которых заключается в грубости, хитрости, насилии и ярости. Мать! Мать! Представь себе только последствия этого сочетания бессердечности, с одной стороны, и неумения выразить все хорошее – с другой, этой односторонней развитости речи для выражения всякого зла. Мать! Мать! Представь себя на дне общества, поищи отребье человеческое, поищи убийц, воров, смутьянов и спроси тогда, как дошли эти люди, сила зла которых приводит тебя в изумление, как дошли ни до того, чтобы стать такими плохими людьми. Мать, в девяти случаях из десяти причина их преступности заключается в том, что с ранних лет они жили в атмосфере бессердечности и насилия. Между тем, если бы тот же, не находящий себе выражения в языке круг наблюдений был связан с любовью, он, несомненно, повлиял бы на воспитание человека таким образом, чтобы, проявляя усердие, верность и силу, он в качестве отца и друга в полной мере удовлетворял тем требованиям, которые соответствуют его положению в обществе.
b. Язык, не связанный с наблюдением, приводит к воспитанию безмозглых болтунов; они довели до совершенства умение говорить о вещах, которых их глаза не видели, уши не слышали и которые в еще меньшей степени являются предметом их переживаний; они говорят о них, как будто эти вещи собственными глазами видели, собственными ушами слышали и даже, как мать, выносили под сердцем. Язык, не связанный с наблюдением, воспитывает людей, ослепленных беспочвенными притязаниями, возникающими в результате такого пустого словесного знания. Такие люди лишаются внутренних побудительных мотивов ради развития ума и сердца глубже вникать в сущность какого-нибудь предмета, с которым они в результате подобной болтовни считают себя уже вполне знакомыми.
Если слабость людей, которые неспособны выразить словами свои наблюдения, порождена недостаточным обучением, то порок людей, владеющих речью, не базирующейся на наблюдении, наоборот, повсюду вызван неправильным обучением. Заблуждения в области преподавания теснейшим образом переплетаются с самыми начатками обучения ребенка. Если ребенок, не умеющий словами выразить свои наблюдения, знает, что у него есть веки, которые обладают способностью растягиваться, но не знает ни слова «веки», ни слова «растяжимы», то ребенок, обучение которого не основывается на наблюдении, напротив, выучивает наизусть слово «веки» или даже предложение «веки растяжимы» без того, чтобы кто-нибудь ему когда-нибудь точно показал, какая именно часть глаз называется веками и какое свойство век, собственно, обозначается словом «растяжимы». Дело в том, что мы заставляем детей произносить слова, которые в наших устах, правда, обозначают вещи, с которыми ребенок хорошо знаком; однако ведь ребенок не знает, что они называются именно теми словами, которые мы заставляем повторять за нами, чтобы он выучил их наизусть.
В результате такого недоразумения мы не заставляем ребенка при произнесении слов представлять себе то, что он себе при этом не представляет. Мало того, мы связываем для ребенка также пустые слова с совсем мертвыми словами, то есть такими, которые обозначают предметы, лежащие совершенно вне круга восприятия ребенка и недоступные его пониманию, словами, которые по своему существу обозначают вещи, истинное значение которых мы, если бы и захотели, не в состоянии заставить ребенка в теперешнем его состоянии представить себе. Наконец, мы обычно употребляем при обучении ребенка книжные слова, не обращая внимания на то, что в обычной жизни ребенок называет вещи, которые мы обозначаем книжными словами, совсем другими словами; мы забываем, что это единственные слова, обозначающие для ребенка предметы, которые мы хотим ему назвать словами книжными.
Мне, например, известна страна[17], где все эти ошибки соединяли, заставляя детей выучивать наизусть следующее изречение: «Вы почитаете Меня губами (Lippen) и прославляете Меня устами (Mund), но сердце ваше далеко от Меня, поэтому почитаете вы Меня напрасно» (Мф., 15, 8–9).
Во-первых, на местном наречии губы называются не Lippen, a Lejzen, а рот не Mund, a Maul, и дети не знали, что такое Lippen и Mund, хотя они хорошо знали, что значат Lejzen и Maul. Во-вторых, к этим пустым словам, которые, как считалось, хорошо знакомы детям, добавлялись слова «почитать», «прославлять», «сердце» и др., подлинное значение которых не может быть доступно ребенку того возраста, в котором обычно детей заставляют выучивать это изречение, потому что объяснение их требует новых слов, смысл которых столь же темен ребенку, как и смысл тех слов, которые ему пытаются объяснить.
Что меня, однако, особенно поражает, так это то, что бедных детей в этой стране приучают к пустейшему, бессмысленному словоблудию при помощи заучивания наизусть именно того изречения, которое с божественной простотой и теплотой раскрывает пагубность этого пустословия.
Между тем путем соединения ошибок при начальном обучении детей закладывается общий фундамент глупого словесного воспитания, для полного завершения которого не требуется ничего иного, как строить дальнейшее обучение детей на основе и в духе тех же первоначальных заблуждений. Это и совершается преисправно в наш век пустой болтовни. Он редко бывает столь же последовательным, как в этом отношении. Так же как при начальном обучении речи совсем не заботятся о том, чтобы ребенок понимал связь между знакомыми ему вещами и словами, которыми он их должен называть, точно так же поступают при научном обучении. Ребенку внушают моральные, правовые и религиозные истины и мнения, не обращая внимания на то, что при обучении всем этим предметам употребляются слова, связь которых с обозначаемыми ими предметами неизвестна ребенку. Более того, эти слова, наоборот, обозначают вещи, о которых ребенок может иметь не большее наглядное понятие, чем он может иметь о зубной боли, если у него никогда не болели зубы. Конечно, потом учитель замечает разрыв, который образовался между его словами и понятиями ребенка, и старается ликвидировать этот разрыв. Но желая этого, пытаясь путем объяснения сделать для ребенка более ясным значение непонятных ему слов, он волей-неволей прибегает к словам, значение которых так же туманно для ребенка, как и значение слов, которые ему пытаются объяснить. Учитель в таких случаях попадает в отношении употребления этих слов в положение потерпевшего кораблекрушение, который ради спасения своей жизни пытается ухватиться за любую веточку, какой бы хрупкой она ни была.
Вот тот путь, идя которым в настоящее время во всех областях знания и даже в святая святых всех человеческих познаний – в религии, люди пришли к понятиям, настолько лишенным жизни и силы, что сами себе боятся в этом признаться. Происходит это потому, что реальность пустоголовости связана с мнимой словесной полноценностью, которая по самому своему существу обязательно заставляет этих заблудших поклонников слова мнить себя мудрецами в той же степени, в которой, как мне кажется, они являются дураками.
Но и здесь, среди пустословов, слова которых оторваны от наблюдений, имеется то же существенное различие, которое встречается среди людей, плохо владеющих словом и мыслящих в основном чувственными образами: если при всех недостатках своего словесного воспитания эти пустословы обладают любящим сердцем и душевным теплом, они являются совершенно иными людьми, чем те, у которых порочность их словесного воспитания сочетается с черствостью и бессердечием и еще усугубляется ими.
Мать! В первом случае в результате неправильного воспитания твой ребенок станет человеком, который во всех случаях, когда он что-либо должен знать, удовлетворится верой; ко всему, что он обязан делать, его надо будет побуждать словами; во всех страданиях, которые он должен будет перенести, он найдет утешение в словах. Он станет человеком, готовым пожертвовать всем на свете, даже жизнью за слова, сохранившие ему при всей его слабости веру, покой и порядочность. Вот, люди, как велика сила веры даже в пустые слова, если эта вера рождена в любви и вскормлена любовью.
Ах, эти добрые люди! Я желал бы им жить в более совершенном мире. В каждое заблуждение, в которое их заводят эта вера и эта любовь, они вкладывают часть своего доброго сердца. Они всегда будут святы в моих глазах, где бы они ни жили в этом скверном мире. Пусть ангел Божий парит над ними и охраняет от падения в те пропасти, к которым их может подвести вызванная односторонностью наивность.
Но если пустоголовость таких людей еще соединена с черствостью, если эта вызванная отсутствием чувственных основ скудость ума сопровождается еще и оскудением сердца, тогда тяжелые последствия такого неправильного воспитания человеческого рода безграничны. Бессердечные пустословы считают, что их пустая словесная изощренность дает им право на всевозможные почести и богатство, которых другие люди могут достигнуть лишь в результате напряжения своего ума и труда рук своих. Так как в их знаниях отсутствует, я бы сказал, святая святых истинного порядка, а именно чувственная основа первичных составных элементов этих знаний, то неизбежно ошибочно их суждение о ценности этих знаний и о своей собственной силе, поскольку она покоится на этих знаниях.
Ты можешь встретить среди них крестьянина, знающего наизусть целые проповеди и при этом не обладающего той силой ума и сердца, которую несут в себе тысячи других людей, способных едва лишь запомнить текст проповеди и ее начало. Среди большого числа не владеющих языком, но обладающих образным мышлением людей иногда можно встретить крестьянина, объем чувственных представлений которого, правда, не выходит за рамки, обусловленные условиями его жизни, но который, упражняясь в заучивании пустых школьных слов, почувствовал силу своей памяти на слова и теперь с жадностью поглощает Библию, проповеди, календари и газеты. Гордый своей выдающейся образованностью, он использует всякий случай, чтобы выложить весь этот непереваренный словесный мусор в том же виде, в каком он его получил. Ты найдешь среди людей, получивших образование в бюргерских школах, таких, души которых превратились в инвентарные списки книг и имен. Лишенные всякой психологической силы, всякого такта в вещах, требующих обычного здравого смысла, они пытаются просвещать простых людей при помощи нелепых компиляций и выдержек из всей массы произведений самых разнородных писателей.
Ни один шарлатан не будет пытаться вылечить полуслепого так, как эти люди; ни один из них, для того чтобы укрепить зрение своего полуслепого пациента, не попытается поставить его на такое место, где ветер будет нести ему в глаза всю пыль и весь дым города. И все же попытку просветить народ при помощи компиляций и цитат можно сравнить только с такой попыткой. Ты встретишь и таких людей, которые выучили в бюргерских школах всю систематику естественных наук и тем не менее настолько плохо знают растения, камни и животных, которые растут, лежат или живут у них перед домом, что, если речь зайдет о состоянии огородной грядки, хлева или кучи разнородных камней, их заткнет за пояс любая работающая на огороде поденщица, любой батрак, любой подручный каменщика.
Притязания таких книжников, правда, чрезвычайно велики, но еще больше притязания тех людей, которые, следуя по тому же пути, стали логиками, учителями морали, учеными-законоведами и преподавателями религии; их заблуждения влекут за собой гораздо более серьезные последствия. Можно встретить логиков, не обладающих никакой культурой мышления, – они просто перечисляют на пальцах логические правила. Ты видишь учителей морали, которые под непомерной тяжестью моральных истин, правил и формул теряют нравственные чувства и становятся морально извращенными людьми. Такого учителя можно сравнить с грузчиком, у которого в результате ежедневного ношения тяжелого груза кожа на спине настолько грубеет, что теряет способность воспринимать более тонкие ощущения, и в конце концов у него вырастает горб. Ты найдешь законников, которые оттачивают формулировку отдельного судебного решения до острия булавки, но выбрасывают из своей судебной практики дух права, которым они должны руководствоваться, как выбрасывают на улицу падаль. Такие люди ловят и убивают невинных при помощи буквы закона, как пауки ловят и умерщвляют мух. Ради того чтобы поддержать видимость справедливости посреди моря несправедливости, они нагромождают закон на закон и превращают их в горы слов, которые приводят в ужас сердца и заставляют содрогнуться человеческий разум.
Вот насколько низко падает человечество в результате пустой болтовни, лишенной наглядной основы, если эта болтовня к тому же еще соединена с бессердечием. Но ниже всего падает человечество в результате соединенного с бессердечием и лишенного наглядной основы пустословия, когда предметом его нападок становится любовь и Бог – источник любви. Если, привыкнув употреблять слова, не имеющие за собой чувственного образа, я назову ежевику, не зная, что из себя представляет эта ягода, то я в худшем случае окажусь немного глупее, чем если бы я стал говорить о ежевике только после того, как я с ней познакомился. Если я похороню себя под словесной горой из юридических формул, не обладая внутренним чувством справедливости, если я даже извращу закон для того, чтобы выиграть свое судебное дело, то ведь все, что я благодаря этому выиграю, или потеряю, или заставлю кого-нибудь выиграть или потерять, касается только денег и материальных ценностей. Однако, если я направлю свое губительное, оторванное от чувственного мира пустословие против таких высоких предметов, для которых в природе не существует равнозначащей ценности; если, не имея опоры в наблюдении, я стану говорить о Боге и любви, а беспрерывное повторение самых святых слов, разговор о Боге и любви превращу в презренное пустословие; если в результате своей бездушной деятельности я паду так низко, что перенесу свои страстишки на самого Бога, буду совершать свои бессердечные поступки от Божьего имени и, наконец, буду поддерживать коварство своего эгоизма, опираясь на тот ложный авторитет, который моя пустозвонная работа создала мне в народе, тогда действительно дело дойдет до самого худшего, до чего могут довести человеческий род претензии пустословия.
c. Наблюдение в единстве с языком воспитывает полного сил и пригодного к жизни человека, который чувствует себя одинаково подготовленным ко всем условиям жизни и всюду ощущает свое превосходство над человеком, получившим чисто словесное воспитание. Полнота наблюдения придает его языку силу, а полнота языка выражает его наблюдения с такой силой, с какой они живут в нем самом. Будучи, таким образом, внутренне самостоятельным благодаря этой двойной силе, такой человек ведет за собой бессловесную толпу, как стадо, и дыханием уст своих сдувает со своего пути пустую болтовню людей, слова которых не имеют чувственной основы. Но без любви и этот человек все-таки будет дьяволом. Без любви ощущение своей двойной силы явится для него только средством для удвоенного эгоизма; без любви это чувство силы волей-неволей сделает его гордецом, насильником и ненасытным; а гордость, насилие и жадность делают из него к тому же и подлеца.
Мать, для которой я пишу! Проникнись глубоко сознанием этого: твое дитя, которое могло стать ангелом благодаря удвоенной силе, которая придается соединением наблюдения с языком, в результате этой же самой силы, если развивать ее в нем без любви, станет средоточием худшей человеческой слабости, унизится до подлости. Мать! Мать! Когда твое дитя, ощущая эту удвоенную силу, остается без любви, в нем угасает божественное начало человеческой природы в апогее этой силы; он уже не чувствует в своей силе этого божественного начала. Мать! Мать! Куда идет твое дитя? Полный сил человек, который не чувствует уже в себе божественного начала, является только получеловеком, и в качестве получеловека он хочет прожить без помех и в приятном расположении духа, но не может сделать этого, так как он только получеловек. Тогда он обращается к людям с требованием, чтобы те обслуживали его для этой цели, и вместе с тем презирает людей за то, что они позволяют ему требовать от них удовлетворения его чувственных запросов. Он плохо обращается с теми, кого презирает, а презирает во все большей степени тех, с кем дурно обращается. В конце концов он начинает презирать самого себя и доходит до состояния исступления. Страдания человечества тогда ничто для него. Ничто для него тогда право и истина. Он попирает ногами все, что встретится ему на пути. Он силой овладевает всем, что бы ему ни полюбилось.
Ах, я отвожу свой взор от чудовища, в которое превратила его страшная сила, и обращаю его к человеку, который, будучи одаренным той же силой, которая превратила человека, лишенного любви, в дьявола среди людей, является ангелом среди людей. Любовь, которой проникнута его жизнь, превращает его силу в божественную, делает его самостоятельным в нравственном отношении; чувство удвоенной силы подымает его высоко над низким чувством эгоизма; любовь помогает ему найти в своей удвоенной силе вдвое больший источник роста божественного начала своего естества. Любовь дает ему способность, полностью ощущая свою силу и даже при помощи этой силы, стать послушным, скромным, воздержанным и альтруистичным. Таким образом люди перестают видеть его силу; среди слабых он и сам производит впечатление слабого; он страдает со страждущими; он радуется со счастливыми; он всем является братом. Но его сила подымает его до сознания отцовства по отношению к тем, кому он служит; в лишенном достоинства, униженном человеке он почитает то же самое божественное начало, которое существует в нем самом, только в более развитом виде.
Мать! Имею ли я право сравнивать этого благородного человека с тем мерзавцем, который из-за своего бессердечия утрачивает силы, приобретенные им в результате соединения наблюдения с языком? В то время как этот негодяй в своем бессердечном эгоизме повсюду старается выдвинуться вперед, чтобы не упустить и тени успеха, тешащего его тщеславие, благородный человек действует скромно, оставаясь в тени. И если первый даже в счастье остается неудовлетворенным, то второй удовлетворен, если его постигает даже несчастье. Первый постоянно сердится на себя за то, что у него не хватает сил урвать больше чувственных удовольствий, чем это удается ему сделать на самом деле. Второй же огорчается, что его положение и силы не позволяют ему делать людям больше добра, чем он фактически делает. Если первого могучие силы эгоизма при всем богатстве, почете и могуществе, которыми он пользуется, влекут к кривым и запутанным тайным тропам во мраке ночи и ко всем тем подлостям, с которыми связано следование по таким тайным путям, то моего благородного человека посреди всех угрожающих ему опасностей бедности, позора и смерти мужество любви подымает до высот жизни.
Истина, которая путем тройного соединения наблюдения, языка и любви с чистым чувством справедливости, с совестью, оказывается заложенной в нем во всей полноте своего нравственного совершенства, достигает в нем высокой силы. С этой своей втрое возросшей силой он встает на защиту страдающего бедняка, невинно оклеветанного человека, подавляемой правды. Он не разрешает сломать треснувшей тростинки, не дает погасить тлеющий светильник. Он противостоит чванливой знати, не дает свершаться насилию. Для врага истины он является обоюдоострым мечом, и ненавидящие справедливость впадают в трепет при виде его. Нет, он не молчит, он не боится! Свет не в состоянии свести на нет результаты соединения в человеке справедливости и истины до тех пор, пока этот человек жив.
Мать, мне казалось, что твоя невинность, твое незнание и твоя любовь обязывают меня рассказать тебе о последствиях, к которым приводит разъединение наблюдения, языка и любви. Я уже сказал тебе и повторяю снова: жизнь и смерть зависят от соединения или разделения этих трех элементов воспитания твоего ребенка, – следовательно, выбирай один из двух путей: путь жизни или путь смерти для своего ребенка. Нельзя рассчитывать на то, что можно, не применяя принуждения или насилия, отвлечь людей, обладающих животной привязанностью к определенному образу жизни, от этого образа жизни, отучить их от ложных притязаний, изменить насильственный характер применяемых ими методов. В еще меньшей степени можно рассчитывать добиться какого-либо успеха в отношении заблуждений, которым с такой силой предаются женщины.
Лебединая песня Песталоцци
Все испытывайте, доброго держитесь, и если что-либо лучшее созреет в вас самих, то в правде и с любовью прибавьте это к тому, что я пытаюсь дать вам в этих строках также в правде и с любовью.
Идея элементарного образования, для теоретического и практического разъяснения которой я пожертвовал большею частью моих зрелых лет, чтобы самому более или менее познакомиться с ее объемом, эта идея есть не что иное, как идея о согласии ее с природой в деле развития способностей и сил человеческого рода.
Но для того, чтобы хоть приблизительно понять сущность и объем стремления к этой природосообразности, прежде всего надо спросить: что такое человеческая природа? В чем, собственно, заключается сущность, в чем – отличительные признаки человеческой природы как таковой? И я ни на минуту не решусь себе представить, что истинной основой человеческой природы как таковой может быть какая-нибудь из сил и способностей, общая у меня с животными. Я не могу иначе, я должен признать, что настоящая сущность человеческой природы есть вся совокупность способностей и сил, которыми человек отличается от всех земных тварей, не принадлежащих к числу людей. Я должен признать, что не моя смертная плоть и кровь, не животное чувство человеческих желаний, а способности моей человеческой души, моего человеческого ума, равно как мои эстетические способности, есть то, что составляет человеческое в моей природе, или, что все равно, мою человеческую природу. Из этого в таком случае естественно следует: на идею элементарного образования следует смотреть как на идею природосообразного развития сил и способностей человеческой души и человеческого ума, а также эстетических способностей.
Естественность, которой добивается эта идея для средств развития и образования наших сил и способностей, вследствие этого требует также в полном объеме подчинения требований нашей животной природы высшим требованиям духовной, божественной сущности наших душевных, умственных и эстетических способностей и сил: в сущности, лишь подчинения нашей плоти и крови нашему духу. Из этого далее следует: все искусственные способы при верном природе развитии человеческих сил и способностей предлагают если не точное знание, так по крайней мере живое, внутреннее сознание необходимости того пути, которого придерживается сама природа при развитии наших сил. Этот путь покоится на вечных, неизменных законах, заключающихся в существе каждой из них с непреодолимым стремлением ее к развитию. Всякий естественный ход нашего развития существенным образом вытекает из этого стремления. Человек хочет всего, к чему он чувствует в себе силы, и должен всего этого хотеть в силу этих присущих ему стремлений.
Сознание этой силы и есть выражение вечных, непреложных и неизменных законов, которые лежат в основании естественного хода развития человеческих способностей.
Эти законы, в сущности вытекающие из свойств каждой отдельной человеческой способности, существенно отличаются друг от друга, как и сами силы, которым они присущи, вытекают из единства человеческой природы и в силу этого, при всем своем разнообразии, внутренне и в существе связаны между собою, и, собственно, благодаря гармонии и равновесию, в котором они существуют в людях друг около друга, они являются для них действительно естественными и образовательными. Это во всех отношениях доказанная истина, что лишь то действительно, истинно и естественно развивает человека, что охватывает человека во всей совокупности сил человеческой природы, т. е. душу, ум и силу; все, что не так, все, что не охватывает все его существо, охватывает его не согласно с требованием природы и не является для него образовательным в полном смысле этого слова. Все, что охватывает его лишь односторонне, т. е. по отношению к одной из его сил, будет ли то душа, или ум, или способность эстетическая, губит и разрушает равновесие наших сил и приводит к неестественным средствам для нашего образования, следствием чего является общее искажение и порча человеческого рода. Средствами, которые предназначены возвысить мои душевные чувства, никогда не могут быть развиты силы человеческого ума; точно так же, как средствами, которые естественно служат к развитию человеческого ума, не могут быть естественно и в достаточной мере облагорожены силы человеческой души.
Всякое одностороннее развитие одной из наших сил не истинно, не естественно, это только кажущееся развитие, это есть «медь звенящая и кимвал бряцающий» (Мф., 19, 6) человеческого развития, а не само развитие.
Истинное, естественное развитие по самой своей сущности рождает стремление к совершенству, стремление к совершенствованию человеческих сил. Односторонность же их развития, также по самому своему существу, приводит к разрушению, к разложению и, наконец, к гибели той совокупности сил человеческой природы, из которой только и может истинным и совершенным образом возникнуть это стремление. Единство сил нашей природы навсегда дано людям Богом как существенная основа всех человеческих средств для достижения нашего усовершенствования; и в этом отношении всегда справедливо выражение: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (1 Кор., 13, 1). Если он делает это по отношению к своему развитию, то, в каком бы направлении он это ни делал, он делает из нас полулюдей, у которых нельзя ни искать, ни найти ничего хорошего.
Равновесие сил, безусловно требуемое для идеи элементарного образования, требует в свою очередь естественного развития каждой из отдельных основных сил нашей природы. Каждая из них развивается на основании вечных, неизменных законов, и их развитие только тогда можно назвать естественным, когда оно находится в согласии с вечными законами нашей природы. Всякий раз, как оно становится в противоречии с этими законами, оно делается неестественным и даже противоестественным. Законы, лежащие в основе естественного развития каждой отдельной из наших сил, сами по себе существенно различны. Человеческий ум вовсе не получает естественного развития, если развивается по законам, по которым человеческая душа доводит свои силы до чистейшей высоты; и законы, по которым естественно развиваются наши чувства и члены, также существенно отличаются от тех, которые в состоянии дать правильное развитие силам нашей души и ума.
Но каждая из этих отдельных сил естественно развивается, собственно говоря, лишь посредством простого ее упражнения.
Человек естественно развивает свою нравственную жизнь, любовь и веру лишь посредством дела любви и веры.
Точно так же человек развивает свои умственные способности, способность мышления, лишь посредством самого факта мышления.
И внешние основы своих художественных и профессиональных способностей, свои чувства, органы и члены он естественно развивает лишь посредством их упражнения.
И сама природа каждой из этих сил побуждает человека упражнять их. Глаз хочет смотреть, ухо – слышать, нога – ходить, и рука – хватать. Но также и сердце хочет верить и любить. Ум хочет мыслить. В каждой способности человека заключается стремление выйти из состояния безжизненности и неловкости и стать развитой силой, которая в неразвитом виде находится в нас лишь как зародыш силы, а не как сама сила.
Но как у ребенка, не умеющего еще ходить, внезапно уменьшается охота ходить, если он падает при первой попытке, так уменьшается в нем охота верить, если его царапает кошка, к которой он протягивает ручонку, а собачонка, до которой он хочет дотронуться, начинает лаять на него и показывает ему зубы. Точно так же неизбежно уменьшается охота на деле развивать мыслительную способность путем ее упражнения, если средства, при помощи которых хотят научить человека мыслить, не возбуждают эту способность, а обременяют ее, и скорее усыпляют и смущают, нежели пробуждают и оживляют ее совокупными усилиями. Если усилия, делаемые природой для развития человеческих сил, оставить без помощи, то они медленно освобождают людей от чувственно-животных свойств, которые им мешают. Если природа должна добиться развития в человеке человеческих свойств, то в этом случае она предполагает, с одной стороны, помощь просвещенной любви, зародыш которой в виде инстинкта находится в родительских и братских чувствах человека, с другой – предполагает просвещенное пользование искусством, которое человеческий род приобрел веками опыта.
Итак, идея элементарного образования, если определить ее точнее, есть не что иное, как результат стремления человеческого рода оказать делу природы в развитии наших способностей и сил помощь, которую может ему дать просвещенная любовь, развитой ум и просвещенное эстетическое чувство человеческого рода.
Как ни свят и божественен в своих основах естественный ход развития человеческого рода, все-таки последний, предоставленный самому себе, сначала живет лишь животной жизнью. Заботою нашего рода, целью идеи элементарного образования, целью благочестия и мудрости должно быть призвание его к человеческой и божественной жизни.
Если мы теперь рассмотрим ближе эту точку зрения в нравственном, умственном, семейном и гражданском отношении и спросим себя: как фактически и естественно развивается в людях основание нашей нравственной жизни, любовь и вера, и как первые ростки наших нравственных и религиозных свойств, под влиянием человеческой заботы и человеческого искусства, с самого рождения ребенка естественно развиваются, поддерживаются и укрепляются в своем росте, так что на последние высшие результаты нравственности и религиозности и на их благодеяния следует смотреть как на обоснованные и подготовленные хотя и при помощи человека, но все-таки истинно и естественно? – то найдем: первые ростки нравственных сил младенца с самого рождения естественно оживляются и развиваются правильным и спокойным удовлетворением его физических потребностей; святая материнская забота и появившаяся в нем в виде инстинкта внимательность к мгновенному удовлетворению каждой потребности, неудовлетворение которой способно материально обеспокоить ребенка, – вот что мы должны признать первой, но существенной подготовкой и началом того состояния, в котором развиваются чувственные ростки доверия к источнику этого удовлетворения и вместе с этим первые ростки любви к нему; из этих первых чувственных ростков доверия и любви являются и развиваются также первые чувственные ростки нравственности и религиозности.
Поэтому сохранение спокойствия и удовлетворенности в младенце и пользование этим для оживления еще дремлющих зародышей чувств, в которых заключается различие между нами и всякого рода другими существами, не принадлежащими к людям, существенно важны при воспитании людей для развития чисто человеческих свойств.
Всякое беспокойство, нарушающее в этот период растительную жизнь ребенка, полагает основу для оживления и укрепления всех побуждений и требований нашей физической, животной природы и для ослабления всех главных основ естественного развития тех способностей и сил, которые составляют отличительную особенность людей.
Самая первая и живая забота о сохранении этого спокойствия в самую раннюю эпоху жизни ребенка самой природой вложена в сердце матери. Она выражается у людей в присущей им материнской энергии и материнской преданности. Отсутствие этой энергии и этой преданности есть дело неестественное для матери; это есть следствие противоестественной порчи материнского сердца. Где это случается, там и действительное присутствие отцовской силы, присутствие развивающегося братского чувства, а вместе с этим главнейшие и образовательные средства семейной жизни остаются в забросе и вследствие этого погибают. Зародыш и сущность его вытекают из существования материнской силы и материнской привязанности; и как забота о спокойствии ребенка в первую эпоху его жизни вообще мыслима лишь при существовании этой силы и преданности мыслимо лишь путем постоянного естественного развития его нравственной силы.
Отличительные свойства человека развиваются лишь в спокойствии. Без нее любовь теряет всю свою силу, истинность и благотворное действие. Волнение есть, в сущности, порождение материальных страданий или материальных удовольствий; оно есть или порождение злой нужды, или еще более злого эгоизма; во всяком случае, оно есть мать эгоизма, неверия и всех последствий, по своей природе происходящих от эгоизма и неверия.
Как важна забота о спокойствии ребенка и обеспечивающих это спокойствие материнской силы и преданности, так же важна она в этот период его жизни для предохранения его от всякого материального побуждения к волнению.
Эти побуждения происходят и от недостатка любовной заботы об удовлетворении истинных материальных потребностей его, и от изобилия бесполезных, возбуждающих животный эгоизм физических удовольствий. Если мать часто и без толку не бывает с грудным ребенком, зовущем ее, и ему, лежащему в скуке с чувством потребности, которую она должна удовлетворить, часто и подолгу приходится ожидать ее, ожидать до тех пор, пока это чувство не обратится у него в страдание, нужду и боль, – в таком случае в нем в высшей степени развивается и оживает зародыш дурного волнения и всех его последствий. Запоздалое удовлетворение его потребностей в таком случае более не может, как следует, естественно развить и оживить святые зародыши любви и доверия к матери. Первые зародыши животного одичания, злое беспокойство, выступает тогда в ребенке вместо порождаемого удовлетворением спокойствия, при котором только естественно и развиваются зародыши любви и доверия.
Вызванное в ребенке беспокойство в первые же дни неизбежно развивает в нем первые зародыши возмущенных чувств материального, физического эгоизма и склонность к животному насилию, а вместе с ним яд безнравственного, безбожного мирского духа, не знающего и отрицающего духовную, божественную сущность людей.
Я иду дальше и спрашиваю себя: каким путем естественно развиваются в людях основы умственной жизни человека, основы его мыслительной способности, его размышления, исследования и суждения? Мы находим, что развитие нашей мыслительной способности исходит из впечатления, производимого на нас наблюдением над всеми предметами, которые, касаясь наших внутренних и внешних чувств, этим самым возбуждают и оживляют присущее нашей умственной способности стремление к саморазвитию.
Это наблюдение, соединенное со стремлением нашего мышления к саморазвитию, по самой природе своей прежде всего приводит к сознанию того впечатления, которое произвели на нас предметы наблюдения. Этим самым оно неизбежно производит чувство потребности выразить те впечатления, которые произведены нашим наблюдением, и прежде всего чувство потребности говорить, а развитие этой способности тотчас же делает излишним употребление в этом случае мимики.
На эту способность речи, существенно необходимую для развития мыслительной способности людей, следует смотреть главным образом как на силу, помогающую человеческой натуре в том, чтобы сделать для нас плодотворными и общими познания, приобретенные наблюдением. С самого начала она естественно развивается лишь в прочной связи с возрастанием, с расширением человеческих знаний, почерпнутых из наблюдения; и вообще эти последние ей предшествуют. Человеческий род не может о чем-либо иначе говорить, как так, как он это узнал. Что он узнал поверхностно, о том и говорит неправильно, а что в этом случае с самого начала было истинным знанием, то и теперь еще останется правильным.
Естественное изучение родного и всякого другого языка связано со знаниями, приобретенными посредством наблюдения, и естественный порядок при изучении и того и другого должен в главных чертах находиться в согласии с тем естественным порядком, по которому впечатления от наших наблюдений превращаются в знание. Если мы обратим внимание на эту точку зрения в отношении к изучению родного языка, то найдем, что подобно тому как все отличительные и чисто человеческие свойства лишь медленно и постепенно развиваются из животного элемента нашей материальной природы, из которого они происходят, так и в родном языке как органы речи, так и познание самого языка развиваются долго и постепенно. Ребенок до тех пор не может говорить, пока не разовьются его органы речи. Но первоначально он почти ничего не знает, а следовательно, у него не может быть желания о чем-либо говорить. Его желание и способность говорить являются лишь по мере приобретения познаний, а они приобретаются постепенно, через наблюдения. Природа иного пути не знает для того, чтобы научить младенца говорить, и искусство должно, в своем стремлении к той же цели, идти вместе с нею той же длинной дорогой, но в то же время сопровождать и стараться подстрекать его всеми приманками, которые для него заключаются в самом появлении окружающих его предметов и во впечатлении от звуков различных тонов, на которые способен орган речи. Для того чтобы научить ребенка говорить, мать должна заставить саму природу действовать на ребенка при помощи всего того, что есть привлекательного для его органов в слухе, зрении и ощущении. Как скоро будет пробуждено в нем сознание того, что он видит, слышит, ощущает, обоняет и вкус чего он чувствует, тогда все сильнее станет проявляться в нем желание знать выражения для этих впечатлений и уметь их употреблять, т. е. желание учиться говорить об этом, и все более будет увеличиваться способность осуществлять свое желание. С этой целью мать должна пользоваться и прелестью звуков. Если ей хочется скорее научить своего ребенка говорить, то она должна произносить ему звуки языка то громко, то тихо, то певуче, то смеясь и т. д., постоянно меняя их живо, весело и притом так, чтобы он непременно почувствовал в себе охоту болтать вслед за ней; точно так же она должна сопровождать свои слова впечатлением от предметов, названия которых она хочет запечатлеть в памяти ребенка. Она должна представлять ему и запечатлевать в нем эти предметы в их важнейших отношениях и в самых различных и живых положениях и в усвоении выражений для этих предметов лишь постольку идти вперед, поскольку в ребенке сложилось уже, благодаря наблюдению, впечатление от этого предмета. Искусство, или, скорее, просвещенная материнская заботливость и материнская привязанность могут ускорить и оживить медленность этого естественного процесса в изучении родного языка, и задача элементарного образования в том и заключается, чтобы изыскать средства ускорить и оживить этот процесс и затем ясно и определенно представить их матерям в ряде упражнений, которые могут содействовать этой цели. Раз искусство сделает это, то, конечно, найдет сердца матерей открытыми для восприятия этих средств и готовыми с истинной любовью схватиться за них и воспользоваться ими для своих детей.
Я рассмотрю результаты наших опытов, имеющих целью исследование глубокого влияния элементарно-образовательных средств на развитие людей в нравственном, умственном и физическом отношении, в связи с великим основным принципом естественного развития, с принципом «жизнь образует»[18].
В нравственном отношении идея элементарного образования связана с жизнью ребенка тем, что черпает все свои образовательные средства из присущего людям и существующего первоначально инстинктивно родительского чувства. Бесспорно, что вера и любовь, которые мы должны признавать за данное Богом, вечное и чистое начало всякой истинной нравственности и религиозности, должны искать начала своего естественного развития в родительском чувстве, проявляющемся в семейных отношениях, следовательно, в действительной жизни ребенка.
Наше учреждение[19], конечно, не могло хвалиться, что само делало в этом отношении опыты с детьми с самой колыбели. Но также верно и то, что средства осуществить идею элементарного образования по самой простоте своей вообще пригодны для того, чтобы ими пользовались в нравственном отношении с колыбели, и во всяком случае гораздо раньше и шире, чем в умственном и художественном отношении. Ребенок любит и верит, прежде чем начинает думать и действовать, и влияние семейной жизни возбуждает его и возвышает до самой сущности нравственных сил, которые предшествуют всякому человеческому мышлению и поступку. И, несмотря на недостаток опыта с грудными младенцами, вот что с решительным убеждением мы можем сказать относительно наших опытов: простота всех элементарно-образовательных средств, делающих каждого ребенка, на какой бы степени познания он ни стоял, способным сообщать и передавать все ему известное другому ребенку, в нравственном отношении доказала свою силу в нашей среде и вызвала в нашем доме оживление братских чувств, а в отношении к общей любви и доверию, являющимся следствием этого, произвела в различные эпохи нашего сожительства такие результаты, которые на наших глазах убедили многих благородных людей, все это видевших, что наши стремления в этом отношении могли до известной степени укрепить и развить образовательные свойства семейной жизни для воспитания ребенка в нравственном отношении; что с этой стороны они настолько могли с решительным успехом приблизить их к способам, которые употребляет природа для развития наших сил, насколько только мы нуждаемся в этом по отношению ко всем сословиям и в то же время с таким трудом можем этого добиться в наше время, так всесторонне впавшее в неестественность благодаря давнишним ухищрениям.
В умственном отношении идея элементарного образования также стоит за воспитательный принцип «жизнь образует». Как нравственное образование вытекает в сущности из самонаблюдения, т. е. из впечатлений, которые касаются нашей духовной природы, так и умственное развитие вытекает из наблюдения над предметами, которые касаются наших внешних чувств. Природа связывает все наши чувственные впечатления с нашей жизнью. Все наши внешние познания суть следствия чувственных впечатлений, производимых последней. Даже наши силы происходят от этих впечатлений. Стремление к развитию наших чувств и органов, заключающееся во всех наших способностях, помимо нашей воли заставляет нас видеть, слышать, обонять, вкушать, чувствовать, осязать, ходить и т. д. Но наш слух, обоняние, вкус, ходьба, осязание лишь постольку образовательны для нас, поскольку делают наш глаз способным правильно видеть, наше ухо правильно слышать и т. д. Это развитие правильного слуха, взгляда, чувства зависит от полноты, от зрелости впечатлений, производимых на наши чувства предметами наблюдения. Где впечатление, полученное от наблюдения, не совсем созрело в наших чувствах, там сам предмет мы познаем во всей его истине, в которой он находится перед нашими чувствами. Мы познаем его лишь поверхностно. Это познание не образует. Оно не охватывает стремление нашей природы к образованию во всем его объеме и во всей силе. Поэтому его последствия для нашей природы не удовлетворены, а что своими действиями не удовлетворяет человеческую природу, причины и средства того, стало быть, не имеют естественного основания. Как нравственное образование имеет в инстинктивном родительском чувстве Богом данное средоточие для своего естественного развития, так и умственное образование должно исходить из того центра, который в состоянии довести знание, почерпнутое из наблюдения и даваемое нам нашими чувствами, до той степени зрелости и полноты, которые удовлетворяют нашу природу.
Только в силу этого оно действует образовательно и в силу этого естественно. Но если теперь спросим себя: где то сосредоточение, в котором сходятся все познания людей, почерпнутые из наблюдений, т. е. все чувственные основы нашего умственного развития, мы найдем, что это именно круг семейной жизни, который ребенок с самой колыбели, с утра до вечера, привык и должен наблюдать. Бесспорно, что повторяющееся наблюдение над предметами, более частое и разнообразное появление этих предметов перед ним могут довести у него до известной степени зрелости и полноты впечатления, производимые этими наблюдениями; но верно также и то, что жилище людей, еще имеющих жилище, и есть это средоточение и что вообще вне круга семейной жизни нет ни одного места, где бы предметы наблюдения с самой колыбели представлялись чувствам ребенка так постоянно, в таком разнообразии и так удовлетворяли бы всем требованиям человеческой натуры и, следовательно, действовали бы на ребенка так естественно-развивающим образом. В этом-то кругу естественно и просто выражается потребность отделить средства к развитию человеческих способностей от усвоения знаний и умения действовать, в которых нуждается каждый ребенок, и здесь-то в то же время объекты специальных прикладных навыков, в которых он лично нуждается, сами собою примыкают к главным способностям, которые развиты в нем и из которых естественно должно вытекать образование практических навыков. И так как первые, т. е. средства к развитию человеческих способностей, во всех сословиях и во всех отношениях, в сущности, одни и те же и должны быть таковыми, а средства к образованию прикладных навыков у людей бесконечно различны, то принцип «жизнь образует» в этом отношении следует рассматривать с двух различных точек зрения. Именно прежде всего спрашивается: каким образом влияние, оказываемое жизнью, может естественно развивать силы человеческой природы? и во-вторых: насколько это влияние способно естественно развивать в ребенке практическое умение действовать как результат развитых его сил? Ответ прост. Жизнь развивает человеческие силы при самых разнообразных условиях, в которых находится ребенок, по вечным, неизменным законам, которые одни и те же в своем естественном влиянии и на ребенка, пресмыкающегося в прахе, и на сына трона и одинаковым образом действуют на человеческую натуру. Относительно применения сил к делу жизнь действует на каждого индивидуума, которого она развивает, в полном согласии с теми разнообразными обстоятельствами, положениями, отношениями, в которых находится развиваемый ребенок, а также в согласии с особенностями сил и способностей индивидуума, которого следует развивать. Следовательно, ее последнее влияние бесконечно разнообразно в этом отношении.
Из этого далее следует, чем может содействовать и что должно делать искусство элементарного образования в своей помощи естественному развитию детской наблюдательности. Эта помощь заключается в том, чтобы с самой колыбели представлять ребенку для наблюдения предметы из семейной жизни как можно привлекательнее, больше и занятнее и тем самым производить на него образовательное воздействие в чистом смысле этого слова; так что элементарные средства для развития наблюдательности, в сущности, есть не что иное, как психологическое средство оживить в наблюдательной способности стремление к самостоятельному развитию, присущее ей, как и всякой другой природной способности людей. Они есть не что иное, как результаты старания сделать, посредством закрепления и оживления, годными для развития ребенка впечатления, получаемые от наблюдаемых предметов.
Естественный успех в изучении речи, т. е. в изучении родного языка, вследствие этого никоим образом не может быть быстрее и образовательнее успехов ребенка в сведениях, почерпаемых из наблюдений. Как много лет нужно ребенку, чтобы при помощи наблюдений всесторонне и ясно усвоить окружающие его предметы, так же много лет требуется и на то, чтобы довести ребенка до умения определенно выражаться обо всех наблюдаемых им предметах; и в этом изучении он может лишь в той мере естественно преуспевать, в какой впечатление от предметов при самом наблюдении созрело у него до более точного определения благодаря разнообразным приемам. Лишь поскольку природа сделала впечатления от наблюдения разнообразными и определенными, лишь постольку истинно и прочно обосновывается и поддерживается искусство содействовать естественному преуспеянию ребенка в наименовании предметов. Искусство естественно расширять и оживлять впечатления, получаемые посредством наблюдений, есть единственно истинная основа для всяких средств естественным образом содействовать успеху в изучении родного языка. Внешняя форма языка, самые тоны, без живой связи с впечатлениями, лежащими в основании их смысла, суть пустые, праздные звуки. Лишь посредством сознания их связи с впечатлениями, получаемыми от предметов наблюдения, они становятся настоящими человеческими словами. Первоначальная подготовка посредством того, что ребенок слышит вокруг себя, долго остается просто механической подготовкой; но эта механическая подготовка к изучению речи требует полного внимания со стороны лиц, имеющих влияние на изучение речи ребенком. Слова, которые младенец слышит вокруг себя, лишь постепенно становятся для него духовно образовательными. Долгое время они, подобно колокольному звону, удару молота, подобно звукам, производимым животными, и другим естественным звукам, производят лишь чувственное впечатление на его слух. Но это впечатление имеет большое значение для обучения языку. Это впечатление как таковое постепенно совершенствуется вслух. Совершенствуясь вслух, оно постепенно переходит в способность уст передавать его. Ребенок в этом возрасте научается произносить множество звуков-слов, смысла которых он не знает; но этим он подготавливается несравненно легче схватывать этот смысл и лучше удерживать его, чем в том случае, если бы уста и ухо его не привыкли к ним. Элементарное образование не довольствуется для развития его способности речи простым пользованием теми впечатлениями, которые случайно, бессистемно предлагаются природою чувствам, в том виде, в каком эти впечатления появляются; оно проявляет в данном случае свое влияние шире, так как упорядочивает их сообразно с требованием человеческой природы и ставит в связь с этим требованием пользование ими. Оно должно это делать. Очевидно, что поскольку необходимо и хорошо для развития в ребенке способности к наблюдению, чтобы круг его ближайших предметов наблюдения был обширен и достаточен для развития всех существенных и необходимых для него познаний, но в то же время не настолько превышал требования его положения, отношений и сил, чтобы усыпляющим, ослабляющим, развлекающим и смущающим образом действовать на необходимые и существенные в его положении и при его условиях познания; постольку же необходимо, чтобы круг лингвистических знаний, в пределах которого ребенок должен учиться говорить, был обширен и достаточен для потребностей его положения, отношений и способностей, но в то же время не настолько превышал требования этих условий, чтобы действовать усыпляющим, ослабляющим, развлекающим и смущающим образом на познания, необходимые и существенные в его положении и при его условиях. Эта точка зрения одинаково справедлива и имеет одинаковое значение для средств к развитию и образованию всех человеческих способностей. И самый бедный ребенок, тот, положение и условия которого самые стесненные, никогда не может в действительности, при надежности его главнейших основных способностей, более, чем надо успеть естественным, элементарным образом; элементарно и естественно он никогда не может развиться ни в качестве через меру добродушного, ни через меру разумного и энергичного, ни через меру работящего; но с самого первого мгновения, когда искусство вмешивается в воспитание, следует сдерживать в границах, поставленных потребностями и условиями настоящей жизни ребенка, развитие его практических способностей, вытекающих из его добродушия, его мышления и его работы. И вот в этом-то отношении искусство элементарного образования может и призвано при помощи своих искусственных способов изучения придать прочность познаниям, приобретенным наблюдением, и знанием речи. На всякое искусство воспитания в его отношении к каждому отдельному ребенку следует смотреть, как на нечто помогающее его настоящей жизни. Искусство воспитания не должно приводить ребенка, уже с первых шагов его развития, уже в своем содействии развитию его способностей наблюдать и говорить, ко вреду потребностям его настоящей жизни, не должно приводить к знаниям, почерпнутым из наблюдений, и к знанию языка, которые не только неприложимы в его жизни, но, скорее, способны нарушить ход его развития при первой же необходимости согласовать этот ход с настоящей жизнью ребенка, сделать ребенка рассеянным и бессильным по отношению к последней и расстроить гармонию его бытия, деятельности и жизни.
Все три способности, способность наблюдать, способность речи и мыслительная способность, должны быть признаваемы составными частями всех средств для развития умственной способности. Эта последняя находит в наблюдательной способности начало, в способности речи – средоточие и в мыслительной способности – конечную цель своего естественного развития. За это громко говорит согласие средств, развивающих наблюдательную способность, с средствами, служащими для развития способности речи. Как первые, т. е. средства к развитию способности наблюдения, начинают с объектов и становятся развивающими для этой способности благодаря знанию их различных качеств и действий, так и механические элементарные способы усвоения способности речи начинают с имен существительных и путем прибавления прилагательных и глаголов, которые в действительности с ними связаны, становятся переходным средством, механически или мнемонически содействующим способам развития мыслительной способности. Как истинно великое воспитательное слово «жизнь образует» по отношению к естественному развитию наблюдательности, так оно истинно и такое же имеет значение и даже вдвойне по отношению к тем последствиям, которые получаются для способности речи как посредствующей ступени между средствами к развитию наблюдательной и мыслительной способности. Эти последствия, с одной стороны, определены благодаря связи внутренней, духовной сущности нашей природы с вечными законами, лежащими в основе способности речи, и ее требованиям этого, и следствие этого же и их средства и их результаты всегда неизменны и одинаковы; с другой стороны, они определены вследствие связи и требований крайне различных обстоятельств, положений, отношений, средств и сил индивидуумов, развитию которых должны содействовать, и в этом отношении в такой же степени неодинаковы и разнообразны. Поэтому развитие речи, если оно должно быть дано в элементарном виде, в то время, в которое ребенок должен учиться говорить, подчинено, с одной стороны, вечно одинаковым законам способности речи, с другой – бесконечно различным положениям и обстоятельствам детей и от них находится в зависимости. Нет в мире более естественного начала обучения родному языку, да и никакое другое невозможно. Не изучение людьми речи вытекает из науки о языке, а наука о языке происходит от способности людей говорить. Не различием внешних форм языка и наречий, а истинным и реальным положением, условиями и отношениями, в которых живет каждый отдельный человек, истинными и реальными силами и средствами, которыми каждый человек обладает в этом отношении, определяется у него различие в том, как может и должно происходить у него естественное развитие способности речи. Вот эта настоящая и реальная жизнь каждого человека у одного естественно расширяет круг изучения речи, а у другого так же естественно сужает. И что в этом отношении справедливо по отношению к отдельным людям, то справедливо и по отношению к отдельным классам и состояниям людей. Как предметов для наблюдения, равно как и средств воспользоваться ими для развития ума и ловкости меньше у земледельца, чем у горожанина, занимающегося какой-либо профессией или ремеслом, так в свою очередь предметов для наблюдения и средств воспользоваться ими для развития ума и ловкости меньше у горожанина, занимающегося какой-нибудь профессией или ремеслом, чем у сословий и людей, приготовляющихся к научному поприщу, чем вообще у тех индивидуумов, обстоятельства которых возвысили их над необходимостью путем личного стеснения и самопожертвования заботиться об упрочении или о сохранении экономического благосостояния своего дома и окружающих их людей.
Взгляд на двоякую потребность в расширении и ограничении искусственных средств к развитию человечества в различных его сословиях отвлек меня от ближайшего исследования естественных средств к развитию способности речи. Я снова возвращаюсь к этому и спрашиваю себя: как мать учит ребенка говорить? Как она готовит его к обучению речи с самого его рождения? И я вижу, что она с этого часа одинаково обращает внимание на звуки, раздающиеся у него над ухом, и на предметы, которые он узнал при помощи зрения и вообще при помощи какого бы то ни было из своих чувств. Следовательно, развитие органов, посредством которых вся сумма предметов предлагается ему для наблюдения, находится в самой тесной связи с развитием органа, посредством которого он учится говорить. Развитие способности речи должно с самой колыбели идти у ребенка рука об руку с развитием способности наблюдения. Ребенок очень рано чувствует в себе некую способность воспроизводить слышимые им звуки, и эта способность, как и всякая другая человеческая способность, возрастает в нем благодаря стремлению пользоваться ею и применять ее, и благодаря этому применению укрепляются органы, при помощи которых проявляется его способность говорить, хотя незаметно, но действительно и на самом деле. Крик, которому он не должен учиться, в своих различных выражениях есть проявление находящейся в нем способности речи. За ним следуют звуки, которые еще не имеют никакой связи с членораздельными звуками человеческого языка, а скорее похожи на звуки, издаваемые различными животными, и вытекают из стремления органов к саморазвитию, еще вполне животному, без всякой связи с человеческими словесными звуками, которые раздаются вокруг. Только через несколько месяцев эти звуки постепенно начинают приобретать заметное сходство с нашими гласными и согласными, которые встречаются в звуках наших слов, и приближаться к звуку некоторых часто повторяемых им слогов и слов. Теперь ребенок начинает лепетать самые легкие звуки, произносимые ему матерью. Изучение речи с каждым днем становится для него легче и приятнее и, по мере его развития, все более приходит в связь с возрастающим развитием его наблюдательной способности. И если его не отклоняют от этого естественного пути посредством неестественных мудрствований, оно всегда идет вперед в полном согласии с развитием его наблюдательности. И если теперь я прослежу естественный путь для изучения родного языка, начало которого я уже наметил, то увижу, что он постоянно будет искать и находить этот путь в связи с развитием способности подмечать средства для своего развития в кругу своей домашней жизни и всего того, что его непосредственно окружает. И в отношении к развитию способности речи сама жизнь естественно развивает и двигает вперед человека. Но она должна одинаково развивать все его культурные средства. Она должна развивать его душу, ум, его художественные и профессиональные способности, если даже имеет естественный успех в развитии его речи. Но и отдельно взятые отступления от вечных законов естественного хода в пользу искусственных суррогатов настоящих и основательных средств к развитию наших способностей очень велики. Заставляют ребенка читать, прежде чем он умеет говорить; хотят учить его говорить посредством книг, отвлекают его искусственно и насильно от наблюдения, этой природной основы речи, и самым неестественным образом делают мертвую букву исходным пунктом познания вещей, естественной основой которого и исходным пунктом есть и во всех отношениях должно быть признано наблюдение самой природы. Человек уже должен уметь правильно и определенно говорить о многом задолго прежде, чем созреть до разумного чтения какой-либо книги. Но в наше время все более стремятся к подобию силы, чем к самой силе, и убивают при помощи все возрастающей веры в мнимообразовательные средства, вытекающие из самого бессилия, все солидные средства, содействующие развитию сил. Если я рассмотрю теперь последовательное применение положительных, простых средств естественного изучения речи, этой существенной основы учения о языке, то увижу, что младенец слышит вокруг себя множество слов, смысл которых он сначала не понимает. Многие из них, благодаря повторению часто слышимых им, становятся ему известны и даже запоминаются его устами, хотя он вовсе не понимает их значения и даже не догадывается о нем. Но это предварительное, темное знание, которое получается при посредстве его уха, и это умение бегло произносить слова, которое таким образом приобретается устами, есть очень полезная подготовительная ступень для настоящего развития способности речи. Так как понятию о предметах предшествует знакомство со звуком, его обозначающим, то само понятие обозначенного им предмета навсегда запоминается ребенком с того мгновенья, когда он узнал путем наблюдения самый предмет, обозначенный звуком. Поэтому для развития способности речи очень выгодно, если ребенок с самой колыбели живет среди такой обстановки, при которой говорится довольно много и о многом, особенно же о предметах наиболее близких ему и относящихся к его домашней жизни. Влияние механических подготовительных средств, вроде вслушивания в говор, на всестороннее развитие языка крайне велико и многосторонне. Благодаря этому вслушиванию ребенок изучает не только номенклатуру своего родного языка в очень обширном объеме, почти не сознавая, что он изучает что-то; он мнемонически и в большом количестве упражняется в формах склонения и спряжения во всем объеме их изменений. И это уже много значит. Если же я пойду дальше взгляда на последовательность, которой природа придерживается относительно механического развития нашей речи, и спрошу, в чем состоит естественный путь развития способности речи по отношению ко внутренним средствам, развивающим последнюю, то увижу ее образовательные в этом отношении средства в самой тесной связи с естественными средствами к развитию наблюдательности. Природа постепенно следует по тому же естественному пути, по которому идет и развитие наблюдательности. Как эта последняя в начале своего развития смотрит на каждый предмет, ей представляющийся, как на отдельное целое и в начале лишь очень медленно приходит к убеждению в необходимости рассматривать части предмета в отдельности и обособленно друг от друга; как различные свойства, которые имеет предмет в разное время и при различных обстоятельствах, представляются чувствам ребенка лишь случайно, в течение долгого времени и слишком бессвязно, чтобы он ясно сознал их во всем их объеме и связи; так и представленный самому себе, не пользующийся помощью искусства естественный ход развития способности речи также ведет сперва к простому наименованию предмета, без внимания к отдельным его частям или к различным качествам, и лишь поздно и медленно приходит к пониманию отдельных частей этих предметов во всем их разнообразии и к умению называть, равно и к умению определенно и правильно называть различные свойства, которые имеют предметы в разное время и при разных условиях. Элементарное образование и все естественные средства, искусственно применяемые, ведут ребенка и по отношению к развитию его речи вполне по колее естественного хода развития наших способностей.
И оно перестает быть элементарным, если оно колеблется в этом отношении в своих принципах и не придерживается их при дальнейшем развитии своих образовательных средств. Факт тот, что с самого начала хорошо выдержанный ребенок не начинает болтать о чем-нибудь, прежде чем узнает это, и не болтает от том, с чем он не познакомился при помощи наблюдения. Внутренние и внешние успехи в развитии способности речи, если они хотят быть на самом деле успехами, должны неизбежно идти этим путем; и она, способность речи, лишь потому и может быть признана на этом пути действительно серьезно развивающим переходом от способности наблюдать к мыслительной способности, и только благодаря этому ее образовательные средства могут быть приведены в согласие с общими основами истинного, естественного человеческого развития.
Бесспорно, что правильный искусственный процесс развития человеческой мыслительной способности должен быть согласован с естественным процессом, которого человеческая жизнь сама придерживается при развитии этой способности; и как человек естественным путем возвышается до способности веры и любви не через объяснения сущности любви и веры, а через сам факт настоящей веры и настоящей любви; так и развитые способности приобретает он не через объяснения вечных законов, лежащих в основе мыслительной способности людей, а лишь через сам факт мышления. Элементарное образование, которое своим искусством способно помочь и содействовать естественному процессу развития мыслительной способности, признает в учении о числе и форме самые простые средства, чтобы естественным образом содействовать переходу развитой способности наблюдения в развитую мыслительную способность и чтобы как следует развить и утвердить настоящий базис этой высшей способности, способность человеческой природы к абстракции. Для того чтобы правильно судить о сущности этой основы правильного развития человеческой мыслительной способности, признанной за таковую идеей элементарного образования, сначала надо сказать, что искусство передавать естественное учение о числе и форме вовсе не есть механическое обучение счислению и измерению. Так же мало вытекает оно из вспомогательных (хотя и искусственных) способов, употребляющихся при обучении счислению и измерению. Вместе с тем оно вовсе не простое средство, облегчающее и сокращающее этот механизм. Его средства по отношению к числу не вытекают из форм, которые все равно что таблица умножения по отношению к счислению тысячи других форм, искусственно облегчающих счисление и измерение. Оно вытекает из простейшего внутреннего проявления и развития основных сил, которые выражаются в способности самостоятельно сопоставлять в себе предметы наблюдения, разделять их и сравнивать: и мы были очень неправы, желая вызвать их как бы волшебством, как Deus ex machina, из четырехугольника, находящегося в наших наглядных таблицах, и из механизма их духовнонеразвитых способов обучения. Настоящая способность упражняться во всем том, что пытается сделать элементарное учение о числе и форме, заключается в собственном стремлении человеческой мыслительной способности. Человек должен самостоятельно сопоставлять в себе предметы своего наблюдения, разделять их друг от друга, сравнивать их между собой как средство научиться думать о них[20]. И в то время как он делает это как должно, в нем сама собою развивается в своей духовной, внутренней сущности способность, поддерживающая это стремление, способность исчислять и измерять. Чистое, элементарное учение о числе и форме очевидно вытекает из духа и жизни той силы, естественному развитию которой оно способна содействовать при помощи внутренней сущности своих средств, и, исходя из своих начальных пунктов, оно пренебрегает, особенно в своих начальных упражнениях, всеми механическими средствами облегчения и сокращения, которыми пользуются даже при усвоении низших и высших отделов арифметики и математики рутинные и ремесленные упражнения в этих науках, как делом гражданского призвания и искусства. Развивая силы и будучи в согласии со всем, что вполне элементарно во всей системе воспитания и обучения, их искусство живо охватывает ребенка благодаря простоте своих основных начал. Он видит перед своими глазами разнообразнейшие основные формы предметов, в которых заключается сущность того, что может быть вычислено и измерено; но так как они попадаются ему на глаза в отельности, как изолированные предметы наблюдения, то ребенок должен научиться узнавать их в виде ряда абстрактных форм, посредством которых последовательное их разнообразие вместе с их словесным выражением представляется ему в отдельности. И учение о числе, и учение о форме есть не что иное, как собрание психологически расположенных рядами способов для постепенной, по возможности легкой и вместе серьезной передачи ребенку, посредством подобных внешних изображений, внутренней духовной сущности числа и формы, т. е. для того, чтобы посредством сопоставления, разделения и сравнения научить его мыслить при первых же простейших упражнениях элементарного обучения и, продолжая эти упражнения, все более усиливать его мыслительную способность и сделать ребенка способным к более сложному и глубокому мышлению.
Учение о числе и форме, чисто элементарно взятое, очевидно есть не что иное, как чистый продукт присущей человеку исконной способности мышления и способности правильно сопоставлять, разделять и сравнивать то, что предполагает развитой способность измерения и исчисления и что ей содействует и ее развивает. Вследствие этого искусственные средства так понятого учения о числе и форме, безусловно, нуждаются в полном согласии общего естественного процесса при развитии всех наших сил. Они должны в этом нуждаться, или же они не элементарны. Но они и могут в этом нуждаться, и можно фактически доказать, что где искусство элементарного образования развивается по этому естественному пути, там и средства его могут постепенно и в то же время скоро и основательно привести детей от первоначального знакомства с учением о числе и форме к самостоятельному решению вовсе не легких алгебраических и геометрических задач.
Если мы обратим внимание на элементарные упражнения, которые должны быть обработаны во всем их объеме, начиная с их основы, с развития наблюдательной способности и с высшего упрощения всех средств, то увидим, что все они могут быть доведены до известной простоты и все они могут и должны быть соединены с известного рода привлекательностью, соответствующую детскому возрасту, привлекательностью, которая делает возможной их действительное естественно-развивающее применение с самой колыбели; и так как они требуют целого ряда подобных образовательных средств, привлекательность которых постепенно и живо развивает, расширяет и укрепляет наблюдательность во всех направлениях, то по самой природе своей приводя детей к постоянному возрастанию живого и ясного познания всех окружающих их предметов и в силу этого кладут прочное первоначальное основание развитию человеческой мыслительной способности. Если мы теперь обратим внимание на элементарное обучение языку, то найдем, что оно само по себе есть постоянное, посредством естественного развития способности речи достигаемое продолжение, укрепление, применение и распространение результатов естественного развития наблюдательной способности и в силу этого должно быть так же просто и привлекательно для детского возраста, как это бывает при элементарном развитии наблюдательной способности. Далее мы находим, что оно, идя наравне с развитием наблюдательности, способно приводить ребенка к постепенному уяснению его понятий и таким образом вместе с элементарным учением о наблюдении полагать первоначальное основание естественному развитию человеческой мыслительной способности и быть посредствующей ступенью между развитием человеческой наблюдательности и человеческой мыслительной способности. Если мы теперь пойдем дальше и обратим внимание на элементарное учение о числе и форме как на определенные искусственные средства к развитию мыслительной способности, то увидим, что они в своей особенности вытекают из самой сущности числа и формы и потому должны искать все свои благодетельные последствия в согласии с этими основаниями. Мы видим далее, что изучение их с первых же шагов, как и естественные средства к развитию способности наблюдения и речи, должно быть оживлено одинаковою привлекательностью, влияющей на человеческую натуру в детском возрасте. Благодаря этому оно становится способным, вместе с результатами естественно приобретенных способностей наблюдения и речи, некоторым образом возвысить ребенка до научного взгляда на эти же предметы и вообще до такой степени логического развития мыслительной способности, которая в общем недостижима без образовательных средств, доставляемых нам естественным учением о числе и форме. Если я с самого начала обращу внимание на размер искусственных средств, ведущих к этой высокой цели, к развитию наших умственных способностей, то увижу, что предложенная форма общего обучения языку многое в этом освещает. Она касается, как и каждое действительно элементарное обучение какому-либо новому языку, всеми доступными ступенями своего прогрессивно образовательного влияния, всех отделов человеческих знаний и, посредством вытекающих из нее и свойственных ей упражнений, приводит к сравнительно ясным понятиям о предметах, которые обозначаются изучаемыми словами, так что конечный пункт достигнутого при ее посредстве знакомства с обыкновенными предметами, встречающимися в жизни, непосредственно примыкает к начальному пункту, от которого исходят научные взгляды на эти предметы. Эта точка зрения одинаково справедлива по отношению ко всем отделам науки, и в сущности, одинаково применима при всех условиях и при всяком положении человеческого рода. Так как ни один ребенок в свете не живет без известного круга предметов, узнанных посредством наблюдения и в нем созревших, то каждый ребенок, который в развитии своей способности речи был веден элементарно, т. е. по мере развития способности наблюдения, находится в таком состоянии, при котором познания, приобретенные наблюдением, граничат со взглядами, от которых он естественно должен дойти до восприимчивости к научным взглядом на эти предметы.
Если я возьму в пример естественную историю, то увижу, что каждый ребенок, хотя бы живший в стеснительных условиях, во всяком случае знает, по крайней мере, шесть млекопитающих, столько же рыб, птиц, насекомых, амфибий и червей. И если он с детства учился производить точные элементарные наблюдения за этими немногими животными, правильно распознавать все их существенные части и изменяющиеся свойства, а также определенно выражать все это, насколько можно этого достигнуть и в самых последних хижинах при действительно элементарном обучении языку, то такой ребенок в самом себе заключает начало солидного и естественного изучения научных взглядов на млекопитающих, птиц, рыб и т. д. И если положение, обстоятельства и условия дадут ему случай или даже заставят его изучать эту науку, то окажется, что он уже очень хорошо к этому подготовлен своим прежним воспитанием. Далее, так же справедливо, что если он с колыбели был естественно руководим по отношению к развитию наблюдательного искусства и непосредственно вытекающего из него элементарного учения о числе и форме, то он является очень хорошо подготовленным к последнему посредством счисления, черчения и измерения, изученных им с помощью своей основной способности. То же самое бывает и во всех науках. Природные человеческие способности, естественно развитые, благодаря первоначально усвоенному учению о наблюдении, речи, числе и форме, производят одинаковое действие во всех отделах человеческих знаний; будут ли это чистые, математические науки или прикладные знания, будут ли какие-либо другие знания, элементарные средства к развитию человеческих способностей произведут на них одинаковое действие. Я с убеждением говорю: элементарно образовательные средства или во всех этих отношениях хороши, или совсем не хороши. Их значение, их великое значение заключается частью в нас самих, частью в окружающем, образовательных впечатлений которого, в сущности, не избегает ни один человек. Каждый ребенок, который выучился с элементарной точностью наблюдать, например, всем людям ежедневно представляющееся положение воды в движении, в покое и в ее изменениях в виде росы, дождя, тумана, пара, инея, града и пр. и затем ее действие и ее влияние во всех этих состояниях на другие естественные предметы и все это определенно выражать, имеет в самом себе начатки искусственных воззрений естественных наук на эти предметы. В то же время каждый ребенок, который научился элементарно наблюдать, как в кухне растворяют соль и сахар, восстановление последнего из жидкого состояния в твердое, его кристаллизацию и пр., также брожение, отстой и окисление вина в погребе, изменение алебастра в гипс и мрамора в известь, кремния в стекло и т. д. и определенно выражаться относительно этого, настолько же обладает началами наглядных познаний, относящихся к тем наукам, более специального занятия которыми требуют эти предметы, насколько ребенок, научившийся с элементарной точностью рассматривать хоть несколько крестьянских домов во всех их частях и определенно выражаться насчет этого, обладает главнейшими началами строительного искусства. И если он обладает для этого хорошими способностями, то, благодаря одному только наглядному знакомству с крестьянскими домами, подкрепленному элементарным знакомством с учением о форме и числе, он просто и естественно может быть доведен до возможности в самом себе развивать начальные основы строительного искусства и его различных отделов во всем их объеме, а в некоторых случаях, смотря по обстоятельствам и условиям, даже помогать при настоящих постройках[21].
Нельзя, впрочем, упускать из виду, насколько с детства развиваемая способность к наблюдению может способствовать знакомству с научными предметами, если только они сами будут иметь в ребенке основу в виде психологически распределенных упражнений в наблюдении и если духовно отвлеченное знакомство с ними естественно и солидно будет в нем подготовлено. Где развита способность, там искусство легко; а где искусство легко, там оно само по себе ведет ко многому. Ребенок, солидно подготовленный к наблюдению над числом и формой, уже наполовину прошел путь, ведущий к отвлеченным упражнениям в числе и мере, прежде чем настоящие упражнения могли быть естественно с ним начаты. Эти последние упражнения, если только они ведены правильно, предполагают способность к наблюдению, доведенную до известной степени зрелости благодаря упражнениям, развившим ее в достаточной мере.
Если мы обратим внимание на идею элементарного образования в отношении ее влияния на естественное развитие чувственных, животных склонностей и сил нашей плоти и крови, в которых заключена божественная искра нашей внутренней, истинной природы, и спросим себя: в чем состоит влияние жизни на развитие этой оболочки, влияние, имеющее в виду утвердить полное согласие между нею и божественной искрой нашей внутренней человеческой природы, то увидим, что все, что чувственно побуждает нашу плоть и кровь к вере, к любви, к размышлению и к работе в духе веры и любви, способно привести животную оболочку нашей плоти и крови в согласие с божественной искрой нашей внутренней человеческой природы. И если затем спросим себя: как может человеческое искусство содействовать и помочь делу природы в его влиянии на это согласие, то окажется, что все, чем человеческое искусство может содействовать развитию размышления и деятельности в духе веры и любви, способно также содействовать и помогать единению нашей животной плотской оболочки с божественной сущностью нашей духовной природы. Все, что может развить нас действительно по-людски, способно также ослабить животный перевес плоти и крови над духовными искрами нашей настоящей человеческой природы и этим способствовать и помочь согласно нашей чувственной, животной сущности с этой искрой, или, скорее, подчинению первой под власть второй.
Этот взгляд повсюду признан в практической жизни человека. Всякий знает, что познание истины и усвоение навыков, от которых находится в зависимости и которых требует исполнение наших главных обязанностей, должно быть сделано второй нашей натурой и, как выражается народ, претворено в плоть и кровь. Слова in succum et sanguinem vertere[22] выражают то же самое.
Степень, в какой искусство с успехом может содействовать этой цели, зависит от степени успеха, с каким оно может правильно и естественно развивать все отдельные составные части, из которых образуется человечность, или – что то же самое – самая сущность человеческой натуры. Отсюда также явствует, что идея элементарного образования, которая особенно требует помощи искусства, по необходимости с большой внимательностью должна заботиться о том, чтобы с возможно большею полнотой развивать отдельные основные части интеллектуальной силы, способности наблюдения, речи и мышления, чего возможно достигнуть лишь согласованием искусственных средств с деятельностью природы в развитии каждой из этих сил, или, что одно и то же, подчинением каждого из этих средств вечным законам, благодаря которым только и может произойти естественное развитие каждой из этих сил. Эта заботливость, обнаруживаемая идеей элементарного образования, потому существенна и важна, что из всего того, что в своих отдельных частях не закончено до известной степени, и не образуется естественным образом целое, частью которого оно является, а с другой стороны, потому, что все, что в своих отдельных частях закончено по отношению к образованию, то вовсе не примыкает естественным образом к чему-либо, что не развито естественно и полно. Пренебреженная способность наблюдения не примыкает естественным образом к развитой способности речи, а оставленное в пренебрежении развитие мыслительной способности не примыкает естественным образом к естественно развитой способности наблюдения. Лишь одинаковое с одинаковым охотно сливается; а что неодинаково, то имеет в себе склонность к разделению и действует, если попытаются соединить это, противоестественно и разрушающим образом на цель искомого соединения. Эта точка зрения находится в самой тесной связи с другой точкой зрения, столь же важной в педагогическом отношении. Всякая лишь поверхностно узнанная, не основанная на наблюдении в своих существенных частях и не взвешенная при помощи мыслительной способности истина находится в человеке, как на воздухе. Она вовсе не способна естественно примкнуть к другим истинам, с которыми она в действительности находится в связи, и бесчисленное множество подобных поверхностно узнанных истин имеют на развитие мыслительной способности меньше влияния, чем хоть одна, но в достаточной мере основанная на наблюдении и узнанная мыслительною способностью в своей полноте истина. Поверхностно узнанные истины вовсе не ведут к гармонии наших сил, к этой последней цели, к которой стремится и природа при развитии их, и все искусственно-образовательные средства, способные содействовать этой цели. Гармония наших сил неизбежно и удовлетворительным образом происходит лишь из одинаково хорошего и естественного ухода за каждой из них в отдаленности; и что в этом случае справедливо относительно интеллектуального развития наших сил, то одинаково справедливо и относительно развития способностей, лежащих в основе нашей эстетической способности. Естественное и до известной степени удовлетворительное развитие каждой способности в отдельности, требующейся для какого-либо отдела искусства, должно предшествовать развитию совокупности способностей, необходимой для каждого отдела искусства. Если же какая-нибудь из этих способностей в отдельности останется в пренебрежении, то желаемое изучение какого-либо отдела искусств во всех его требованиях будет неестественно ослаблено и заторможено. Но мы выше коснулись уже этого взгляда. Эстетическая способность, как и умственная, станет духом и жизнью лишь посредством естественного развития каждой отдельной из ее основных частей. Точно так же отдельные составные части эстетической способности, как и интеллектуальной, станут духом и жизнью, а вследствие этого и действительным средством для развития человечности. Бесспорно, что всякое отдельное средство искусственного развития лишь тогда станет средством, способным при помощи искусства утвердить, развить, выразить и проявить наши природные человеческие свойства, или, скорее, возвысить людей до человечности, когда это искусственное развитие, благодаря естественности своих развивающих средств, само станет духом и жизнью.
Если рассмотреть в этом отношении способность речи, или, лучше, обучение языку, как средство искусственного развития, то можно найти, что искусство, при помощи которого можно естественно обосновать его во всем его объеме, происходит из искусства естественного обосновывать способность наблюдения, и лишь путем соединения обоих становится возможным путь к естественному солидному развитию способности мышления и суждения, развитию, удовлетворяющему самым существенным требованиям человеческой природы.
Это последнее, элементарное, или – что то же – естественное развитие способности мышления, исследования и суждения требует между тем большей помощи со стороны человеческого искусства, чем развитие способности наблюдения. Логическая операция естественного сопоставления, разделения и сравнения, которые внушаются и делаются привычными для ребенка, мыслительная и критическая способность которого должна быть естественно развита и укреплена при помощи искусства, конечно, требуют существенной, глубокой, психологической обработки основных способностей, которые в состоянии естественно оживить, укрепить и упрочить результаты всякого серьезного сопоставления, разделения и сравнения, т. е. все основы солидного мышления. Бесспорно, они требуют глубокой психологической обработки человеческих способностей к счислению и измерению, из которых вытекает учение о форме и числе, умственно и эстетически-развивающие последствия которых в своем влиянии на все человеческое мышление способны возвыситься от простого суждения о предметах, находящихся в пределах нашего наблюдения, до высшей степени чистой науки.
Судя по тому, сколько искусство элементарного образования требует и с этой стороны, очевидно, оно достижимо, и я могу хотя и с скромностью, с которой должен судить о результатах своих жизненных стремлений, тем не менее высказать, что лепта, вложенная соединенными усилиями тех членов моего дома, которые не вполне пренебрегли существенными основами элементарного развития мыслительной способности, составила, конечно, существенный, достойный серьезного исследования материал для того, чтобы поставить вне всякого сомнения возможность получения высших результатов от идеи элементарного образования со стороны ее влияния на естественное развитие человеческой мыслительной способности. Путь, по которому в этом случае следует идти в элементарном духе, следующий: элементарно, по указанным принципам, обработанное учение о языке должно в силу главнейших качеств всех его средств, как естественное средство к развитию отечественного языка, содействовать увеличению сил семьи во всех сословиях в деле солидного развития детской наблюдательности и этим пополнить пробел, существующий между развитием способности наблюдения и развитием мыслительной способности и могущий быть заполненным лишь посредством естественного развития способности речи. Средства, которые элементарным развитием способности речи даются для этого матерям и всем домашним, каким бы то ни было образом находящимися в соприкосновении с детьми данной семьи, такого сорта, что овладевают этими способностями ребенка в начале их развития, и притом в прочной связи их друг с другом, и способны естественно оживлять все, что только может быть возбуждено в ребенке: радость, любовь, внимательность, деятельность, усилия, – другими словами, его сердце, его ум, его руку, и таким образом возбуждать все его силы в связи друг с другом и содействовать их естественному росту, развивая их и укрепляя с самого начала.
Если мы взглянем на главные принципы и средства элементарного образования по отношению к их влиянию на развитие художественной способности, то увидим, что при элементарном руководстве ребенка результаты получатся совершенно те же самые. Обучение чтению и письму (чтобы начать с самых ничтожных и общих исходных пунктов школьного искусства), если упражнения в них велись вполне правильно, приводит к тем же результатам, к которым приводит и естественное обучение речи. Если искусственные средства обучения чтению и письму не способны вместе с тем охватить сразу и оживить ум, сердце и руку ребенка, то, стало быть, они даны в недостаточно элементарном виде и при постепенном их применении не приводят к совокупности природных человеческих способностей, на которую следует смотреть, которую следует признавать и которой добиваться как необходимого результата естественного, элементарного воспитания людей. Но хорошо видно, что это, а вместе с тем и все результаты элементарного образования недостижимы помимо связи с вытекающими из любви и веры образовательными средствами семейной жизни. Но что свойственно семейной жизни, то во всяком случае следует признавать существенной основой всех действительных элементарно-образовательных приемов.
Я еще раз с этой точки зрения взгляну на искусство письма. Все, что ребенок приобретает в речи благодаря средствам элементарного образования, то приобретает он и в письме. Каждый предмет, благодаря наблюдению ставший столь ясным для ребенка и относительно которого он может определенно высказаться, уже заранее имеет в себе нечто духовное, присущее способности выражаться письменно (вполне определенно) насчет этого предмета, и для того, чтобы это делать, ребенку недостает одного только усвоения механической части искусства письма, необходимой для письменного выражения того, что он может сказать устно. Но и на усвоение этого умения средства элементарного образования имеют решительное и во всей системе воспитания очень важное влияние. Элементарное начало к искусства письма исходит не от усвоения букв какого-нибудь языка, а от твердости и правильности усвоения различных чистых, основных форм прямых и кривых линий в перпендикулярном и горизонтальном направлении и требует усвоения (посредством хорошего глазомера) форм изменяющегося наклона сверху вниз, а относительно круглой формы – усвоения ее постепенного перехода в яйцеобразную, все более суживающуюся, лежащую и стоящую, короткую и удлиненную. Он старается также без всякого отношения к красоте буквенных форм, в сущности, не эстетически построенных, добиться преимущественно определенного и ясного их изображения, в сущности, странного и произвольного, а также скорости в движении руки ребенка, т. е. старается научить его писать ясно и скоро. Красота письма есть не что иное, как ясность в формах перехода толстого в тонкое и прямого в косое. Упражнения, посредством которых этого достигают, суть упражнения в каллиграфии. И таким образом, элементарное образование и относительно усвоения искусства письма выходит из основных пунктов, лежащих в основе естественного развития искусства черчения, т. е. искусства правильно и красиво выражать всякого рода формы. Все развитие, которое существует в способах воздействия этих средств на развитие искусства письма и на развитие художественной способности вообще, состоит в том, что оно, искусство письма, в своем высшем развитии укрепляет руку по отношению к правильности и даже мягкости форм, а искусство вообще, и в особенности искусство черчения, приводит к постоянно увеличивающейся свободе в воспроизведении всякого рода мягкости и красоты. Точно так же то, что я сказал относительно естественного обучения чтению и письму, одинаково верно и относительно всего того, что нужно для естественного развития сил, лежащих в основе изучения всех отделов искусств и профессий.
Крайне важно привести в согласие средства идеи элементарного образования вообще и на каждой ступени со степенью восприимчивости тех сил, развитие которых для этого нужно. Современный мир, который в своем неестественном и рутинно-пагубном ухищрении мало обращает внимания на это согласие и не понимает ни важности, ни природы этого взгляда, будет и должен находить осуществление этого бесконечно трудным. Но понять дело правильно не так трудно. Элементарное воспитание во всех его образовательных и методических средствах таково, что пользующийся им питомец ни на одной ступени своего образования не может сделать ни шагу вперед, если не усвоит себе вполне предыдущего, так что для учителя вовсе не трудно определить степень его способностей в этом отношении. При подобном воспитании эта степень сама собою бросается ему в глаза, но этого, конечно, не бывает при бессвязной поверхности обычных рутинных методов. Напротив, при путанице в ступенях, бывающей при поверхностном обучении, во всяком случае очень трудно правильно определить степень восприимчивости ребенка для каждого отдела обучения, на котором он останавливается, равно как степень первоначальной силы, в основе которой лежит эта положительная восприимчивость, а еще более трудно применить все это к делу.
Но теперь я перехожу к последнему результату этих взглядов на мое дело, сводящемуся к тому, что если бы правильно познать сущность требований идеи элементарного образования и правильно же следовать принципам ее естественного осуществления, то, по моему убеждению, успех ее был бы, несомненно, во всем, чего, что как мы видели и представили, можно посредством нее достигнуть. Это же, конечно, предполагает безусловно необходимым, чтобы, во-первых, все меры к осуществлению этой великой идеи основывались на вере и любви и чтобы эта главнейшая основа удерживалась во все время применения этой идеи, так как лишь посредством одного этого возможно привести в гармонию все способы развития наших сил и способностей и эту гармонию поддерживать. Затем, эта главная цель идеи элементарного образования и все ожидания и надежды, которые мы на нее возлагаем, предполагают, что каждый отдельный способ искусственно развить наши силы тщательно будет подчинен вечным законам, на основании которых сама природа развивает эти силы; далее, что развитие отдельной части какой-нибудь человеческой способности никогда не будет признано за развитие самой этой способности, а будет признаваемо лишь одним из элементов ее развития; точно так же это предполагает, что старание внутренне вывести все искусственные способы развития наших сил из единства человеческой природы будет идти рука об руку с таким же старанием и внешним образом привести эти способы в согласие с положением, условиями, обстоятельствами и силами отдельных сословий и индивидуумов, которыми они должны быть усвоены, равно как с большей или меньшей степенью широты, в какой может и должно произойти у них это усвоение, если принять во внимание их положение и силы; и я должен еще раз повторить, что исполнения благих ожиданий от влияния этой великой идеи можно ждать, во всяком случае, лишь настолько и в такой степени, в какой при осуществлении ее будут удовлетворены эти условия. Это необходимо высказывать определенно и часто, так как я хорошо сознаю, что благие результаты этой великой идеи я представил не только в качестве содействующих достижению, обоснованию и обеспечению главных целей моих жизненных стремлений и (как таковые) глубоко проникающих в человеческую природу, но и в качестве достижимых и осуществляемых во всем и старался возбудить этой книгой ожидание и надежду на то, что эти результаты наверное будут достигнуты.
При таких обстоятельствах я естественно и неизбежно должен предвидеть и принимать за верное, что каждый читатель, прочитавший это с рассудительностью и серьезным вниманием, в конце концов, если он сделает это два-три раза, лишь удивится насчет контраста между этой картиной и действительной неудачей моих стремлений, и спросит меня: «Но, Песталоцци, если все высказанные тобою взгляды действительно таковы, как же возможно, что твои двадцатилетние жизненные стремления в этом отношении не имели иного успеха, кроме того, который мы с тобой имеем перед глазами?»
Я определенно отвечу на это. Как в этой книге я изложил для публики свои взгляды и свои убеждения во внутреннем достоинстве идеи элементарного образования, так твердо решился без утайки представить ей отрицательные стороны, слабость и недостатки моих стремлений самих по себе, равно как и внешние причины их неизбежной неудачи, если не в полном объеме, так в их настоящих первоисточниках. Я хотел и то и другое изложить в настоящей книге, и все уже с год было готово к опубликованию. Обстоятельства, которых я здесь не касаюсь, помешали печатанию. Оно будет отделено от этой книги, появится отдельно, и в настоящее время мне действительно приятно отделить свою лебединую песнь, которую я с чувством умирающего хотел сделать близкой сердцу тех, которые любят людей и воспитание, от описания своей жизни, глубокие огорчения и страдания которой не находятся в совершенно успокаивающем меня созвучии с теми чувствами, которые в этой книге мне бы хотелось сохранить в себе в чистом виде. Препятствия, которые мешали моим двадцатилетним стремлениям разъяснить идею элементарного образования в теоретическом и практическом отношении и, наконец, привели мой институт в Иферте[23] к почти полному разложению[24], заключаются прежде всего в контрасте между требованием чистой естественности в способах воспитания и обучения и в высшей степени пагубным мудрствованием, в какое впало наше современное воспитание и обучение, или, скорее, в тех причинах, которые лежат в основе пагубного одичания и мудрствования людей во всех краях земли. Вообще, плотское чувство противодействует чувству духовному, – оно вообще против внутренней, божественной сущности всех основ высшей человеческой природы. Чувственный, животный человек нигде не признает вещей, которые имеют в себе дух Божий и находятся в настоящем, сильном согласии с внутренней искрой вечной божественной сущности, лежащей в основе нашей природы. Он существует во всем свете, во всех странах и при всех обстоятельствах и условиях, чувственно ослабляя плоды веры и любви, животно оживляя противоречие межу требованиями своего духа и своей плоти и в силу этого подчиняя свой разум своим страстям. Все усилия, которые проявляет истина по отношению к любви, мышлению и действию, равно как все усилия художественной способности, которые точно так же требуются для успеха человеческой деятельности, чужды и неприятны животной природе человечества. Следовательно, первое препятствие признанию идеи элементарного образования и склонности к усвоению ее образовательных средств заключается в неразвитой, чувственной природе самих людей. Плотское чувство никоим образом не приводит человеческий род к настоящему искусству, из которого только и происходят естественно-образовательные средства идеи элементарного образования, а скорее приводит к пагубному мудрствованию, которое противодействует, при помощи приманок нашей животной чувственности, развитию истинного искусства среди людей. Это одинаково справедливо относительно всех эпох. Дух глупости и греха лежит в нашей плоти и крови и всеми своими приманками противодействует развитию наших способностей к мудрости и к добродетели, к любви и к вере. Истинное искусство людей, к которому стремится идея элементарного образования, никоим образом не происходит из этого чувства. Это последнее, напротив, всей своей мощной, чувственной приманкой действует на появление пагубных мудрствований, которые по своей природе противятся и должны противиться развитию результатов идеи элементарного образования. Мы все знаем, в какой степени эти пагубные мудрствования в наше время, к которому относится и моя деятельность, не только глубоко укоренились, но еще благодаря результатам великого события, угрожавшего сорвать мир со всех его крючков, так оживились, что стали в высокой степени способны сделать бесплодным и недействительным всякое противодействие последствиям тех страстей, которые в это время совершенно разнуздались. Но в этой книге я почти все сказал об этом, что должен был сказать. Препятствия, стоявшие на пути моим стремлениям осветить в теоретическом и практическом отношении эту великую идею, находятся далее во мне самом и в особых обстоятельствах двадцатилетней эпохи моего пребывания в Бургдорфе и Иферте, историю которых я напечатаю особой книгой. Я не имею никаких причин не говорить в этой книге открыто и определенно относительно препятствий, бывших во мне самом, а именно относительно того, что, с одной стороны, они заключались в индивидуальных особенностях моего характера, а с другой – в условиях и обстоятельствах моей юности и моего воспитания. Я сделаю это немедленно.
Об обучении детей
Книга для матерей, или Способ учить дитя наблюдать и говорить
Действие головы
Иногда головой качаем, иногда киваем, иногда носим на ней разные вещи.
Качать головой
Мать качает головой, увидев, что дитя хочет сделать или уже сделало что-нибудь дурное.
Учитель качает головой, когда его ученики, вместо того чтобы слушать урок, резвятся.
Когда слышим разговор явно несправедливый, но не хотим вступать в спор и опровергать его, тогда идем прочь и качаем головой.
Действия глаз
Глаза открываются, смыкаются, видят, мигают, метят, косятся, плачут.
Всякий человек, кроме слепого, видит то, что встречается его глазам. Вещи, видимые всеми, бесчисленны, и хотя есть вещи такие, которые больше видит один, нежели другой, но эти последние пред несравненным множеством первых можно почесть ни за что. Человек обыкновенно не обращает своего внимания и не хочет говорить о том, что видит всякий; но когда дело идет о вещах, виденных одним или немногими, то как будто старается заглушить нас своим повествованием о них. Вот почему, кажется, столь велика разность между тем, что видят все, и между тем, что видят немногие, – разность в самом деле нечувствительная. Целые народы за всю жизнь не видят ни моря, ни острова, ни города, ни книг – но все видят то, из чего произошли и из чего состоят моря, острова, города, книги, – все видят воду, землю, камни, растения, людей и прочее.
То, что ребенок – я разумею здесь детей не из всех частей света, но единственно тех, которые ближе к нам и для которых написана эта книга, – то, что ребенок видит прежде всего, что видит каждый день, – есть он сам и его мать; также каждый день видит он четыре стены, в которых живет, и все, что в них находится, видит своего отца, братьев, сестер, видит их и свою постель, видит хлеб, мясо, суп, ложку, нож, вилку, видит воду, молоко, огонь, печь, пол, дверь, окно. Через несколько дней после рождения мать несет его к окну; тут видит он небо, землю, видит сад, деревья, видит дома, людей, разных животных, видит близкое и далекое, видит большое и малое, видит многое и немногое, видит белое, синее, красное, черное; однако не разумеет, что далеко или близко от него, что велико или мало, чего много или немного, что бело, сине, красно, черно.
Через несколько недель мать несет его из покоев; тут видит он гораздо ближе, нежели прежде; тут уже подле него проходят те собаки, кошки, коровы и овцы, которых он видел только из окна; тут он вблизи видит курицу, которая клюет пшеницу из рук его матери, тут вблизи видит воду, которая из колодца течет по желобу; тут мать рвет и дает ему белые, желтые, красные цветочки. По прошествии нескольких месяцев его несут еще далее; там в другой раз видит он сей дом, это дерево и эту церковь, на которые прежде смотрел в большом расстоянии. Едва у ребенка начнут укрепляться ноги, как любопытство и внутреннее побуждение наслаждаться природой влекут его на открытый воздух; он переползает через порог, садится в тихом месте против солнца, хватает все, что видит, собирает камушки, рвет красивые и пахучие цветочки, кладет их и все, что поймает, в рот; ловит ручонками червячка, который ползет мимо его. Вся вселенная стоит перед его глазами, и он протягивает свои ручонки ко всему и хочет поймать все, что ни видит в ее обширной области.
Так ребенок всякий день видит вещи ближе и ближе, всякий день узнает их лучше и всякий день лучше различает большие от малых, близкие от дальних, многие от немногих, легкие от тяжелых, шероховатые от гладких, различает вещи приятные от неприятных.
Добрые матери! Что после сего остается вам делать? Ничего более как следовать той верной стезе, которую показывает сама природа, сам Небесный Отец, пекущийся о вас и ваших детях! Вы видите предметы, которые показывает детям сам Бог с первой минуты их рождения; вы видите предметы, которые более действуют на их ум и сердце; вы видите, что в маленьком горизонте более привлекает их взор, к чему они более протягивают свои ручонки, что более производит в них радость и улыбку! Добрые матери, примечайте эти вещи; это урок, который дает вам сама природа! Подносите их чаще к тому, что они силятся поймать своими ручонками, к тому, на что они с улыбкой смотрят, ищите около себя, в своем доме, в этой долине, на этом лугу, ищите и там и везде все, что с любимыми их вещами сходно в цвете, блеске, форме, жизни, движении; кладите им все это в колыбель, ставьте перед ними на стол; пускай они спокойно и свободно смотрят, как цветы, вами принесенные, блекнут, увядают и обращаются в ничто, пускай видят, как вместо них вы опять приносите им свежие и как они опять блекнут. Совсем увядают и обращаются в ничто. Этого уже довольно с вашей стороны для их образования! Но вот еще один урок, самый важнейший для вас урок! Воспитывайте детей так, чтобы они ни к чему столько не улыбались, ни к чему столько не протягивали своих ручонок, ни к чему и ни к кому с такой радостью не летели навстречу, как к вам! Это самый важный для вас урок, чтобы они ни к кому и ни к чему в свете не были так привязаны, как к вам, а для вас ничто и никто в свете не был так мил, как они! Сама природа призывает вас собственной рукой лелеять и воспитывать детей! Не отдавайте их в чужие руки; никто не может быть для них тем, что мать, так точно, как для вас никто не может быть тем, что ваши дети! Не отдавайте их в чужие руки; пускай это нежное сердце пробуждается для вашего сердца, не для чужого; пускай первые семена любви, первые семена благодарности раскрываются для вас, не для чужого; пускай они раскрываются вашим стараниям, не чужим! Я не знаю, что на земле может быть радостнее для матери, как видеть и наслаждаться первыми следами этой детской любви, этих благодарных чувств и этой доверенности! Добрые матери! Вы в полной мере насладитесь этой единственной радостью, когда исполните свою должность, когда сами будете воспитывать детей[25]! Я трепещу, я стыжусь всего человечества, всей вселенной сказать вам: «Любите своих детей!» Но скажу еще одно: небесный промысел, пекущийся о детях, начинает воспитывать их с той самой минуты, как они открывают глаза. Добрые матери! С этой самой минуты должны начинаться и ваши попечения!
Видеть и смотреть
Слова «видеть» и «смотреть» имеют разный смысл. «Он видит это» значит «этот предмет произвел полное впечатление в его органе зрения и в его душе»; «он смотрит на это» значит «он обратил глаза на этот предмет». Кто видит вещь, тот получает идею о ее форме, цвете и пр.; но часто, смотря во все глаза, мы ничего не видим.
Мы часто говорим малым детям: «Смотри лучше, если хочешь видеть». Это значит, что острое и внимательное зрение образует человека. В самом деле, не все ли наши познания начинаются тем, что мы видим предмет, и не оттого ли более и более они распространяются, зреют и приходят в совершенство, что с наблюдением смотрим на него? По крайней мере, нет сомнения в том, что почти все наши чувства получают свой тон от чувства зрения, т. е. вместе с ним изощряются или слабеют.
Есть вещи, которые не мешают нам видеть того, на что смотрим, хотя находятся перед самыми нашими глазами. Таков хрусталь, стекло, слюда, тонкий рог, вода; они называются прозрачными; прозрачнейшее из всех тел есть воздух. Тела, через которые смотря ничего не видим, называются непрозрачными.
Видеть
Мы видим человека, разных животных, разные вещи, видим часто или редко, ясно или неясно.
Видеть людей, животных, разные вещи
Мы видим отца, братьев, сестер, друзей, знакомых, видим льва, леопарда и пр., видим разные растения, камни, дома, нивы, деревни, поля, рощи, горы, реки, моря, одним словом все, что представляет нам земля и небо.
Зимой видим снег и лед; весной видим развивающиеся листья и цветы; летом видим бабочек, червячков, мух; осенью видим крестьянина, собирающего с полей хлеб и с деревьев плоды. Днем видим солнце, ночью луну и звезды.
Видеть часто
Обыкновенно видим часто тех людей и те вещи, которые к нам близки. Так мать часто видит своих детей, помещик своих крестьян, офицер своих солдат, пастух своих овец, портной свои иглы и нитки, сапожник свои кожи.
Видеть редко
Редко видим затмение Солнца и Луны; редко видим кометы, пожар и наводнение.
Видеть ясно и неясно
Если у нас здоровые глаза, если предмет хорошо освещен, находится от нас не слишком далеко и не слишком близко, то не можем не видеть его ясно; но без этих трех условий, т. е. когда у нас повреждены глаза, когда предмет освещен плохо, например находится в густой тени или в тумане, и когда находится не в надлежащем расстоянии, то видим его неясно.
Видеть в ком и в чем
Куда ни взглянем, во всем видим одну оболочку. Нет! Мы видим одну часть этой оболочки и только в том положении, какое схватим, смотря на нее. В человеке, в других животных, разумеется когда они здоровы, видим одну кожу, волосы, ногти, зубы; однако иногда видим пот, выступивший из кожи, и слезы, текущие из глаз. Кровь, мясо и кости можно видеть в человеке только тогда, когда он получит глубокие раны, только в подобном случае можно видеть его внутренние части.
Если вода чиста (в реке, озере, ведре), то мы видим в ней даже то, что лежит на самом дне.
Мы видим в книге листы, буквы и числа, в доме стены и картины на стенах, мебель и часто людей, похожих на мебель.
Мы видим живую рыбу в озере, в пруде, в реке, в барке и пр.
Мы видим в воздухе облака, птиц, насекомых и пр.
Мы видим в церкви то, что редко случается видеть в другом месте, там видим, что один говорит, а тысячи молчат и с величайшим вниманием слушают.
Видеть на ком и на чем
На яблоне здоровой зимой видим кору и голые ветви, весной кору и ветви с листьями и цветами, осенью кору и ветви с листьями и плодами. Чтобы видеть корень яблони, надо выкопать ее из земли; чтобы видеть тело, составляющее пень ее, надо с какой-нибудь стороны снять кору; чтобы видеть сердце пня, надо или перерубить, или перепилить, или переломить его так, чтобы открылась вся внутренность.
На трубочисте видим сажу; после большого дождя на ногах у крестьянина, идущего с поля, и на колесах у кареты, которая проезжает мимо нас, видим грязь; у того, кто ел чернику, видим на языке и на зубах оставшийся черный сок ее; у того, кто имел дурную оспу, видим на лице рябины; на свежей ране видим кровь, а на заживающей – гной.
Мы видим на лошади скачущего человека, на осле и на верблюде видим мешки с мукой и пр.
Мы видим на домах черепицу, солому и доски, которыми они покрыты; кто был в Швейцарии, тот видел, что горные ее жители не прибивают досок на плоских своих кровлях, но только кладут на них камни; в тех местах, которые изобилуют шифером, видим на домах, вместо черепицы, шиферные плиты; мы видим на кровлях голубей, галок, воробьев, а иногда кошек и павлинов.
На церквях и колокольнях в иной земле видим кресты, в иной – петухов, в иной – луну и звезды.
Мы видим на стебле цветок, а на цветке иногда пчелу, собирающую мед, иногда жука или червя, подтачивающих его.
Видеть под чем
Мы видим у крестьян под телегой коробы, в которых они возят разные вещи, видим под каретой кур, собак, которые стоят или бегают под ними.
Мы видим, что у людей, которые не умеют порядочно есть, под столом валяются хлеб, кости, ножи, вилки и пр.
Часто под кровлей видим голубиные и воробьиные гнезда.
Видеть посредством чего
Посредством стекла, составляющего наши окна, мы видим то, чего иначе не могли бы видеть, видим вещи, находящиеся за стенами нашего дома; видим сад нашего соседа, видим церковь, рощи, поля и крестьянина, там работающего. Посредством телескопа видим отдаленные вещи так ясно, как будто они находятся перед нами. Посредством микроскопа видим в мухе, в ее крыльях, в ее ногах такие части, которые совершенно скрываются от простого глаза.
Посредством очков престарелые люди видят яснее все вещи, которых они простым глазом не могут отличить одну от другой. Зеленые очки все показывают зеленым.
Видеть то, что находится внутри
Когда в нашем доме отворены окна, то всякий с улицы видит, что у нас происходит. Бо́льшая часть лавок в городах и селах так сделаны, чтобы всякий идущий мимо видел продаваемый в них товар.
Кто стоит за городом, недалеко от ворот, к воротам не обращен спиной и ворота не затворены, тот может видеть, что происходит внутри городских стен.
Видеть то, что находится вне
Кто стоит внутри города, недалеко от ворот, не обращен к воротам спиной и ворота не затворены, тот может видеть, что происходит за городом.
Находясь за городом, мы видим одни кровли домов, но если дом очень высок, то видим и верхний этаж его.
Видеть по признакам
Надлежит только взглянуть на человека, чтобы по лицу видеть, стар ли он или молод, здоров или нездоров; взглянув на дом, на платье и на другие вещи, мы тотчас находим в них признаки, по которым видим, новы ли они или неновы, прочны или непрочны; взглянув на мостовую, по лужам, которые на ней сделались, видим, что шел сильный дождь; взглянув на траву, по крупным каплям, которые на ней висят, видим, что ночью была большая роса; взглянув на виноград, по мертвым его лозам видим, что он поврежден морозом; мать, взглянув на дитя, по беспокойству, на его лице изображающемуся, видит, что оно сделало что-нибудь плохое; так по лицу видим, кто лукав и кто простосердечен, кто груб и кто нежен, кто весел и кто печален.
Охотник видит по следу, куда убежал зверь, им преследуемый. Крестьянские дети, которые на деревья лазают, видят по гнезду, какая птица свила его, и найдут ли в нем что-нибудь или нет.
Опять видеть
Пробудившись и встав с постели, дети опять видят своего отца, мать, братьев и сестер, с которыми они вчера прощались; одеваясь, они опять видят свое платье, которое вчера скинули, и пр.
Каждый месяц мы опять видим новую и полную Луну, видим ее ущерб и рождение.
Всякий вечер солнце закатывается и уходит от нас; но поутру мы опять видим его на горизонте.
Всякую весну мы опять видим ласточек, журавлей и других птиц, которые на зиму улетают от нас в теплые южные страны.
Мы видим, что в ручьях, которые высохли было от продолжительного зноя, после дождя опять показывается вода, – мы опять видим, что они текут.
Видеть то, чего нет в натуре
Мы часто видим то, чего совсем нет в натуре. Этот обман не зависит от нас и называется у физиков оптическим. Смотря на отдаленные синие горы, холмы которых поднимаются один выше другого и образуют множество неправильных уступов, мы видим, но нам только кажется, что мы видим, будто этот холм, смыкаясь с этим холмом и этот уступ с тем уступом, представляют одну массу; на самом деле расстилаются между ними поля и обширнейшие долины; мы видим, но нам только кажется, что мы видим, будто там, за той высокою рощею и за тем огромным строением, свод неба лежит на земле, что там можно хватать руками самые облака, а кто гуляет в этой роще и кто живет в этом замке, тот видит, что горизонт еще далеко от него; мы видим, что Луна и звезды, покрывающие небо, находятся на одной и той же поверхности и, следовательно, в одинаковом расстоянии от нас, – но нам так кажется, ибо астрономы говорят, что пространство между Луною и звездами (неподвижными) превосходит их воображение. Многие во время глубокой осенней ночи видят какие-то страшные фигуры с руками, с ногами и с огненными глазами, но им так кажется, ибо, поутру приходя на то место, они сами видели, что это был гнилой пень, которому трусливое воображение придавало вид чудовища, похожего на человека.
Не видеть того, что делается перед нами
Иногда мы не видим того, что держим в руках. Подобные обманы по большой части зависят от нас и можно бы их назвать обманами лености. Так когда с отвлеченными мыслями смотрим на цветок, мы не видим ничего более цветка; но усилив внимание, мы видим его тычинки, видим, из какого числа листочков состоит его головка, видим, круглые ли его листочки или овальные, видим, ровные ли их края или зубчатые – тогда видим тысячу подробностей.
Смотреть
Мы смотрим на людей, на разных животных, на разные вещи, когда они находятся на одной линии с нами, выше нас или ниже нас.
Смотреть на то, что находится на одной линии с нами
Учитель смотрит на детей, которым дает урок, офицер на солдат, которых экзерцирует, пастух на стадо, которое стережет, и пр.
Все должны смотреть на то, что делают: живописец на свою картину, кузнец на свое железо, кухарка на сливки, которые варит, и пр.
Смотреть на то, что находится выше нас
Мы смотрим на каменщика, который ходит в церкви у самой главы и который на подобной высоте нам кажется ребенком.
Дети смотрят на отца, когда он влезает на вишню, однако только до тех пор, пока он не бросит им ягод.
Смотреть на то, что находится ниже нас
В городах, где почти все дома высоки, смотря из окна на улицу, должно так опустить глаза, как будто стоите на мосту и глядите с него на воду.
Какие чувства наполняют наше сердце и какие мысли родятся в нашей душе, когда всходим на высокую гору и с нее смотрим на извивающуюся реку, покрытую судами с богатым грузом, на множество дорог, которые в бесконечном разнообразии одна с другою пересекаются, соединяются и все идут к тем же воротам, на которых люди бегают, суетятся, кишат как муравьи; в одно время смотрим на обширные долины, на рассеянные по ним крестьянские хижины, где обитает простота и добродетель – часто в величайшей бедности, – и на эти зубчатые городские стены, на высокие их башни, на которых с золотом играют лучи заходящего солнца, на эти пышные дома, где шумит вечная радость и раздается смех, по большой части коварства и злобы!
Смотреть долго и недолго
Смотрим долго на вещь, когда хотим иметь о ней хорошее понятие или когда она очень обширна и сложна.
Кто слишком долго смотрит на безделицу и вообще на такие вещи, которые к нему не относятся, тот не смотрит, а ротозеит.
Кто спешит куда-нибудь, тот недолго смотрит и на самые любопытные вещи, какие ему встречаются.
Смотреть охотно и неохотно
Что для нас приятно, на то мы смотрим охотно; а что противно, на то всегда смотрим неохотно. Скупые, смотря на деньги охотно, всегда отворачиваются от бедного, к ним руку протягивающего.
Смотреть охотно и долго суть два действия нашей души, одно с другим неразлучные.
Смотреть со вниманием и без внимания
Живописец смотрит со вниманием на ландшафт, который ему понравился и которому он хочет подражать своей кистью. На вещи маловажные всякий смотрит без внимания; но худые дети смотрят без внимания и на то, что для них полезно и что им должно выучить твердо, списать хорошо, срисовать верно.
Смотреть пристально
Ребенок смотрит пристально почти на все вещи, с которыми встречаются его глаза. Он пристально смотрит на голубя, который подле него воркует, на курицу, которая подле него роется, на овцу, которая подле него пасется, и пр.
Действия носа
Посредством носа мы чувствуем всякий запах и вдыхаем в себя воздух.
Чувствовать запах
Мы чувствуем запах цветка, кореньев, свежего сена, горячих хлебов, гнилой рыбы, гнилого мяса; чувствуем запах лекарств, когда идем мимо аптеки, где они составляются, чувствуем запах кожи, когда идем мимо сыромятной фабрики, где они выделываются; так чувствуем запах вещи, которая тлеет, и это одно часто спасает нас от близкого пожара. Запах розы, гвоздики, мяты и пр. для нас приятен; мы нюхаем их и любуемся. Но у кого гнилы зубы, даже у кого нечисты они, с тем не хотим говорить ни близко сидеть, потому что слышим у него изо рта неприятный запах. У многих детей, особливо у тех, которых нечувствительные матери оставляют без призрения, распространяется по голове золотуха и, гноясь, производит запах отвратительный. У многих детей также воняет от рук, если они не умывают их. Некоторые лекарства столь неприятны бывают, что от одного их запаха становится дурно. Во время насморка мы почти теряем обоняние и почти совсем не слышим запаха ни приятного, ни дурного.
Привычка производит то же, что насморк, т. е. она делает орган обоняния столь же нечувствительным. Привыкши к дурному запаху, мы не чувствуем его, и это хорошо. Не правда ли, что в доме сапожного мастера последовало бы величайшее замешательство и беспорядок, если бы его жена всегда падала в обморок от запаха кож? Скажите, что было бы, если бы кучер не мог войти в свою конюшню, если бы крестьянин не мог собирать навоза, если бы доктор не мог подойти к своему больному, не зажавши носа; скажите, как они исполнят свою должность? Будет ли у первого всегда сыта и чиста лошадь, у другого плодородна земля и кто поверит такому медику свое здоровье? Кто имеет нужное обоняние, тот часто бывает роскошен по неволе, подобно тем разборчивым людям, которые не могут видеть того, что не прекрасно, не могут слышать того, что в ухе отзывается негармонически и не могут есть того, что кажется невкусно, тот должен обладать таким богатством, которое удовлетворяло бы его прихотям; иначе столь тонкое чувство будет служить только к его мучению. Счастлив молодой человек, который так воспитан, что без отвращения может на все смотреть, все слышать, все есть, который может переносить всякий запах, когда этого требует должность! Для него не будет тягостна добродетель, для него не будет труден самый тернистый путь, лишь бы вел к чести и истинному благополучию! Так все наши чувства, и следственно чувство обоняния, должны быть более остры, нежели тонки и нежны.
Вдыхать в себя воздух
Мы вдыхаем в себя воздух или чистый и здоровый, или испорченный и вредный.
Воздух, которой находим на горах, чист и здоров; но на местах низких и болотистых, в больницах и больших городах он всегда бывает испорченный и вредный[26].
Действия рта
Рот разевается, сжимается; посредством рта едим, пьем, говорим, плюем и пр.
Говорить
Дитя видит без нашей помощи, это дар, с которым оно родится; но не учите его говорить – и оно останется немым на всю жизнь.
Дитя от природы получает орган голоса; искусство извлекает из него вразумительную речь. Первый язык столь же прост, как первые нужды; но со временем, когда распространятся наши понятия и образуется вкус, он становится богаче, яснее, живее, приятнее. Язык есть не что другое, как те звуки, в которые одеваем свои мысли и чувства, чтобы сообщить их другому. Какие средства употребляет природа, чтобы научить дитя говорить, и какие средства для сего должно употребить искусство – там, где природа оставляет дитя попечению матери?
Мать лепечет и произносит перед ребенком разные звуки тысячу раз в день. Это инстинкт, которому сердце ее повинуется слепо, но тем с большею радостью, что это лепетание, эти нескладные звуки развлекают и утешают ее милую крошечку. В тo же время дитя слышит голос отца, брата, слуги, служанки; оно слышит звон колокольчика, слышит стук топора, слышит, как лает собака, как поет птица, как блеет овца и кричит петух. Все это сначала не производит в нем ничего, кроме простого чувства звуков и чувства разности между ними, но скоро начинает он угадывать и примечать связь между каждым звуком и предметом, производящим его. Когда зазвонит колокольчик, ребенок тотчас оборачивается к нему; когда замычит корова, он смотрит на корову; когда стукнет кто-нибудь в двери, он оглядывается на двери; когда залает собака, его глаза устремляются на собаку. Так мало-помалу находит он связь между всеми звуками и самими предметами, их производящими; так мало-помалу узнает он связь между всеми вещами, пред глазами у него находящимися, и между теми звуками, которые мать повторяет, когда хочет ему показать их, – узнает связь между ее словами и называемыми предметами!
Но ребенок еще не испытывал собственных сил в подражании тем звукам, которые слышит; наконец он чувствует в себе эти силы; у него механически вырывается крик, он слышит его, чувствует свои силы; он хочет лепетать и видит успех; он радуется своему лепетанию; он лепечет и смеется! Мать, слыша это лепетание и видя улыбку, которая сопровождает его, приходит в восторг; ее инстинкт налепетывать дитяти разные звуки приобретает час от часу бо́льшую силу; она предается ему час от часу с большей радостью.
По прошествии нескольких месяцев это побуждение достигает последней своей степени и природа оставляет слепое средство, с которого начинается первое образование языка. Прежняя склонность утешать и развлекать дитя лепетанием мало-помалу проходит у матери; звуки без смысла не занимают более самого ребенка; он умеет находить подобное рассеяние в самом себе и в тех предметах, которые окружают его; он достиг того времени, когда нужно что-то большее, нежели рассеяние, когда он желает чего-то большего, чем рассеяние; он желает понимать то, что видит, слышит, он желает учиться говорить[27], и мать желает его учить сему.
Нужда, душевные потребности и обстоятельства всегда ведут человека от слепого инстинкта к разуму. Подобному закону покорено самое образование его. Нужда, потребности душевные и обстоятельства погашают в матери инстинкт, погашают в ее сердце первый энтузиазм любви к дитяти; она делается уже холоднее; у нее не достает более времени для немого лепетания; кроме дитяти она начинает заниматься многим другим.
Она должна, она не может иначе ходить за ним, как время от времени, т. е. в известные часы, в известные минуты; во все другие часы, во все другие минуты требуют ее внимания и деятельности домашние заботы; она должна, она не может иначе учить дитя говорить, как в эти известные часы, в эти известные минуты. Однако для ребенка не пропадают те немногие часы, те немногие минуты; природа дала нежному возрасту его такие нужды, которым удовлетворяя матери невольно исполняют долг свой. Как много ни заняты они сторонним, но скоро возвращаются к тому, что им любезнее всего на свете. Они моют дитя; тут они должны и не могут не называть всякой части, на которую плещут воду и которую обтирают; они должны, они не могут не сказать: дай ручку, дай ножку. Они кормят дитя; тут они должны, они не могут не назвать каши, горшка, ложки. Они прохлаждают кашу на ложке; они хотят подать ее и в то же время останавливаются, медлят – они говорят: подожди, еще не остыло!
Как редко матери умеют учить дитя говорить, как редко знают самые существенные, самые нужные для этой цели правила! Много из них, столько говоря обо всем, что содержит и небо и земля, не в состоянии назвать ребенку трех или четырех частей его глазика, носика, ротика; говоря о постороннем целый день без умолку, ничего не скажут о вещах, самых необходимых для образования их детей, хотя бы эти вещи находились под руками. Так! Это самая несчастная истина, однако истина, что многие матери не имеют самых нужных сведений в языке; это самая несчастная истина, однако истина, что многие из них при всем красноречии бывают в этом случае самые худые матери. Нельзя описать всего вреда, от подобного невежества происходящего, но слава Богу, что средства против этого зла столько же легки, сколько следствия его пагубны.
Правила языка и их совершенство – все, что нужно детям для их образования, все, что нужно матерям, чтобы они были в состоянии образовать их язык, – все имеем, все доведено до совершенства; у всякого народа язык довольно богат, довольно ясен, определенен! Не достает одной системы, которая показала бы матерям ту первую точку, когда они должны начать учить дитя языку, и которая в этом поприще вела бы их от сей первой точки постепенно, прямо и верно к той последней точке, до которой и нуждами, и душевными потребностями, и разными обстоятельствами образован их собственный язык; еще никто не показал им этой первой точки во всем ее протяжении и никто не научил пользоваться ею во всем пространстве.
Добрые матери! Книга, которую вам посвящаю, имеет единственную цель; она имеет единственную цель дать вам надежнейшие средства удовлетворить первым потребностям подобного воспитания; эта книга дает способ учить дитя говорить определенно о своем теле, о его частях, о его строении и свойствах, говорить определенно обо всех предметах, которые окружают его, которые действуют на его чувства, которые обращают и не могут не обращать на себя его внимание!
Добрые матери! Мои советы в рассуждении образования языка основаны на тех же правилах, на которых основывал я образование впечатлений в дитяти, которые получает оно от предметов видимых; и вы должны пользоваться моими советами в этом последнем случае не иначе, как пользовались ими в первом.
Если вы согласны со мною, что ребенок не может иметь прямого понятия о предметах, находящихся пред глазами, пока они не запечатлеются в его душе глубокими, неизгладимыми чертами, то можно ли сомневаться в том, что эти понятия не будут иметь ни цены, ни пользы, пока не научите выражать их со всею точностью? Прежде вы носили его на руках ко всем предметам, давали пристально смотреть на все предметы, которые в особенности привлекают его внимание; теперь учите его говорить об этих предметах ясно, определенно! Следуйте этому единственному правилу, когда показываете ребенку какую-нибудь вещь в доме, в саду, в поле; учите его называть определенно ее имя, ее свойства, ее формы, ее действия. И когда познакомите его с близким и дальним расстоянием предметов, с их числом и величиною, сообщайте, твердите ему определенные названия сих отношений.
Добрые матери! Исполните эти правила; тогда, без сомнения, ваше дитя будет в состоянии выражаться с величайшей определенностью обо всем, что ни встретится его глазам. Но круг вещей, о которых ребенок слышит и о которых ему самому надлежит говорить, простирается гораздо далее физического мира. С человеческим сердцем неразлучны чувства нравственности, и в дитяти скоро пробуждается любовь, благодарность, доверенность; оно хочет говорить об этих чувствах и рано или поздно должно уметь сказать, что питает к вам любовь, благодарность, доверенность. Образование языка в этом случае теснейшим образом связано с образованием чувств моральных. Где же развиваются эти благородные чувства, где они получают свое начало? На груди у нежной, попечительной матери. Если природа основала на материнском попечении образование внешних чувств и произвела от него, как от первой точки, все искусство говорить о предметах физического миpa, то можно ли сомневаться, что она столько же, гораздо более покорила этому закону образование чувств, украшающих человечество, чувств любви, благодарности, доверенности? Так, добрые матери, оно столько же, гораздо более зависит от вашей нежности, от вашего попечения! От этой нежности, от этого попечения, как от первой точки, природа производит великую науку говорить о чувствах сердца!
О! Это самая священная истина для матери, что все ее старания образовать юное сердце дитяти, что все моральное воспитание во всем своем пространстве должно происходить от этой первой точки и во всех своих последствиях обращаться к ней как к главному центру.
Так! Все существо и неколебимая твердость морали, все чувства добродетели, рождающиеся в юной душе, зависят от начального материнского попечения, со времени первого их развития до совершенной их зрелости!
Добрые матери! Не забывайте никогда, что первыми учителями и первой точкой в этой высокой науке, чтобы дитя умело хорошо выражать чувства своего сердца, природа назначила ваше попечение и ту нежность, которая должна оживлять его! Не забывайте никогда, что этим попечением, с этой нежностью природа столь же тесно соединила, гораздо теснее соединила с ними эту великую науку, нежели искусство говорить о вещах физического мира! Добрые матери! Если хотите научить дитя говорить о чувствах сердца, последуйте природе, которая сама подает вам руку и показывает надежнейший путь к сей цели. Вспомните, что вы перед ребенком произносили слова: голова, глаз, ухо, рука – не прежде как тысячу раз запечатлелся в его душе самый образ головы, глаза, уха, руки; так не произносите и не давайте ему произносить священных слов любви, благодарности, доверенности прежде, нежели эти чувства тысячу раз повторятся в его сердце и сделаются для него совершенно понятными! О! Пускай дитя никогда не произносит слова любви без прямого чувства любви, слова благодарности без прямого чувства благодарности; пускай не произносит слова доверенности, пока его сердце тысячу раз не насладится прямым чувством доверенности!
Я знаю, чего требую, Бог и природа того же требуют, а свет и вы сами обременяете себя тем, чего не требует ни Бог, ни природа; вот почему тягостны вам те попечения, которых требует от вас Бог и природа! Шумный свет и вы сами разрываете таинственный союз, который природа мудрой рукою запечатлела у вас в сердце – между моральными способностями дитяти, их развитием и между первыми вашими попечениями о нем! Без глубокого, без пламенного чувства этого союза вы легко произнесете слово любви, не имея ни малейшей искры любви, и дадите ребенку вредный пример произносить это священное слово с такой мертвою холодностию! Ах! Какое зло причиняет вам свет, какое зло причиняете вы сами себе! Оставьте свои заблуждения, освободите себя от пагубного света, возвысьтесь над его мнимыми прелестями и сохраните материнские чувства, без чего вы не можете носить имя матери, вы недостойны имени матери; посейте, потеряйте все на свете, но, если хотите быть истинными матерями, посейте и укорените в сердце ваших детей прямую любовь, благодарность, доверенность – укорените их собственными чувствами непритворной любви, благодарности, доверенности и проистекающих из сего единственного источника чистотой и святостью материнских попечений!
Какое чудесное действие имеют эти чувства и эта нежность попечения, будучи оживляема взаимным огнем, взаимной помощью! Они возвращают вас самим себе и вашему дитяти; они на поприще воспитания каждый день освещают перед вами новые истины и каждый день дают новые силы! Добрые матери! Они ведут вас к источнику истины, к источнику силы – они ведут вас и ваше дитя к Богу, вашему Творцу, вашему Небесному Отцу! В этих нежных объятиях, в этих поцелуях, которые даете своему любезному малютке, они показывают ему Бога! Так! В этих поцелуях, в этом попечении дитя учится познавать, чувствовать Бога! Добрые матери! Для ваших детей необходимо нужно понятие о Боге, о Его благости, и они поверят от всего сердца, что это Существо милует вас, что Оно печется о вас, когда вы сами печетесь о них. О! Исполните весь свой долг к детям, тогда увидите, что едва произнесете имя вашего Небесного Отца, и радостная улыбка видна на устах их; но не произносите этого имени перед ними, не позволяйте и им произносить это имя без живейшего чувства любви, благодарности, доверенности; не забывайте никогда, что первое впечатление, какое получает юное сердце при слове Бог, зависит от непритворности, чистоты и святости ваших нежных попечений. Если ваши попечения оживлены любовью, тогда при имени Бога родится в сердце дитяти любовь, в самом мраке его возраста; но если ваши попечения не согреваются этим высоким, чистым чувством любви, тогда имя Бога в ребенке, покрытом тьмою своего бытия, не произведет никакого впечатления, никакой мысли; тогда для него имя Бога – пустой звук! Ах! Любите свое дитя, эту милую крошечку; пускай оно видит, слышит, чувствует, наслаждается, на вашей груди, в ваших попечениях, чувством любви, иначе имя Бога в мраке его бытия для него пустой звук! Добрые матери! Если дитя не видит и не чувствует вашей нежности и вашей заботливости о нем, то как может оно чувствовать, что Бог милосерден?
Еще повторяю вам, добрые матери! Образование языка с нравственностью столь же тесно соединено, но столько же зависит от образования чувств сердечных дитяти и нежности ваших попечений, сколько образование его в предметах физической природы зависит от образования чувств внешних и сопровождающего материнского попечения.
Человек говорит почти всегда, находится ли в состоянии действующем или страждущем. Во сне и в горячке он бредит, т. е. говорит без связи и без смысла.
Родители говорят с детьми поутру о том, как должно им проводить наступающий день, а вечером о том, как они провели его.
Дети говорят родителям: папинька, маминька! Если б я был на месте матери, то никаким пороком в ребенке столько не оскорбился бы, как притворством.
Часто дитя спрашивает у матери: куда пошел папинька? Если она знает, то удовлетворяет его любопытство, a если не знает, то говорит прямо: я не знаю.
Человек благородный и твердый говорит правду и там, где ее принимают хорошо, и там, где она привлекает ненависть и мщение.
Льстецы говорят единственно то, что приятно самолюбию их благодетеля!
Наглые, жестокие говорят каждое слово так, чтобы оно ложилось прямо на сердце у ненавистного им человека.
Безрассудные и злые говорят то, что несогласно с истиною. Сильные притеснители говорят то, что противно справедливости. Злой человек говорит для того, чтобы помрачить имя доброго, а добрый – какая разность! – добрый говорит если не для того, чтобы оправдывать несчастных, которых поносят злые, то по крайней мере для того, чтобы извинять их.
Если случай приведет гордого говорить с тем, кто ниже или беднее его, то, кажется, он желал бы все слова превратить в односложные. Гордый думает, что с людьми этого рода должно изъясняться не иначе как коротко, холодно и сухо.
Робкие почти никогда не говорят с незнакомым, и в особенности с теми, кого почитают выше и знатнее себя.
Эконом говорит о своем хозяйстве и о своей прибыли; кто был в горячке, тот говорит о своей горячке; путешественник, возвратившийся из чужих земель, говорит нам, что он там видел и слышал. Кто упал в пруд, тот говорит, как он избавился сам или как избавили его другие от близкой смерти. Тот, на кого напали волки, говорит о волках.
Есть люди, которые думают, что можно посадить дьявола в бутылку и нести его куда хочешь, что волшебницы ездят на метле вокруг всего света и могут влезть и вылезть в маленькую щель; они часто говорят такие анекдоты, что суеверные няни крестятся и шепчут: «Ангелы-Хранители, помилуйте нас», а дети не могут выйти в другую комнату.
Говорят, будто в обществе дураков люди делаются дураками; по крайней мере, нельзя сомневаться в том, что худые разговоры чрезвычайно размножили семя невежества.
Кто сам себе ищет презрения и ненависти, тому надлежит только беспрестанно говорить, не соображаясь ни со временем, ни с обстоятельствами, говорить всякой вздор. О! Его желание тотчас исполнится.
Кто, читая книги, никогда не рассуждает о том, что читал, говорит только те вещи, которые затвердил, – тот не говорит, но читает наизусть.
Кто пишет, тот говорит, не отворяя рта.
Кто говорит посредством трубы, того слова доходят туда, где простой голос не был бы слышен.
Мы говорим тихо или громко, ласково или грубо, медленно или скоро, охотно или неохотно, мало или много, ясно и неясно, осторожно и неосторожно, благопристойно и неблагопристойно.
Говорить тихо
Если хотим сказать свою тайну другому, так, чтобы никто не подслушал, тогда говорим тихо.
Кто простудил горло, тот должен говорить тихо; всякий должен говорить тихо, когда придет к больному.
Где совсем не должно говорить – например, в церкви, там люди, у которых язык не привык к подобной неволе, говорят, по крайней мере, тихо.
Говорить громко
Говорит громко проповедник на кафедре; говорит громко офицер перед фрунтом[28].
Кто хочет изъясняться с полуглухим, тому необходимо говорить громко.
Кричать
Самый громкий разговор называется криком. Так, кричим, когда надобно воротить человека, которой далеко ушел от нас.
Когда хотим переехать через реку, а перевозчик находится на другом берегу, мы кричим ему: «Подай лодку!»
Во время пожара или потопа несчастные кричат: «Помогите! Помогите!»
Солдат на часах кричит: «Кто идет?»
Говорить ласково
Эта любезная добродетель в особенности принадлежит женскому полу; однако и мужчина кроткий, хорошо воспитанный говорит ласково.
Человек низкий в душе и одновременно гордый говорит ласково только тогда, когда требует сего интерес.
Материнская любовь говорит ласково и тогда, когда виновное дитя оскорбило ее сердце.
Говорить грубо
Сердитый говорит столь же грубо, как те люди, которые всю жизнь проводят в конюшне и обращаются с одними лошадьми.
Часто наставники против воли должны говорить грубо с детьми непокорными и презирающими кроткие советы.
Смеяться
Смех есть священный дар Неба. Одна древняя пословица говорит: «От смеха кровь делается лучше», – и это правда. Смех, когда он происходит от внутреннего удовольствия, служит бальзамом жизни; смех есть выражение радости, одному человеку принадлежащее. Но все хорошее в человеке, и, следственно, самый смех, только тогда сохраняет свою цену, когда соединится с другими добрыми свойствами. Пускай встретится смех со злобою, тогда он будет столь же гнусен, как самая злоба; пускай встретится с невежеством, тогда он столь же жалок, как самое невежество. Когда смеется лукавый человек, тогда он вдвое лукав и опасен! У многих людей, которые смеются и смешат и которые из этого сделали ремесло, часто жена с заплаканными глазами и дети без хлеба сидят в худой хижине. Еще повторяю, что смех в человеке есть вещь священная; но повторяю и то, что в невеже, злодее, лукавце он гнусен и вреден. То же разумеется о смехе неумеренном и смехе некстати.
Добрые матери! Не запрещайте смеяться вашим детям; напротив, бойтесь, чтобы они не потеряли смеха, или, лучше сказать, душевной веселости, от которой он происходит! Эта потеря всегда бывает доказательством и следствием их испорченной и слабой натуры, доказательством и следствием зла, того великого зла, которое отравляет их бытие. Так, добрые матери! Если вы любите своих детей, сохраните в них смех и источник его – душевную веселость. Ах! Как легко можете погубить его, когда совсем не воображаете, можете невозвратно погубить его вашим сахаром, кофе, пуховыми подушками, большими уроками и другими упражнениями, обременяющими и голову и сердце. Чистый воздух, молоко, овсяная кашица, движение, например беганье, прыганье, но все одно с другим, все при благоразумном порядке и без излишества, вот что дает вашим детям смех и душевную веселость; вот от чего может цвести на их щеках румянец, сохраняя такую же свежесть в двадцать лет, какую имел на пятом году; вот чем можно предупредить в них дряхлую и уродливую фигуру; вот чем можно сберечь навсегда этот прямой и ровный стан, эти светлые глаза, эти алые губы, это веселое лицо и эту улыбку, которые они имеют на пятом или шестом году!
Жалкие матери! Вы не можете вообразить, сколь великого зла бываете причиною, выдумывая разные средства – какие бы они ни были, – чтоб истребить на устах ваших детей смех невинности. Берегите, лелейте в детях этот священный смех! Все хорошие качества, какие только в них должны раскрыться, созреть, прийти в совершенство и взаимную гармонию, при сохранении и, так сказать, благоразумном воспитании смеха гораздо скорее раскроются, гораздо скорее созреют и при взаимной их гармонии гораздо скорее приблизятся к прямому совершенству.
Добрые матери! Вот единственное средство, чтобы дети без всяких уроков научились не смеяться там, где не должно; вот единственное верное средство, чтобы никакая искусством произведенная слабость не отравляла их смеха невинности и не превратила его в смех невежества или лукавства, – не забывайте никогда, что разум, как бы он ни был образован, не может возвратить детям смеха, однажды потерянного; а при веселом расположении, ничем не испорченном, их разум до того может возвыситься, что смех невинности сохранится навсегда и, раскрываясь вместе с летами более и более, превратится в смех мудрости. Добрые матери! Подобный смех есть соль жизни; но если соль потеряет свое действие, то чем можете сохранить в детях цветущее здоровье?
Звуки, производимые четвероногими животными
Мы слышим звук от лошади, когда она ржет, от быка, когда он ревет, от овцы, когда она блеет.
Мы слышим звук от мыши, когда она пищит, и от крысы, когда она грызет стену.
Собака лает, кошка мяучит, свинья хрюкает и пр.
Звуки (крики), производимые птицами
Крик, который слышим от птиц, разнообразен до бесконечности.
Курица, снесши яйцо, кудахчет, созывая цыплят, клохчет; петух кукарекает, гусь гогочет, утка крякает, попугай болтает, горлица воркует, сова кричит «угу», кукушка – «куку»; соловей, чижик, малиновка, щегленок, синица поют; пение ласточки называется щебетаньем, а пение воробья – чириканьем.
Летнее утро представляет нам картины самые восхитительные и величественные! Посмотрите на эту бархатную зеленую долину, посмотрите на это сребристое облако, подобно флеру, покрывающее ее, посмотрите, как оно волнуется, посмотрите, как оно стоит там неподвижно, здесь переходит с одного места на другое, там поднимается выше, здесь стелется по земле и, кажется, целует траву и нивы, там становится реже и реже, здесь совсем исчезает; посмотрите, как кротко восходит румяное солнце, позлащая вдали верхи дымящихся гор, посмотрите, как оно играет у ваших ног в маленькой капле росы, то показывая в ней свой светлый образ, то украшая ее яркими радужными цветами! А там, под зеленым сводом рощи, слышите ли громкие, торжественные концерты птичек, слышите ли тысячи этих голосов, прославляющих Творца прекрасной природы? Ах! Кто не почувствует в эту священную минуту благости Небесного Отца, у кого не прольется слеза благодарности, чье сердце не наполнится благоговением! Но этими тихими и высокими чувствами ничье сердце не наслаждается живее материнского, в этих величественных сценах никто столько не находит уроков, как добрая мать; она находит в них бесчисленные уроки для себя и для окружающих ее детей!
Утренняя прогулка матери
Как прекрасно все созданье! Как все весело вокруг! В разноцветном одеянье Улыбается сей луг; Там целуется с цветами Тихий, нежный ветерок; Здесь лепечет с берегами Резвый, быстрый ручеек. — Дети! Утро – нова радость! Дети! Голос соловья Будит, славит нову благость, — Славит Божие дела! Дети милы! Упадите Пред благим Творцом небес — Он вас видит, – принесите Жертву благодарных слез! — Говорите: о Безвестный, Ты, Который вестен нам По Своей любви небесной, По родительским сердцам!Звуки, производимые насекомыми
В летнее время мы слышим жужжание пчел, ос, мух, когда они летают около кустов, над цветами и травою; мы часто слышим, как сверчок за стеною точит дерево. Многие, не зная, от чего происходит сей шорох, в простоте сердца почитали его шорохом смерти, идущей к ним со своею косою, и от беспокойства и страха и в самом деле умирали. И не вы ли, слабые матери, бываете причиною подобного несчастия? Не вы ли поселяете в детях суеверие, устрашая их нежную душу разными воображаемыми чудовищами? О! Если бы кто из несчастных жертв суеверия ожил! Без сомнения, он постыдился бы сам себя, и мы услышали бы из его собственных уст, как пагубен этот враг просвещения! Многие имеют жестокость думать, что суеверные во всем походят на тех несчастных, которые воображают себе, будто они состоят из стекла или из масла и что также не должно говорить ничего противного их мнению; но можно ли так поступать с человеком, имеющим полный разум, как поступаем с тем, кто лишился его? Ах нет, это противно человечеству! Начиная от Моисея до Христа все мудрые учители старались истребить суеверие; а мы будем питать его в слабых сердцах; мы будем равнодушно смотреть на состояние, которое было уделом одних времен непросвещенных?
Звуки, производимые амфибиями
Лягушки квакают, змеи шипят; но есть особенный, на севере неизвестный род змей, которые гремят.
Звуки, производимые мертвою природою
Когда идет дождик слишком крупный, мы слышим, даже сидя в комнате, как он сечет в крышу. Когда ветер дает ему косое направление, он сечет в окна. В тихую погоду мы слышим шум, им производимый на гладкой поверхности озера, в колодезе, во всякой стоячей воде, – слышим более или менее, смотря по величине его капель.
Скрываясь от дождя под дерево, мы слышим, как он сечет в листья – если дождик продолжителен, то капли, сливаясь одна с другою, увеличиваются и, катясь с листа на лист, падают наконец на землю – с довольно великим шумом; тогда дождик мочит под деревом более, нежели на открытом месте; тогда прятаться от дождя под дерево – то же, что идти от него в воду. Когда дождевые капли, замерзнув в атмосфере, падают в виде крупы или града, тогда их звук становится чувствительнее, тогда они стучат. Тут самые облака, сталкиваясь одно с другим, производят шум, продолжающийся целыми часами.
Снег идет тихо; но под ногами во время мороза он хрустит. Мы слышим звук от снега, когда дети катают из него шары и бросают ими в стену и пр. Но сие может назваться тишиною по сравнению с тем громом, с каким он падает весною с высоких гор. Обрываясь великими глыбами и катясь с ужасным стремлением, он вырывает деревья с корнем, увлекает огромные камни, заваливает хижины и разрушает все, что ни встретится ему на пути.
Ручеек, заключенный в узкий жолоб и быстро катящийся по песчаному дну, усеянному множеством камушков, производит то приятное журчание, которым он часто усыпляет на своем берегу пастуха; но, протекая некоторое расстояние, он делается шире и глубже; тогда теряет прежнюю быстроту и течет почти без всякого шороха; вообще, большие реки текут спокойнее и тише, они редко нарушают безмолвие. На мельницах мы всегда слышим ужасный шум. Его производит вода, с великою силою падающая на колеса, с колес в глубокий ров и смешивающая свой гул, подобный стону, с пронзительным скрипом. Однако нигде, ни на самом океане во время величайшей бури, нигде эта стихия столько не гремит, как в каскадах. Низвергаясь с верху утесистой скалы и разбиваясь об острые камни, она шумит, ревет, грохочет, пенится, вьется клубом, кипит и ни на минуту не теряет своей ярости.
Дикие ручьи, текущие в непроходимых пустынях и лесах, посреди гор и утесов, пробиваясь через камни и падая с них, часто образуют целые ряды каскадов и оглушают своим шумом все окрестности.
После сильного дождя, особенно в странах гористых, часто реки выходят из берегов и, мгновенно разливаясь, вырывают и увлекают с собою столетние дубы, разрушают плотины, опустошают поля, житницы и села. Какой ужасный шум и треск сопровождает это явление, но оно становится еще ужаснее от крика, производимого погибающими!
При тихой погоде на море и на берегу царствует тишина; но когда поднимется буря, тогда место ее заступает свист, вой и треск. Волны, разбиваясь о крутой берег, производят гораздо больший шум, нежели тогда, когда они вскатываются на берег отлогий.
Ветер, дуя мимо острых скал, высоких башен и труб на высоких кровлях, воет, в щелях свистит, в лесу шумит.
Тихий ветер на дереве шевелит листья и производит слабый шорох, который называем шептанием; но ветер сильный приклоняет к земле ветви, гнет пень, ломает, вырывает его и производит звук, подобный грому, который распространяется в отголосках по горам и по всему лесу. Сильный ветер часто срывает с крыш черепицу, доски, ломает трубы и во всех случаях производит больший или меньший стук. Когда ветер дует в растворенные окна, двери, ворота, тогда они скрипят и хлопают; разбитые стекла звенят.
Многие с приближением громовых ударов вывешивают колокольчики, которые, начав звонить при приближении грозы, до тех пор не умолкают, пока она совсем не пройдет.
Заряженные воздухом ружья также громко хлопают, как огнестрельные.
Подле ветряной мельницы мы слышим шум, производимый быстрым обращением ее крыльев.
Два противоположных ветра, встретясь и столкнувшись один с другим, производят в воздухе кружение, называемое вихрем, в котором сухие листья, сухое сено, солома и другие легкие вещи вертятся, сталкиваются, отражаются и производят больший или меньший треск. Подобные вихри иногда бывают столь сильны, что схватывают с домов крыши, вырывают деревья и несут их по воздуху на великое расстояние.
Звуки вообще имеют величайшее различие между собою.
Так, бесконечная разность находится между голосом человека и рыканием льва, между ржанием лошади и блеянием овцы, между хрюканьем свиньи и лаяньем собаки, между пением соловья и чириканьем воробья, между кряканьем утки и воркованием горлицы, между глухим звуком еловой доски и ярким звоном медного колокола, между стуком молота, которым куем железо, и между стуком топора, которым рубим дерево. Так, мы слышим иной звук, когда кузнец делает косу, иной, когда он делает пилу; мы слышим иной звук от плескания воды, иной от падения дерева, иной от разбитого стакана, иной от разбитой тарелки и пр.
Столь же бесконечное различие находится и между теми звуками, которым мы даем одинаковые названия. Например, все у нас значит «говорить», но один народ говорит так, другой иначе; в одной провинции говорят не так, как в другой; люди богатые говорят не так, как бедные. Этого мало! Один и тот же человек говорит ныне так, завтра иначе; он говорит иначе спокойный, иначе сердитый, иначе в горе, иначе в радости; он говорит иначе больной, иначе здоровый, иначе пьяный, иначе трезвый.
То же можно сказать о разности в звуках пения. Правда, мы определяем ее посредством нот, которые наше ухо очень ясно отличает одну от другой, особенно самые верхние от самых нижних; но одну и ту же ноту мы поем иначе в десять лет, иначе в двадцать; иначе поет ее мужчина, иначе женщина; иной поет ее живее, иной слабее, иной гуще, иной чище, иной нежнее, иной грубее, иной протяжнее, иной скорее и пр.
Звуки, сопровождающие смех, также различны между собой. Какая разница между детской улыбкой, которую можно только видеть, и между тем хохотом, который, как говорят, надрывает живот! Но еще чувствительнее разность между вздохами гонимого, тайно слезы проливающего, и между тем ужасным криком, который издает человек, объятый нечаянным ужасом!
Кто бывал в кузнице, тот видел, что иной звук происходит от молота тяжелого, иной от легкого; тот видел, что под одним и тем же молотом железо дает иной звук на середине, иной на конце наковальни.
Так, под одним и тем же стругом столяра мы слышим иной звук от дерева твердого, иной от мягкого, иной от чистого, иной от суковатого; иной, когда он сдирает грубые неровности, иной, когда только гладит его.
Мы чувствуем иной звук, когда набивают обручи на маленькую бочку, иной, когда набивают на большую. Стукнув в бутылку, по разности звука мы даже узнаем, полна ли она или нет.
Иной звук бывает от грому близкого, иной от далекого. Первый сопровождается сильным и пронзительным треском, который в одно мгновение раздается и исчезает; а последний узнаем по слабому гулу, который иногда становится постепенно громче, иногда тише, иногда совсем исчезает, иногда снова в разных раскатах повторяется. Путешественники, всходя на высокие горы, часто видят под своими ногами грозные тучи и слышат удары грома.
Когда падает дерево в тридцать футов[29] вышиною, в полтора толщиною, оно производит звук совсем не такой, как дерево, имеющее в длине восемьдесят футов, в толщине четыре фута. Так точно иной звук слышим мы от брошенного в воду камня, когда он имеет вес три фунта[30], иной, когда имеет тридцать фунтов.
Иной звук слышим, когда лошадь идет шагом, иной, когда она бежит, иной, когда скачет, и во всех сих случаях иной звук производит одна лошадь, иной – многие.
Иной звук слышим от пустой телеги, иной от тяжелой, иной в то время, когда она скоро едет, иной, когда едет тихо, иной, когда она приближается, иной, когда удаляется от нас.
Когда ветер дует нам в спину, тогда мы яснее слышим звук от вещей, находящихся позади нас; а когда дует в лицо, тогда яснее слышим звук от тех вещей, который находятся у нас впереди.
В тихую ночь и в сильный мороз всякий звук бывает громче, нежели днем и в теплую погоду, а особенно при дожде.
Надобно, чтобы тот знал своих лошадей слишком хорошо, кто, стоя за стеною, хочет по голосу угадать, которая из них ржет. Это трудно, однако возможно, когда для этого соединится внимательное зрение и внимательный слух. Столь же трудно различить между многими собаками, которая из них лает; но если охотник долгое время замечал их голос, то, конечно, не ошибется.
По разному шороху, которой слышим за стеною, мы узнаем, мыши или крысы производят его, однако не всегда: ибо и от первых и от последних звук бывает почти одинаковый. Кто боится мышей и крыс и не может смотреть на них, тот еще скорее ошибется: в тихую и темную ночь ему легко послышатся большие крысы там, где бегают одни мыши. Этот простой пример ясно показывает ту истину, о которой я уже говорил, т. е. что человеку всего нужнее хорошие глаза, что если мы не хотим обманываться в звуках, то должны часто видеть те предметы, которые их производят, – должны, повторяя опыты, во всем пространстве увериться, что мы нимало не ошиблись в их положительной причине. С помощью зрения мы скорее открываем истину, нежели с помощью слуха, но еще лучше соединять эти драгоценные чувства; к несчастью, не всякий это делает, хотя всякий может, у кого они не повреждены; многие смотрят там, где надобно слушать, и там хотят слышать, где можно только видеть.
Дневник Песталоцци о воспитании его сына[31]
27 января. Я показал ему воду, как она, прозрачная, сбегает вниз с горы. Это его забавляло. Я спустился немного ниже. Он, следуя за мной, сказал, обращаясь к воде: «Обожди меня, вода! Я скоро снова приду». Я сейчас же повел его к воде, только пониже.
– Смотри, папа, вода тоже идет, она идет вон оттуда, она идет сверху.
Мы шли, следуя течению воды, и я повторил ему несколько раз: «Вода бежит с горы вниз».
Я назвал ему несколько животных, например: «Собака, кошка – животные», и для противопоставления добавил: «А дядя Титус, Клаус – люди». Затем спросил его: «Что такое бык? Корова? Теленок? Мышь? Наш Клаус? Меде? Барышня Рот[32]? Слон? Наш священник? Шеффли? Гайсли?» И т. д… Он отвечал в большинстве случаев правильно на эти вопросы. Когда же давал неправильные ответы, то это сопровождалось свойственной ему усмешечкой, обнаруживавшей, что он нарочно дает неправильный ответ. Это желание давать неверные ответы кажется мне смешной попыткой проявления упрямства и желания представить дело так, что все происходит по произволу, по моему желанию. Это, следовательно, требует тщательного наблюдения.
Я спросил его после этого: «Что такое смерть?» Он ответил: «Смерть» – «А умывальник – животное?» – «Нет» – «Почему?» – «Он тоже мертвый»[33] – «А кровать – животное?» – «Нет!» – «Почему?» – «Не знаю».
Я вижу, что понятия о жизни и смерти, о свободном движении и невозможности производить его необходимы ему для того, чтобы уметь правильно отличать животных и людей от неодушевленных предметов. Я взял эти понятия на заметку, чтобы в дальнейшем развить их.
29-го. Л. О.[34] Я добился своей цели продержать его долго за сухой латынью. Воспользовавшись присутствием Бабели[35], организовал подвижную игру с колокольчиками и заставил его бегать на довольно большом холоде. Я убедился в том, что учитель должен обладать физической силой, если он хочет осуществлять свои намерения в процессе игры, проводить забавы на свежем воздухе и т. д. Я понял, какое большое значение имеет для ребенка крепкое тело.
30-го. Ему было несколько скучно учить азбуку. Я твердо решил заставить его заниматься в течение известного времени или добровольно, или против воли. Поэтому я решил очень строго дать ему почувствовать эту необходимость с первого раза. Я поставил его в такое положение, что у него не оставалось иного выбора, как работать или подвергаться моему гневу или наказанию арестом. Только после третьего ареста он стал терпеливым. После этого О. и Л. начали проходить с шутками и живо.
Я показывал ему, что дерево плавает в воде и что камень, напротив, падает на землю. После обеда он пошел со служанкой в Брунег.
31-го. Я отсутствовал, был в Кенигсфельдене.
1 февраля. Л. О. Л. Серьезность занятий была нарушена нашим беспокойством, вызванным тем, что он стал кашлять по ночам. В качестве упражнения в латинском языке я научил его называть части головы; показывая рисунки и предметы, я научил его таким словам, как: снаружи и внутри, внизу и наверху, середина и стороны. Я показал ему, как снег превращается в комнате в воду[36], и нашел, что произвольные переходы от громких тонов к самым тихим, от певучих к резким являются полезным упражнением. Но куда ведут эти своеобразные приемы?.. Несколько дней тому назад он видел, как резали свиней, и вот он захотел сегодня также резать свиней и просил для этого нож, который и повесили ему на пояс. Он взял кусок дерева и положил его как полагается. В это время мать позвала его: «Жакели!», на что он откликнулся: «Нет, мама, ты должна звать меня “мясник!”»
2-го. Л. О. Л. Объясняя ему истинное значение первых чисел, я старался придать определенность тем словам, которые он говорил наизусть, не понимая их подлинного смысла. На этом примере самый неспособный человек мог бы убедиться, каким препятствием для знания истины является усвоение слов, с которыми не связаны правильные понятия о вещах. Привычка не думать, чем по своему существу отличаются выражаемые словами числа, была налицо и препятствовала вниманию. 7, 8, 9 и 1 были для него тем же, что 3, 5 и 17, и я нисколько не мог сегодня устранить последствия этой привычки не думать.
Почему я сделал такую глупость, научив его столь преждевременно называть такие важные для познания истины слова, не позаботившись о том, чтобы сейчас же уточнить самые понятия, когда я называл ему первые числа? Как естественно было бы не учить его говорить три, пока он не будет правильно узнавать два во всех данных ему предметах. Как естественно выучился бы он тогда считать и как сильно отклонился я благодаря этой поспешности с путей природы! О вы, истины, важные для мудрости и добродетели, научите меня быть осторожным!
Оставшись сегодня один, он подошел к чану со сливками и налил себе стаканчик. Подошла служанка, он сказал ей: «Мама мне позволила это!»
Он неохотно учит азбуку. Обходные пути, которые он выбирает, чтобы избавиться от этого, условия, которые он при этом ставит, быстрота, с которой старается приняться за другие занятия, привычка все, что он желает, иметь и, что ему нелегко получить, искать под тем предлогом, что ему это нужно, чтобы учиться читать, – все это привлекает уже несколько дней мое внимание, и я чувствую, что мой долг точно пронаблюдать эти обходные маневры.
Скрипка, которую для него купили, доставила ему бурное удовольствие, но по разным обстоятельствам я не мог извлечь из этой радости всей пользы, которую желал бы извлечь.
3-го. Я почувствовал ошибки в обучении его счету сегодня с такой же силой, как вчера. Если все слова, заученные нами без понимания их смысла, производят такую непреоборимую путаницу в нашей душе, что же является в нашем познании подлинной истиной?.. Все слова являются суждениями. Как должно путать, когда множество этих слов быстро и неправильно предшествуют знанию предметов, которые они обозначают, когда упражнение в ошибочном и непродуманном помимо нас ежедневно пролагает пути неправде, когда борьба против ошибок так трудна, тогда как следовать за простой истиной так естественно и легко!
Л. О. Л. Он много работал над этим. Он почувствовал сегодня боль в животе, скрючился и сказал: «Мне больно». Мама сказала: «Дай я посмотрю, Жакели!» Он ответил: «Ты ничего не увидишь». В эти холодные дни я не в состоянии переносить холод в передней, который он переносит. Мне это неприятно.
4-го. Я был в Кенигсфельдене, и день занятий с Жаком у меня пропал. Приступ лихорадки, вызванный у него простудой, испугал нас. Вечером пришел господин Коллер[37]. Нам было очень трудно заставить Жака принять какое бы то ни было лекарство. Господин Коллер посоветовал нам, чтобы мы по временам давали Жаку, когда он здоров, безвредные, но невкусные лекарства для того, чтобы не нужно было больше заставлять его силой пить их, как пришлось это сделать в данном случае. Я сразу же нашел, что это верное правило, и думаю, что его можно следующим образом обобщить, чтобы применять в воспитании. Все навыки, все усилия преодолеть себя, которые необходимы в редких случаях, должно привить задолго до того, как наступит время, когда их требуется использовать. Ведь тогда, когда наступает крайняя необходимость использовать эти навыки, оказывающие очень редкие, но важные услуги, большей частью бывают такие обстоятельства, которые делают невозможным очень быстрое приучение к этим навыкам, как это было в данном случае.
5-го. Продолжение маленькой лихорадки и мое повторное отсутствие не дали мне возможности полностью использовать также и этот день. Мы упражнялись в счете, вырезали с этой целью ножницами бумажные фигурки.
Он, казалось, подражал с невинным видом жестам, тону и словам взрослых.
Следует ли мне позволить ему идти к расширению своих познаний путем подражания? Нужно ли стараться сделать его познания многосторонними, его внимание более общим и его умение подражать при этом естественно возникшем упражнении более острым? Достаточно ли глубока почва, чтобы дать развиться дерзости, которая, по всей вероятности, ищет места, где бы ей укорениться, хотя бы мы и применили все средства для того, чтобы оказать ей противодействие? Как распознать элемент жизнерадостности в невинном подражании, как следует тормозить зачатки дурных поступков? Может быть, так: «Ты можешь подражать каждому красивому слову, каждой красивой позе, но ты не должен, дитя мое, ты не хочешь быть безобразным» и т. д.?
С 6-го по 12-е. Присутствие Жака Шультгеса[38], пребывание в Зеоне, продолжительное беспокойство о здоровье ребенка и непростительная небрежность по отношению к нему – вот что можно отметить в эти ничем не заполненные дни.
13-го. Бережное отношение к здоровью Жака дало свои результаты: эгоизм стал заметно сильнее. Я взял у него орех, чтобы ему его разбить. Он подумал, что я хотел его съесть, – крик, топанье ногами, искаженное гримасой лицо. Я смотрел на него и стоял неподвижно. Взял без слов у него еще один орех и хладнокровно съел оба на его глазах. Он продолжал плакать. Я взял зеркало – он убежал, как обычно, чтобы спрятаться.
Я удивляюсь наивной правоте нашего слуги Клауса, проявленной им сегодня в разговоре со мной. Я привык прислушиваться к непринужденным речам по вопросам воспитания людей, выросших на свободе. «Клаус, – сказал я, – неправда ли, у Жака хорошая память?» – «Да, – сказал он, – но вы его переутомляете». – «Я тоже иногда боюсь этого. Но, видишь ли, всегда можно видеть по ребенку, когда он перегружен. Он утрачивает резвость, становится беспокойным, боязливым. Как только появляются следы этого, требуется заботливость и снисходительность». – «А вы также обращаете внимание на резвость и радость? Я именно боялся, что вы об этом забываете». – «О, Клаус, все учение ни гроша не стоит, если благодаря ему пропадает резвость и радость. До тех пор, пока я вижу бодрость и радость на его лице, пока он проявляет живость и резвость во всех играх, пока радость и счастье занимают преобладающее место в его ощущениях, я ничего не боюсь. Короткие мгновения усилий, которые сейчас же приправляются радостью и живостью, не подавляют духа». К такому выводу пришли мы с Клаусом. Видеть, как из послушания и порядка рождаются спокойствие и счастье, – значит воспитывать для общественной жизни.
То, что имеет перевес в ощущениях и переживаниях, определяет характер.
Разве сила глаза ребенка станет убывать, когда он видит многое?
Но отец и учитель не должны допускать нарушения порядка и спокойствия. Большинство упражнений должно быть упражнениями в соблюдении порядка и спокойствия. Величайшие радости возникают из медленного, продолжительного искания. Примером может служить ловля бабочек. Не торопись навязывать знания ребенку. Пускай истинный мир, явления и предметы, сложные или такие, которые могут обернуться к ребенку разными сторонами, проходят перед ним в возможно большем количестве, пускай они приходят и снова уходят, не навязываясь ему.
Пускай он всегда смотрит и слушает; редко требуй от него суждений, а если ты требуешь, то большей частью о таких вещах, которые он может или, вернее, должен сейчас использовать. Требуй от него суждения, как это делает природа: она не требует от тебя суждения о ширине рва, мимо которого ты проходишь, – она только показывает его тебе. Может быть, ты и вынесешь о нем суждение. Но о рве, пересекающем улицу, по которой тебе надо пройти, ты должен судить. Таким образом, каждый раз, когда ребенок может что-то применить, требовать от него суждения естественно и необходимо. Чтобы эту истину было легче использовать, я выражусь более осторожно. Я скажу: если ты можешь возбудить в достаточной степени интерес ребенка, требуй суждения, но пусть он больше смотрит и проходит мимо, чем рассуждает.
14-го. Сегодня все шло хорошо, он учился охотно. Я играл: был наездником, мясником – всем, чем он хотел[39]. От времени до времени давал ему вареные яблоки. Он хотел их все съесть и искал свою ложку. Я сказал ему, что не позволю ему брать ложку. Сказал, что, как только он возьмет ложку, я отставлю тарелку в сторону, если же он будет заниматься, дам ему больше яблок. Он оставил ложку в покое.
Я велел ему проводить прямые черточки и перпендикулярные линии. Господин Фюссли[40] сказал мне: «Все, что вы делаете, должно быть доведено до конца. Не переходите от «а» к «б», пока он не будет вполне знать «а», – и так во всем. Не спеши вперед, оставайся при первом до тех пор, пока не сделаешь это до конца, и тогда ты предупредишь болтовню и сбивающую с толку рассеянность». Порядок, точность, полная законченность, совершенство – как чувствую я, что мой характер не был развит в этом направлении во время моего первоначального воспитания!
У моего ребенка имеются как раз эти опасные искушения – поддаться живости своего характера. Он склонен удовлетвориться мерцанием быстрого успеха, забыть об отдельных пробелах, когда он ослеплен блеском достигнутого им в целом, забыть, что еще осталось не завершенным в том деле, которое кажется уже законченным, проскочить мимо этого.
Я не должен этого забывать: все полностью и ничего с излишней поспешностью. Порядок, точность, полная законченность, совершенство! Я хочу рано привить ему эти принципы при помощи ежедневной практической работы, идти вперед, всегда работать, всегда развивать, но всегда оглядываться назад; ни шагу вперед, пока не будут заполнены все пробелы. Все полностью, все в порядке, нигде никакой путаницы. Быть довольным тем, что имеется и что может полностью без вреда быть здесь. Ничего не отдавать тщеславию, все – истине. Великие намерения!
Способ, при помощи которого я развивал его память, дал повод к следующим размышлениям.
Возможно ли, что слабость молодого организма происходит от внимания и упражнения памяти? Возможно ли, что слабый мозг настолько перегружается несколькими сотнями слов? Я этого не считаю. Подумать только, как богат родной язык и какой силы памяти требует он один! Никому еще в голову не приходило, что усвоение родного языка перегружает слабые силы юного ума. После маленького упражнения глаза всегда способны смотреть, уши слушать и т. д. Только контрасты вредны. Если много смотреть, много слушать, то это укрепляет и исправляет, но гром и яркое солнце вредят. Если обучать десяти языкам таким же способом, каким природа учит первому языку, то эти десять языков также укрепляли бы душевные силы. Но неестественная суровость, очень сильное напряжение не являются упражнением духовных сил, и последствия, которые они влекут за собой, не следует пытаться объяснять отсутствием памяти. Я должен заметить, что в обучении латинскому языку я недостаточно следую пути природы. Я должен постоянно приучать себя больше говорить на латинском языке. Все же я доволен успехами Жака.
15-го. Я пишу сегодня об одной привычке моего ребенка. Она рисует в выгодном свете его способности и настойчиво говорит, о чем я должен проявить бо́льшую заботу. Все, что он хочет, он начинает требовать в такой форме, из которой ясно, что он или заранее придумал причину, из-за которой ему могут отказать, или же приводит причину, которая должна побудить нас дать ему то, о чем он просит. «Мама, я не разобью этого», «Я только хочу посмотреть», «Я возьму это, потому что хочу учиться», «Можно мне взять одну только штуку?» – так начинает он каждый раз свою просьбу. Он не должен извлекать пользу из этих окольных путей: прямое заявление о своем желании для нас гораздо ценнее, и мы должны заставить его заявить свою просьбу прямо, если он прибегает к окольным путям. Мы должны, кроме того, часто отказывать ему в просьбе, которую он высказал не прямо. Когда не хочет чего-нибудь делать, он в большинстве случаев не скажет, например: «Я не хочу причесываться», а скажет: «Я хочу учиться». Это доказывает, что он знает, что я на многое соглашусь ради учения, – тема для размышления о том, как далеко может простираться, не причиняя более серьезного вреда ребенку, эта уступчивость, не следует ли ее ограничить.
Несколько недель тому назад теленок находился как-то на привязи в проходе хлева. Место непривычное. Жак думал, что теленок не привязан. Я показал ему веревку, которой был привязан теленок. Напрасно. Он плакал от страха и ни за что не хотел остаться. После этого как-то я не позволил ему идти в хлев. «Я не буду плакать, теленок привязан, идем, папа! Милый папа, я буду отвечать урок в хлеву».
В свободной аудитории природы ты поведешь за руку своего сына, ты будешь учить его в горах и долинах. В этой свободной аудитории природы он будет прислушиваться к тому, как ты будешь вести его к искусству. Трудности изучения языков и землемерия будут заменены для него свободой. Но в эти часы свободы природа да будет более учителем, чем ты. Если ты в эти часы будешь учить его чему-нибудь другому, то радость по поводу твоих успехов в искусстве его обучать не должна настолько увлечь тебя, чтобы не позволить ему всецело наслаждаться природой, когда окружающие предметы отвлекают ребенка от твоих искусственных уроков. Пусть он почувствует это, почувствует до конца, что здесь учит природа. Ты же должен со своим искусством тихо, почти крадучись следовать за природой. Когда птица очаровательно щебечет и когда червяк, только что появившийся на свет, ползет по листу, прекрати упражнение в языке. Птица учит и червяк учит больше и лучше. Молчи!
Но во время тех уроков, которые специально отведены образованию необходимых навыков, не позволяй никому мешать твоей совместной работе с ребенком.
Таких уроков должно быть немного, и они многократно будут заменяться, но серьезность должна всецело господствовать в это время. Всячески старайся не допустить, чтобы что-либо развлекающее прерывало занятия и отвлекало внимание ребенка во время этих уроков. Если такие помехи все же будут возникать, то их следует раз и навсегда самым решительным образом устранять. Никакого намека на надежду, что можно уклониться от этой необходимости. Эта надежда могла бы поселить беспокойство, убеждение же в том, что нельзя ускользнуть, заставляет забыть о желании сбежать. В этом случае природа ребенка, его стремление к свободе должны быть во что бы то ни стало сдержаны.
Пусть это будут часы без надежд, тогда это будут часы без беспокойства. Один мудрый человек сказал мне: «Хорошие монахини бывают только в монастырях, где соблюдается строгое и неумолимое затворничество без всяких надежд на его смягчение. В то же время в монастырях, где допускается больше свободы, бедствия господствуют в гораздо большей степени, так что эта разница бросается в глаза». Человек, желания которого подавляются, может при помощи упражнения научиться преодолевать себя. Но жить между страхом и надеждой, которая подвергается строгому подавлению, и надеяться не на путь свободы, а на окольные пути, чувствовать опасность, питать надежды в душе, полной страха, – это смертельный яд и хуже цепей.
Поскольку свобода ваших детей должна быть подавлена ради их подготовки к исполнению общественных обязанностей, она должна быть подавлена до конца и без всяких надежд. Таким образом, им станет легко преодолевать себя и пользоваться той более широкой свободой, которую вы можете им потом предоставить полностью, уничтожить насилие подавления, которое только вначале является насилием. После этого то большее, которое перевешивает, определит характер. Частые радости даже при небольшом преодолении и подавлении порождают силу и настойчивость. Усиление же подавления лишает мужества, редкие радости утрачивают влияние из-за того, что подавленность духа и слабость перевешивают: характер определяется теми впечатлениями, которые сильнее и которые количественно преобладают. Более слабые впечатления, количество которых меньше, теряют свою силу воздействия благодаря большему числу более сильных впечатлений. В этом заключается возможность исправления ошибок в воспитании и ложность неприменимого принципа, утверждающего, что отдельные, случайные, немногие впечатления могут разрушить все здание хорошего воспитания.
Упрямство Жака велико и проявляется с большой силой. Я применил против этого сегодня несколько наказаний. Он дошел до того, что сам захотел взять кусочек ячменного сахару не из моего рта, а только из рук, и разразился сильным гневом, когда я, сжав крепко обе его руки, приблизился с куском сахару к его рту. Я спокойно съел сахар.
Л. Ор. Л. Рисование. Складывание букв.
16-го. Л. Ор. Л. Рисование. Складывание букв. Невнимание
17-го. Л. Ор. Л. Рисование. Складывание букв.
Мне следует остерегаться самодурства, повседневного применения наставительного тона, который, слава тебе, Господи, тоже появляется.
Больше заботы о смене игры и учения, больше заботы о том, чтобы не тормозить свободу без необходимости, чтобы более точно определить время, предназначенное для обязательной работы, для того, чтобы остальное учение не сохраняло видимости работы.
Я учил его держать мел в руке. Хотя это мелочь, но я ни разу не должен допустить, чтобы он держал его неправильно.
1Герой романа Ж. Ж. Руссо «Эмиль». (Прим. ред.)
18-го. Л. Ор. Ч. Рисование. Я много гулял с ним сегодня. Как слабо еще у меня умение использовать различные положения и обстоятельства для различных возможных целей. Мама встретила Циммермана и требовала с него долг. «Мама, – сказал Жак, – не мучь Циммермана».
19-го. Необходимость избегать наставительного тона, педантизма затрудняет меня. Как найти мне границу между свободой и послушанием, раннее приучение к которому необходимо в общественной жизни.
В чем же ошибка? Истина не является односторонней. Свобода – благо, но послушание – также благо. Нам необходимо связать то, что Руссо разъединил. Убежденный во вреде, причиненном неумным подавлением, которое принижало человеческие поколения, он не сумел найти границ свободы.
Сделаем применимой мудрость его принципов. Учитель, будь уверен в хороших сторонах свободы. Не увлекайся суетным желанием производить незрелые плоды. Пусть твой ребенок будет свободен, как только он может быть свободным. Используй всякую возможность, чтобы дать ему свободу, покой, спокойствие духа. Не учи его при помощи пустых слов ничему, решительно ничему, чему ты можешь научить его при помощи воздействия внутренней природы вещей.
Пусть ребенок видит и слышит и делает открытия, пусть он падает, и подымается, и ошибается. Никаких слов, где возможны действия и поступки. Пускай он сам делает то, что он сам может делать. Ты увидишь, что природа лучше учит его, чем люди. Но когда ты находишь, что его надо приучить к послушанию, то приготовься тщательно сам к тому, чтобы воспитать его для исполнения этого трудного долга в условиях свободного воспитания.
Помни, что всякое подавление порождает недоверие и что труд твой потерян, если оно пустит ростки. Итак, старайся овладеть душой твоего ребенка, постарайся стать ему необходимым. У него не должно быть более приятного, более живого товарища, чем ты, и никого, кого бы он хотел больше видеть около себя, когда ему хочется веселья. Ребенок должен доверять тебе. Если ему часто хочется того, что не заслуживает твоего одобрения, скажи ему о последствиях и предоставь ему свободу, но сделай так, чтобы последствия были весьма ощутимы для него. Указывай ему всегда правильный путь! Если он уклонится с этого пути и увязнет в грязи, вытащи его. Ребенок должен привыкнуть к тому, что ты тысячу раз предупреждаешь его и что он попадает благодаря своей необузданной свободе в неприятное и даже очень неприятное положение, когда он не следует твоим предостережениям. Руководя обстоятельствами, ты достигнешь того, что он привыкнет понимать связь между природой вещей, которую он почувствовал, и твоими советами и предостережениями. Тогда при наличии сотни причин, всегда располагающих его к доверию, преобладание недоверия из-за необходимости ограничения его свободы станет невозможным. Он должен подчиняться мудрому руководителю, отцу, который правильно предостерегает его, но руководитель должен приказывать в случае необходимости. Он должен приказывать, исходя не из своего настроения и тщеславия, – никакое стремление к ненужному знанию не должно искажать его приказов.
Когда вам нужно приказывать, то ждите, если можете, повода, когда природа вещей сделает ощутительной ошибку ребенка и когда он уже подготовлен благодаря последствиям своей ошибки к естественному восприятию необходимости приказания. Так, например, когда я хочу отучить ребенка от неприятной привычки трогать все предметы, я иду следующим путем. Я ставлю на стол два сосуда: один с холодной водой, другой с кипятком. Я мою руки в сосуде с холодной водой, а другой сосуд ставлю так, чтобы ребенок наверняка попытался дотронуться до него и обжег бы руку. «Не надо трогать того, что тебе незнакомо», – это все, что я говорю, когда смазываю ему ожог маслом. Несколько дней спустя я снова ставлю на стол горячие яйца. Он снова схватит их и снова обожжется. В таком случае я говорю: «Я не хочу, чтобы ты каждый раз обжигался. Оставь в покое вещи, с которыми ты не знаком, и спрашивай меня, можно ли тебе трогать то, что стоит на столе». При такой подготовке я не подвергаюсь опасности потерять его доверие.
Но после этого я уже действую при помощи запрещения: «Не трогай больше того, что стоит на столе»[41].
Я чувствую, однако, что, как бы ни была хороша эта подготовка, она не всегда возможна. Мне думается, что если учитель в большинстве случаев действует с такой подготовкой и с такой заботой, то лишь меньшее число случаев останется у него без результатов. Он может в огромном большинстве возможных случаев и в целом, действуя с уверенностью, далекой от всякого произвола, добиться, чтобы немногие приказы, которые нельзя таким образом подготовить, не оставили в сердце ребенка, полном доверия, нежелательного следа. В этих приготовлениях к обязанностям, привычкам и навыкам общественной жизни столько требуется усилий воли, трудного и притом абсолютно необходимого, что я считаю невозможным воспитать полезного гражданина, не приучая его, например, с ранних лет к работе. В приготовлениях к обязанностям содержится многое, чего ребенок теперь еще не совсем понимает и усвоение чего не может быть достигнуто на основе принципа, согласно которому можно браться только за то, что ребенок считает необходимым для себя в данный момент. Что же остается делать? Я заранее допускаю, что ты всей душой старался приобрести доверие ребенка, что ты ему необходим в его радостях, что в твоем характере нет склонности к приказам, диктуемым произволом. Тогда приготовь старательно и мудро ребенка к подчинению необходимости. Пусть долг и послушание станут для него радостью! Я говорю тебе: не проявляй слишком большой поспешности в отношении многознайства нашего века. При пользовании радостями свободы ты должен иметь под рукой работу, имеющую для ребенка самые приятные и увлекательные стороны. Тщательно наблюдай, не перегружай – вперед, к радостному труду! Ты должен принимать такое же участие в его радости, какое он принимает в твоей работе; постарайся, чтобы все условия, вместе взятые, действовали так, чтобы сделать послушание и работу приятными. Выбирай из всех человеческих знаний самое легкое, обладающее наибольшей привлекательностью для детей, чтобы приучить ребенка к работе, требующей от него определенной усидчивости.
Твоей путеводной нитью должна стать его склонность к подражанию. У тебя в комнате есть печь – срисуй ее.
Если твой ребенок и не сумеет в течение года нарисовать прямоугольник, он все же приучится сидеть за работой. Сравнение математических фигур и величин служит материалом для игр и обучения мудрости. Работа в собственном саду, собирание в нем растений, тщательное, с соблюдением известного порядка, точности и старания, собирание куколок и жуков и их сохранение – какая это прекрасная подготовка к общественной жизни! Какая гарантия против лени и дикости! И как далеко все это от познаний, предназначенных не для детей, которые должны читать почти только в книге природы.
Чем меньше работы по приказу и чем больше труда ты даешь себе, чтобы сделать твои приказы приятными, тем с большей необходимостью возникнут результаты этих приказов: долг и послушание должны быть связаны неразрывными узами и вести к радости. Все же в немногих случаях человек должен слепо повиноваться.
Важное замечание по поводу того, как нам добиться послушания, сводится к тому, что не должно быть никакой неясности в отношении того, что запрещено. Нужно совершенно точно знать, что запрещено. Ничто не вызывает у ребенка такого раздражения и недовольства, как то, что его наказывают за незнание как за проступок. Кто наказывает невинность, тот утрачивает любовь. Мы не должны воображать, что ребенок сам может догадаться, что может быть вредным и что для нас является важным…
Басни
Фигуры к моей азбуке, или к начальным основам моего мышления (басни)
Предисловие
Что мне сказать по поводу этих страниц?
Читатель! Если ты к ним мысленно ничего не добавишь, их наивность покажется тебе невыносимой. Но если твой опыт возбудит в тебе чувства, подобные тем, которые воодушевляли меня, когда я набрасывал эти страницы, тебе полюбится их наивность.
Но ты возненавидишь ее, если какая-нибудь ограниченная голова, лишенная принципов и широкого опыта, склонит тебя считать то, что я находил правдивым в отношении человеческого рода, чем-то таким, что специально скопировано мною с твоего двоюродного брата или твоей тетки.
Что послужило поводом для написания этой книги:
– Мир всегда одинаков, и все же люди бывают столь различного мнения обо всем существующем, – так сказал крестьянин Вальдман, рядом с которым я сидел за столом.
Его жена возразила ему:
– Мир, пожалуй, одинаков, но в полночь ты видишь его по-иному, чем в полдень, а в туман – иначе, чем при солнечном свете.
– Дело не только в этом, – сказал батрак Штоффель, также сидевший за столом, – бык смотрит на мир иначе, чем лошадь, пес – иначе, чем осел, рыба – иначе чем птица, а трава – иначе, чем камень.
– Не забудь, Штоффель, – сказал дед, сидевший в кресле, – человек лишь тогда видит мир как следует, когда видит его так, как не может увидеть ни трава, ни камень, ни одна тварь на свете.
Я запомнил это, и с той поры, когда что-либо в мире производило на меня заметное впечатление, стал спрашивать себя: ночью или днем, при солнечном свете или в туман видел я это; кто указал мне на этот предмет – кошка или пес, обезьяна или слон, лиса или осел? Но самое главное, о чем я спрашиваю себя, – так ли я вижу свой предмет, как не может его увидеть ни одна тварь на земле?
Гора и Равнина[42]
Гора сказала Равнине:
– Я выше тебя.
– Возможно, – отвечала Равнина, – но я объемлю собой все, а ты представляешь только исключение из общего.
Часть всегда очень стремится быть больше целого, случайное весьма охотно возвышается над существенным; всему обычному очень нравится своеобразие необычного; черепица на крыше кажется себе на своей высоте много значительней, чем квадратные плиты, на которых покоятся стены дома.
И человеческий род отклонениям от обычного повсюду уделяет большее внимание, чем обычным предметам. Это заходит так далеко, что в приютах для слепых и глухонемых детей в методах обучения обычно заметен тонкий психологический подход, необходимость которого признается всеми, между тем как в обычных школах не задумываются над тем, что и при обучении обычных детей, у которых все пять чувств нормальны, требуется также тонкий психологический подход.
Молния и Гусеница
– Люди так сильно жалуются на меня, а я ведь только гложу жалкий листок, ты же, напротив, сжигаешь дома и деревни, – так говорила Гусеница страшной Молнии.
– Маленькая лицемерка! – закричала на нее сверху Молния. – Бесшумно пожирая листья, ты наносишь больший урон, чем я своей огромной громогласной силой.
Незаметные, но глубоко проникающие в основы семейного благополучия простого народа бедствия, о которых ты годами в обществе не слышишь ни звука, обычно действуют губительней, чем отдельные опустошения и ужасы, которыми полны летописи всех стран.
Кусок мрамора
Когда люди пришли издалека, чтобы увидеть красоту выломанного из карьера Куска мрамора, Скала, от которой он был отбит, сказала ему:
– Жалкое ничтожество, ты лежало в моем чреве, как муравей среди своей кучи, – чего же ты кичишься?
Кусок мрамора отвечал:
– Я и не кичился, пока лежал в этой куче, я кичусь лишь с тех пор, как вышел из нее.
Неизмеримые богатства, таящиеся в земле, подобны скрытому лучу и представляют ценность лишь тогда, когда из глубины недр, в которые они погружены, их доставляют на поверхность и на свет. Так и небольшая, но постоянно развиваемая в народе сила, доведенная до зрелости и проявляющая себя, представляет для страны более значительную ценность, чем бесконечно большие силы, которые пока только дремлют в народе в неразвитом состоянии,
Два жеребенка
Два жеребенка, ростом и развитием походившие друг на друга, как два яйца, попали в разные руки. Одного купил крестьянин и, не задаваясь целью улучшить породу, приучил его к простой службе за плугом и в тележной упряжке. Другой жеребенок попал в руки некоего берейтора[43]. Тот учил жеребенка служить, улучшая его породу, то есть сохраняя и развивая его благородные стати, силу, резвость. Жеребенок превратился в благородного коня, меж тем как другой утратил всякий след своей благородной породы.
Отцы и матери! Если вы и те лица, которым вы поручаете ваших детей, не побуждаете их к развитию способностей и не предоставляете им средств для этого, то, по мере того как дети вырастают, эти способности становятся для них все более и более бесполезными, а благородные задатки человеческой природы даже опасными и губительными.
Ваятель и глупцы
Один Глупец увидал, как Ваятель трудится над необделанным камнем.
– Жаль, жаль, – сказал Глупец, – что вы не полируете его.
– Нет, милейший, мы, ваятели по камню, не поступаем так, как поступают ваятели людей – новые воспитатели. Они до совершенства полируют детей, прежде чем подумать о том, чтобы их обработать.
– Да, да, – ответил Глупец, – это верно, это вполне так. И вы должны были бы поступать именно так.
Мудрость воспитаний
У трех крестьян были три свиных хлева.
Первый, выстроив хлев на болоте, каждое утро приходил, стегал свиней плетью, ругал их за то, что они валялись в грязи.
Другой построил хлев тоже на болоте, но каждое утро приходил и ласково просил свиней не валяться в болоте, рисовал им, какими они могут стать счастливыми, если не будут валяться в грязи и весьма аккуратно будут день и ночь лежать по своим углам на сухой соломе.
Третий, однако, не стегал свиней, не ругал их, не рассказывал им, что является для них благом и что является злом, а построил хлев в сухом месте, так что свиньи не могли валяться в грязи. И только он один забивал жирных свиней. Другие забивали их тощими, без конца жаловались, что у них непослушные и непонятливые свиньи и что их непослушание и упрямство – единственная причина того, почему они забивались такими худыми и жалкими.
Законодатели мира! Таким же образом вы оправдываете себя, когда ваши люди живут и умирают тощими и жалкими.
Обильный Источник
«Счастливо жить – будь полный да богатый!» – однажды пожелал счастья Источнику горный Дух, и воды в Источнике потекло вдесятеро больше. Но русло все то же осталось, и некуда было обогащенному Источнику давать свою воду: видел он, как она даром пропадает.
– Дал ты мне много воды, господин, – обратился Источник к Духу, – так дай мне и русло большее.
– Как, ты недоволен, что я воды прибавил, тебя еще большее русло надо? Неблагодарный! – с укоризною ответил Дух.
– Не по неблагодарности прошу я у тебя, господин, нового русла, а потому, что вода моя, если бы текла шире, могла бы уноситься все дальше и приносить пользу, а теперь она пропадает бесплодно.
– Вздор. Ты просто недовольное существо, и что тебе ни давай, тебе все будет мало! – уже совсем гневно проговорил Дух. – Обходись-ка старым руслом. Что нужды, что воды теперь больше стало.
И пользуется Источник старым руслом, но вода не успевает стекать: девять десятых остаются на месте, и теперь такая грязь кругом развелась, что к нему и не пролезешь.
Куры, орел и мыши
– Вот уж глазки у нас так глазки! – хвалились куры своим зрением. – Мимо самого маленького зернышка не пройдешь, так само оно тебе в глаза и мечется.
– Бедные вы, куры! – сказал им орел. – Вы и не знаете, что первый признак хороших глаз тот, что они не видят ясно слишком близко отстающего от них…
Кроты рассуждали о солнце и называли его гасильником всякого света. «Толи дело у нас, в подземных норах!..» С ними соглашались и мыши, возносящие ежедневно молитву к Юпитеру: «Отец всего живого! Сохрани нас от ослепляющего света солнца, и да продлится во веки веков слабое мерцание, освещающее наши норки».
Два овчара
У одного овчара был такой сторожевой пес, что без нужды не тявкнет, а уж залает, так, значит, что-нибудь случилось. Хищный волк и хитрая лисица знали это не подходили близко к стаду, а которые забывали, что у стада дельный сторож есть, тем плохо приходилось.
У другого было не то. Играет пастух в дудочку – собака перед ним пляшет, а заснет он, собака вместо того, чтобы беречь, начнет бродить но стаду и подсматривает и подслушивает, что там делается, хорошее или дурное, а потом передает пастуху.
Правда, пастух знал все, что делается в стаде, но лисица и волк всегда утверждали, что лучшего друга у них на сто верст кругом нет: так удобно было им таскать овец при таком способе охранения.
Больное деревцо
Деревцо это было посажено отцом. Оно росло год в год с мальчиком, и ребенок любил деревцо, как свою сестру, и ухаживал за ним с такою же заботливостью, как за кроликом и овечкой.
Но деревцо начало хворать. Каждый день являлся на нем новый увядший листок. Добрый ребенок горевал и старался как-нибудь помочь беде. Он обирал увядающие листочки, поливал деревцо хорошею водой, но ничего не помогало.
Однажды страдающее деревцо наклонило свою вершинку к любящему и ухаживающему ребенку и сказало: «Причина моих страданий таится в корне: отыщи ее там и уничтожь, тогда я опять буду здоров и листья мои зазеленеют по-прежнему…»
Ребенок искренно желал добра деревцу, а потому сейчас же принялся за дело: раскопал осторожно землю у корешка и нашел мышиное гнездо.
Пастухи
Жадные пастухи загоняли свои стада в болото, где овцам не только есть было нечего, а и бродить трудно. Но пастухам до этого дела не было. Они залезали в тростник, вырезали из него дудки, ловили лягушек и торговали этим. Им было выгодно, а о прочем они знать не хотели.
Кто шел мимо, укорял пастухов:
– Что это вы делаете? – говорили им мимоидущие. – Перегоните ваших овец на высокое место: они пропадут в этом болоте.
Но это только надоедало пастухам, и они вовсе не думали сделать что-нибудь для своих овец.
– Вот дурной народ! – шутили они обыкновенно после замечаний. – Ну что им за дело до нас и наших овец? Кому лучше нас знать, что нам выгоднее – вырезать дудки и ловить лягушек или заботиться об овцах.
Но они издевались над советами только заочно, а в глаза они оправдывали себя.
– Помилуйте, – уверяли они очень добродушно, – мы и сами знаем, что в горах пастбища лучше, да как же можно пуститься в горы с таким слабым, болезненным стадом. Дайте вот овцы поправятся, и мы, разумеется, ни минуты не будем держать их в этой нездоровой местности.
А как им поправиться?
Два медведя
Некий медвежатник водил двух медведей по стране. Один из них был уже матерым, когда тот поймал его в западню, и понадобилось несколько недель изрядно колотить медведя, прежде чем он приучился стоять на задних лапах и плясать под барабан. Все же он постепенно стал дрессированным.
Второго получил медвежатник от охотника, взявшего медведя еще совсем молодым в берлоге. Этот без всякого труда выучился стоять на двух лапах и плясать под барабан. Он не только сразу становился на задние лапы, когда поводырь издали показывал ему кусок мяса, но даже привык, как только хозяин выходил на дорогу, часами простаивать перед ним на двух лапах и даже так ходить с ним. В конце концов, он совсем разучился ходить на четвереньках. Словно орангутанг, брел он целый день с палкой в лапе за своим поводырем, куда бы тот ни вел его плясать.
Такого дрессированного медведя округа еще не видела. Когда поводырь приходил в какую-нибудь деревню, все крестьяне выбегали из домов, учитель даже отпускал детей из школы, чтобы они посмотрели на чудесного медведя. Это казалось поводырю большим счастьем. Крестьяне бесплатно кормили двух его зверей, но он плохо использовал свою удачу: что ни деть объедался и напивался допьяна, а потому становился все слабее, ноги его распухли, и, когда ему пришлось пьяным переправляться однажды со своими медведями через мосточек, нога его поскользнулась, он упал в ручей и смертельно поранил голову. Оба медведя прыгнули вслед за своим поводырем, вытащили его из воды и стали зализывать его раны. Но это не помогло. Несмотря на их старания, поводырь умер.
Теперь у бедных зверей не было ни поводыря, ни пищи; в желудках у них было пусто, а на мордах намордники, так что, если с голоду они и захотели бы сожрать мертвого поводыря, они не смогли этого сделать. Правда, они пытались когтями сорвать намордники, но только поранили себе морды, так и не сорвав их.
Тут по лесной пустоши во все концы понесся рев этих медведей и привлек к ним наконец нескольких из их вольных лесных братьев, которых тронула их беда; своими клыками они перегрызли железные решетки намордников, за которыми, не подоспей помощь, бедные звери должны были бы погибнуть от голода. После этого вольные медведи объяснили им, что оба они должны пойти с ними в глубь леса, где найдут мед и дичь. Но, когда один из дрессированных медведей передней лапой поднял с земли палку и, словно человек, на задних лапах пошел за ними в лес, вольные медведи с большим изумлением стали смотреть на это медвежье фиглярство и один из них сказал другому:
– Мы не поверили бы, что звери одной силы и одной породы с нами, попав в человеческие руки, могут стать такими нелепыми шутами.
Бедные дрессированные медведи, хотя и были очень голодны, не могли, подобно лесным медведям, бежать на поиски добычи. Тем приходилось каждое мгновенье останавливаться, чтобы дрессированные могли поспеть за ними. Когда они, наконец, добрались до дупла с ульем, то так усердно взялись за еду, что один из лесных медведей сказал другому:
– Однако они еще умеют жрать по-нашему.
– Но с поисками пищи им будет туго, – отвечал другой.
Первый, однако, подумал, что им совсем недолго придется стараться искать пищу, и сказал:
– Ведь они не могут бегать; из застрелит первый охотник, пришедший в лес.
Между тем дрессированный медведь, в юности выросший в лесу, постепенно все же научился бегать и то тут, то там добывать себе немного мяса: другой же бегал вслед за ним и всяким другим медведем, грызшим свою добычу, рассчитывая, что каждый медведь из сочувствия кинет ему что-либо из того, что охотно пожирал сам.
Так и было время от времени. Но все медведи презирали его и называли не иначе, как медведем-побирушкой или человекообразной обезьяной. Он вел жалкую жизнь. Между тем случилось то, что предсказал один из лесных медведей. Жалкая жизнь побирушки длилась недолго. Первый же охотник, вышедший на медвежью охоту в этот лес, вскоре набрел на его след и застрелил медведя.
Человек, который делал туман
Некий лесной дух раскрыл ему секрет, как закутаться в непроницаемый туман. В таком виде он стал расхаживать среди своих сограждан; но тайна его вскоре раскрылась, и тогда повсюду стали называть его странствующим в тумане.
Это его не смутило; он отважно утверждал, что затуманены только головы его сограждан, которым грезятся тени вокруг него, между тем как он на самом деле он окружен светом, который они, тупоголовые, не в состоянии увидеть.
Со временем, проявляя терпение, он добился, наконец, того, что сограждане стали думать, что умение делать туман относится к мудрым и сильнодействующим средствам, положенным ему по должности, и что и они смогут добиться более высокого просвещения, если сами примут посильное участие в этом занятии.
Испорченная дорога
– Я сойду с ума, каждое мгновенье спотыкаясь об эти камни, – так ругался Кунц, когда он с Гейнцем шел по дороге, когда-то мощенной большими булыжниками, а теперь совершенно испорченной и разбитой.
– Чего ты так ругаешься! – ответил Гейнц. – Так бывает всюду, где основание расшаталось, – выбившийся булыжник попадается путнику под ноги.
Кунц. Это, конечно, так, но можно же было убрать булыжник с дороги.
Гейнц. Но от этого она все же не пришла бы в порядок.
Кунц. Пусть так, только бы сегодня не приходилось мне каждую минуту натыкаться мозолями на булыжник.
Гейнц. Но у меня нет мозолей, и мне по душе, что путнику ежедневно и беспрестанно напоминают, что дорога не в порядке. Я даже хочу, чтобы люди, которые обязаны восстановить дорогу и уже носят деньги для этого в своих кошельках, бродили по этой дороге и большими мозолями натыкались на все булыжники.
Незнакомый выход
– Ведь мы несчастны оттого, что из нашей долины нет выхода, – так жаловались Овцы и Коровы, находившиеся на закрытом со всех сторон горном пастбище.
Косуля, услышавшая их жалобы, сказала им:
– С вашего пастбища, конечно, имеются выходы, но Пастух и Мясник не покажут их вам, а чтобы самим найти их, не надо быть ни Коровой, ни Овцой.
Владелец горы, услыхавший слова Косули, обращенные к его Коровам и Овцам, сказал:
– Эта Косуля, кажется, склонна прививать дурные мысли моему стаду; у моих Коров и Овец совсем нет права искать какой-либо другой выход с пастбища, кроме того, через который батраки привыкли вести их по моему приказу в мой хлев или на мою бойню.
Что есть человек – лист или ствол?
Опечаленный гибелью своих павших на поле брани воинов, некий одержавший победу Король склонил свою голову долу.
Один Льстец, заметивший, что именно гнетет властелина, обратил его внимание на бесчисленное количество листьев, лежавших на земле под липой, у которой они стояли, и спросил Короля:
– Разве они не вырастут вновь?
Это возмутило одного Благородного человека, стоявшего рядом. Он повел Короля в лесную чащу, показал ему тысячу вырванных бурей елей и сказал:
– Неужели эти деревья станут расти вновь?
Порядки в доме призрения
– Нет! Невозможно вытерпеть, как в этом доме обходятся с людьми, – так говорила кучка обитателей дома призрения, когда однажды их каша и питье показались им недостаточно хорошими.
Начальство, доходы которого возрастали в той же степени, в какой обитатели дома призрения получали худшую еду и питье, высмеяло их жалобы и сочло их оскорблением, которое нельзя оставить безнаказанным.
Некоторых обитателей дома призрения, больше других жаловавшихся на плохую пищу, начальство велело бросить в яму, куда не проникал ни солнечный, ни лунный свет. Оно об этом происшествии сообщило также ведомству, перед которым обязано было отчитываться и где у него имелся благодушный господин кузен; при этом начальство добавило, что в доме призрения, полном негодяев и нищих, нельзя навести такие порядки, в каких нуждаются и какие могут требовать люди, имеющие на то право.
Ганс и Бенедикт
Бенедикт. Успокойся, любезный Ганс!
Ганс. Не могу, со мной поступили несправедливо.
Бенедикт. Религия утешит тебя.
Ганс. Она мне поможет?
Бенедикт. Она поможет твоей душе.
Ганс. Это неправда! Если она мне не поможет в моих внешних обстоятельствах, то она не существует для моей души.
Бенедикт. Ты кощунствуешь!
Ганс. Я говорю истину: нет Бога и нет веры в Бога, если не прекращается несправедливость.
Бенедикт. Я дрожу.
Ганс. Если у тебя нет сил бороться с несправедливостью, сними свою рясу, служи за непотребный барыш и носи ливрею господина, которому ты принадлежишь.
Бенедикт. Конечно, Спаситель и его апостолы не позволили бы сказать себе это.
Ганс. И твой дед, бывший у нас священником, не позволил бы себе этого сказать…
Примечания
Как Гертруда учит своих детей. Печатается в сокращении. Текст приводится по изданию: Песталоцци Г. Избранные педагогические сочинения. – Т. 3. – М.: Печатня А.И. Снегиревой, 1896. – Пер. с нем. В. Смирнова.
О значении чувства слуха в связи с использованием звука и языка в обучении. Печатается в сокращении. Текст приводится по изданию: Песталоцци И.Г. Избранные педагогические произведения / Под ред. М.Ф. Шабаевой. – Т. 2. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963. – Пер. с нем. О.А. Коган.
Лебединая песня Песталоцци. Печатается в сокращении. Текст приводится по изданию: Песталоцци Г. Избранные педагогические сочинения. – Т. 3. – М.: Печатня А.И. Снегиревой, 1896. – Пер. с нем. В. Смирнова.
Книга для матерей, или Способ учить дитя наблюдать и говорить. Печатается в сокращении. Текст приводится по изданию: Песталоцци Г. Книга для матерей, или Способ учить дитя наблюдать и говорить. – Часть 1. – СПб. Типография Шнора, 1806. – Пер. Ф.Г. Покровского.
Дневник Песталоцци о воспитании его сына. Текст приводится по изданию: Песталоцци И.Г. Избранные педагогические произведения / Под ред. М.Ф. Шабаевой. – Т. 1. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961. – Пер. с нем. Е.С. Лившиц.
Фигуры к моей азбуке, или к начальным основам моего мышления (басни). Печатается в сокращении. Тексты «Предисловия», басен «Гора и равнина», «Молния и гусеница», «Два медведя», «Человек, который делал туман», «Испорченная дорога», «Незнакомый выход», «Что есть человек – лист или ствол?», «Ганс и Бенедикт», «Порядки в доме призрения», «Кусок мрамора», «Два жеребенка», «Ваятель и глупцы», «Мудрость воспитания» приводится по изданию: Песталоцци И.Г. Избранные педагогические произведения / Под ред. М.Ф. Шабаевой. – Т. 2. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963. – Пер. с нем. С.П. Либермана. Тексты басен «Обильный источник», «Куры, орел и мыши», «Два овчара», «Больное деревцо», «Пастухи» приводится по изданию: Очерк жизни и деятельности Иоанна Генриха Песталоцци / Сост. Н. Михайлов. – М.: Типография А.И. Мамонтова и Ко, 1874.
Список использованной литературы
1. Абрамов Л. Песталоцци, его жизнь и педагогическая деятельность. – СПб.: Изд-во Павленков, 1893.
2. Друг детей. Рассказ о замечательном швейцарском учителе Генрихе Песталоцци. // Сост. В. Величкина. – М.: Типография И.Д. Сытина, 1899.
3. Компейре Г. Песталоцци и элементарное воспитание. – СПб.: М.И. Пейкер, 1904.
4. Очерк жизни и деятельности Иоанна-Генриха Песталоцци // Сост. Н. Михайлов. – М.: Типография А.И. Мамонтова и Ко, 1874.
5. Пауль Н. Песталоцци. Его жизнь и его идеи. – Пг.: Школа и жизнь, 1920.
6. Пинкевич А.П., Медынский Е.Н. Иоганн Генрих Песталоцци. – М., 1927.
7. Поляк Ф. Генрих Песталоцци, отец школьного учительства. – СПб.: Народное образование, 1909.
8. Ротенберг В.А. И.Г. Песталоцци, его деятельность и педагогическая теория: Доклад об опубликованных работах, представленных в качестве диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. – М.: МГПИ им. Ленина, 1965.
9. Рыбинский В.С. Памяти Генриха Песталоцци. – Киев: И.Н. Кушнерев и Ко, Киевское отделение, 1896.
Примечания
1
Учебное заведение в XVI–XVIII вв. в Западной Европе. Преподавались «семь свободных искусств» и богословие, изучались также латинский и греческий языки, давались в небольшом объме сведения по литературе, географии и истории. (Прим. ред.)
(обратно)2
Каролиниум был в середине XVIII века центром просветительского движения в Цюрихе, основанного на идеях Ш.Л. Монтескье, Дж. Локка, Ж.)Ж. Руссо, И.Г. Гердера и других сторонников создания свободного общества. (Прим. ред.)
(обратно)3
В связи с этим в книге представлены те отрывки из произведений И.Г. Песталоцци, в которых раскрываются эффективные, по мнению большинства современных ученых, подходы к раннему развитию и обучению детей. (Прим. сост.)
(обратно)4
Песталоцци ссылается на свой опыт обучения трехлетнего ребенка, предположительно Людвига Фанкхаузера, в Бургдорфском институте. (Прим. сост.)
(обратно)5
Катехизис – общедоступный, изложенный в виде вопросов и ответов учебник исповедания христианской веры. Здесь «катехизирование» употреблено в значении «заучивание учащимися наизусть вопросов и ответов, без учета того, понимают ли дети смысл высказываний». (Прим. сост.)
(обратно)6
В современной науке эти принципы называются «закономерностями формирования понятий». Во-первых, необходимо показать ребенку объект изучения, дать рассмотреть его, провести ладонью по поверхности, послушать издаваемые им звуки, попробовать на вкус и т. д. Во-вторых, помочь проанализировать объект, сравнив его с ранее известными аналогичными объектами, выделить существенное в объекте, обобщить, систематизировать и т. д. В-третьих, активизировать речевую деятельность ребенка, попросив его рассказать об этом объекте. (Прим. сост.)
(обратно)7
Эффективность многих способов обучения, предложенных И.Г. Песталоцци, была проверена временем, и они применяются в современной педагогике, однако подчинить все обучение одному принципу невозможно. К каждому ребенку необходим свой подход. Поэтому Песталоцци испытывал противоречие при описании своего метода, часто возвращался к не вызывающему сомнение факту, что обучение начинается с восприятия объектов «пятью чувствами» (осязанием, обонянием, зрением, вкусом, слухом). (Прим. сост.)
(обратно)8
При прочих равных (лат.). (Прим. сост.)
(обратно)9
Буквально переводится как «бог из машины» (лат.). (Прим. сост.)
(обратно)10
Одной из заслуг И.Г. Песталоцци является то, что он добился перехода от буквослагательного метода обучения чтению к звуковому. Необходимо научить ребенка правильно произносить звуки «б», «л», «м», «п» и соединять согласный и гласный звук в слог. К сожалению, и сейчас можно услышать, как некоторые родители сначала учат детей называть буквы («бэ», «эл», «эм», «пэ» и др.), а потом требуют заучить слоги. Вследствие этого дети начинают читать, например, слог «ба» как «бэа». (Прим. сост.)
(обратно)11
Рассуждения Песталоцци об организации впечатлений ребенка перекликаются с одним из самых проблемных вопросов современного воспитания: с какого возраста ребенка можно допускать к компьютеру и сколько времени он может за ним проводить. Некоторые родители считают, что эти занятия развивают наблюдательность. На самом деле из-за ярких, часто неестественных цветов на мониторе, ускоренной подвижности персонажей дети теряют возможность изучать реальный мир, который после знакомства с электронным кажется скучным, неэмоциональным и неинтересным. Такие дети вырастают гиперактивными, им трудно сосредоточиться, контролировать свою деятельность, целенаправленно анализировать события, явления, предметы. Хотя они быстро запоминают сообщаемые им сведения, возникают проблемы с примением своих знаний в практической деятельности. (Прим. сост.)
(обратно)12
Учение о мышлении и языке, сложившееся в XX веке, доказало взаимосвязь умственного и речевого развития. Ребенок начинает использовать ту или иную языковую форму только после того, как овладевает ее значением. В свою очередь, речь рано включается во все формы познавательной деятельности. Усвоенные ребенком слова существенным образом перестраивают его восприятие мира, придают осмысленный характер познавательной деятельности. (Прим. сост.)
(обратно)13
Nil (nihil) admirari – ничему не следует удивляться (лат.). (Прим. сост.)
(обратно)14
В психологии подчеркивается, что младенец испытывает потребность в получении впечатлений, и если их недостаточно, то развитие ребенка резко замедляется и ведет к расстройству психического здоровья. Источником впечатлений, необходимых для нормального развития нервной системы и органов чувств, а также организатором таких впечатлений становится взрослый. (Прим. сост.)
(обратно)15
Доброжелательность, спокойный, ласковый голос, сам факт общения важны еще и потому, что уже в этом возрасте ребенок воспринимает модель взаимодействия между людьми в целом, которой и будет придерживаться в дальнейшем. Если взрослый нежно разговаривает с младенцем, эмоционально реагирует на его ответные знаки, то ребенок, еще не понимающий слов, быстро усваивает эти формы поведения. (Прим. сост.)
(обратно)16
Здесь Песталоцци имеет в виду пророка Авраама, который, как свидетельствует священная история, просит Бога пощадить город Содом и его греховных жителей, так как из-за этого могут пострадать пятьдесят живших там праведников. Оказалось, что в Содоме нет столько праведников, и Авраам уже говорит о десяти праведных жителях (Быт., 18, 20–33). (Прим. сост.)
(обратно)17
Швейцария. (Прим. сост.)
(обратно)18
В каждой семье нацеливают ребенка на ознакомление с тем, что, по мнению родителей, пригодится ему в жизни, и в соответствии со своими представлениями о будущем малыша взрослый строит процесс воспитания. Именно об этом Песталоцци говорит «жизнь образует», т. е. обучение должно быть построено в соответствии с потребностями ребенка. (Прим. сост.)
(обратно)19
1Очевидно, институт в Ивердоне. (Прим. ред.)
(обратно)20
С точки зрения современной науки это ошибочный или, скорее, недостаточно разработанный подход. Автор не учитывает того, что необходимо целенаправленно учить детей выделять в сравниваемых объектах существенные признаки, обобщать, делать выводы. Самостоятельно, без предварительного обучения, дети не смогут построить алгоритм оперирования абстрактными объектами. (Прим. сост.)
(обратно)21
Конечно, одного наблюдения недостаточно. Аналогична ситуация с ребенком, рассматривающим насекомых: он не получит знаний о специфических особенностях этих представителей животного мира и может никогда и не узнать об их жизнедеятельности без помощи учителя или учебника. (Прим. сост.)
(обратно)22
In succum et sanguinem verte – обратить в сок и кровь (лат.). (Прим. сост.)
(обратно)23
Немецкое наименование Ивердона. (Прим. ред.)
(обратно)24
И.Г. Песталоцци в конце жизни наблюдал разрушение созданного им института в Ивердоне. Это связано не столько с ошибками в его методе, сколько с препятствиями со стороны высшего сословия, не желающего успешного обучения детей из низших социальных классов. Автор, понимая истинные причины закрытия его школы, все же ссылается на свои собственные промахи и, безусловно, преувеличивает свои неудачи. (Прим. сост.)
(обратно)25
Некоторые родители целенаправленно ограничивают общение с ребенком, считая, что, уделяя ему внимание, избалуют. Могут не подходить к плачущему младенцу, на прогулке запрещать уходить за пределы песочницы, не водить ребенка в музей, зоопарк, не читать ему книжки, редко покупать игрушки. Воспитываемый таким образом ребенок может оказаться не мотивированным на обучение, приобретение новых знаний, овладение профессией. Могут быть и более серьезные последствия, такие как задержка психического развития. Конечно, на воспитание ребенка влияют множество факторов (бытовые условия, финансовые возможности родителей, взаимоотношения в семье, национальные и семейные традиции и др.), но если матери будут придерживаться метода И.Г. Песталоцци, который проверен вековым опытом, то смогут избежать множества трудностей в развитии и обучении ребенка. (Прим. сост.)
(обратно)26
Описания запаха, приведенные в произведении, имеют воспитательную направленность. Автор указывает на необходимость соблюдения гигиены, так как многие в Европе XIX века не понимали ее значения для сохранения здоровья, в том числе здоровья детей. (Прим. сост.)
(обратно)27
На самом деле стимулом для развития речи и перехода от произнесения звуков к произнесению слов является потребность в общении. (Прим. сост.)
(обратно)28
Фрунт (устар.), фронт – воинский строй шеренгами. (Прим. ред.)
(обратно)29
1 фут равен 30,5 см. (Прим. ред.)
(обратно)30
1 фунт равен 0,45 кг. (Прим. ред.)
(обратно)31
Песталоцци строил планы по воспитанию своих детей еще в годы юности, обсуждая их с будущей супругой Анной Шультгес (сестрой его друга и единомышленника), которая полностью разделяла его взгляды. В Нейгофе у них родился сын Яков-Жакели (1770–1801). Отец воспитывал его согласно своим педагогическим воззрениям и несколько месяцев вел дневник, посвященный воспитанию сына. Но, по-видимому, деятельность в школе отвлекала его от изложения опыта педагогической работы с одним ребенком, поэтому последняя запись в дневнике сделана меньше чем через месяц после его начала. (Прим. сост.)
(обратно)32
«Клаус», «Меде», видимо, слуги. «Барышня Рот» – Екатерина Рот, друг семьи Песталоцци. (Прим. сост.)
(обратно)33
Песталоцци описывает, как он учит сына разделять предметы на живые и неживые («мертвые» – приблизительный перевод), то есть, по-русски, на одушевленные и неодушевленные. (Прим. сост.)
(обратно)34
Сокращениями «Л.», «О.» («Ор.») и «Ч.» Песталоцци обозначает латынь, орфографию и чтение, которым он обучал своего сына. В современных детских садах также проводятся занятия по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, математике и др. Продолжительность занятий для детей четвертого года жизни 15 мин., пятого 20–25 мин., шестого 30 мин., седьмого 35 мин, для детей школьного возраста продолжительность уроков составляет 45 мин. При увеличении времени занятий внимание детей рассеивается, становится неустойчивым, процесс запоминания ослабляется. (Прим. сост.)
(обратно)35
Анна Варвара Песталоцци (1751–1832), младшая сестра Иоганна Генриха. (Прим. сост.)
(обратно)36
Элементарные опыты очень важны для формирования у детей интереса к исследованию окружающего мира, естествоведческих знаний, умения наблюдать и анализировать. К тому же такие опыты отлично совмещаются с прогулками и отдыхом, обогащая и разнообразя общение родителей и детей. (Прим. сост.)
(обратно)37
Иоганн Франц Колер (1738–1823) – хирург, домашний врач Песталоцци. (Прим. сост.)
(обратно)38
Жак Шультгес (1739–1806) – старший брат жены И.Г. Песталоцци, купец, член Большого совета г. Цюриха (органа власти города). (Прим. сост.)
(обратно)39
Игровая деятельность в дошкольном детстве является ведущей, то есть такой деятельностью, в ходе которой развиваются все психические процессы. Конечно, современные детские игры отличаются от игр XIX века, но объединяет их то, что ребенок берет на себя роль взрослого, воспроизводит действия взрослых, строит речевые высказывания в соответствии со взятой на себя ролью. Большое значение на первых этапах становления игровой деятельности (от рождения до пятого года жизни, а у некоторых детей и позже) имеет руководство и участие в игре взрослого. Подытожим: чем больше родителей последует в играх с детьми примеру Песталоцци, тем лучше. (Прим. сост.)
(обратно)40
Видимо, Каспар Фюссли (1743–1783), друг И.Г. Песталоцци с юношеских лет. (Прим. сост.)
(обратно)41
Некоторые взгляды Песталоцци на воспитание являются спорными. Нужно ли заставлять ребенка тренировать силу воли (пить горькое лекарство, когда здоров), наблюдать, как отец ест его орехи, или с опасностью для себя дотрагиваться до горячего? Еще больше вопросов вызывает стремление подавлять свободу детей ради их подготовки к исполнению общественных обязанностей. В решении этих вопросов и заключается философский смысл воспитания – каждому родителю предстоит сделать свой выбор. (Прим. сост.)
(обратно)42
Необходимо заметить, что Песталоцци составлял басни, ориентируясь не только на общечеловеческие проблемы. В частности, мораль басен следует рассматривать в контексте педагогической науки, а также организации образования на государственном уровне. (Прим. сост.)
(обратно)43
Берейтор, борейтор – человек, объезжающий верховых лошадей и обучающий верховой езде. (Прим. ред.)
(обратно)


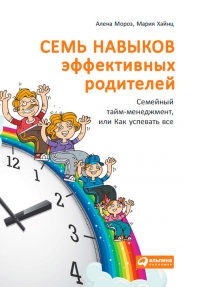


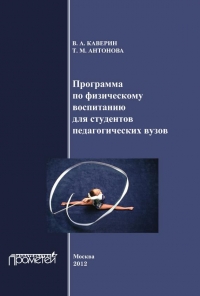




Комментарии к книге «Книга для матерей. Избранное», Иоганн Генрих Песталоцци
Всего 0 комментариев