Виктор Ефимович Каган Аутята. Родителям об аутизме
Памяти моего Учителя профессора С. С. Мнухина
От автора
Мы с проблемой аутизма ровесники, познакомились больше сорока лет назад и связаны до сих пор, хотя встречаемся уже реже. Во времена первой встречи у нас в стране проблема аутизма была еще диковинкой – она не изучалась, литературы о ней не было, аутичные дети были рассеяны по другим диагностическим рубрикам и никто не занимался специально помощью им. В наших отношениях мне повезло быть и врачом, и исследователем, и воспитателем в одном из американских центров по лечению аутизма. За это время проблема аутизма повзрослела и стала одной из ведущих в мире, а я постарел. Пришло время прощания, которым и является эта книга. В то же время она – возвращение долга и выражение благодарности моим главным учителям – аутичным детям и их семьям, учившим меня чувствовать и понимать их переживания и потребности, таким образом помогая и тем, кто обращался за помощью после них.
Аутята – так сегодня ласково называют аутичных детей. Мне это слово нравится еще и потому, что оно хорошо описывает содержание книги и ее сфокусированность на младшем возрасте, когда родители переживают встречу с необычностью их детей, а дети наиболее податливы для помощи.
Далеко не всё в нашей власти. Мы не можем отменить аутизм, он – факт нашей жизни и жизни ребенка. Но мы можем по-разному относиться к этому факту, изменять свое отношение и изменяться сами, и это оказывается именно тем ключом, который открывает ранее не поддававшуюся дверь. Это не волшебное «Сезам, отворись!», которое можно узнать, выведать. Это ключ, который каждый родитель кует сам.
Проще всего, но и неправильнее всего было бы построить книгу как справочник: «Вот симптомы, вот средства от них – иди, делай, и все будет хорошо». Аутизм не сводится только к симптомам, он больше, чем просто их сумма. В нем все связано со всем, так что потяни за одну ниточку – и меняется вся система. И аутичный ребенок не носитель симптомов, а, как и родители, проживающий и переживающий свою жизнь человек, неповторимая личность.
Поэтому книга построена как разговор, в котором можно ходить кругами, возвращаться к одному и тому же, рассматривая вещи с разных сторон, чтобы видеть их объемно. И речь в ней не только о происходящем с ребенком, но и о родителях с их сомнениями и переживаниями, выборами и внутренними ресурсами, благодаря которым они могут быть по-настоящему творческими и эффективными помощниками детей в развитии и подготовке к самостоятельной жизни.
Если вам удастся найти в книге собеседника, разговор с которым – согласны вы с ним или нет – помог вам что-то прояснить, на что-то взглянуть иначе, в чем-то укрепиться, найти поддержку, значит книга свою задачу выполнила. Мне остается пожелать этого вам и себе.
В. Е. Каган, август 2014
Немного истории
Аутизм не новое расстройство, а новый диагноз. Такие дети были всегда, но ученые начали проявлять внимание к ним сравнительно недавно. Некоторые психиатры описывали детей с поражениями головного мозга, чье состояние очень напоминает то, что сегодня называют аутизмом. В 1919 году американский психолог Л. Уитмер описал историю мальчика Дона, который в 2 года и 7 месяцев был практически лишен способности к общению, но в результате длительного специального обучения смог преодолеть значительную часть имевшихся затруднений. У нас в стране в 20-30-е годы Т.П. Симсон, Г. Е. Сухарева и другие описывали очень похожие на аутизм нарушения как проявления детской шизофрении и связанных с ней состояний.
Но первым, кто стал рассматривать аутизм как особое нарушение, дал ему имя и положил начало его специальному изучению, был американский психиатр Лео Каннер. Историю аутизма в сегодняшнем его понимании принято отсчитывать от его статьи, опубликованной в 1943 году. Из множества наблюдавшихся им детей он выделил двенадцать со своеобразным расстройством, определяющей чертой которого была недостаточность эмоционального контакта и общения начиная с самого раннего возраста.
В 1944 году австрийский педиатр Ганс Аспергер независимо от Каннера опубликовал статью о детях с недостаточностью эмоционального контакта, похожей на описанную Каннером, но не столь сильно выраженной. Он рассматривал это как своеобразное развитие характера: «При попытках найти и описать с помощью понятий то основное нарушение, которое, как нам представляется, является основным организующим началом личности у детей с данным отклонением, мы выбрали обозначение „аутистическая психопатия“. Название происходит от понятия аутизма – психического нарушения, крайне сильно выраженного у больных шизофренией». В одной из последующих работ Аспергер ссылался на статью Г. Е. Сухаревой о шизоидной психопатии в связи с описанным им состоянием. Сегодня слово психопатия в ходу разве что в бытовом языке, а в классификациях психических расстройств психопатии заменены термином «расстройства личности» – и аутистическая психопатия в них не входит.
Каннер и Аспергер относили описанные ими состояния к расстройствам шизофренического круга. Слово «шизофрения» и все с ним связанное выглядит пугающим, воспринимается как приговор, вызывает отвержение. Но что стоит за этими словами? Эрнст Кречмер, опираясь на изучение душевных болезней, сформулировал представление о шизоидной конституции, которая может проявляться на уровне: 1) шизотимии – варианта нормы без нарушений приспособления к жизни; 2) шизоидии – психопатии, делающей человека трудным для себя и окружающих; 3) шизофрении – психоза. Границы между ними могут быть весьма размыты, так что мне приходилось за годы практики встречать успешно работающих на высоких должностях людей с несомненными шизоидией и шизофренией. Больше того, именно такие люди совершают большинство действительно новых открытий, и многие исследователи писали о связи творчества с расстройствами шизофренического круга. Сегодня – особенно среди родителей аутичных детей – мнение о связи аутизма с шизофренией, мягко говоря, не очень популярно. Часто слышу звучащее со смесью страха и надежды: «Скажите, доктор, это не шизофрения?» Это отдельный большой разговор, и я только хочу подчеркнуть, что Каннер и Аспергер говорили на том языке, на котором говорила психиатрия того времени – их слова не окончательный вердикт и тем более не приговор к шизофрении.
В 1949 году мой учитель профессор С. С. Мнухин, один из основоположников детской психиатрии у нас в стране, бывший в блокадном Ленинграде консультантом военных госпиталей, описал психические нарушения у детей, перенесших голод с дистрофией. В ней он упоминал о расстройствах, сходных с теми, о которых говорил Каннер. Думаю, не нужно говорить, что он в то время просто не имел возможности следить за зарубежной психиатрической литературой и выловить в ее потоке статью Каннера. В последующие годы, изучая нарушения при различных поражениях мозга, он рассматривал нарушения развития и поведения, очень близкие к описанным Каннером и Аспергером. Когда зарубежная литература стала мало-мальски доступна и сведения о набиравшем на Западе силу изучении детского аутизма проникли через железный занавес, он и его сотрудники в 1967 году подытожили свой опыт в первой у нас в стране статье о детском аутизме.
Как можно видеть, уже с самого начала определились три линии понимания детского аутизма: тяжелое расстройство контакта, расстройство характера и нарушение, связанное с мозговыми причинами. Границы между ними часто расплывчаты, и далеко не всегда удается сказать, где кончается одно и начинается другое. Так, один из описанных Аспергером в его первой статье случаев скорее относится к органическим нарушениям, которые изучал С. С. Мнухин.
Детский аутизм быстро привлек внимание врачей и исследователей. С этим вниманием было связано много надежд, и трудно назвать средства, которые не пытались бы использовать для его лечения – от витаминов до психотропных средств. Но в 1973 году Каннер заметил, что «прошедшие 30 лет не принесли существенного прогресса в понимании проблемы». Однако в это же время помогать аутистам начали психологи и социальные работники, стали складываться первые объединения родителей для оказания поддержки таким детям и т. д. Другими словами, закладывались основы той разветвленной и многообразной помощи, которая есть сегодня.
Долгое время аутизм не входил в классификации психических расстройств. Для его обозначения использовались разные диагнозы: детская шизофрения, шизоидная психопатия, органический аутизм и др. В 1980 году он был впервые введен в классификацию как одно из нарушений в группе так называемых первазивных (общих) расстройств развития. Диагноз «детский аутизм» мог ставиться детям до 12-летнего возраста, а потом менялся на один из принятых для взрослых диагнозов. Считалось, что это сугубо детское расстройство, которое лишь со вступлением в период полового созревания приобретает определенные черты. Позже это ограничение было снято, определение «детский» отпало, и теперь диагноз «аутизм» может сопровождать человека на протяжении всей жизни. В последней классификации он выделен в отдельную диагностическую рубрику «Расстройства аутистического спектра».
Что нужно для диагноза
Для синдрома Каннера в строгом смысле слова характерно сочетание основных симптомов, к которым могут присоединяться и другие:
1) невозможность или выраженная ограниченность способности устанавливать контакт с людьми – ребенок ходит «мимо людей», смотрит сквозь людей, обращается с ними, как с предметами;
2) отгороженность от внешнего мира с игнорированием внешних раздражителей, на которые реагируют обычно развивающиеся дети;
3) речь даже если неплохо развита, не используется или мало используется для общения;
4) отсутствие или недостаточность зрительного контакта – взгляда в лицо, в глаза;
5) страх изменений в окружающей обстановке и стремление поддерживать ее неизменность (феномен тождества, по Каннеру);
6) попугайная или граммофонная речь – повторение только что или когда-то ранее услышанного;
7) задержка развития «я»;
8) стереотипные игры с неигровыми предметами и стереотипность разных сторон поведения;
9) стереотипные движения – подпрыгивание, верчение кистей рук перед глазами.
Эти симптомы обнаруживаются у детей не старше 2–3 лет, но существуют много раньше – практически с рождения. У совсем маленьких детей их трудно обнаружить из-за неопытности родителей и из-за того, что они принимаются за индивидуальные особенности или за то, что ребенок «перерастет». Да и позже, когда нарушения становятся уже явными, родителям бывает трудно их описать. «Странный, – говорят они, – не такой, как все», не находя более точных слов. Нередко проявления аутизма маскируются более понятными для родителей мнимыми или реальными нарушениями, например задержкой развития или нарушениями слуха. Задним числом обычно удается выяснить, что уже на первом году ребенок слабо реагировал на людей, не принимал позу готовности при взятии на руки, был необычно пассивен, боялся бытовых шумов (пылесоса, кофемолки и т. д.), не привыкая к ним со временем, проявлял необычайную избирательность в еде. Иногда родители осознают все это как нарушения лишь в сравнении с поведением второго ребенка.
Синдром Аспергера тоже проявляется нарушениями общения, но выглядят они несколько по-другому и мягче. Речь развита неплохо, нередко даже с проявлениями словотворчества, создающими впечатление особой развитости. Но для общения речь используется мало и довольно своеобразна по ритму, темпу, мелодике, модуляциям, так что похожа то на декламацию, то на имитацию речи электронными устройствами. Взгляд направлен внутрь себя, как бывает у сосредоточенно-самоуглубленных людей, или в никуда, как будто ребенок вглядывается во что-то очень далекое. Мимика похожа на кукольную – не «играет», как у обычных детей. Жестикуляция тоже обеднена. Движения угловаты, со склонностью к стереотипности. Навыки вырабатываются, но недостаточно автоматизированы, из-за чего их практическая реализация затруднена. Привязанности вырабатываются трудно. Вне дома дети скучают скорее по привычной обстановке, чем по близким (Аспергер называл это ностальгией кошек). Круг интересов своеобразен, ограничен и обычно очень устойчив.
Таким детям, несмотря на хорошее умственное развитие, трудно вписаться в реальность, учитывать ее правила и условности, так что со стороны кажется, что поведению недостает логики и здравомыслия. Некоторые дети рано проявляют способность к необычному, нестандартному пониманию себя и окружающих. Логическое мышление сохранено или даже хорошо развито, но знания неравномерны и плохо используются в повседневной жизни. Хотя внимание неустойчиво, в достижении целей, определяемых ведущими интересами, ребенок может быть по-своему последователен и упорен.
Нередко проявления аутизма трудно однозначно отнести к синдрому Каннера или синдрому Аспергера. В таких случаях говорят о неуточненном аутизме. Сегодня эти варианты диагноза объединены зонтичным диагнозом «расстройства аутистического спектра». По тяжести они подразделяются так, как показано в табл. 1.
Таблица 1. Степени тяжести расстройств аутистического спектра
Соответственно, говорят о высокофункциональном и низкофункциональном аутизме. Многие люди с высокофункциональным аутизмом никогда не попадают в поле зрения психиатра – аутистическая особинка прокрашивает их характер и мышление, не только не создавая серьезных препятствий в жизни, но и выводя в первые ряды. В этой связи часто приводят в пример Альберта Эйнштейна. Английский психиатр Лорна Винт (одна из ключевых фигур в исследовании аутизма) писала: «Когда природа проводит линию, она всегда размазывает ее. Не существует четкой грани между людьми с аутистическими чертами и без них. В каждом ребенке с аутизмом нужно видеть индивидуальность».
Сейчас разработаны профессиональные шкалы, помогающие более надежной диагностике. В начале 2000-х годов появилась, а совсем недавно была переведена на русский язык и адаптирована шкала наблюдения для диагностики аутизма ADOS. Это довольно дорогая методика, требующая специальной подготовки для ее использования.
Но даже самые замечательные опросники не могут заменить того, что дает живое наблюдение за ребенком. Именно оно позволяет оценивать и понимать не только симптомы, но и то, как они складываются в целостную картину. Это как с калейдоскопом – из одного и того же набора цветных стеклышек складываются разные картинки. Симптомы аутизма делают детей узнаваемыми, похожими. Но даже однояйцевые близнецы – все-таки отдельные, особенные, уникальные личности.
Главное, что отличает этих детей и составляет самую суть расстройств аутистического спектра, как бы они ни были сложны, это нарушения общения. Именно они ориентируют на первоочередные нужды ребенка – поддержку и помощь в установлении контактов с окружающим миром. Неконтактность ставит ребенка в трудные и невыгодные условия. Она оказывается стеной между ребенком и миром, которая мешает миру учить ребенка, а ребенку – учиться у мира. Это приводит к тому, что называется вторичной задержкой психического развития, которая, в свою очередь, осложняет общение. При отсутствии помощи замыкается круг, разорвать который трудно. Далеко не всегда легко отличить неспособность к общению от отсутствия потребности в нем или страха перед ним – особенно в поведении ребенка, который не может рассказать о своих переживаниях. Нередко можно обнаружить признаки и того, и другого, и третьего. Поэтому используется более точное, чем «нарушение общения», определение: аутизм – это проявляющаяся с раннего возраста ограниченная способность к общению.
Для врача, который в зависимости от понимания нюансов планирует обследование и лечение, важны даже самые незначительные детали, определяющие медицинский диагноз. Для родителей и воспитателей гораздо важнее не диагноз, а понимание того, что происходит с ребенком, его переживаний, потребностей, страхов, мотивов. Нужно ли ему ограничивать общение, а если да, то для чего, что это ему дает, от чего защищает, что облегчает? Что переживает ребенок, когда натыкается на барьер непонимания со стороны окружающих или собственную невозможность выразить мысли и чувства? Каким ему представляется мир и отношения в нем? Подчас такое понимание осознанно, подчас интуитивно, но именно оно помогает аукаться с ребенком через стену аутизма и вместе с ребенком разрушать ее.
Важно помнить несколько вещей.
1. Аутизм – это врожденное состояние искажения развития, проявляющееся прежде всего ограничениями и особенностями общения и социальных контактов.
2. Аутизм – не болезнь, которая начинается на фоне обычного, так называемого нормального, развития и предполагает возможность так или иначе лечить ее.
3. Аутизм не утяжеляется, как это бывает при многих психических заболеваниях. В самых трудных случаях он остается на исходном уровне, в более легких удается добиться большего или меньшего улучшения.
4. Аутизм неизлечим в том смысле, что лекарств от него не существует. Слово «лечение» подразумевает использование самых разнообразных методов – от лекарственных до психологических. С их помощью можно уменьшать частоту и интенсивность нежелательного поведения, помогать ребенку использовать имеющийся у него потенциал развития, чтобы он мог развивать необходимые для самостоятельной жизни навыки и как можно лучше использовать их для продуктивного общения и приспособления к жизни в обществе.
5. При оказании помощи первыми симптомами, которые начинают меняться, являются нарушения в общении. Но они же остаются наиболее устойчивыми, так что сохраняются, пусть и в более мягком виде, даже при самом большом успехе.
Аутизм и умственное развитие
Каннер говорил, что умственное развитие при аутизме существенно не страдает. Сегодня считается, что до 80 % аутичных детей обнаруживают признаки умственной отсталости. Она может быть выражена в разной степени и требовать разной помощи в зависимости от ее соотношения с аутизмом.
С одной стороны, даже самые хорошие задатки умственного развития требуют общения для их реализации. У детей, по разным причинам лишенных общения в первые годы жизни, умственное развитие настолько затруднено, что потом они оказываются отсталыми. Рене Шпиц, изучавший детское развитие в 1930-1940-х годах, обнаружил, что в младенческих приютах у детей, получавших необходимый физический уход, но не имевших общения (их не брали на руки, не разговаривали с ними, не организовывали им нахождение со сверстниками и игры с ними – накормленные и ухоженные они все время были одни), умственное развитие серьезно страдало.
Аутизм с его невключенностью в окружающий мир и общение создает примерно ту же ситуацию, что у «диких» и приютских детей – ребенок оказывается в изоляции. До него доходит недостаточный объем информации, чтобы обеспечивать его умственное развитие, а помощь взрослых в отношениях с миром и переработка информации ограниченны. Это можно представить как катящийся с горки снежок аутизма, обрастающий слоями задержки развития, которая проявит себя и в жизни, и при тестировании интеллекта.
С другой стороны, умственная отсталость связана с трудностями восприятия, усвоения и использования поступающей информации – есть какой-то предел, выше которого ребенок не может прыгнуть. И день за днем, месяц за месяцем снежок умственной отсталости обрастает слоями вторичной задержки развития.
При этом в поведении аутичных детей и детей с отставанием могут наблюдаться очень похожие симптомы, например повторяющиеся, стереотипные движения, возбуждение, нервная реакция на незнакомое или непривычное, ходьба на цыпочках и т. д.
Отличить аутизм от умственной отсталости далеко не всегда легко. Для этого и профессионалам могут требоваться многие часы наблюдения и обследования. Главное, на что приходится опираться, – это особенности общения. Однако и особенности умственного развития важны – не только его уровень, но и неравномерность, когда одни умственные способности опережают обычный возрастной уровень, а другие намного отстают от него. Хорошая, а то и совершенно блестящая механическая память позволяет удерживать и воспроизводить огромные объемы информации, создавая впечатление одаренности, так что для родителей неспособность ребенка к обучению может оказаться сюрпризом.
У части аутичных детей отмечается не просто неравномерность развития, а изолированный дар к чему-то на фоне западания других способностей. Раньше психиатры называли таких людей гениальными идиотами (idiot savant), подчеркивая контраст этой «точечной одаренности» с общим отставанием. Так, 26-летний аутичный житель большого американского города с детства был поглощен картой города и маршрутами проезда, зная все буквально до последнего уголка. Он работал, отвечая на телефонные звонки водителей общественного транспорта и такси, когда они испытывали затруднения из-за пробок, дорожных работ, просто незнания, и мгновенно выдавал им наилучшие маршруты. Но поднять утром, умыть-побрить, накормить, одеть его должна была мать – сам он этого не умел. Знаменитый Стивен Вилтшайр (диагноз «аутизм» ему поставили в три года, а первое слово он произнес в пять лет) с его фотографической памятью, пролетев над городом на вертолете, может точно нарисовать панораму города шариковой ручкой[1]. Это могут быть особые способности счетчика, мгновенно перемножающего в уме 6-7-значные числа или с лету отвечающего на вопрос, каким днем недели будет 18 марта 2089 года, но при этом человек затрудняется в ситуации применения самых простых бытовых действий.
На первый взгляд все эти вещи могут иметь научный интерес, но зачем они вам? Я бы сказал, для более реалистического понимания состояния умственного развития вашего ребенка, который никогда не является винтиком среди других таких же винтиков. Бывает полезно не только сверить развитие ребенка с имеющимися нормами и знаниями, но и взглянуть на него свежим, незамыленным взглядом. Те «мелочи», которые можете увидеть вы, не всегда видны специалисту, и родители часто открывали мне глаза на то, что оказывалось важным подспорьем в помощи.
Как часто?
Л. Каннер сообщил о 150 аутичных детях из наблюдавшихся им за 30 лет двадцати тысяч маленьких пациентов. И сегодня каждый детский психиатр мог бы рассказать, сколько аутичных детей он видел за годы своей работы. Но это не ответ на вопрос о распространенности аутизма.
Поначалу, когда диагноз «аутизм» только пробивал себе дорогу в классификации, его частоту оценивали довольно противоречиво, но цифры были невысоки: 2 % попадающих в поле зрения психиатра детей, 1:36 500 или 0,003 % клинических случаев, 0,017-0,024 % детей до 15 лет. По данным некоторых современных исследователей, использовавших очень строгие критерии диагностики синдрома Каннера, распространенность его и сегодня оценивается примерно так же. Но в целом, начиная с 1980-х годов, когда аутизм вошел в классификации, эти цифры стали увеличиваться и последние 25–30 лет говорят об эпидемии аутизма – в разных местах частота его диагностики увеличилась на 200-1300 %. Цифры растут на глазах: в 2000 году – 5-26:10 000 детского населения, в 2005 году – 1:250 новорожденных (больше, чем вместе взятые глухота и слепота, чем синдром Дауна, чем сахарный диабет, чем онкологические заболевания), в 2008 году – 1:150 детей, в 2012 году – 1:88 детей, а недавно мне попались цифры 1:50 и даже 1:25. За десять лет количество детей с аутизмом выросло в 10 раз. Считается, что тенденция к росту сохранится и в будущем.
Чем можно объяснить такой рост? Аутизм ведь не инфекционное заболевание, чтобы распространяться эпидемически, как в свое время грипп испанка или чума.
Чаще всего говорят о роли классификаций. Действительно, с обновлением классификаций диагностика аутизма увеличивается. Но если бы это был единственный фактор, то рост распространенности был бы примерно одинаков во всем мире даже с учетом того, что в классификации вносятся некоторые поправки в соответствии с принятыми в разных странах подходами к диагностике. Однако это не так даже в пределах одной страны. В США, например, данные о распространенности аутизма различаются не только в разных штатах, но и в пределах одного штата.
Показатели выше: а) в больших городах и близко прилегающих к ним районах, где медицинская и специальная психологическая помощь более доступна, чем в удаленной сельской местности; б) в местах расположения промышленных предприятий, университетов, исследовательских и компьютерных центров. В таких местах выше информированность и количество людей творческих и интеллектуальных профессий, среди которых процент людей с теми или иными особенностями психики по сравнению со «средними» людьми выше.
В сельской местности дети более свободны, ожидания к уровню их развития не так высоки, как в центре, и родители чаще принимают за норму то, что может настораживать в поведении городского ребенка.
Огромное значение имеет распространение информации об аутизме и помощи при нем. С 2012 года Организация Объединенных Наций, принимая во внимание глубину проблемы и ее значение для общества, провозгласила 2 апреля Всемирным днем распространения информации об аутизме. Выходит много книг, статей, видеоматериалов, помогающих разрушить барьеры страха перед диагнозом «аутизм». В 1960-1970-х годах, когда диагноз пугал, а помощь была слабо развита, родители могли избегать обращения за ней. Теперь, когда аутизм перестал быть пугающей диагностической биркой и обеспечен поддержкой, информация помогает легче распознавать проявления аутизма, находить специалистов (которые способны поставить диагноз и помочь) и ориентироваться в существующих системах помощи и ее организации.
Один из путей распространения информации – научение от других родителей по месту проживания. Подхватить аутизм, как инфекцию, невозможно, но можно «подхватить» представление об аутизме, и это приводит к увеличению числа обращений за диагностикой. Родители обмениваются опытом с соседями, посещая разные места, у них изменяется понимание происходящего с ребенком; сведения об успешной работе с аутичными детьми воодушевляют их и подталкивают к обращению за помощью.
Этому способствует и финансовый фактор. Дело в том, что помощь аутичным людям очень дорогостоящая. В США она ежегодно обходится примерно в 35 млрд долларов; ежегодные расходы на лечение, обучение и поддержку аутичного ребенка в среднем составляют 17 000 долларов. На нее выделяется в разы больше денег, чем на помощь людям с умственной отсталостью. Понятно, что за цифрами кроются очень выигрышные системы помощи при аутизме; и это не может не сказываться на обращаемости и диагностике. Для сравнения: этот фактор не приводит к учащению обращений за диагностикой умственной отсталости, на помощь при которой отпускается меньше денег. В разных странах роль этого фактора различна в зависимости от способов финансирования охраны здоровья, страховых систем и т. д.
И конечно, срабатывает отношение людей к диагнозу, на которое очень повлиял фильм «Человек дождя», приоткрывший завесу жизни аутичных людей. Диагноз «шизофрения», что ни говори, остается пугающим – с ним связано слишком много мифов и предубеждений. Диагноз «умственная отсталость», кажется, не оставляет надежд и не обещает помощи. Другое дело аутизм – есть примеры того, как аутичные люди достигают успеха в том или ином деле.
В одной датской компании технологического консультирования три четверти работников – люди с расстройствами аутистического спектра: они потрясающе внимательны к деталям, предельно сосредоточены и работают быстро и эффективно, проверяя 4000 страниц технической документации в 10 раз быстрее обычных тестировщиков программ и при этом не пропуская ошибок. Неудивительно, что в израильской армии таких людей привлекают к анализу аэрофотоснимков и карт. О профессоре Темпл Грандин – эксперте по поведению животных, авторе нескольких популярных книг – снят замечательный фильм, рассказывающий о ее жизненном пути и преодолении связанных с аутизмом трудностей. Шведка Ирис Юханссон, приезжавшая в Россию с семинарами, в книге «Особое детство» рассказывает о собственном опыте преодоления аутизма. Об аутизме много пишут исследователи, врачи, психологи и родители (например, Николай Дилигенский в книге «Слово сквозь безмолвие» рассказывает о своей работе с сыном), подчеркивая возможности раскрытия скрытых особенностей общения. Во всем этом нет ни капли обмана, хотя далеко не каждому ребенку удается продвинуться так далеко, как хотелось бы. Но несмотря на все предупреждения об относительной редкости и ограниченности возможностей улучшения, «чему бы жизнь нас ни учила, а сердце верит в чудеса» и «обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!». И в этом не только надежда, но и неоценимая поддержка усилий семьи, которые могут сотворить чудо даже вопреки самым тяжелым прогнозам. Да и хороший врач стремится так сформулировать диагноз, чтобы он не был приговором, а помогал получать помощь и максимально реализовать потенциал ребенка. У маленьких детей постановка диагноза крайне трудна из-за возрастной незрелости, то маскирующей расстройства, то мешающей им проявиться достаточно определенно. Вместе с тем диагноз заметно влияет на судьбу ребенка, и это диктует осторожность в диагностике. Диагнозы детской шизофрении или умственной отсталости предполагают вполне определенные подходы к лечению и психолого-педагогической помощи; французские психиатры поэтому вообще не ставят диагноз «шизофрения» детям до 15 лет. Диагностика аутизма – даже если потом она не подтвердится – в этом смысле расширяет коридор возможностей. Как сказала мне когда-то замечательный детский психиатр Валентина Николаевна Мамцева, если болезнь есть, она потом догонит – не надо помогать ей диагностической спешкой.
Едва ли надо говорить, что все эти обстоятельства действуют не сами по себе, а тесно переплетаются между собой. Влияют ли они на диагностику аутизма в России, а если да, то как именно? Об этом можно лишь догадываться, так как сколь-нибудь серьезные российские исследования распространенности аутизма пока остаются делом будущего.
У мальчиков аутизм встречается в среднем в 3–4 раза чаще, чем у девочек. Но когда аутизм выявляется очень рано, мальчиков и девочек примерно поровну.
Причины
Кажется, что, поняв причины, мы сможем лечить и предупреждать нарушения. Однако это далеко не всегда так даже при телесных расстройствах, а при расстройствах аутистического спектра тем более. Трудно и едва ли правильно говорить о единых причинах ряда расстройств, которые объединяются лишь внешним сходством.
Интерес родителей к причинам усиливается тем, что к боли за ребенка присоединяется чувство тревоги и вины – не сделано ли что-то, что привело к аутизму, все ли было сделано, чтобы предупредить его, не вызван ли он наследственностью с моей или мужа/жены стороны и т. д. Сосредоточенность на поиске причин, на только объективной картине нарушений оттесняет в сторону эти переживания, которые кажутся не имеющими отношения к делу. Вот пример того, насколько они на самом деле важны – он касается, правда, не собственно расстройств аутистического спектра, а похожего состояния, но хорошо иллюстрирует то, о чем я хочу сказать.
Женщина обратилась с жалобами, что 14-летний сын замкнут, душевно холоден, живет «в себе» и сам по себе. Сам мальчик считал себя совершенно нормальным и никакой помощи не хотел. Мы договорились о нескольких моих встречах с матерью без него, и он с облегчением согласился. Она на этих встречах была довольно напряжена и много раз спрашивала, не шизофрения ли у мальчика. На одной из встреч я предложил ей цветовой тест, чтобы лучше понять отношения в семье. Сына она обозначила серым, самым не любимым ею цветом. Минут через десять после завершения теста она вдруг сказала: «Я его обозначила самым противным цветом, но не подумайте, что я его не люблю. Я его очень люблю, но абсолютно, как ни стараюсь понять, не понимаю». И в дальнейшем разговоре опять спросила: «Нет, скажите мне, доктор, как есть – у него шизофрения?» Я в ответ заметил, что она так настойчиво спрашивает о шизофрении, будто хочет, чтобы я поставил этот диагноз. И после некоторой паузы услышал: «Нет, нет, доктор, что вы! Не хочу! Я боюсь этого! Видите ли, мы с мужем и сами такие, как он. И я боюсь, чтобы из этой двойной наследственности не вышло шизофрении. Наверное, я виновата – нужно было выходить замуж за кого-нибудь веселого и общительного, чтобы разбавить наследственность, а я…» Следующие несколько встреч были посвящены проработке ее видения и переживания проблем с мальчиком. Она позвонила через несколько месяцев – другой голос, другие интонации, рассказ о том, как хорошо налаживаются отношения с сыном.
Изучая семьи аутичных детей, Каннер обратил внимание на то, что их родители занимают сравнительно высокое положение в обществе, обычно очень сдержанны в проявлении чувств и вообще скорее понимают, чем чувствуют и сопереживают. Он предположил, что дети у них рождаются здоровыми, но родители не могут с самого начала жизни создать для них такую атмосферу, какая необходима для правильного эмоционального развития и формирования навыков общения. Аспергер тоже видел мало по-настоящему сердечных людей среди родителей наблюдавшихся им детей. Это представление о происхождении аутизма получило название теории эмоциональной холодности родителей – «родители-холодильники».
Поначалу эта теория была очень популярна. Она возникла, когда медицина и психология получали все новые и новые (надо сказать, очень демонстративные и убедительные) доказательства важности для физического и психического развития детей условий жизни, в частности – контакта с матерью б раннем детстве. На фоне интереса, который вызывали такие сведения, теория эмоциональной холодности родителей как причины аутизма казалась очень перспективной. Однако спустя некоторое время от нее отказались. Почему?
Множество проведенных в разных странах исследований не подтвердили ни непременно высокого социального положения родителей, ни их эмоциональной холодности. Более того, они часто сильнее привязаны к детям, чем это бывает при других нарушениях, и предпринимают гораздо больше усилий, чтобы помочь им. Хотя почти все исследователи считают, что родителей аутичных детей отличает высокий уровень интеллекта, никому еще не удалось доказать, что чем умнее родители, тем больше вероятность аутизма у детей. За много лет работы я убедился: 1) внимание к особенностям развития ребенка выше у социально благополучных и успешных родителей; 2) хорошее интеллектуальное развитие родителей помогает им лучше понять, что с ребенком не все благополучно, справиться с этой психологической травмой и обратиться за помощью; 3) эмоциональный контакт сдержанных в проявлении эмоций людей не менее глубок, чем у других: они любят не меньше, хотя проявлять любовь могут иначе.
Для многих родителей теория эмоциональной холодности звучит как упрек в недостаточной любви к ребенку и повод для обвинений себя в имеющихся у ребенка нарушениях. Когда ребенок заболевает или с ним что-нибудь случается, мы всегда так или иначе чувствуем себя виноватыми, даже понимая, что нашей вины тут нет. Ребенок простудился или получил травму – может быть, отпусти мы его гулять на десять минут раньше или позже, все было бы иначе? Но одно дело чувствовать себя виноватым и совсем другое – обвиняемым. Никто не хочет быть без вины виноватым. Если месяц за месяцем и год за годом отдавать всего себя помощи ребенку, то любой вольный или невольный намек на недостаточную любовь или неумение любить грозит стать несправедливой обидой, подорвать веру в себя как мать, отца. Не каждый сумеет сразу найти наилучший подход к ребенку, но это никак не предполагает возникновения вины в происхождении аутизма.
Может быть, особенности характера родителей и аутизм у ребенка связаны с одной общей причиной, например наследственностью? Никто не станет спорить с важностью фактора наследственности: при аутизме у одного из однояйцевых близнецов вероятность заболевания второго составляет 36 %, у разнояйцевых – не больше 10 %. С наследственностью связаны около 60 % риска аутизма. У братьев и сестер разного возраста часто встречаются задержка речевого развития и умственная отсталость. Но пока не выделены никакие специальные хромосомы или гены, ответственные за происхождение аутизма, и вероятность их выделения очень мала. Речь идет о взаимодействии генов: в одном из последних исследований говорится о взаимодействии 108 генов при аутизме. Да и как очертить границы между наследственной отягощенностью (наличием в семье каких-то особенностей или болезней, которые могут никогда не проявиться у детей), наследственной предрасположенностью, которая облегчает возникновение нарушений, и наследственной обусловленностью, полностью отвечающей за них?
Большинство исследователей сходятся в том, что аутизм чаще встречается у перворожденных мальчиков – младшие братья и сестры обычно здоровы и общительны. Те дети с аутизмом Каннера, которых пришлось наблюдать мне, рождались не просто первыми, но и преимущественно от первой беременности в отличие от тех, у кого аутизм был связан с внутриутробными мозговыми факторами.
Возвращаясь к распространенности, напомню, что синдромы Каннера и Аспергера не участились так драматически, как расстройства аутистического спектра в целом. В них, следовательно, ведущее место занимает так называемый неуточненный аутизм, чаще всего связанный с врожденными нарушениями центральной нервной системы. Возможно, именно это и ложится в основу мнения о том, что аутизм – неврологическое, не имеющее отношения к психиатрии расстройство. Как врач я формировался в те годы, когда детский психиатр, осматривая ребенка, не ограничивался наблюдением, разговором с матерью и, может быть, с ребенком, а и осматривал ребенка, как это делают педиатр и невропатолог, чтобы оценить его состояние в целом. Тогда говорили о детской психоневрологии. Мне кажется это более правильным, чем разделение и тем более противопоставление психиатрии и неврологии.
Внутриутробные нарушения развития и работы мозга могут вызываться самыми разными причинами. В значительной мере это зависит от того, что именно, на каком этапе развития нервной системы, на какие ее отделы и с какой силой повлияло. Поэтому разные воздействия на мозг могут приводить к сходным результатам, а на первый взгляд одинаковые – к разным. Женщина может не заметить у себя легкого недомогания во время беременности или не придать ему значения. Какие-то причины, связанные с экологической ситуацией, вообще часто остаются неизвестными.
Не утихают споры о роли вакцинации в происхождении аутизма. Думаю, одна из весомых причин связывания аутизма с вакцинацией – это то, что вакцинация проводится на первом году жизни, а симптоматика аутизма в этом возрасте размыта и неспецифична: аутизм не распознается, а к 2–3 годам, когда чаще всего аутизм уже проявляется достаточно определенно, его связывают с прививками, хотя это – врожденное состояние. Серьезные исследования (последнее выполнено в 2014 году, включало в себя данные об 1 млн 200 тыс. привитых) роль вакцинации как причины аутизма не подтверждают, а проверка исследований, подтверждающих ее, показывает, что лишь ничтожно малая часть осложнений после вакцинации действительно является аутизмом. Опасность отказа от вакцинации намного выше риска появления осложнений после нее.
Очень трудно надеяться на то, что удастся выделить какую-то общую причину, воздействие на которую предупредит возникновение расстройств аутистического спектра. Резонно представить себе, что работает не один какой-то фактор, а сочетание наследственности и мозговых поражений.
Если вы читаете эту книгу не просто из интереса, а имея аутичного ребенка, у вас, скорее всего, при всех неясностях сложилось какое-то представление о причинах аутизма. Не стремясь его опровергать или что-то внушать вам, я лишь попытался дать некоторый материал для размышления. Для семьи знание причин важно прежде всего настолько, насколько оно может помочь организовать помощь ребенку.
Грани аутизма
Основные симптомы
С самого начала жизни ребенок не способен устанавливать отношения с другими. Он живет как в раковине и не воспринимает внешние раздражители, пока они не становятся сверхсильными или болезненными. В младенческом возрасте очень показателен страх бытовых шумов, например звука пылесоса или кофемолки. Ребенок не тянется на руки и не принимает позу готовности – матери нередко говорят, что ребенок похож на мешочек с песком или крупой и кажется более тяжелым, чем на самом деле. С момента введения прикорма возникают трудности с кормлением из-за избирательной любви к одним видам пищи и непринятия других.
Речь может развиваться с задержкой, в обычные сроки или даже с опережением, но почти или совсем не используется для установления контактов и общения. Благодаря блестящей механической памяти речь часто выглядит заученным магнитофонным, попугайным воспроизведением того, что ребенок слышал от окружающих, по радио или в телепередачах. Переносный смысл слов остается недоступным. Нарушено использование личных местоимений. Самостоятельное поведение выглядит как однообразный и бедный набор внешне бесцельных и странных действий. Обычные детские игры отсутствуют, что особенно заметно начиная с трех лет, когда дети должны начать играть в сюжетные игры. Роль игры выполняют монотонные механические манипуляции с неигровыми предметами (ключи, кухонная утварь, веревочки, палочки) или стереотипные кружения, прыганье, бег.
Обычно это дети с неплохим физическим здоровьем и красивым смышленым лицом, из-за которого они производят не соответствующее действительности впечатление интеллектуальности. Они не переносят взгляда в глаза и напряжены в присутствии людей, особенно при попытках вовлечь их в общение. Часто они как бы не видят и не слышат людей. Поражает контраст, который заключается в сочетании отгороженности от мира и высочайшей восприимчивости к физическому окружению со стремлением поддерживать его постоянство и протестом при любом изменении (феномен тождества, по выражению Каннера).
Все эти признаки могут встречаться с разной отчетливостью и в разных сочетаниях. Не раз и не два делались попытки уточнить этот список симптомов. По крайней мере четыре из них можно считать обязательными: неспособность к общению с раннего возраста, нарушенное использование личных местоимений, непереносимость взгляда в лицо и феномен тождества. Также во все диагностические руководства входит триада аутизма (нарушения социальной коммуникации, социального взаимодействия и социального воображения), сформулированная Лорной Винт. Многие исследователи придают важное значение для диагностики отсутствию или наличию у взрослого чувства эмоционального контакта, резонанса при взаимодействии с ребенком.
До трех лет
В первые год-два многие родители не замечают никаких отклонений или не расценивают как отклонение то, что замечают. Нередко они вспоминают о том, что их удивляли и сердили подозрения родственников о неблагополучии «абсолютно нормального ребенка». Некоторые матери лишь при появлении второго ребенка начинают задним числом переоценивать свое восприятие первенца. Иногда мать чувствует, что малыш не такой, но не может уловить, что именно вызывает это чувство. Но, как правило, при подробном расспросе удается получить сведения о ряде важных первых проявлений аутизма.
Уже в первые месяцы имеют место нарушения ритма сна/ бодрствования и аппетита, часто расцениваемые врачами как симптомы невропатии. Младенец плохо сосет, срыгивает, у него могут быть нарушения пищеварения. Бодрствование обычно сопровождается плачем с криком, младенца трудно успокоить. Попытки положить ребенка на живот, перепеленать, вымыть – все может вызывать трудно утихающее беспокойство. Укачивай, катай в коляске, делай, что хочешь, но стоит остановиться – и крик возобновляется. Другие дети, наоборот, необычайно спокойны. Они остаются спокойными и лежа в мокрых пеленках, и при наступлении времени кормления, и при попытках взрослых расшевелить их, как если бы они не чувствовали ни голода, ни физических неудобств. Поначалу это может даже радовать родителей: «Он у нас такой спокойный – никаких хлопот!» «Сфинксик наш!» – говорит мать, но проходит месяц-другой – и пассивная безучастность ребенка начинает тревожить, у некоторых детей в год-полтора эти типы поведения могут сменять друг друга. Они в целом достаточно неспецифичны, так что было бы ошибкой, столкнувшись с ними, сразу думать об аутизме.
Первая улыбка появляется у большинства детей около двух месяцев – тогда же, когда и у здоровых сверстников. Родители видят в ней то, что хотят увидеть, – им кажется, что малыш узнает их и улыбается именно им. Это не так и у здоровых детей, которые в два-три месяца реагируют улыбкой на нарисованное человеческое лицо точно так же, как на лица родителей. Но аутичные дети улыбаются, как правило, при приятных для них манипуляциях – подбрасывании, почесывании, щекотании и почти никогда в ответ на появление человеческого лица. Со временем это становится все более отчетливым – улыбка существует сама по себе, не адресуется человеку. «Мне казалось, – сказала одна из матерей, – что он улыбается чему-то надо мной, когда я к нему нагибалась. Как будто он смотрел сквозь меня на луну и улыбался ей, а не мне». Ребенок поглощен, заворожен игрой световых пятен на стене, узором на обоях, собственными пальцами, но люди остаются за пределами его внимания.
Развитие на первом году обычно не выглядит замедленным. Если замедление обнаруживается, приходится искать его причину. Но вне зависимости от темпов развитие чаще всего происходит неравномерно. Надолго могут застревать формы поведения, которые свойственны раннему возрасту и должны были бы уже исчезнуть. Верчение кистей рук перед глазами – обычное занятие детей и даже обезьяньих детенышей в возрасте 2–3 месяцев, но у аутичных детей оно может сохраняться и многими годами позже. Могут быть и другие проявления неравномерности развития: первые зубы прорезаются после начала речи или ребенок начинает вставать, еще не умея без поддержки сидеть.
В 5–6 месяцев, когда здоровые дети уже начинают обращать внимание на окружающие предметы и даже пытаются гулением привлечь к ним внимание матери, аутичный ребенок остается пассивным. Он может ненадолго заинтересоваться световым пятном или ярким предметом, но чаще безучастен к происходящему вокруг, монотонно раскачиваясь или постукивая головой о край кровати, борт коляски или стенку.
Рукопись этой книги была у меня на столе, когда умерла английский психиатр и один из самых авторитетных исследователей аутизма Лорна Винт (07.10.1928-06.06.2014). Это она к 1972 году разработала положение о диагностической триаде аутизма, без которого не обходится ни одно современное руководство по диагностике, и после встречи с работой Аспергера предложила термин «синдром Аспергера».
В 1956 году у них с мужем родилась дочь Сьюзи. Девочке было около полугода, когда Лорна ехала с ней в поезде и обратила внимание на мать с малышом такого же возраста. Он смотрел в окошко, оглядывался на маму и пытался привлечь ее внимание к тому, что видит. В тот миг, когда Лорна поняла, что ее дочь никогда ничего похожего не делала, у нее мурашки по коже побежали. И это стало началом не только помощи Сьюзи, но и полного погружения в изучение таких детей и помощь им. В 1962 году вместе с другими родителями она создала Британское национальное общество аутизма. По словам Лорны, «Сьюзи помогла мне найти себя в работе, а моя работа помогла мне понять Сьюзи».
Любой ребенок, впервые услышав звук работающего пылесоса или кофемолки, может испугаться. Для привыкания обычно нужны два-три повторения ситуации. У аутичного ребенка страх перед звуком работающих домашних приборов с каждым разом все сильнее, и крик не утихает, пока прибор не будет выключен.
Когда здорового ребенка собираются взять на руки, он принимает позу готовности, тянется навстречу взрослому, льнет к нему. Аутичный ребенок пассивен, как мешочек с песком, кажется более тяжелым, не прильнет ко взрослому, не заглянет в лицо.
Приходит время вводить прикорм – и возникают новые проблемы. Младенец отказывается есть эту кашу или любую белую либо твердую пищу, предпочитая какую-то определенную еду. Кормление становится пыткой. Родители идут на тысячу ухищрений, но ребенок мгновенно раскусывает их хитрости. Позже упорный отказ от твердой пищи может казаться проявлением избирательности, но нередко за ним скрывается неумение жевать, а обучение этому вроде бы нехитрому делу иногда затягивается на годы.
Приходит время первых слов, а потом и предложений. У одних этот процесс запаздывает, другие начинают говорить вовремя или даже опережая сверстников. Дело не только во времени начала и темпах развития речи, но и в ее своеобразии. Часто уже первые слова поражают своей необычностью (углерод, паровоз, мебель) и отсутствием привычного «ма, ма, ма-ма». Один из моих пациентов хранил молчание до 2,5 года, после чего произнес длинную фразу из сказки, которую рассказывала ему в 8 месяцев приезжавшая бабушка. Первой фразой другого были слова часто звучавшей по радио песенки. В период формирования фразовой речи дети выглядят чрезмерно разговорчивыми, болтливыми, но речь эта не включена в общение, в обмен словами с кем-то. Она звучит сама по себе, обращенная в пространство, и ребенок не ожидает ответа. Я не припомню ни одного своего пациента, который бы к трем годам начал называть себя «я», как это бывает у обычных детей.
Пока ребенок еще очень мал, такие особенности воспринимаются как временные или незначительные – «все пройдет, образуется». Но на втором, чаще на третьем году постепенно через цепочку смутных догадок или внезапно родители «открывают» тревожащую необычность ребенка. Чаще всего это случается, когда казавшиеся разрозненными и случайными особенности поведения сплетаются в клубок, а возраст уже не оставляет возможности сомневаться. Многих родителей вынуждает обратиться к врачу лишь отсутствие речи у ребенка, когда она уже бесспорно должна быть.
Здесь я хочу предостеречь читателя от чересчур усердного поиска симптомов аутизма. Сходные проявления могут быть и у обычных детей в виде эпизодов или вкраплений в поведение. В этом возрасте реакции организма еще очень неспецифичны, и трудно отличить мелкие шероховатости обычного развития от нарушений. Сверхбдительность родителей может поставить их в ситуацию героя Джерома К. Джерома, обнаруживающего у себя по мере чтения медицинской энциклопедии едва ли не все описанные в ней болезни. И здоровый ребенок не всегда стремится на руки ко взрослому, а то и боднет его или откажется от еды. Да мало ли… Фиксируясь на этом, мы рискуем закрепить нежелательное поведение – младенец может воспринимать наши яркие эмоциональные реакции как поощрение и стремиться заработать его вновь и вновь. То, что у обычного ребенка возможно в виде вкраплений, у аутичного образует самую суть поведения, он все время такой. Отгороженный невидимой стеной от внешнего мира, не ищущий ласки и почти не реагирующий на нее, не тянущийся к людям, занятый странными и непонятными играми, не управляющийся с простыми бытовыми вещами и требующий постоянного ухода, он часто походит на робота, действующего по заложенной в него программе вне зависимости от ситуации. Это бывает трудно описать и тем более назвать. Родители часто говорят: «Не такой», «Не чувствую в нем человека».
Трудности общения
Хотя мы и говорим об аутизме как о неспособности к общению, ни сама эта неспособность, ни создаваемые ею одиночество, изолированность никогда не бывают абсолютными. Элементы общения, попытки вступить в контакт, реакции на других людей – все это можно видеть в поведении аутичного ребенка. Но он действует столь необычно, странно, не соотнося свое поведение с ситуацией и реакциями окружающих, что общее впечатление неспособности к общению сохраняется.
Каннер, описывая аутичных детей, говорил, что они «ходят мимо» и «смотрят сквозь людей». Иногда это выражено так сильно, что ребенок выглядит слепым или глухим. Но это только кажется – он не наталкивается на предметы и людей, боится шумов, может расплакаться в ответ на крик. Он прекрасно узнает людей, но не по лицу, а по каким-то обратившим его внимание предметам или деталям туалета, по обстановке, в которой обычно встречает этого человека. Один из моих маленьких пациентов, выученный матерью, говорил, переступая порог кабинета: «Здравствуй, Виктор Ефимович» – и мне, и любому сидящему на моем месте мужчине или женщине, но проходил мимо меня как мимо неодушевленного предмета, встречая в коридоре или на улице. Любимой игрой другого было доставать из кармана отца старинные часы, открывать крышку и слушать звон. Стоило отцу появиться на пороге, как мальчик бросался к нему. Эта игра с часами доставляла огромное удовольствие обоим, и у отца не появлялось даже тени сомнения в том, что сын знает и любит его. Но однажды часы поломались… И отец, по его выражению, потерял сына: после нескольких шумных скандалов, когда мальчик не находил часов, он перестал реагировать на отца. Нетрудно представить себе, как такие вещи могут удручать родителей.
Только люди и собаки ищут зрительные подсказки в глазах других, из всех животных только собаки заглядывают в глаза человеку. Непереносимость взгляда в глаза, описанная Каннером, считается одним из характерных симптомов аутизма. Ребенок отворачивается, поворачивается спиной, отходит в сторону, закрывает лицо руками. Выражение неудовольствия или страха исчезает с лица лишь тогда, когда взрослый прекращает попытки зрительного контакта или выходит из комнаты. Даже при очень выраженном улучшении прямой зрительный контакт остается для ребенка утомительным: он бросает короткие взгляды на собеседника и тут же – особенно если взгляды встретились, – отводит глаза. В более тяжелых случаях ребенок может казаться никак не реагирующим на людей, но, приглядевшись, можно заметить мимику напряжения или недовольства, сменяющуюся мимикой покоя и удовлетворенности, когда его, наконец, оставляют в покое.
Настойчивые попытки взрослых вовлечь ребенка в контакт обычно вызывают реакции раздражения и протеста. Взрослый часто думает, что сделал что-то не так, и повторяет попытки контакта вновь и вновь, добиваясь лишь усиления отгороженности. Требуется немало времени, чтобы понять: осторожность, предоставление инициативы ребенку, терпение приносят гораздо больший успех. Многие родители замечают, что ребенок лучше реагирует на тихий голос.
Что происходит? Одно из предположений – ребенок просто не справляется с избыточным для него потоком информации. Это легко подтвердить, наблюдая игры аутичных детей.
Одна из излюбленных игр – с мягкими игрушками. Не вступающий в контакт с людьми ребенок кладет игрушечную зверюшку рядом, обнимает ее, заглядывает ей в лицо, как если бы она была живым существом. В чем же дело? Думаю, в том, что человеческое лицо с его живой и подвижной мимикой и глазами – зеркалом души – слишком сложно для восприятия, тогда как лицо игрушки просто и неизменно, игрушка не проявляет инициативы и не говорит. Ребенок не общается с ней, а обращается. Он свободно адресует игрушке свои чувства и не должен распознавать ее чувства, не встречает ответных реакций, воспринять и понять которые ему трудно. Точно так же он может вести себя и среди детей: неуклюже обнять за голову или молча подойти и вынуть из рук игрушку. Детей и их родителей это часто пугает, хотя никакой агрессии за таким поведением нет: ребенок просто действует так, как если бы другие были неодушевленными предметами, но стоит им проявить инициативу или тем более как-то его задеть – он испугается, отойдет, замкнется еще больше.
У более старших детей, даже если они преодолели основные трудности и стали вполне самостоятельными, эти особенности сохраняются, хотя и в более мягком виде. Им трудно воспринять и понять состояние и переживания человека по его поведению, интонации, позе. Они не заметят сами, например, огорчения или усталости матери, но если назвать ее состояние понятными словами, могут повести себя должным образом.
Итак, одним из существенных препятствий в общении являются затруднения в восприятии сложных и изменчивых образов: они приводят к защитному ограничению потока информации, связанной с общением. Важно, что на доступном для него уровне ребенок моделирует общение и, стало быть, нуждается в нем, пусть даже это игра в одни ворота – без обратной связи и истинного взаимодействия. При этом рассудочная, интеллектуальная сторона общения дается заметно легче эмоциональной.
Чем меньше удается развить способность к общению, тем менее понятными остаются скрытые за ширмой неконтактности внутренние переживания и мотивы ребенка. Но у детей, состояние которых улучшается, можно проследить очень важные закономерности и этапы расширения круга общения.
Первым и на какое-то (иногда очень долгое) время единственным человеком, связывающим ребенка с миром, становится мать. Это общая особенность раннего детства: время между 6–9 месяцами и тремя годами – период обостренной чувствительности ребенка к разлуке с матерью. У аутичных детей это время наступает позже, и по его наступлению – в 1–2 года или в 3–4 – можно судить о степени задержки развития способности к общению. Возникающая привязанность к матери поначалу утрированна. Присутствие матери становится необходимым условием жизни ребенка, это в полном смысле слова симбиоз. Ребенок беспокоится не только при долгом отсутствии матери, но и при ее попытках отойти от него, выйти в соседнюю комнату. Это создает массу неудобств и ограничений, подталкивающих к оценке такой сверхпривязанности, как ухудшение состояния. На самом же деле это первый шаг на пути расширения контактов. Просто в отличие от здоровых детей, быстро включающих в сферу контактов, для аутичного ребенка мать долго остается единственным человеком, с которым он как-то вступает в общение. Ей адресуется весь поток переживаний. Она тот единственный мостик, который связывает его с окружающим миром.
Когда улучшение продолжается, ребенок начинает мало-помалу привыкать к окружающим мать людям. Она спокойна и ласкова с ребенком при них, спокойна с ними; и если они не докучают ребенку, он начинает воспринимать их как продолжение мамы. Со временем он чувствует себя среди них спокойнее и увереннее – и симбиоз с матерью может теперь начать ослабевать. Появляется возможность оставить его с кем-то без криков и плача. Теперь уже может быть трудно матери, которая так привыкла находиться рядом с ребенком неотлучно, что нужны усилия для увеличения дистанции.
Освоившись в отношениях с близкими (необязательно со всеми – аутичные дети часто очень избирательны), ребенок начинает вступать в общение с другими взрослыми – приходящими родственниками, друзьями родителей и т. д. Трудность этого этапа состоит в том, что он не чувствует дистанции с людьми и их реакций, ведет себя со всеми чрезмерно свободно, как бы подчиняя их, подминая своим общением. Со стороны это выглядит так, будто все взрослые стали для ребенка на одно лицо.
У обычных детей эти три этапа (мать – семья – другие взрослые) совершаются в раннем возрасте и уже в начале второго года жизни дополняются общением с детьми. Роль взрослых в жизни аутичного ребенка остается повышенной намного дольше, часто до подростково-юношеского возраста или даже позже.
Следующий этап – появление и расширение общения с детьми. На первых порах это либо значительно старшие, либо младшие дети. Лишь в самую последнюю очередь, если развитие доходит до этого, в круг общения включаются ровесники. Но и тогда отношения с ними устанавливаются трудно, изобилуют сложностями и редко достигают той степени свободы и непринужденности, которую мы видим у обычно развивающихся детей.
Почему так затруднено общение именно со сверстниками? Это зависит от той позиции, которую занимает ребенок. Взрослые и старшие дети более терпимы и многое прощают, младшие легко принимают роль ведомых и подчиняются, а отношения сверстников между собой носят более требовательный и жесткий характер. Ребенок находит по возможности более безопасные коммуникативные ниши.
Первые изменения к лучшему в ходе лечения или самостоятельного улучшения происходят в общении, и последнее, что остается даже в самом хорошем случае, – это нарушения общения. Прогресс заключается, как правило, в переходе от неконтактности к своеобразному общению. В нем недостает интуитивности, той способности схватывать на лету особенности и оттенки ситуаций и переживаний других людей, которая, собственно, и делает общение естественным и легким. Ребенок не столько чувствует, сколько продумывает эти моменты, и не столько подчиняется зову сердца, сколько просчитывает свое поведение. Он может анализировать ситуации много лучше здоровых сверстников, но попадает впросак, не умея применить свои расчеты. «Я долго прислушивалась к разговорам девочек, – говорит моя 13-летняя пациентка, – и обнаружила, что они говорят ни о чем. Я даже потренировалась дома. Но когда я подошла к ним и сказала, что у нас кошка начала толстеть, я увидела только их спины. А я ведь не рассказывала им, как устроен станок Леонардо да Винчи, я была, как они. Почему же они не захотели говорить со мной?» Мальчик примерно того же возраста рассказывал: пока он поймет, что происходит и как себя повести, ситуация успевает измениться, а его слова оказываются некстати и вызывают насмешку или отвергание. Как сказала одна мать: «у него сочувствие другому человеку запаздывает на несколько тактов». Реакция на насмешки и обиды выражается то в резких, несоразмерных поводу вспышках гнева, то в свертывании и без того скудного общения. Лишь какое-то время спустя, тщательно проанализировав ситуацию, ребенок находит подходящий способ ответить обидчику или корит себя за сделанное не так, но поезд уже ушел. И без того переживающий свою инаковость, он становится еще более осторожным в общении.
Развитие способности строить общение может остановиться где-то на полпути. Это становится очередным потрясением для родителей, воодушевленных первыми успехами и вдруг упершихся в стену. Значит ли это, что с перспективами покончено? Перспективы есть, но теперь они связаны больше не с ростом внутренних возможностей и способностей, а с научением ребенка тому, как лучше использовать те возможности, которыми он обладает.
Речь и интеллект
Психологи говорят, что общение – это на 8 % слова, на 35 % интонации и тон, а на остальные 57 % – язык поз и жестов. В повести В. Аксенова «Звездный билет» герои играют в интересную игру – на сколько разных ладов можно произнести слова «какая ты собака». И все же язык слов занимает настолько важное место в жизни, что его значение едва ли укладывается в столь скромную оценку.
Когда ребенок еще мал, сами по себе трудности общения могут быть не настолько очевидны, чтобы родители сказали себе: «Все дело в том, что наш ребенок не умеет общаться». Однако для всех родителей важно, заговорит ли ребенок в срок и как будет проходить его умственное развитие, они очень внимательны к этим аспектам, которые не без оснований видят как взаимосвязанные.
Задержка развития речи – признак такой явный, что часто именно он становится первым сигналом неблагополучия, приводя семью к врачу или дефектологу. Родители убеждены, что недоразвитие речи и есть главное препятствие к общению. Но не так редко приходится видеть детей с хорошо развитой, однако не используемой для общения речью. Да и само отсутствие речи еще не делает ребенка неконтактным, в чем можно убедиться на примерах алалии и глухонемоты или даже слепо-глухонемоты.
Алания (от греч. «а» – отсутствие, «лалос» – речь) – отсутствие речи. Ребенок с алалией на первый взгляд может казаться глухонемым, но окликните его – и впечатление изменится: он откликнется на обращение – обернется к окликнувшему, будет смотреть вопросительно и пытаться понять, а поняв, выполнит просьбу. Иными словами, он вступает в общение. Он может на первых порах показаться глуповатым. Понаблюдайте – и вы обнаружите, что он усвоил очень многое из виденного и слышанного, а отсутствующую речь вполне успешно заменяет действиями: показывает, тянет за руку, подталкивает в нужную сторону, жестикулирует, улыбается, плачет или сердится в ответ на чужие действия. Конечно, вам не хватает его слов, но он взаимодействует с вами, вы понимаете его, а он вас.
Нечто подобное происходит и при задержке речевого развития. Как-то я много наблюдал за поведением такого мальчишки, которому было 3,5 года. Он едва ли умел говорить больше двух десятков слов, да и те произносил с нарушениями, так что понять его было крайне трудно. Но при этом он был душой детской компании. Ловкий, умелый, сильный – он молча увлекал других за собой, заражая своим примером. Как-то одна девочка отъехала от группы на своем трехколесном велосипеде и упала. Она ушиблась и вывернула руль велосипеда, расплакавшись от боли, испуга и бессилия. Он первым подскочил к ней, зажав коленями переднее колесо, выправил руль, сел на велосипед, девочку поставил сзади на ось и привез ко всем уже улыбающейся. Этот не умеющий говорить мальчик великолепно общался. Если он не мог сказать что-то при помощи известных ему слов, то показывал, мычал, жестикулировал и делал это так выразительно и так открыто, что его понимали.
При глухонемоте ребенок не может ни говорить, ни слышать чужую речь. Казалось бы, пути к общению отрезаны… Но можно читать по губам, пользоваться языком жестов, писать, наконец. И глухонемые люди – великолепные коммуникаторы. Кинорежиссер Игорь Владимирович Усов рассказывал мне, что в студенческие годы в театральном институте его за отличную учебу наградили бесплатной путевкой в санаторий, и он оказался в санатории… для глухонемых. Он уже было собрался развернуться и уехать, но увидел афишу о вечернем самодеятельном спектакле и из любопытства остался. Он пробыл в санатории полный срок и, как утверждал, научился там большему, чем в институте.
Еще сложнее дела обстоят при слепо-глухонемоте. Но многие из слепо-глухонемых учеников И. А. Соколянского и А. И. Мещерякова, посвятивших свои жизни таким же, как они сами, детям, имеют семьи, учат своих маленьких товарищей по несчастью, успешно работают – в том числе и в науке.
Таким образом, ставить знак равенства между речевой недостаточностью и недостаточностью общения нет оснований. Примерно то же можно сказать о задержках и недостаточности умственного развития. Многие аутичные дети так плохо ориентируются в жизни и так мало умеют, что выглядят слабоумными. Различить психическое недоразвитие и аутизм даже специалисту нелегко. Но когда психическое недоразвитие не слишком глубоко, можно убедиться в том, что дети пусть на несложном, как это позволяет интеллект, уровне общительны.
Как же соотносятся речевое или умственное недоразвитие, с одной стороны, и аутизм – с другой? Наиболее обоснованным выглядит мнение о том, что речевое и умственное недоразвитие может осложнять и затруднять общение. Аутизм же, особенно в раннем возрасте, когда интенсивность психического развития очень велика, может затруднять и ограничивать развитие речи и интеллекта.
Существуют ли вообще особенности речевого и умственного развития, характерные именно для аутизма? Ответить на этот вопрос помогает изучение аутичных детей, у которых речевое и умственное развитие протекает достаточно благополучно.
Развитие речи поражает своей необычностью. Первые слова могут появиться своевременно, но, как мы уже говорили, быть очень неожиданными. Некоторые дети начинают говорить в 2–3 года, но сразу фразами, причем не выражающими что-то от себя, а воспроизводящими когда-то слышанное.
Эта необычность сохраняется и позже, буквально пронизывая речь. Бросается в глаза предпочтение почему-то понравившихся ребенку звучных слов, граничащее с зачарованностью, когда они часами и с явным наслаждением повторяются, хотя значение их для самого ребенка непонятно (мисклерон, Леопольд, корректор, Констанция Сигизмундовна, транслокация, сервант). При этом многие простые, нужные в каждодневной жизни слова ребенок освоить не может.
Нередко уже в раннем возрасте речь поражает своей взрослостью с использованием сложных речевых конструкций и оборотов типа «видите ли», «как говорят», «по моему убеждению» и т. п. Одна из матерей сказала, что ребенок кажется ей врожденно грамотным. Действительно, многие дети не только знают грамоту, никогда не изучая ее, но и очень чутки к грамотности речи вообще. Их речь часто так правильна, что выглядит безжизненной – ей недостает нюансов, тех маленьких огрехов, моментов асимметрии, которые делают речь живой и индивидуальной. Пятилетняя девочка, например, возмутилась, слушая сказку Пушкина: «Лебедь белая – это неправильно! Надо – лебедь белый»; мать сказала о ней: «Говорит, как с иностранного переводит». Иногда порядок слов и правда напоминает иностранный язык: бегущий мальчик лет шести ответил на вопрос профессора Р. А. Харитонова, куда он бежит: «Из шишки в книжке сделану сову смотреть».
В речи здоровых детей много звукоизобразительных и звукоподражательных слов (мяука – кошка, авака – собака). Практически ни от одного аутичного ребенка таких слов мне не довелось слышать. Недостаток наглядности, образности сказывается и в мышлении вообще. Здоровый ребенок при просьбе рассказать о собаке расскажет о том, какая она, как лает, кусается, сторожит и т. д. Он использует образное описание. Аутичный ребенок скорее скажет, что собака это животное, то есть использует обобщающее понятие. Для обычного ребенка телевизор – это то, что показывает кино и мультики; для аутичного скорее передающий изображение прибор.
Очень часто речь аутичных детей эхолалична (от греч. «эхо» – отзвук и «лалос» – слово): они механически повторяют услышанное. Это могут быть непосредственные эхолалии, когда ребенок повторяет только услышанное: «Как тебя зовут?» – «Тебя зовут»; «Пойдем гулять?» – «Гулять». Взрослым такие эхолалии часто кажутся выражением согласия или ответом, а через минуту они недоумевают – почему ребенок не хочет делать то, что сам только что сказал. Особенно поразительны отставленные эхолалии, когда спустя дни, недели, а то и месяцы ребенок повторяет слышанные, хотя, как оказывается, совершенно непонятные для него фразы. Они временами случайно совпадают с ситуацией и выглядят вполне осмысленными, но чаще безо всякого повода и ни к кому не обращаясь ребенок вдруг повторяет длинную фразу, буквально воспроизводящую речь теледиктора. Передать содержание своими словами ребенок обычно не может. Лео Каннер называл такую речь попугайной или граммофонной.
Но главная особенность речи состоит в том, что даже при хорошем развитии она недостаточно используется, а то и вовсе не используется для общения. Произносимые слова и фразы указывают на продолжающееся развитие, но нет ни обращений к другому человеку, ни просьб, ни ответа на заданный вопрос, либо они крайне редки. Диалог, предполагающий собеседника, разворачивается с запаздыванием, так что еще к началу школьного обучения многие аутичные дети к нему не способны.
Речь аутичного ребенка почти не передает его чувств и переживаний. Клара Парк описывает это в книге о воспитании своей аутичной дочери так: «Маленькие дети произносят слово „плохой“ со всеми оттенками страха или гнева. Джесси теперь тоже говорит „плохой“. Но она произносит это слово со спокойным удовлетворением, как бы просто помещая явление в надлежащую категорию. Плохая банка – говорит она, собирая пивные банки на пляже. Плохая собака – замечает она, разглядывая опрокинутую мусорную урну. Джесси не любит собак. Если пес подойдет слишком близко, она прижмется ко мне; если он прыгнет, она захнычет. Но ей и в голову не придет выразить свои эмоции словами. В такой ситуации она не скажет: „Плохая собака“».
Наконец, у обычного ребенка развитие речи вписывается в общую картину развития и достаточно гармонично сочетается с ним. К 9-10-месячному возрасту, когда появляются первые слова, малыш уже умеет ползать, садиться и сидеть, вставать, за что-нибудь придерживаясь, и стоять. Аутичный ребенок может к моменту появления первых слов еще не уметь сидеть и вставать.
Особенности речи могут и улучшать, и ухудшать впечатление об умственном развитии. Как его оценить, не вступая с ребенком во взаимодействие?
Некоторые основания для этого дает наблюдение за свободным поведением. Ребенок беспомощен почти всюду, где требуются конкретные знания и умения: в самообслуживании и быту, в рисовании и обращении с кубиками. Многие месяцы учат его надевать обувь или рисовать, но он по-прежнему сует в ботинок руку и держит карандаш как лопату, не умея изобразить ничего, кроме каракулей. При этом он может удивительно ловко обращаться с неигровыми предметами – вращать что-нибудь в руках с невообразимой скоростью, поражать необычно взрослой речью и т. д.
Исследование умственного развития специальными методами (если удается установить необходимый для этого контакт) подтверждает, что наглядно-образные, практические стороны, как правило, ощутимо отстают. Если одновременно с аутизмом нет умственного недоразвития, то довольно рано выявляется контраст нормально или даже высокоразвитых абстрактно-логических операций и недостаточности конкретно-действенных. Один из отцов очень точно сказал о своем сыне: «Теоретически он на две головы выше, а практически на две головы ниже ровесников».
Такая неравномерность затрудняет общую оценку умственного развития, особенно при односторонне развитых способностях. Потрясающая механическая память позволяет накопить массу сведений, часто в самых неожиданных областях. Один из моих пациентов-дошкольников знал массу названий цветов, другой – насекомых; они могли часами перечислять их, используя латинские названия, сообщать о них энциклопедические сведения, пытаться составлять собственные классификации, но их знания оставались островком осведомленности в океане незнакомства с жизнью. При хороших творческих способностях эта отрешенность от реальности выглядит парадоксально. Профессор Н. Н. Трауготт рассказывала мне о мальчике десяти лет, который решил, что школьный задачник плохой, и начал составлять новый; задачки в нем были такого типа: «В одном пионерском лагере было 12 детей, а в другом – 400… В один магазин привезли с базы 300 г колбасы, в другой – 2,5 тонны».
Некоторые дети обладают поразительными счетными способностями. Один из моих пациентов начал считать в три года. Он считал все, что можно считать. Увидев книгу, он мгновенно открывал ее там, где приводятся выходные данные, и с необычайной скоростью складывал и перемножал все встречавшиеся там цифры. Он с нетерпением ждал мать из магазина, но не скучая по ней или в предвкушении вкусненького, а исключительно ради момента, когда можно будет подсчитать стоимость сделанных покупок. Без всяких затруднений он почти мгновенно называл день недели по числу и месяцу и наоборот – на много лет вперед. При всем этом в быту он оставался совершенно беспомощным.
Неравномерность речевого и умственного развития вместе с недостаточным использованием речи для общения затрудняет приспособление к жизни в обществе даже тогда, когда аутизм не осложнен умственной отсталостью.
Движения и жесты
Мы уже говорили о неловкости и неуклюжести аутичных детей. Стоит им начать что-то делать, как они выглядят маленькими медвежатами. Мелкая моторика рук, так необходимая для рисования и самообслуживания, очень несовершенна. Походка неловкая. «Ходит на цыпочках… Его будто ветром носит… Идет, как по канату над пропастью», – говорят родители. Даже в 10–12 лет ребенок затрудняется в определении «право – лево». Усилия не соотносятся с целью действий, а неловкость усугубляет это. В какие-то моменты ребенок может вдруг проявить кошачью ловкость и стремительность, но через миг это снова тот же беспомощный увалень. Такие проблески совершенно неожиданны для взрослых, не успевающих уберечь свои очки, ручки и т. д.
Если уровень развития позволяет учиться в школе, то трудности освоения пространственных навыков вместе с неловкостью мешают письму, расположению заданий на странице, соблюдению полей. Буквы корявы и прыгают, письмо нередко зеркально. Учительница одного из детей сказала: «Я теперь стараюсь поменьше смотреть на то, как он пишет, а побольше на то, что он пишет, и предлагаю ему отвечать устно – тогда он чуть ли не гений. Но читать его тетради невозможно» (жаль, что такие учителя – исключение из правила).
Жестикуляция так же неуклюжа, как движения в целом. Она не объединена в тот гармоничный ансамбль, выразительность которого в норме по крайней мере не уступает выразительности речи, а то и превосходит ее. С большим опозданием и трудом осваивает ребенок жесты приветствия и прощания, согласия и несогласия. Уже зная, что помахать рукой – значит попрощаться, он может долго размахивать обеими руками, стоя к человеку спиной.
Мимика не передает переживаний и состояния достаточно полно. Как бы ни различались между собой аутичные дети, они все немного на одно лицо из-за того, что их мимика обладает странным и не всегда легко уловимым сходством.
В литературе утвердилось выражение Каннера лицо принца. «Зачарованный принц», – говорят матери. Обычно это миловидные дети с тонкими, как будто прорисованными острым карандашом чертами лица и задумчиво-сонным, отрешенным и чуть недоуменным выражением. Трудно сразу сказать, что не так, но, приглядевшись, заметим, что губы не тронет улыбка или печаль, брови не взметнутся в удивлении, глаза не распахнутся и не заблестят навстречу чему-то интересному и радующему. Часами можно смотреть на ребенка, улавливая лишь выражение напряженности в присутствии людей и покойного удовлетворения при их уходе. И только особо сильные и значимые для ребенка внешние воздействия или переживания придают лицу более или менее определенное выражение. Но нередко даже сильные эмоции могут проявляться бурным возбуждением при все том же сонно-задумчивом лице.
Страдает и выразительность речи. Речь от себя слабо интонирована и монотонна, тогда как эхолалическая в точности воспроизводит слова вместе с тонкими оттенками интонации. У многих детей голос мало модулирован, высок и скрипуч. Нередко слова как бы скандируются – отдельные звуки и слоги выговариваются очень четко, паузы между словами подчеркнуты, и речь в целом может быть похожа на продукцию синтезатора. Смысловые ударения отсутствуют, случайны или необычны. Часто по интонации невозможно понять, о чем ребенок говорит, в каком эмоциональном состоянии находится. Порой речь похожа на звучание заевшей пластинки, бесконечно повторяющей одну и ту же фразу.
Мы обсуждали речевое и умственное развитие, двигательные и выразительные способности по отдельности. Однако в действительности они не изолированы, а так или иначе объединены в поведении. Ему недостает целостности и образности, гибкости и интуитивности, естественности и непринужденности. «Я» остается скрытым за завесой этой расплывчатой неопределенности, вызывающей желание расколдовать ребенка, освободить его от чар.
Развитие «я»
Здоровые дети обычно к трем годам уже уверенно пользуются словом «я». Больше чем у половины аутичных детей появление местоимения «я» задерживается до пятилетнего возраста, а примерно у трети и дольше. Еще в 6–8 лет ребенок может называть себя по имени или во втором и третьем лице. («Ты хочешь… Миша хочет»), а то и никак вообще себя не обозначать. Некоторые дети могут верно ответить на вопрос о том, как их зовут, но в свободной речи не использовать ни свое имя, ни личные местоимения: «Дать… Пить… Гулять…». В их речи трудно встретить слова «мое», «твое» и даже согласие/ несогласие лишены личностно-диалогической окраски: вместо «да» и «нет» слышим «дать» или «не дать».
Подавляющее большинство исследователей связывает это с недоразвитием «я», ничего или почти ничего не говоря о механизмах недоразвития. Между тем знакомство с ними помогает понять и почувствовать многие важные моменты психологии аутизма.
В самом начале жизни ребенок существует в мире предметов, еще не отличая живое от неживого, человека от вещей. Он выброшен в полную неизвестность: все непонятно, все настораживает и пугает, ничто в этом хаосе еще не обрело определенного значения. Здоровый малыш уже в 2–3 месяца радуется человеческому лицу и постепенно начинает узнавать мать, у аутичных детей выделение человека из мира предметов задержано. Внимание к человеческому лицу у них ниже, чем у здоровых. Они позже начинают узнавать мать и привязываться к ней. На первых порах эта с запозданием возникающая привязанность, как мы уже говорили, может быть необычайно сильной, чрезмерной. Постепенно мать становится посредником в отношении ребенка с миром. Через нее, при ее поддержке и под ее защитой оказывается возможным возникновение отношений с другими людьми. Эти отношения все больше дифференцируются, и ребенок осваивает такие слова, как «ты», «он», «она», «оно», «они», «дядя», «тетя» и т. п.
И лишь всматриваясь в этих других, уже обозначенных людей, как в зеркало, ребенок начинает улавливать свое отличие от них и называть себя уже не во втором или третьем лице, как их, а «я». Сначала он пользуется этим словом неуверенно, не всегда верно и непостоянно, сбиваясь в состоянии эмоционального напряжения или возбуждения. Наконец, вслед за освоением «я» в речи появляются слова «мое», «твое», «наше».
Такая последовательность характерна и для обычных, и для аутичных детей. Но при аутизме процесс затягивается на более долгий срок и не всегда доходит до конца. Даже в хороших случаях сохраняются трудности восприятия других людей как самостоятельных «я» и себя «глазами других». Так или иначе, больше или меньше это затрудняет общение. Вырастая, аутичные дети больше ориентированы на рассудочное, а не эмоциональное, интуитивное познание себя и отношений. Им труднее осознавать свои чувства и переживания во всем их богатстве и разнообразии. Они часто носят эмоциональные проблемы внутри себя, полагая, что главное – это самоуправление благодаря разуму и воле, а копание в эмоциях – несерьезное занятие.
К моменту обращения за помощью большинство аутичных детей проходит лишь самые начальные этапы развития «я». Они либо вообще не произносят «я», либо повторяют его в эхолалической речи, особенно, если оно стоит в конце фразы, но еще не могут пользоваться им самостоятельно и правильно. «Он не хочет говорить „я“», – жалуются родители. Важно понять, что он еще просто не может делать это.
В совместной с родителями моих пациентов работе сложился подход к помощи в развитии «я». Он опирается на закономерности познавательного развития, присущие детству вообще. Сначала ребенок выделяет людей из мира предметов, дифференцирует их и только потом начинает отличать себя от других, выделять себя среди них, что и знаменуется появлением в речи слова «я» и соответствующих притяжательных и указательных местоимений («мой», «мне»). Вехи этого развития обозначаются отнюдь не только местоимениями. Когда ребенок просто плачет или кричит «дать», он сигнализирует о своей потребности миру, ни к кому персонально не обращаясь. Это происходит, когда люди в его восприятии уже не предметы, но еще и не люди в полном смысле слова – не личности, не персоны со своими уникальными чертами. Когда они обретают определенность, к ним уже можно отнести слова «мама», «папа», «дядя» и др., а затем и соответствующие местоимения «он», «она», «они», а затем и «ты». Только с этого времени начинают изменяться глагольные формы и вместо инфинитивов («дать») появляются «(он/она) дает», «(ты) даешь», «(ты) дай». До этого времени нет никакого смысла учить ребенка пользоваться словом «я» – он может повторять его вслед за вами, но ему еще нечего обозначать этим словом – и оно повисает в воздухе, время от времени «прилипая» к чему попало и в утрированном виде напоминая эпизод со словом «я» у Леонида Пантелеева, где «яблоко» звучит как «тыблоко».
В психологии это обсуждается как процесс обособления. То, что кажется происходящим само собой, на самом деле целая мистерия. Известный психолог В. С. Мухина писала в рабочих дневниках:
«Знают свои имена. „Где Кирюша?“ – спрашиваю. Кирюша улыбается и радостно, пружиняще прыгает. Андрюша показывает на брата пальцем. „Где Андрюша?“ – Кирилка показывает на Андрюшу, смеется, от восторга засовывает руку в рот.
Андрюша сделал открытие. Смотрит в зеркало и радостно сообщает: „Вотин я!“ Затем указывает на себя пальцем: „Вотин я!“ Указывает на меня: „Мама воть!“ Тянет меня за собой. Подводит к зеркалу: „Воть мама!“ – указывает на отражение в зеркале. „Воть мама!“ – указывает на меня. И снова указывает на отражение: „Воть мама!“ И так много раз.
Вот уже неделю дети с увлечением играют с зеркалом. „Вотин я!“ – указывают на изображение в зеркале. „Вотин я!“ – тычут себя в грудь. Уступая желанию ребят, перед зеркалом побывали все взрослые. Игрушки тоже не были забыты. Дети с многозначительным видом поочередно тычут пальцем то на предмет, то на его отражение».
Процесс обособления себя и становления личностью – долгая и сложная эстафета этапов развития. При аутизме этот процесс замедлен, неравномерен и в той или иной мере искажен.
Уже откликающийся на имя аутичный ребенок нуждается в помощи по открытию себя и своего «я», а не во вколачивании в сознание этого слова. Для этого приходится возвращаться к этапам, которые им еще не пройдены или пройдены не до конца, чтобы завершить их, создавая базу для «я».
Такая помощь не требует специального времени или уроков. Дома, на улице, в гостях, в магазине, за игрой, где бы мы ни были вместе с ребенком, мы делаем ненавязчивые, не настаивающие на том, чтобы непременно быть услышанными, рассчитанные на постепенное запечатление и осмысление комментарии: «Это дядя. Он идет… Это птичка. Она поет… Это мальчик. Он несет хлеб». Мы даем имена вещам и существам и заодно – личные формы, обозначающие других. Это похоже на фокусировку размытого изображения: оказывается, это пятно называется «дядя… он», а вот это «собака… она».
Когда этот этап достаточно продвинут, таким же образом вводим «ты». Нестрашно, если первое время оно будет повторяться механически и не всегда к месту («ты хочет»). «Ты» дается труднее, чем «он», «она», «оно»: это уже не взгляд со стороны, не отстраненная позиция отношения к «оно», а обращение к другому, контакт, коммуникативный шаг, предполагающий «я». Вслед за этим шагом одни дети начинают сами использовать «я», другие способны воспринимать научение использованию этого слова. Теперь будут хороши речевые игры, помогающие закреплению достигнутого. Ребенок говорит: «Я хочу», и мы откликаемся: «Ты хочешь? Сейчас я тебе дам…». Игры усложняются, и через некоторое время ребенок подходит к пониманию более сложных конструкций: «Вот идет папа. Он говорит: „Я иду“».
Возвращаясь к описанной В. С. Мухиной сценке с зеркалом «вотин я!». Н. Е. Марцинкевич рассказала мне о нашей общей пациентке девяти лет, которую я видел, когда ей было 4–6 лет. Девочка проходила музыкотерапию, сеансы которой с ней и другими детьми записывались на видео, и пленки хранились у ее матери. Как-то, когда мать их просматривала, девочка села рядом и потом уже сама бесконечно смотрела их. Через пару месяцев мать заметила массу положительных изменений, к достижению которых она не прикладывала никаких специальных усилий. Видео оказались вроде усовершенствованного зеркала, в котором девочка могла наблюдать себя и свое поведение. Можно думать, что и в более раннем возрасте зеркало способно быть союзником и помощником, в том числе и в развитии «я». Вы можете это попробовать…
Маленький консерватор
Непереносимость перемен в окружающей обстановке – феномен тождества – Каннер описывал как один из наиболее впечатляющих симптомов. Ничего, казалось бы, не замечающий, безразличный к окружающему миру ребенок без каких-либо понятных взрослым причин, ни с того, ни с сего внезапно возбуждается, кричит, плачет, как будто протестует против чего-то. И только случайность или внимательный анализ позволяют заметить, что причиной было совершенно незначимое для взрослых изменение, например исчезновение с вешалки годами висевшего старого зонтика. Ребенок будто направленно стремится поддерживать неизменность окружающего мира. Непонятно только почему это упирается в такие детали? Мои пациенты и их родители помогли мне увидеть и понять, что феномен тождества при всей его яркости – лишь одно из проявлений в целой гамме восходящих к общему корню особенностей отношений с окружающим миром.
Аутичный ребенок плохо переносит изменения вообще. Он как бы застревает на том, что стало доступно его восприятию и переживаниям – ему недостает гибкости и подвижности в восприятии нового. Стремление избегать нового, придерживаться знакомого, сохранять неизменность условий существования проявляется на самых разных уровнях и, как и многие другие особенности поведения, легко становится стереотипным.
Уже при введении прикорма некоторые виды пищи приходятся ему не по вкусу. Так бывает почти у всех детей, но обычно достаточно быстро удается преодолеть это отвергание, приучить к новой пище. Аутичный ребенок отвергает однажды отвергнутое и придерживается однажды сделанного выбора (хотя это и не в полном смысле слова выбор – скорее вынужденность) многие годы. Один не ест ничего белого, другие только белое и едят; один питается только картофелем фри, другой – только пюре.
Не меньше трудностей возникает с одеждой. Переодеть аутичного ребенка во что-то новое часто просто невозможно: штаны, колготки, обувь занашиваются до дыр, но сменить их не удается. Это создает массу трудностей, особенно если принять во внимание стремление родителей хотя бы при помощи одежды как-то компенсировать, сгладить впечатление необычности ребенка.
Аутичный ребенок обычно равнодушен к игрушкам. Но попытка лишить его камушка, веревочки, бумажки и т. д., с которыми он не расстается, приводит к протесту и скандалу.
Излюбленные маршруты не меняются месяцами и годами, хотя невозможно понять, что же привлекает в них. Переезд на новую квартиру, смена мебели вызывают явное напряжение; в течение нескольких месяцев ребенок ищет постоянно листаемую им книжку на том месте, где она была в прежнем доме или до появления новой мебели.
При этом ко многим другим часто гораздо более ощутимым и значительным переменам ребенок остается безразличен.
Какими бы разными ни выглядели все эти особенности, за ними можно увидеть общий механизм. Окружающий мир для ребенка выглядит хаосом – отдельные вещи существуют сами по себе, не складываются в целостную картину, в единый образ. Этот непонятный и непредсказуемый мир пугает – он слишком изменчив. Постоянные и неизменные элементы, особенно чем-то приятные или привлекательные (может быть, просто своим постоянством), дают чувство стабильности и безопасности. Как за соломинку, ребенок держится за все успокаивающе-постоянное, знакомое. Вот почему старая шляпа, прочно прижившаяся на шкафу в коридоре и не привлекающая внимания взрослых, может оказаться знаком безопасности, а ее исчезновение – сигналом тревоги. При тяжелых формах аутизма, когда ребенок не умеет понять и выразить свои чувства, разглядеть это бывает трудно. Но вот что рассказывает психолог Ольга Писарик о мальчике с синдромом Аспергера:
«Он построил модель этой жизни из Лего. „Это я“, – сказал мальчик, указывая на скелет, заключенный в квадратное строение с высокими стенами. С задней стены свисала серая цепь, а провисающая черная сетка образовывала крышу. Рядом, снаружи стены, две фигуры – мужчина в красной бейсбольной кепке и женщина, подносящая к губам прозрачный бокал – стояли возле голубой просвечивающей сферы, наполненной маленькими золотыми монетами. „Это, – продолжал мальчик – нормальная жизнь“. Перед скелетом располагались более низкие стены между двумя колоннами, через которые внутрь заглядывала женщина с темно-русыми волосами, убранными в хвост, размахивающая желтой расческой. „Это моя мама, только ей разрешено заходить внутрь“. Когда в разговоре с мальчиком взрослый предположил, что, возможно, стены можно убрать, тот ответил: „Я не могу убрать стены, снаружи слишком много опасностей“».
В непереносимости нового и стремлении поддерживать неизменность окружения утрированно отражается то, что присуще всем людям. Земляк, на которого мы в родном городе и внимания не обратили бы, вдали от него воспринимается едва ли не как близкий родственник. Если в родном городе на хлебном магазине написано «Булочная», в новом городе мы оглядываемся в поисках такой же вывески, а обнаруживая вместо нее «Хлеб», испытываем легкий укол не лишенного тревоги удивления. Занятые своими серьезными взрослыми делами, мы достаточно легко вытесняем эти мелочи из сознания. Но дети гораздо более чувствительны к ним и удивляют взрослых своей наблюдательностью. Сложный и большой мир не только интересен, но и настораживает. Свойственная части людей жажда новизны удовлетворяется не только самими по себе новыми впечатлениями, но и известным щекотанием нервов. А вот для аутичного ребенка эта обычная, но пугающе-непонятная и переменчивая жизнь создает перегрузку новизной, потребность в успокаивающей стабильности. Его непонятный для взрослых консерватизм – не выходка, не шалость, не блажь, а лишь попытка сохранить или вернуть чувство постоянства и безопасности. Эти попытки могут принимать и ритуализованные формы.
Ритуальные танцы
Слово ритуал здесь подразумевает не служащее некоей осознаваемой цели выполнение правил и обрядов, а лишь внешнюю сторону поведения. Это раз от разу повторяющиеся с точностью клише стереотипные действия. Одни из них возникают без видимого повода, другие в определенных ситуациях. Попытки остановить, прервать или видоизменить ритуальное поведение разбиваются об игнорирование либо протест (возбуждение, крик, физическая агрессия, нанесение самоповреждений).
Самые распространенные ритуалы – монотонные и стереотипные раскачивания, подпрыгивания, бег, верчение кистей рук перед лицом. Некоторые из них похожи на тики, как, например, «крылышки» – резкие движения согнутых в локтях рук, похожие на биение крыльями у птиц, иногда до синяков на боках. С возрастом и при улучшении состояния ритуалы могут принимать форму игры. Мальчик, до четырех лет вращавший кистями рук перед глазами, позже стал крутить сначала близко, а потом на увеличивающемся расстоянии разные предметы, говоря, что это руль, а он играет в шофера.
В самих по себе действиях может не быть ничего необычного, но выполняющий их как ритуал ребенок выглядит заводной куклой. Одна из матерей сказала, что поведение ее ребенка так же похоже на поведение здоровых детей, как чучело птицы на живую птицу. Ритуалы могут быть и очень сложными.
Часто ритуальное поведение связано с музыкой: ребенок зачарованно кружится под одну и ту же мелодию, требуя все нового ее повторения. Потребность в этом так сильна, что даже очень неловкие и неориентированные в быту дети сами выучиваются включать и заводить проигрыватель или магнитофон и находить свою пластинку или диск.
В структуру ритуалов может включаться речь. Таковы, к примеру, речевые стереотипии в виде никому не адресованного, каждый раз одного и того же монолога или требования от взрослых стереотипных ответов на второстепенные вопросы. «Бывают ли дураки генералы? Как будет по-немецки стол? Два стола?» – бесконечно спрашивал 6-летний мальчик.
Большинство ритуалов явно приносят ребенку удовлетворение. Многие исследователи объясняют это тем, что недостаток внешней информации, возникающий вследствие отгороженности от внешнего мира, возмещается ощущениями от собственного тела, собственных действий.
В ритуальном поведении могут выражаться и неприятные переживания. Таковы ритуалы самонаказания: уловив в словах взрослого недовольство или порицание, ребенок может ударять себя по голове, кусать собственную руку, щипать себя. Не исключено, что это самонаказание помогает освободиться от чувства тревоги, дискомфорта.
Почему те или иные действия становятся ритуалами? Можно допустить, что закрепляются в виде ритуалов приятные или освобождающие от неприятных ощущений и переживаний действия. Что станет основой ритуала, предугадать трудно. Это во многом зависит от особенностей состояния и возможностей ребенка. Одни ритуалы восполняют дефицит внешней информации, другие представляют собой действия, закрепившиеся благодаря подкреплению сильной эмоцией, третьи выполняют функцию психической защиты. Многими месяцами ребенок может в определенной точке прогулочного маршрута воспроизводить однажды сказанные именно в этом месте слова. Один из пациентов ехал на первый прием ко мне в синем трехвагонном трамвае, и последующие поездки стали для матери сущим мучением: он упрямо настаивал на поездке в поликлинику именно в таком трамвае, которого приходилось ждать очень долго. Иногда ритуалы формируются на основе прививаемых навыков поведения – бесконечная чистка зубов или обуви, закрывание кранов и прочее.
Игры и творчество
Игра заполняет все пространство жизни ребенка, и любое дело, даже самое далекое от игры, он превращает в игру. Она не пустое времяпрепровождение, не баловство во взрослом смысле слова. Она сама жизнь. «Понимание атома – детская игра по сравнению с пониманием детской игры», – заметил Альберт Эйнштейн. Как же играют аутичные дети?
Уже самые первые игры отмечены печатью однообразия. Родители подстраиваются к ним, наполняя их несуществующим содержанием, а потому могут долго не замечать их необычности, недостатка детской инициативы и эмоциональности.
Каннер обращал внимание на отсутствие или задержку появления сюжетных и преобладание стереотипных игр с неигровыми предметами – крышками от кастрюль, ключами, веревочками и т. д. Они близки к ощупыванию, разглядыванию, перебиранию. Но разглядеть в них знакомство с миром, свойственное обычным детям экспериментирование, которое позволяет осваивать мир и осваиваться в нем, трудно, если вообще возможно. Одни из них по существу представляют собой застревание на более ранних этапах развития – это, например, верчение пальцев перед глазами. Другие завязаны на стереотипии – подпрыгивания, раскачивания, биения, раскладывание предметов строго определенным образом, извлечение звуков и т. д. Они скорее всего помогают восполнять дефицит информации, черпая ее в собственном теле и органах чувств. Даже если в ход идут игрушки, они используются не по их игровому предназначению, а как просто предметы или носители каких-то свойств, у одного из моих маленьких пациентов любимой игрушкой был паровоз – он мог часами трясти его перед лицом и слушать дребезжание колес: паровоз выполнял функцию яркой погремушки, а действия с ней заменяли верчение рук перед глазами. Другой расставлял машинки в ряды. Третий всегда в одном и том же порядке раскладывал кукол, а разложив, смешивал и начинал все сначала.
Почему ребенок выбирает тот или иной предмет – остается непонятным. Можно лишь догадываться, что выбор либо случаен, либо определяется тем, что предмет для ребенка связался с каким-то чувством. Многие дети, кажется, играют с мягкими куклами (часто – животными), но собственно игры в этом крайне мало: за стереотипным прижиманием куклы к себе или заглядыванием ей в лицо не обнаружить проявляемых при сходных действиях обычными детьми переживаний. Если удается достичь прогресса в развитии, такие игры могут «оживать», становиться свободнее, обрастать элементами сюжета и постепенно приближаться к собственно игре. Как правило, это происходит с большей или меньшей задержкой. Хорошо, если удается замечать изменения и поддерживать их.
Появление сюжетных игр – пусть несложных и позже, чем хотелось бы, – позволяет ребенку, с одной стороны, снова и снова проигрывать ситуации, чтобы понять их, а с другой – отыгрывать свои переживания. В них могут сохраняться элементы стереотипии, и это делает их не всегда удобными в быту. Но ценность происходящего в них перевешивает неудобства. Бесконечно делая уколы игрушкам, он выступает б роли врача, объясняющего игрушке в роли себя (то есть, по существу, себе), почему и зачем это нужно, что это не больно, что он может справиться – он сильный, и поощряющего за мужество. В проигрывании – отыгрывании ребенок часто достигает большего эффекта, чем удалось бы достичь взрослому. Важно помочь ему не утопить такие игры в стереотипности, переключая его в нужное время на другие занятия или способствуя расширению игры на другие области и ситуации общения.
Чем ближе по шкале тяжести к высокофункциональному аутизму, тем вероятнее, что соседствовать с играми или заменять их будут так называемые увлечения. «Так называемые» – потому что в них, как и во всем, силен элемент стереотипности, ребенок сверхпоглощен ими – и они носят странный, своеобразный, необычный характер. Это может быть увлечение звучными словами или несвойственными обычным детям оборотами речи, счетом, формулами, нотами, географическими картами, маршрутами городского транспорта, расписаниями поездов или самолетов, какими-то узкими областями ботаники или истории. Собираются сведения, объем и детализация которых поражают взрослых, десятками и сотнями рисуются карты и схемы… Но все это без какой-либо связи с реальной жизнью. «Башня из слоновой кости… голова профессора Доуэля… ходячая энциклопедия», – говорят родители, сетуя на несостоятельность знаний в самой обычной повседневной жизни.
У части детей, которым позже удается так или иначе вписаться в жизнь, эти увлечения определяют выбор профессии и успех в ней. Среди математиков, физиков, музыкантов, художников, писателей таких людей встретить нетрудно. Понятно желание родителей развивать талант, но как раз аутичность часто мешает такому стандартному развитию, так что приходится искать более подходящие для этого ребенка пути. В 1970-1980-х годах в Москве и Ленинграде было несколько вечерних школ, куда уходили работать хорошие учителя, которым условия обычной школы были тесны, как обувь на пару размеров меньше. Малочисленные классы, гораздо большая свобода для учеников, семинарская система занятий, творческие и внимательные к индивидуальным потребностям педагоги. Помню, как трудно мне было уговорить родителей, а им решиться перевести ребенка в такую школу (уж больно вечерние школы рабочей молодежи были непрестижны), но помню и их удовлетворение, когда аутичные ребята и «белые вороны», «уродцы», «дурачки», «козлы отпущения», «затюканные апостолы» расцветали там.
Иногда с самого начала игры поражают своей необычностью: бесконечное включение/выключение электроприборов, опутывание всей квартиры нитками-проводами. Как правило, это не эпизод – такие игры развиваются, усложняются и при достаточном умственном развитии могут стать основой выбора профессии. Например, мальчик, в три года натягивавший в квартире «телефонные провода», так что взрослые едва пробирались сквозь паутину ниток, в школе интересуется электричеством, а затем поступает в радиотехникум.
Некоторые игры односторонне-интеллектуальны. Пока ребенок играет в них один или с проявляющими терпение взрослыми, все идет хорошо. Но как только возникает необходимость согласовывать свои действия с другими людьми, становится явным тот впечатляющий контраст теории и практики, о котором мы уже говорили. 10-летний мальчик с неплохими математическими способностями «открывает секрет выигрывания» в крестики-нолики, но вместо того, чтобы выигрывать, стремится всем во дворе рассказать об этом и так упорно начинает обучать ребят, что они его гонят от себя – ему и в голову не приходит, что известный всем секрет выигрыша просто убивает игру или что владение секретом может помочь ему обыгрывать других и так поднять свой авторитет в глазах сверстников. В играх мешают не только особенности общения, но и неловкость, недостаточная координация и склонность все сводить к словам, объяснять.
Трудно представить себе детство без рисования красками, фломастерами, карандашами, просто палочкой на песке или мелом на асфальте. Даже рисование каракулей дает переживание «я это сделал». Многие аутичные дети буквально поглощены рисованием, даже если могут изобразить только каракули. По характеру рисунка можно достаточно точно определять уровень психического развития, и у аутичных детей его рисуночные оценки часто низки. Часто рисование превращается в ритуалы и стереотипии: сотни листков изрисовываются одним и тем же рисунком, будь то каракули, маршруты, карты квартала или города. Когда ребенок начинает рисовать что-то определенное, в рисунках отсутствуют люди. Их появление обычно совпадает с улучшением и расширением общения. Попытки научить ребенка рисовать обычные для детей вещи (домик, человечка и т. п.) редко бывают успешны из-за двигательной неловкости и плохой пространственной ориентации. Еще в 5–7 лет многие дети держат карандаш в горсти, рисуют, как если бы лист был повернут на 90 градусов, в самом начале этапа рисования часто изменена ориентация «право – лево», как это бывает у людей с преобладанием активности правого полушария головного мозга. То же можно проследить и в письме (например, зеркальное письмо).
Игры, требующие сообразительности, ловкости и взаимодействия с другими (прятки, догонялки), даже при неплохом умственном развитии для аутичных детей трудны. В одиночестве он может моделировать их, но в общении они далеко не всегда удаются.
Когда преодоление аутизма идет успешно, на начальных этапах улучшения едва ли не все занятия в одиночестве связаны с общением, его моделированием, проигрыванием при еще сохраняющихся трудностях в реальном общении: игры изображают общение, ему посвящаются рассказы и сказки, в рисунках появляются одухотворенные вещи, люди. Такая коммуникативная насыщенность игр и творчества – предвестник расширения круга общения в реальной жизни и улучшения общения. Ребенок примеривается к общению и разрешает те трудности, с которыми пока не умеет справляться в жизни.
Едва ли можно определенно и однозначно оценить или описать все особенности игры и творчества у аутичных детей. Разумеется, в них проявляются многие симптомы аутизма, но сами они не являются симптомами. Слишком сложен и многообразен мир игры и творчества, а аутичные дети слишком разные, чтобы проводить в этой сфере диагностические параллели. Чаще других особенностей встречаются отставание от принятых возрастных норм, некоммуникативный характер занятий, ритуализация. Чаще, но не всегда, не обязательно и не навсегда.
Не такой, как все
Аутистические черты выступают очень ярко и привлекают к ребенку внимание тем, что его поведение направляется не принятыми правилами и даже не доступными пониманию капризами, а закрытыми и непонятными для других мотивами и механизмами. Обычно слышу от родителей, что они видят разительные отличия своего ребенка от других детей, хотят помочь ему, но их крайне смущают и тревожат реакции на ребенка родственников, друзей, соседей, случайных людей на улице. Им трудно принять отношение других к их ребенку как «не такому», «психу», «инвалиду», «белой вороне». Избегая связанных с необычностью ребенка проблемных и конфликтных ситуаций, родители нередко стремятся держаться как можно дальше от людей: в этой нише они чувствуют себя увереннее и спокойнее. Но так ли хорошо для аутичного ребенка с его трудностями общения развиваться в таком отгороженном от мира замке, где он не получает навыков общения с миром за пределами семьи, если рано или поздно он вынужден будет шагнуть за ворота замка?
Хотят того родители или нет, они оказываются между ребенком и миром, далеко не всегда расположенным к нему. Авдотья Смирнова – основатель Фонда содействия решению проблем аутизма в России «Выход» – говорит: «Самое тяжелое, с чем мы и родители аутистов сталкиваемся – с тем, что их детей гонят с детских площадок, в школу приходит мамаша, которая говорит, что она не хочет, чтобы ее ребенок „учился с этим ненормальным“. Связано это с очень низким уровнем информированности общества, очень фрагментарным и неверным пониманием того, что такое аутист… у нас с толерантностью очень плохо». Безусловно, такое положение дел вызывает сожаление, и его надо менять. Последнее время делается все больше для изменения ситуации к лучшему – работают фонды и ассоциации, выпускается литература, выходят фильмы и телепередачи, знакомящие людей с проблемой аутизма и связанными с ней нуждами. Но, во-первых, изменения отношения к людям с особыми потребностями требуют немало времени, а помогать ребенку надо уже сегодня. Во-вторых, даже в США, где толерантность по отношению к аутичным людям за последние 40–50 лет достигла очень высокого уровня и практически стала нормой, около половины аутистов испытывают на себе более или менее агрессивные формы непринятия и отвергания.
Было бы глупо читать проповеди о необходимости толерантного отношения к тем, кто проявляет нетолерантность к вашим детям и вам. Но и становиться жертвой якобы злоумышленного и настроенного сплошь враждебно мира или вступать с ним в войну не на жизнь, а на смерть – значит невольно уменьшать реальную помощь ребенку. Это так уже хотя бы потому, что такая позиция отнимает слишком много душевных сил, которые лучше потратить на ребенка. Да и трудно помогать ему налаживать отношения с миром и вступать с ним в общение, когда мы сами ведем себя по отношению к миру и людям как ощетинившиеся всеми иглами ежики.
Сталкиваясь с такой защитой, я обычно интересуюсь тем, как родители аутичного ребенка относились к особым детям до его появления и обнаружения у него аутизма. Ни разу не слышал, чтобы это отношение было таким, какого теперь они ждут к своему ребенку. Осознание этой разницы в себе может помочь пониманию других, поддержанию отношений с ними и реальной поддержке ребенка. Кто-то из детей будет дразнить его, как дразнил бы и он, не будь у него аутизма. Родители других детей будут думать о своих детях больше, чем о вашем. Даже самые благорасположенные учителя могут спотыкаться на том, чтобы согласовать пользу для аутичного ребенка с пользой для остальных. Общение с друзьями, знакомыми и родственниками может измениться не только из-за разницы взглядов на то, что происходит с ребенком и что надо делать, или из-за того, как их дети реагируют на вашего. Часто они «хотят как лучше, а получается как всегда» просто из-за растерянности – то ли жалеть и выражать сочувствие, то ли делать вид, что ничего особенного не происходит, то ли предлагать помощь. Ко всему этому надо добавить и то, что мы особенно чувствительны по отношению к тому, что нас заботит, беспокоит, тревожит и, однажды обжегшись на молоке, можем усиленно дуть на воду. Говорят, что «жизнь такова, какова есть, и никакова более». Для меня это напоминание о необходимости принятия реальности: если мы хотим изменить жизнь, приходится вглядываться в нее, чтобы видеть и понимать, что именно мы хотим и можем изменить, как это можно делать. И самое первое, что мы можем, – это помогать ребенку развиваться так, чтобы по возможности уменьшить травматичные для него столкновения с миром. Мы оказываемся между ребенком и миром – перед лицом связанных с этим трудностей. Они наиболее ощутимы в жизни с маленькими детьми, когда их состояние достаточно сложно, непривычно и навыки взаимодействия с ребенком только нарабатываются.
Один из главных камней преткновения – бытовые навыки. Ребенок часто выглядит свалившимся с луны – пытается натягивать рубашку на ноги, путает правый и левый башмаки, вообще не умеет раздеваться и одеваться. Даже такое несложное дело, как еда ложкой или питье из чашки, может быть невыполнимым. Некоторые дети не умеют жевать, и их приходится еще в 4–6 лет кормить протертой и жидкой пищей. Намного запаздывает формирование навыков опрятности и умения попроситься на горшок; родители учатся узнавать о нуждах ребенка по кряхтенью или особому перебиранию ногами, если такие признаки регулярны. Они так усердно стараются привить необходимые навыки, столько объясняют и показывают, что, в конце концов, просто не понимают, как можно такие простые вещи не усвоить. Один мой 5-летний пациент упорно не просился на горшок. Его высаживали и держали на горшке до победного конца, который почему-то не наступал, но все происходило само собой, как только его снимали с горшка. Его наказывали, приговаривая: «А кто будет проситься?» Результатом стало лишь то, что, очередной раз испачкавшись, он шел к матери и, точно воспроизводя ее интонации, говорил: «А кто будет проситься?» и подставлял попу для шлепка.
Из-за неравномерности развития поведение может производить впечатление упрямства, капризов, лени. Благодаря прекрасной механической памяти ребенок вдруг может выпалить сложный и длинный текст, но не расскажет о только что происшедшем; запомнит расположение предметов на столе и даже верно разложит их, но не сможет сам есть; уверенно пользуется электро– и радиоприборами, которые его интересуют, и беспомощно топчется перед ботинками, как будто назло не умея надеть их.
Осваиваемые навыки могут весьма осложнять жизнь семьи, когда обретают ритуальный характер: бесконечное мытье и без того чистой посуды, выключение света всюду, где он включен, и другие действия, целесообразные лишь в определенных условиях. Это может побуждать родителей просто делать все за ребенка – особенно при чужих людях.
На улице ребенок то ни на шаг не отходит от матери, то вдруг срывается и убегает в дальний конец сада, где сидит за кустом, вертит что-нибудь в руках и не откликается на ее тревожный зов. Он может сесть в лужу посреди дороги или выбежать на проезжую часть. Его невозможно подвести к играющим детям, но внезапно он подойдет и, будто вещь с полки, возьмет у кого-нибудь из рук игрушку, не понимая вызванных этим эмоций или просто не замечая их. «Он всюду как дома, но и дома не дома», – сказала мать о 5-летнем сыне: он мог войти за прилавок магазина и взять то, что ему приглянулось, отодвинув мешающих людей. 4-летний мальчик измучил родителей, на каждой прогулке приводя их к железнодорожному переезду, где мог часами смотреть на проходящие поезда, то и дело пытаясь их потрогать. Страхи в ситуации, где их появление непонятно взрослым (например, страх подойти к вешалке или страх открытого шкафчика на кухне), парадоксальным образом сочетаются с отсутствием элементарной осторожности там, где она действительно нужна.
Кажется, заговорит – и станет легче, хоть что-то можно будет объяснить. Но появление речи часто только усугубляет трудности. Бесконечное и странное говорение, неожиданные крики, стереотипные и не предполагающие ответов вопросы, непонимание переносного смысла делает речь ребенка и его реакции на чужую речь похожими на поведение компьютера, мыслящего по точной схеме в буквальном смысле слов. «Что ты будешь делать, когда встанешь из-за стола?» – «Встану на пол». Даже довольно отвлеченные, абстрактные вещи воспринимаются буквально-приземленно.
У начавших говорить детей отсутствует чувство реальной ситуации и дистанции. Все люди воспринимаются на «ты», не существует знакомых и незнакомых – к любому можно подойти и снять с него очки или запустить руку в сумку. В соединении с особенностями мышления это приводит к конфузам. Поняв, что о некоторых желаниях надо сообщать маме на ухо, ребенок прилежно выполняет ее инструкцию и что есть сил кричит ей в ухо о желании сходить по-большому или требует у гостя камень: «Мама сказала, что у тебя всегда камень за пазухой».
Родители с нетерпением и надеждой ждут, когда ребенок начнет общаться с другими детьми. Но появление интереса к ним еще не обозначает возможности общения. В одних случаях он не продвигается дальше наблюдения издали. В других – может даже пытаться выразить свою расположенность, но делает это так неумело, неловко и не учитывая ситуацию, что вызывает испуг и у детей, и у их родителей, беря, например, привлекшего внимание человека за лицо. Он пытается включиться в игру, но действует при этом настолько автономно и странно, что дети отвергают его. Будучи в кругу детей, он не вместе, а рядом – островок одиночества в море общения. Даже в самых благоприятных случаях аутичный ребенок остается «не таким», «странным», «далеким». Чувствуя это и избегая неприятных переживаний, он может стремиться ограничить общение, хотя уже нуждается в нем. Не всегда он может и хочет говорить об этом, прикрываясь нейтральными формулами «нормально», «не обижают». Но порой это чувство прорвется и без всяких вопросов: 12-летний мальчик, как-то преодолевающий трудности общения, при просьбе нарисовать то, что ему хочется, удрученно вздыхает: «Нарисую мальчика. Все играют, а он один у стены стоит».
Понять непонятное
Говоря об аутичных детях, чаще всего подчеркивают впечатление непонятности – «странный», «не такой, как все», «чудаковатый», «нелепый». Человеку, глядящему со стороны, поведение и переживания кажутся хаотическим набором нарушений, каждое из которых само по себе невыгодно отличает ребенка от сверстников. На карте аутизма пока больше белых пятен, чем уже открытых земель. И все же сегодня можно выделить некоторые основные нарушения, от которых берут начало многие кажущиеся изолированными симптомы.
Живя в том же, что и все другие люди, мире, аутичный ребенок видит его иным. Его восприятию недостает образности, целостности. Мир предстает как случайный набор отдельных, непонятных в их взаимодействии элементов. Смысл и значение вещей, обычно постигаемые по их месту в общей картине мира, остаются закрытыми. «Он как с луны свалился», – говорят родители. То, что из пугающего хаоса удается как-то узнать, заменяет собой полный и целостный образ реальности. Это прежде всего простые и наименее изменчивые вещи, которые в реальной жизни могут иметь крайне малое значение. Самый впечатляющий пример – непереносимость нового, стремление поддерживать неизменность окружения и связанные с этим страх и протест. Аутичный ребенок как бы складывает образ мира из элементов, не имея этого образа. Это напоминает строительство дома без проекта – просто наугад кирпич к кирпичу. В самом по себе аналитическом подходе к миру нет ничего болезненного, но не подкрепляемый подходом синтетическим, целостным – он похож на блуждание во тьме. Обычное развитие сочетает их, так что воспринимаются сразу и тембр голоса, и интонация, и тон, и поза, и жесты, и содержание слов – ребенок понимает, что мама сердита, или устала, или радостна. Восприятие целостного образа позволяет пренебречь случайными или малозначительными деталями, чего аутичному ребенку как раз и не хватает – он видит множество деревьев, не видя леса.
Эта односторонняя утрированная аналитичность – характеристика не только восприятия. На ней же строится и мышление. Даже при очень хорошем умственном развитии ребенок умствует больше, чем делает. Он может быть ходячей энциклопедией и не ориентироваться в простейших житейских вещах и ситуациях, где требуются интуиция, способность поступить верно, не размышляя о том, что верно и что нет. Его знаниям недостает понятий, которые нужны в повседневной жизни.
Та же неравномерность прослеживается и в других психических функциях. Механически запоминаемые тексты или маршруты и неспособность рассказать о прочитанном или самостоятельно ориентироваться. Неутомимость ритуалов и быстро наступающая усталость от общения. Недостает гармоничности, слаженности поведения: сложные навыки могут формироваться раньше простых или сочетаться с сохраняющимися незрелыми формами поведения. «Я чувствую себя рядом с ней так, как если бы вместо концерта все два часа оркестр настраивал инструменты: разлаженность, скрежет – я ничего не понимаю», – говорит мать аутичной девочки.
Чем тяжелее аутизм, тем больше препятствий для отношений с окружающим миром. Ребенок не отказывается от общения – он не умеет этого делать. Способность вступать в общение страдает из-за дефицита восприятия и особенностей переработки информации.
Сопутствующие и осложняющие нарушения (задержка развития речи или умственного развития, нарушения координации и двигательных функций и др.) тормозят развитие и формирование навыков общения. Степень улучшения, которой удается добиться в ходе лечения, поэтому очень различна.
На самых ранних этапах жизни аутичность уменьшает силу влияния отношений «мать – дитя», имеющих огромное психологическое значение для развития. Даже самые любящие и эмоционально теплые родители далеко не всегда в состоянии проникнуть сквозь панцирь аутизма. Часть страхов и других особенностей поведения может быть связана с тем дефицитом ранних эмоциональных влияний, который при этом возникает.
Продвижение в развитии увеличивает способность учитывать реакции других на себя, оценивать свое место среди людей, свои успехи и неудачи. В жизни это оборачивается далеко не только радостью. Негативный, травмирующий опыт отношений (а он почти неизбежен в силу сохраняющейся инаковости) может приводить к осознанной или неосознанной защите от общения, нужного не только эмоционально, но и для дальнейшего развития навыков коммуникации.
Подводя итог, хочу еще раз подчеркнуть, что аутизм – не болезнь, отнимающая у ребенка то, чем он уже владеет, и не раз навсегда данное и неизменное нарушение, с которым уже ничего не поделаешь. Это сложное нарушение гармоничности развития. Опыт показывает, что оно принципиально преодолимо, хотя степень преодоления у всех детей разная. Оно тяжкий и многотрудный путь, по которому ребенок вместе со взрослыми шаг за шагом продвигается к возможности более свободного и творческого развития. Аутизм – не приговор, но брошенный вызов. Мы должны принять его, потому что если не мы, то кто?
Семья и помощь
Помощь аутичному ребенку можно сравнить с распутыванием клубка – прежде всего надо найти конец, за который можно ухватиться. Но как раз это-то очень трудно.
Опыт других стран, где существует множество учреждений для аутичных детей с хорошо подготовленными психологами и воспитателями, показывает, что это, конечно, облегчает жизнь и усилия семьи, но никак не уменьшает ее роли. Много прекрасных книг о помощи аутичным детям написаны родителями, и специалисты черпают в них немало полезного, что невозможно увидеть и понять в лаборатории или клинике. В России, где помощь аутичным детям только начинает складываться, роль семьи особенно велика.
Между врачами, психологами, логопедами, музыкальными терапевтами, педагогами и другими специалистами (сегодня круг участвующих в работе с аутичными детьми достаточно широк) и семьей возникает то поле взаимодействия, в котором и будет осуществляться наиболее полная помощь ребенку. Можно было бы сказать, что семья выполняет функции посредника, переводчика между ним и людьми помогающих профессий. В этом не будет неправды, но этого мало. Именно в семье ребенок проводит большую часть времени. Именно от семьи зависит то, как рекомендации специалистов будут воплощаться в жизнь. Именно в семье складываются и существуют самые прочные и эффективные эмоциональные связи, благодаря которым ее влияние сильнее многих других. Вопрос в том, как использовать эту силу во благо ребенку, чтобы благие намерения не мостили дорогу к еще большей его изоляции.
Первая реакция
Пока ребенок еще очень мал, даже замечающие что-то не то родители обычно не придают этому значения: «Ничего страшного, так бывает, подрастет – и все пройдет». Но вместе с ребенком и ожиданиями родителей растут и его трудности. Бывшее неявным становится очевидным, казавшееся временным и незначительным оказывается устойчивым и серьезным. Критическим периодом обычно оказывается возраст 2–3 года, когда уже нет возможности надеяться на завтрашнее чудо или уверенность в благополучии ребенка резко сменяется открытием его трудностей.
Это всегда тяжелый удар. Переживания родителей трудно выразить одним словом – это паника? подавленность? шок? отчаяние? растерянность? Ни одно из них не передает полностью то, что на самом деле происходит в душе. Случившееся застает врасплох, не укладывается в голове, делает будущее проблематичным и пугающим, заставляет переоценивать ценности. Родители чувствуют себя загнанными в тупик и судорожно ищут пока даже не помощи, а опровержения происходящего, пытаются понять, откуда и за что им это, чувствуют себя виноватыми, боятся за ребенка, за себя, за судьбу супружеских отношений. Все сплавляется в одном тягостном переживании острого горя.
Холодному рассудку это может показаться глупостью: надо что-то делать, а не копаться в чувствах. Но любовь имеет право быть неразумной, и не переживать за ребенка невозможно. И все же… То, что для родителей – время изнурительно-тяжкой неопределенности и метаний между отчаянием и надеждой, для ребенка – промедление с помощью. Чем короче этот период, тем лучше для всех. Хорошо, если удается преодолеть страх столкновения с проблемами ребенка и быть с ним как можно больше и ближе, чтобы лучше почувствовать его, сжиться с ним, начать различать, научиться находить в его поведении радующие моменты, принять его таким, какой он есть. Может быть полезно задать себе некоторые вопросы: что именно происходит? Что это означает для меня как человека? Для моей работы? Для моей семьи? Что именно меня пугает? Могу ли я как-то помогать ребенку? Что мне нужно для этого изменить в жизни? Что я готов (готова) изменить? Вероятнее всего, ответы придут не сразу, но вы уже будете искать их. И как ни велик страх перед обращением к психиатру (у этого страха тысяча разных причин), это разумно сделать. В конце концов, это надо и вам самим, чтобы определить наконец, что происходит, ибо любая определенность лучше неопределенности.
Первый визит
Никогда не жду при первой встрече услышать определенное и исчерпывающее описание нарушений. Вижу, как борются желание прояснить положение дел и страх, что открытый рассказ приведет к установлению тяжелого диагноза. Да и может ли быть иначе?
Неопределенность первых сообщений – результат того, что происходящее с ребенком непонятно. Родителям трудно рассказать о своих наблюдениях так, как они это делают при рассказе о каком-нибудь физическом нарушении. Лучше всего было бы просто подробно описать поведение, но кто знает, что в нем главное и что второстепенное, не навяжет ли врачу откровенный рассказ более тяжелое впечатление о состоянии ребенка, чем есть на самом деле?
Родители уже знают, но еще не хотят и не готовы знать, а вернее – признать. Ожидания от визита противоречивы. С одной стороны, родители ждут квалифицированной, деловой и объективной оценки и не прощают врачу наигранного оптимизма. С другой – в душе еще теплится надежда, что все это лишь недоразумение, которое сейчас рассеется; лишение надежды вызывает разочарование и гнев.
Тревога часто столь сильна, что родители верят врачу тем меньше, чем больше хотят верить. Это сочетание веры и недоверия заставляет форсировать вопрос о диагнозе: не будет диагноза – все в порядке, будет – хорошо бы не самый плохой. Иногда визит ко мне не первый, и я вижу, что родители перепроверяют кем-то уже поставленный диагноз или пытаются узнать диагноз, который мой предшественник якобы скрыл от них.
Я уверен в том, что родители вправе знать, а я обязан сообщить диагноз. И все же на первом приеме стараюсь не делать этого. С первого взгляда можно предполагать, но трудно уверенно знать. Да и диагностические ярлыки далеко не всегда уместны и хороши. Для врача за короткой формулой диагноза – информация о причинах, механизмах, возможной помощи, прогнозе, но и при этом на каждом этапе лечения приходится вновь и вновь задаваться вопросом о диагнозе. Для родителей же это, как правило, пугающие слова – обыденные знания о психике, ее особенностях и нарушениях несут б себе слишком много искажений, обусловленных эмоциями, предрассудками, мифами и т. д. Почему, к примеру, диагноз «шизофрения» воспринимается большинством людей так трагически, несмотря на все наши знания о многих страдавших ею великих людях, а диагноз «гипертоническая болезнь», которая может унести и уносит в могилу, намного спокойнее? Почему люди оглядываются у входа в психоневрологический диспансер, не видит ли их кто-нибудь из знакомых, и могут часами рассказывать друг другу о болях в спине или других недугах? Как бы то ни было, ранить диагнозом так же легко, как и утаиванием его. Да и не сам диагноз часто важен (время уточняет и изменяет диагностические формулы), а происходящее именно с этим человеком, осознание, чем и как помогать ему. Вообще лучше взглянуть на диагноз через призму понимания происходящего с ребенком, чем на ребенка – через призму диагноза.
На первом приеме можно определить принципиальную возможность помощи и наметить ее пути, но не дать гарантии ее эффективности или рассказать, что будет с ребенком через 10–15 лет. Родителям это может казаться проявлением неквалифицированности, безразличия, нежелания сообщить правду. Потребуется время для понимания того, что, избегая категорических заключений и прогнозов, врач как раз руководствовался знаниями и желанием помочь. А пока родители разочарованы, им кажется, что все сказанное врачом они знали и до обращения к нему.
Как быть дальше
Итак, надежды на чудо не сбылись – подтверждена серьезность нарушений. Как быть?
Все что-то советуют – родственники, знакомые. Одни говорят, что лучше держаться подальше от психиатров и ждать, пока все пройдет само, вот у знакомых был такой же ребенок… Другие вспомнят о дефицитном лекарстве или снадобье, которое, говорят, помогает. Третьи назовут имя популярного экстрасенса или целителя, у которого только и надо лечить. Четвертые – еще что-нибудь. Сколько людей – столько советов, объединяемых лишь неверием в официальную медицину.
Возникает желание самим познакомиться с психиатрической литературой и разобраться в состоянии ребенка. Путаясь в незнакомых словах, продираясь сквозь дебри непонятных теорий, родители испытывают еще большую тревогу. Их внимание приковано к поиску утешительных выводов, и любой рассказ об успешном лечении оживляет надежды. Мои коллеги после публикации в популярном журнале статьи, где упоминалось электрошоковое лечение тяжелых психозов, получали письма с просьбой принять на лечение 4-5-летних (!) детей с невротическими нарушениями.
Непрофессиональные советы и пристрастно прочитанная литература приводят к поиску все новых и новых консультантов. Душой это можно понять: боль за ребенка заставляет искать то и того, что и кто, надеешься, может помочь лучше. Одна беда – лечась у многих, ребенок не лечится ни у кого: у семи нянек дитя без глазу. Одного из своих пациентов я не видел около полугода после начала работы с ним. Потом позвонила его мать и сказала: «Доктор, мы не появлялись, потому что полгода стояли в очереди на прием к… (она назвала фамилию известного гомеопата). Он назначил лечение, но я забыла, как применять его. Вы не можете мне рассказать?» Я, разумеется, не мог. Они пришли еще через три месяца, когда уже без малого год был потерян для помощи.
Избегаемым и неиспробованным часто оказывается лишь работа с «обычным» детским психиатром, который как раз и может взять на себя и, что важно, выполнять задачу многолетнего ведения ребенка. Это не исключает ни дополнительных консультаций и обследований, ни поисков новых путей помощи. Нет никакого резона обвинять его в некомпетентности только потому, что он за короткий срок не вылечил ребенка: помощь при аутизме остается трудной проблемой во всем мире.
Родителям бывает трудно оставаться в роли пассивных наблюдателей и исполнителей назначений. Потребность самим участвовать в помощи слишком сильна, чтобы пренебречь ею. Накапливая опыт домашней работы, обсуждая его с врачом и психологом, делясь наблюдениями, родители получают возможность самостоятельно искать и находить новые, эффективные именно для их детей подходы, часть которых полезна и для других аутичных детей. Кажется заманчивым освободить родителей от этого нелегкого труда, но именно в нем складывается тот опыт взаимодействия с ребенком, без которого трудно воспользоваться результатами даже самой успешной работы. В 1970-х годах, когда никакой организованной работы с аутичными детьми в стране еще не было, я просто по мере возможности знакомил семьи аутичных детей, чтобы они могли обмениваться опытом. Сегодня в стране около 50 ассоциаций родителей аутичных детей, много интернет-форумов, где возможны обмен опытом и обсуждение.
«То, что вы пишете, интересно. Но с нашим детским психиатром это просто невозможно», – написала мне одна мать в ответ на первую книгу об аутичных детях. Из письма можно было понять, что врач ничего не умеет и ничего не хочет. У меня нет права заочно судить о работе коллеги. Но нескладывающиеся отношения семьи и врача – не такая уж редкость. Иногда имеет смысл пересмотреть свои позиции, иногда сменить врача. Постарайтесь только не дать неудовлетворенности врачом перерасти во враждебное отношение к медицине.
Между тем последнее время это становится чуть ли не хорошим тоном, и аутизм вопреки всему, что о нем известно, объявляется неврологическим расстройством, так что место детского психиатра в кругу помогающих специалистов занимает невропатолог. Некоторое время назад мне позвонил невропатолог из центра, помогающего детям с детским церебральным параличом. Он интересовался тем, как использовать для лечения аутизма имеющуюся в центре аппаратуру для коррекции нарушения функций опорно-двигательного аппарата. Ее, конечно, можно использовать, если у аутичного ребенка есть нарушения этих функций, но лечить с ее помощью аутизм – дело совершенно безнадежное. Однако представление о том, что «раз аутизм не болезнь, то и психиатр не нужен», сплошь и рядом оказывается сильнее логики и посланий реальности.
Вместе с тем я бы остерегался психиатров, настаивающих на том, что помощью при аутизме должны заниматься только они, а все остальные специалисты – выполнять их предписания. Дело иногда доходит до непринятия психиатрами работы родительских ассоциаций и фондов помощи аутичным детям на том основании, что они якобы вмешиваются не в свое дело. Такой подход лишает аутичных детей огромной и важной части помощи.
Помощь не должна быть одеялом, которое каждый тянет на себя. Она должна быть делом команды, где каждый делает свое дело как часть общего, понимает делаемое другими и может взаимодействовать с ними на равных. Семья имеет право быть полно– и равноправным участником команды. Построение таких систем помощи в России только начинается – что-то можно заимствовать из опыта других стран, что-то создавать и развивать самим. Как бы ни хотелось получить много и сразу, это невозможно. Но в конце концов, разве мы не решаем сами, к какому парикмахеру, стоматологу, массажисту ходить или в какую мастерскую отдавать на ремонт машину? И разве помощь ребенку менее важное дело, чтобы в нем полагаться только на других?
Адвокаты и прокуроры
Аутизм если не лишает общения с ребенком, то серьезно ограничивает и затрудняет его, причиняет душевную боль, заостряет и ставит по-новому многие вопросы жизни. Отношение к ребенку рискует стать внутренне конфликтным: родительская гордость и стыд перед окружающими, любовь и разочарование, надежда и отчаяние… И за всем этим – потребность в успешной самореализации и опасения быть или прослыть плохими родителями. То, как эти конфликты разрешаются, сказывается в поведении с ребенком.
На одном полюсе – родители-адвокаты. Несостоятельность ребенка, реакции других людей на него, чувство собственного бессилия переживаются так тяжело и болезненно, что возникает стремление вытеснить все это из сознания, видеть ребенка как можно более состоятельным. Сами того не замечая, они все, что могут, делают вместо ребенка, а достигаемый результат вполне искренне воспринимают как его собственный. Они приписывают его случайным действиям разумные и осознанные цели, любой поворот в чью-то сторону принимают за общение, в механически повторенных словах видят проявление высоко развитого ума и т. д. Когда я прошу ребенка показать или дать мне одну из игрушек (мне необходимо видеть, понимает ли он меня, может ли сосредоточиться на задании, каков круг его знаний и т. п.), мама-адвокат подводит его руку к нужной игрушке или придвигает игрушку к ребенку, не замечая своих действий и совершенно неподдельно удивляясь, а то и обижаясь в ответ на мою просьбу не делать этого. Такой стиль поведения с ребенком решает проблемы матери, но не ребенка и поощряет видимость достижений вместо помощи.
На противоположном полюсе – родители-прокуроры. Они так расстроены и подавлены, сравнение ребенка с другими детьми так удручает их, что они не могут увидеть даже тех успехов, которые есть. Они видят ребенка исключительно через призму его несостоятельности, невыгодных отличий от сверстников. Стремление достичь хотя бы мнимого благополучия приводит их к принуждениям, наказаниям, запретам, жестким инструкциям, изнурительному для ребенка натаскиванию. Часто они не удовлетворены даже явными улучшениями в поведении и состоянии ребенка: «Ну да, конечно, но…» – говорят они и перечисляют сохраняющиеся трудности. Даже понимая нецелесообразность такого жесткого подхода, они часто не могут ничего с собой поделать. Этот стиль отношения тоже решает проблемы родителей, а не ребенка, поддерживая такую позицию: «Я делаю все, что можно, даже то, что мне больно делать, но ребенок так тяжел (или – врачи так беспомощны)!» Без конца одергиваемый, затюканный ребенок не имеет возможности ощутить родительскую поддержку, различать свои успехи и неудачи, закреплять достижения.
За тем и другим стилем отношений кроется душевная боль родителей, считать которых любящими или нелюбящими, хорошими или плохими глубоко ошибочно и несправедливо. Нередко они буквально мечутся между позициями адвоката и прокурора, коря себя за любой жесткий шаг, искупая чувство вины за это проявлениями сверхлюбви и вновь по поводу или без повода срываясь. Ребенок в результате лишается возможности приноровиться к ним даже настолько, насколько он мог бы.
Эти крайности особенно часты на первых порах, могут усиливаться при накоплении у родителей физической и душевной усталости. Нет ничего зазорного в работе с психологом или психотерапевтом, помогающим разрешать накапливающиеся у родителей проблемы. Лучше всего, когда родители поддерживают инициативу ребенка, не подменяя и не блокируя ее. Тогда ребенок может, насколько он умеет, строить отношения с миром сам, ощущая за спиной страховку и получая удовлетворение от своих достижений. Развитие поисковой активности повышает шансы на выработку продуктивного поведения в новых, незнакомых ситуациях. Очевидно, что это не способ мгновенного достижения результатов и решения всех проблем. Но на этом пути можно гибче использовать уместные в разных ситуациях стили поведения.
Растворение в ребенке
Аутизм меняет всю жизнь семьи. Приходится от многого отказываться, во многом ограничивать себя. Отчасти эта ситуация уже знакома по коротким заболеваниям, по периоду новорожденности. Но теперь она не короткая дистанция, а марафон, в котором нельзя выложиться и добиться победы за короткое время. Работающие с аутичными детьми специалисты отмечают очень высокую степень психической амортизации, хотя обычно в учреждениях для таких детей на одного ребенка приходится в среднем двое взрослых. А ведь для них это только работа – она ограничена по времени, имеет перерывы и не связана с такой сильной эмоциональной вовлеченностью, как у родителей, которые готовы болеть сами, лишь бы ребенок был здоров. Реакции родителей на трудности у ребенка остры и драматичны. Чувство бессилия и вины, тревога, обостренная жалостью любовь толкают многих родителей (не только, как иногда полагают, матерей, но и отцов) на полный отказ от себя во имя ребенка. Их жизнь без остатка растворяется в его жизни.
Замыкающие себя в тесном пространстве общения с ребенком, где каждый шаг требует чрезвычайных усилий и приносит (если приносит) весьма скромные результаты, родители рано или поздно начинают ощущать и переживать это несоответствие. «Пока я работала, – говорит одна из мам, – было очень трудно, не передать даже. Тогда я ушла с работы. Мне казалось, что вот теперь я смогу отдавать ему всю себя и все обязательно переменится к лучшему. А потом стала замечать, что жду от него столько же, сколько отдаю ему. Чем дольше это продолжалось, тем большего я ждала и все чаще ловила себя на раздражении: как же так?! Я же буквально приговорила себя к нему, у меня ничего своего не осталось, ни-че-го! А он?! Начала срываться на нем – то нашлепаю, то наору. Готова была убить себя за это, но и представить себе, что он хоть час будет без меня, не могла. Когда вы начали настаивать на том, чтобы я полдня работала, а он был в дневном стационаре, я просто ненавидела вас. Первые недели были для меня пыткой. Зато теперь вижу, что так для нас обоих лучше».
Чтобы сохранить в этом многолетнем марафоне форму и не сойти с дистанции, приходится подумать о том, как не превратить неизбежные самоограничения в полное самоотречение. Проблемы ребенка не должны стать сигналом к изоляции родителей, к свертыванию их собственной жизни. Это, конечно, зависит от материального положения семьи, наличия помогающих родственников, склонностей и предпочтений супругов, их возможности согласовывать усилия так, чтобы каждый продолжал развиваться и реализовывать себя. В конце концов, важно не количество проведенных с ребенком часов, а коэффициент полезного действия. На время отвлечься, отдохнуть, получить новые впечатления, удерживаться в курсе интересующих вещей и событий, уделить внимание своей внешности – все это отнюдь не означает измены ребенку и родительскому долгу. Родители, подобно психотерапевтам, работают собой, и восстановить свои силы, взглянуть на происходящее со стороны, подсмотреть в жизни что-то важное для помощи ребенку уместно и необходимо. Возможность быть выслушанным другими и послушать других, принять от них сочувствие и посочувствовать им, получить поддержку и поддержать помогают увидеть, что мир полон проблем, что мы со своими проблемами не одиноки и способны решать их. Да и ребенку, даже если кажется, что ему все равно, необходимо иногда отдохнуть от родителей и их руководства.
Полный отказ родителей от себя сковывает ребенка, ограничивает круг явлений и событий, с которыми он может сталкиваться и через них знакомиться с жизнью, находить себя в ней. Чтобы максимально помочь, взрослым приходится учиться помогать не только ему, но и себе – пополнять свои жизненные силы и опыт самореализации, учиться испытывать удовлетворение даже в трудных ситуациях, решать проблемы здесь и сейчас. Потому что, повторю, родители работают собой. Потому что невозможно научить ребенка, тем более ребенка с затруднениями, совладать с жизнью и радоваться жизни, если мы сами не находим себя в этой жизни и не умеем ей радоваться. Потому что по-настоящему учит тот, кто может сказать: «Делай, как я», а не «Делай, как я говорю».
Критерии успеха
Помогая ребенку, важно научиться видеть не только явные достижения и большие победы, но и маленькие успехи – ростки будущих достижений. Они нуждаются в умелой и бережной поддержке, стимулирующем поощрении и направленном развитии. А если мы еще и умеем извлекать уроки из ошибок вместо того, чтобы бояться их, то отдельные звенья маленьких побед над этими пережитыми ошибками соединяются в цепочку побед – пусть небольших, но побед. Мы не можем поддержать ребенка в том, чего мы не заметили, и тогда он подолгу топчется на месте там, откуда мог бы продолжать путь преодоления. Но как разглядеть, увидеть эти маленькие победы, эти робкие побеги, чтобы поддержать их?
Мерой улучшения удачнее считать не то, насколько состояние ребенка приблизилось к «норме», а то, насколько удалось преодолеть существующие нарушения. Возможно, ребенок так никогда и не нагонит сверстников – это совсем не основание для прекращения усилий. Возможно, список того, чего ребенок не достиг, будет укорачиваться очень медленно. На вопрос «Чего он не достиг?» всегда найдется способный повергнуть в уныние ответ. Говорят, что дорога в тысячу миль начинается с одного маленького шага. Вся она складывается из маленьких шагов. Чего ребенок достиг – за прошедшие день, неделю, месяц, год? Точкой отсчета должно быть прошедшее вчера, а не желаемое завтра. Сегодня немодно цитировать В. И. Ленина, но именно ему принадлежат слова о том, что каждая эпоха оценивается не по тому, чего она не дала по сравнению с будущим, а по тому, что она дала по сравнению с прошлым. Это тем более так, что желанные цели подобны горизонту, расстояние до которого всегда больше пройденного.
Такое изменение точки отсчета дается нелегко. Даже при существенном улучшении родители могут оставаться подавленными, а все их рассказы о ребенке начинаются и кончаются тем, что плохо, трудно и т. д. Можно ли помочь себе? В этом пригодятся несколько несложных приемов.
Найдите вечером 5-10 минут на то, чтобы:
1) припомнить и перечислить все, чем ребенок вас порадовал, что ему удалось, что было хоть чуть лучше, чем вчера, что удалось вам; пусть это будут даже мелочи – не пропускайте ничего;
2) после этого посмотреть, что осталось как обычно, как всегда, как вчера;
3) только потом посмотреть, стало ли что-то хуже и что именно.
Постарайтесь быть при этом как можно конкретнее. Например, что такое «хорошо ел»? Не сопротивлялся, когда вы его кормили? Открывал рот навстречу ложке? Хорошо жевал? Не испачкался? Правильно держал ложку или вилку? Сел и поел сам? Такая конкретизация позволяет лучше увидеть, на что направлять усилия дальше. И пожалуйста, проделайте эти три шага именно в таком порядке, в каком они перечислены. Мы так устроены – и в этом вообще-то есть немалый смысл, – что внимание концентрируется прежде всего на угрожающем, неприятном, негативном, всем том, от чего хотим избавиться или защититься, и в оценке прожитого дня просто не остается времени добраться до хорошего, оставаясь с впечатлением, что его нет и все плохо. Это как с деньгами. Если тысяча в кармане завалилась за подкладку, я не могу не то что пообедать, но и в автобус сесть. Но если пара сотен на месте, то могу подумать, как ими лучше распорядиться.
Если найдете время записывать это, совсем хорошо. В момент переживания кажется, что будешь помнить это всегда, а через несколько дней от него и следа в памяти нет. Записи помогут оценить динамику изменения на больших отрезках времени. К тому же думаем мы раз в десять быстрее, чем говорим, а говорим раз в десять быстрее, чем пишем, так что при письме открываются, становятся видны многие важные детали, которые на большой скорости думания или говорения мы не успеваем разглядеть.
Возможно, вы сами найдете для себя еще какие-то приемы. Помните, что они не запудривание мозгов, а способы выработки реалистического и продуктивного подхода к оценке развития ребенка, да и к жизни в целом. Они не заслонят конечную цель ваших усилий, но помогут ставить промежуточные цели и достигать их. В конечном итоге помогать себе и ребенку мы можем только тогда, когда ясно и конкретно понимаем и знаем, в чем именно нужна помощь, умеем закрепить достигнутый результат и сделать его новой реальностью, от которой будем двигаться дальше.
Чего ждать?
Что ждет ребенка в будущем? Каковы перспективы? Сможет ли он как следует приспособиться к жизни – учиться, работать, иметь семью, детей, наконец, просто обходиться без нас? И еще тысяча вопросов, за каждым из которых любовь и боль, надежды и опасения, стремление и усталость.
В большинстве случаев состояние изменяется к лучшему, но пределы улучшения у каждого ребенка свои. Часть детей (прежде всего с аутизмом Аспергера, высокофункциональные аутисты) может достигать значительного прогресса – учиться в массовой школе, нередко делая поразительные успехи и опережая сверстников, оканчивать институты, работать или заниматься спортом, как аргентинский футболист Месси, в 26 лет ставший обладателем четырех «Золотых мячей». Но при этом практически никто не лишается особинки, выделяющей из общей массы, у одних это проблемы общения, с которыми они постоянно вынуждены как-то справляться; у других эти проблемы обрастают конфликтами, при которых предпочтительнее домашнее обучение; третьи крайне сложно удерживаются в регламентированных рамках школьной дисциплины и режима; у четвертых есть и то, и другое, и третье.
Один из моих пациентов, после того как в 6 классе я перевел его на домашнее обучение, рассказал: «Я помню, как все началось. В 1 классе я был еще совсем глупый и все время крутился за партой. Однажды учительница поставила меня в угол, но я и там крутился. Она тогда говорит: „Ты бы еще вышел на середину и станцевал!“ Я же не понял, что она сказала это в кавычках. Вышел и станцевал. А на следующий день в коридоре повесили стенную газету „Наши плясуны“. И все надо мной смеялись, дразнили. Ну, я пробовал защищаться, но дразнили еще больше, играть со мной перестали». И дальше о том, как он стал, в конце концов, для других детей чем-то средним между белой вороной и козлом отпущения. Но помню других, которым больше повезло с понимающими и умеющими их поддержать в трудные минуты взрослыми – их школьная судьба складывалась совсем иначе.
Одним удается учиться в массовой школе, у других возможности скромнее, что приводит к откладыванию начала обучения или обучению в специальных классах/школах. Многие осваивают лишь навыки ухода за собой и обеспечения основных бытовых потребностей, но учиться и приобрести специальность не могут, а кто-то будет требовать специальных условий и ухода всю жизнь. Подчеркну, что трудности больше связаны с особенностями общения и поведения, чем с собственно интеллектуальными проблемами. Блестяще сыгранный Дастином Хоффманом в «Человеке дождя» Рэймонд возвращается в психиатрическое заведение ведь не потому, что у него ума не хватает, а потому, что не умеет жить с людьми.
Различия прогноза связаны не только с исходной тяжестью состояния, его происхождением, отягощенностью сопутствующими нарушениями, которые с известной уверенностью можно оценивать и у маленького ребенка. Не менее важна их связь со степенью и качеством помощи (лекарственной, психологической, социальной), которые можно планировать, но эффект которых практически невозможно оценить заранее.
Заключение о том, что существенная помощь невозможна, а задачи сводятся к уходу и, может быть, простейшему приспособлению к жизни, слишком ответственно и по-человечески трудно и для специалиста. Не раз и не два, оказываясь в роли приносящего плохую весть гонца, я чувствовал себя будто виноватым, хотя и понимал, что без вины. Еще труднее это для семьи. Вспомним еще раз «Человека дождя» и то, как трудно Чарльзу, открывшему в Рэймонде человека, примириться с тем, что тому будет лучше в лечебнице. Кажется, что специалисты могли бы быть квалифицированнее или настойчивее, что кто-то другой оценит состояние вернее и лучше, найдет способ лечения. Родители могут оказаться правы в таком мнении, хотя чаще это не так. В любом случае невозможно рассчитывать, что кто-то способен или имеет право избавить вас от принятия решения, сделать это за вас.
Ни врач, ни психолог не могут и не должны подменять в этом семью. Они обязаны дать всю необходимую для принятия решения информацию, но не могут присваивать себе право распоряжаться чужими жизнями и судьбами. На основании этой информации и своих жизненных интересов семья сама решает – где, как и чему учить, воспитывать дома или в специальном учреждении, вернуться ли к домашнему воспитанию, сохранять родительские права или отказаться от них. У каждого есть свои причины для принятия именно того решения, которое он принимает. Для каждого это ответственный выбор, влияющий на его собственную жизнь, жизнь семьи, жизнь ребенка, которого касается решение. Другое дело, что психолог может помочь прояснить те переживания и помочь разобраться в тех проблемах, которые мешают принятию решения.
Шаг за шагом
Что такое чудо? Возможны ли чудеса? В воспитании аутичного ребенка мы не можем ждать чуда, которое придет само и поставит все с головы на ноги. Единственное возможное чудо – то, которое мы будем творить сами.
Помощь может быть по-настоящему действенной, когда мы верим в ребенка, как бы он ни был своеобразен, принимаем его таким, какой он есть, и делаем все зависящее от нас, чтобы способствовать его развитию.
Для семьи это означает:
• обеспечивать эмоциональную поддержку;
• помогать воспринимать и понимать окружающий мир, находить в нем необходимый порядок и постоянство и благодаря этому получать радость от жизни;
• помогать осваивать и усваивать основные правила поведения и жизни с людьми, умение вступать в отношения, поддерживать и развивать их;
• учить использовать в практической жизни приобретаемые сведения и навыки;
• готовить к самостоятельной жизни и работе в той мере, в какой это возможно для этого ребенка.
Вероятно, это можно выразить и другими словами. Но суть останется той же: жить вместе с ребенком, а не рядом с ним; сотрудничать, а не манипулировать; за деревьями борьбы с нежелательными проявлениями не терять из виду лес потенциальных и резервных возможностей.
До года
Чем младше ребенок, тем труднее найти в его поведении проявления, которые были бы оформленными симптомами тех или иных расстройств. Их картина будет становиться отчетливее по мере роста и созревания. Поэтому рекомендации достаточно осторожны: порой не очень стандартные проявления здоровья, показавшиеся болезненными, лечат с таким усердием, что подрывают самые основы здоровья. Хотя часть симптомов аутизма действительно может проявляться на первом году, судить об этом с уверенностью, которая диктует использование специальных мер, трудно. Уместнее исходить из того, что в это время закладываются основы общения, нуждающиеся в поддержке, особенно если есть какие-то внушающие опасения признаки.
Слово воспитание часто связано с ограничениями, накладываемыми на ребенка, чтобы из него не выросло бог весть что. Взрослые ведут себя так, будто природа ребенка – это зло, с которым надо бороться. Поэтому даже прекрасный совет воспитывать с первого дня жизни воспринимается как призыв не баловать ребенка лишним вниманием. Родителям кажется, что если часто и подолгу держать его на руках, откликаться на первый плач, они научат его манипулировать ими. По крайней мере в отношении первых пяти месяцев это не соответствует реальному положению дел. В это время развитие совершается прежде всего как развертывание врожденных программ, требующих максимального комфорта и поддержки. Перелюбить, избаловать еще невозможно, а вот недодать любви и поддержки очень легко.
Ранний телесный контакт матери и новорожденного обычен в большинстве старых традиций. Осознавать же его значение для развития ребенка и формирования отношений «мать – ребенок» начали лишь во второй половине XX века. Последние 2–3 месяца перед рождением плод живет в теплой среде, которую ощущает всем телом и в которой воспринимает голос матери и звук материнского сердца (уже в первые часы после рождения младенец безошибочно отличает их от любых имитаций). Быть в тесном телесном контакте с матерью значит в какой-то мере жить, как прежде, быть в комфорте, не испытывать тревоги. Это первый шаг в формировании того, что Э. Эриксон назвал базовым доверием и с чем связывал будущее отношение к миру и людям. Матери это дает возможность быстрее и лучше адаптироваться к материнству и ребенку, становиться матерью не только по факту рождения ребенка, но и по эмоциональной связи с ним. В первые полгода жизни потребность младенца в таком контакте очень велика и должна удовлетворяться точно так же, как удовлетворяется потребность в пище, тепле. Сам младенец рассказать этого не может, но специальные исследования показывают, что отлучение в этом возрасте от матери плохо сказывается на темпе и качестве развития ребенка проявляется в ключевых сторонах его взрослой жизни.
В 2–3 месяца ребенок начинает улыбаться при виде человеческого лица. Счастливым родителям приятно думать, что малыш узнает их и улыбается им. Однако он будет точно так же улыбаться и изображению лица, а не самому лицу. Как бы то ни было, улыбка заражает и заряжает родителей – они больше разговаривают с малышом, вовлекаясь сами и вовлекая его в интересную игру: он улыбается при виде лица и звуках голоса, а улыбка привлекает родителей и вызывает обращенную к нему речь. Майя Ивановна Лисина – автор фундаментальных исследований развития общения у детей – замечала по этому поводу, что родители оценивают как общение то, что общением еще не является, они видят то, чего нет, но именно благодаря этому забеганию вперед они лепят общение.
Матери аутичных детей, вспоминая об этом времени, рассказывают о безразличных или отрицательных реакциях на человеческие лицо и голос. Они говорят, что ребенок смотрел сквозь них, следил за игрой солнечных пятен на стене и не обращал внимания на людей, а то и начинал беспокоиться в их присутствии. У первенца это бывает трудно увидеть и верно оценить – в этом часто могут помочь те, кто обладает более солидным родительским опытом, или специалисты. Что можно делать? Даже для совершенно благополучных детей советуют не злоупотреблять способными напугать погремушками, а подвешивать на расстоянии 15–20 см от лица ребенка сделанное на картоне схематическое изображение лица человека. В 5–6 месяцев его можно заменить небьющимся зеркалом, в котором малыш сможет видеть свое лицо. Реакции на то и другое обычно такие же, как на живое человеческое лицо; у безразличных к лицу созерцание изображения помогает заинтересоваться им, улыбнуться в ответ, потянуться к нему.
Крайне важно разговаривать с младенцем. Здесь важно даже не содержание, а тон, интонация – что-то теплое, ласковое, о любви к нему. Иногда придется перепробовать не одну манеру разговора, чтобы нащупать ту, на которую младенец лучше реагирует. Если реакции нет, не прекращайте попыток. «Он долго как бы не слышал меня, – рассказывает мать. – Я уже и так, и этак – ноль внимания. Но как-то я вдруг начала напевать свое обращение к нему на мотив одной из песен Окуджавы, которую без конца слушала во время беременности, и он улыбнулся!»
Реакции младенца могут быть связаны с тем, что поведение родителей вступает в конфликт с особенностями его темперамента; кажущегося слишком спокойным и вялым пытаются всеми способами растормошить, подвижного и неспокойного – ограничить. Маленьким обломовым и штольцам это не приносит ничего, кроме дискомфорта, которого они начинают избегать как умеют. Чтобы не допустить этого, подходит зондирующее поведение, помогающее мягко согласовать стремления родителей и реакции малыша.
В ходе таких поисков мы учимся принимать ребенка таким, какой он есть, прислушиваться к тому, что он сообщает своим поведением, поддерживать ростки его общения.
В 7–8 месяцев может тревожить необычное поведение ребенка при попытке взять его на руки: не тянется, не льнет ко взрослому, не смотрит в лицо, ударяет или кусает. Изменить это, щадя ребенка и не беря его на руки вообще или, наоборот, тренируя и не спуская с рук, обычно не удается. В первом случае ему не хватает внешних раздражителей, во втором их так много, что с ними не справиться. Прежде всего имеет смысл попытаться понять, нет ли каких-то причин для такого поведения: мать сменила духи или крем, надела что-то пахнущее «антимолем» и т. д. Если подобных причин нет, то можно прибегнуть к методу аккомпанирования – создавать приятный ребенку фон для своих действий (музыка, песенка).
Что делать, если малыш поднимает крик при каждом включении пылесоса, стиральной машины, кофемолки, блендера? Этим звукам трудно аккомпанировать, но иногда таким аккомпанементом может быть взятие на руки, поглаживание. Можно воспользоваться методом десенсибилизации (снижения чувствительности): переходить от звуков приятных к нейтральным и лишь затем к раздражающим – это постепенный процесс. Его можно сочетать с аккомпанированием: аккомпанируя чем-то приятным жужжанию вентилятора, затем жужжанием и аккомпанементом – звуку фена и т. д. Здесь открывается широкий простор для творчества родителей, которое, однако, не должно стать самоцелью, а ребенок – только подопытным кроликом.
Изнурительны для взрослых нарушения ритма сна и бодрствования. Днем еще как-то удается справиться с беспокойным поведением, но ночь становится пыткой. Некоторым детям нужны особые условия сна (свет, освобождение от пеленок или, наоборот, более мягкая или жесткая постель). Других беспокоят ставшие привычными и незаметными для родителей звуки за окном, в водопроводной системе или доносящиеся от соседей. Третьим нужно изменить рацион или режим кормления. Когда ничего не помогает, можно вспомнить о существовании врачей. Если и им не удается отрегулировать сон, взрослым остается лишь научиться переживать это как можно с меньшими потерями для себя. Самостоятельное использование лекарств небезопасно – они могут у этого ребенка или в этом возрасте давать побочные эффекты. Никаких гарантированных способов не существует, все дело в терпении и поиске.
В конце концов, лишь дальнейшее развитие покажет, были ли опасения на первом году обоснованными. Но отношение к ребенку, ориентированное на помощь и поддержку развития основ общения, способно быть ранней помощью, от которой в немалой мере зависит последующее развитие.
От года до семи
Начинается второй год жизни, когда развитие обычных детей очень показательно – сам пошел, пытается говорить фразами, усложняются игры… То, что раньше казалось мелочью или оставалось незамеченным, теперь начинает обращать на себя внимание и тревожить все больше, хотя совсем не всегда легко рассказать, что же именно в ребенке не так и не то. Возникают первые мысли об обращении к врачу, но страх удерживает и душа еще не хочет мириться с подозрениями о неблагополучии. Однако время идет, и к 2–3 годам уже ясно, что без помощи не обойтись. Семья вступила в самый сложный и решающий период. Психика и личность только формируются. Они необычайно гибки и чувствительны, так что и сравнительно небольшие усилия могут приносить поразительные результаты. После 7–8 лет ситуация меняется – способность мозга и психики к компенсации и изменению становится меньше. Значит сейчас самое время действовать.
Обучение и научение
Сможет ли ребенок пойти в школу? Как его обучать? Вот еще один пласт волнующих вопросов. Они совершенно закономерны, потому что в современной жизни образование расценивается как один из важнейших элементов подготовки к ней. Усилия родителей направляются прежде всего на те стороны развития, которые кажутся необходимыми для подготовки к школе. В слове обучать видится прежде всего его школьный смысл – обучать письму, чтению, счету и т. д.
Такому академическому крену способствует и неравномерность умственного развития. Даже при отставании развития механическая память, склонность рассуждать и анализировать становятся знаками, обнадеживающими родителей и подсказывающими им, что обучение в этом направления будет идти легче. Но диктуемое этим обучение часто создает не столько успех, сколько его видимость.
Обучить и научить – не одно и то же. Обучить – предоставить информацию, объяснить. Научить – выработать навык практического действия. Огромному количеству вещей в жизни мы именно научаемся, а не обучаемся. Научение предполагает совершенствование собственного опыта достижений и неудач. Так мы учились качаться на качелях, ездить на велосипеде…
Крен в сторону обучения создает для аутичного ребенка двойственную ситуацию. Во-первых, отдельные способности (память, счет и др.) еще не интеллект в полном смысле этого слова, и академические нагрузки могут оказаться просто не по зубам. Во-вторых, даже достаточно широкие академические знания могут сочетаться с затрудняющими обучение двигательными и пространственными нарушениями, проявляющимися в неумении держать карандаш, писать, располагать написанное на листе и т. д. В-третьих, при всем его уме ребенку трудно вписаться в школьные режим и отношения.
И даже если мы достигнем самых больших успехов в академическом обучении, ребенок рискует остаться мало или неприспособленным к жизни в самом простом бытовом смысле. Самому одеться и раздеться, поддерживать порядок в своем уголке, помочь накрыть на стол, участвовать в покупках вместе со взрослым, убираться в доме – все это такие простые вещи. Но как раз эта простота для аутичного ребенка и сложна. Научение жизненным навыкам первой необходимости – это не только подготовка к самостоятельной жизни, но и важная школа двигательной координации, практической сообразительности, самостоятельных действий и отношений. И это игра, в которую очень легко ввести элементы обучения, не усаживая ребенка за парту, а подстраиваясь к его особенностям, давая ему свободу реализовать свой потенциал наилучшим для него способом. В сегодняшнем мире информации и технического прогресса мы забываем, что умный, как сказал Ганс Фаллада, не тот, кто знает, как делаются макароны, почему летают самолеты и другие подобные вещи, а тот, кто умеет жить с людьми. Вот этому-то умению жить с людьми как раз и приходится уделять самое большое внимание. Строго говоря, это не специфика воспитания только аутичного ребенка. Ведь и обычные дети, прежде чем научиться читать и считать, осваивают множество навыков практической жизни. Обучение аутичного ребенка гораздо легче и эффективнее, когда оно растворено в обычной жизни и сочетается с научением. Мало просто сказать: «Это правая рука, а это левая» – может оказаться необходимым много раз поднять при этом руку ребенка своей рукой, дотронуться до нее и т. д.
Это же так просто – держать в руках карандаш или вилку и действовать ими! Просто, если мы уже умеем это. Учиться сложнее. Вот как говорит об этом Милтон Эриксон – один из крупнейших психотерапевтов: «Я учился вставать дважды: первый раз ребенком, а второй – когда мне было 18 лет. В 17 меня полностью парализовало. У меня была совсем крошечная сестренка. Я наблюдал, как она ползала и как встала на ножки… Первым делом надо ухватиться за что-то и, подтянувшись, выпрямиться. Затем рано или поздно… вы обнаруживаете, что можете частично перенести вес на ногу. Затем выясняется, что колено подогнулось, и вы шлепаетесь. Тогда вы снова подтягиваетесь и пытаетесь встать на другую ногу, но и это колено подгибается. Еще немало времени пройдет, прежде чем вы научитесь распределять вес на обе ноги и выпрямлять колени. Предстоит научиться расставлять ноги и не скрещивать их, потому что на скрещенных ногах не встанешь. Надо научиться расставлять ноги как можно шире. Но когда вы выпрямите колени, ваше тело вас опять подведет – вы прогнетесь в тазу. Потребуются изрядное время и усилия, чтобы научиться выпрямлять колени, расставлять ноги, держать прямо таз и все это – ухватившись за край манежа. У нас четыре точки опоры – две ноги и две руки. А что произойдет, если вы поднимете левую руку? Вы шлепнетесь на мягкое место. Это большой труд – научиться поднимать эту руку; и еще больший труд – вытягивать руку вперед, потому что тело следует за рукой. Потом вы двигаете рукой так и эдак. Нужно научиться удерживать равновесие при любом движении руки. Потом вы учитесь управлять другой рукой, а затем надо научиться координировать движения рук с движениями головы, плеч и всего тела. И, наконец, вы стоите, и обе руки свободны. Теперь скажите, как вы встаете на одну ногу? Это сложнейшая задача, потому что, когда вы пытаетесь сделать это в первый раз, вы забываете держать колени и таз прямо – и шлепаетесь. Через какое-то время вам удается перенести весь ваш вес на одну ногу – и вы выставляете другую вперед центр тяжести в результате перемещается – и вы падаете. Вы долго еще учитесь выставлять одну ногу вперед. Наконец, вы делаете первый шаг, и это выходит у вас весьма недурно. Тогда вы делаете второй шаг, но уже не так удачно, затем третий и опускаетесь на пол. Придется еще немало потрудиться, чтобы научиться топать правой, левой, правой, левой».
Каждое простое действие требует такого научения, в котором механическое запоминание двигательных шаблонов играет большую роль. Аутичный ребенок, у которого целостное восприятие страдает, вестибулярный аппарат часто несовершенен и двигательная координация не слишком хороша, запоминает целостные комплексы движений труднее и нуждается в детальном разучивании – как учат гаммы. Можно, как мы уже говорили, просто совершать нужные движения его руками и делать это до тех пор, пока вы не почувствуете, что пальцы (или руки, ноги) подключаются к вашим движениям и начинают опережать их, действовать без вашей помощи.
Но механическая память может становиться и помехой, создавая лишь видимость усвоения, овладения навыком. Обычно это происходит с теми видами действий, где важны не только они сами, но и некоторые правила действования, понимание, интуиция. Если, например, мы пытаемся научить ребенка строить несложные фигуры из кубиков или собирать пирамидку и показываем, как это сделать, он может очень быстро начать воспроизводить показанное. Но замените размер кубиков или форму пирамидки, поменяйте их окраску – и, возможно, вас будет ждать разочарование. Он не ухватил принцип, правило. Чтобы научить им, требуется бездна терпения для подстройки к ребенку, стимуляции его собственной активности. Отдельным навыкам можно и нужно учить. Но жизнь требует колоссального количества таких навыков, и научить им, разучивая каждый по отдельности, едва ли возможно: в мозаике самостоятельного поведения будет все время не хватать то одного, то другого. Однако гибкое сочетание обучения и научения, взаимодействия и воздействия, урока и игры позволяет создавать такую атмосферу, в которой ребенок может сам связывать знания и навыки, постигать правила, помогающие осваивать новые навыки.
Никто не знает историю развития ребенка так хорошо, как родители. Это знание может помочь уделять внимание развитию тех навыков, которые у этого ребенка ложатся в основу формирования цепочки новых, и поддерживать данное формирование. Когда удается достичь сдвигов в общении, такие действия, как приветствие, прощание, выражение чувства, осваиваются много легче – ребенок подхватывает мелодию обучения, заданную взрослыми. В начале школы у многих детей возникают трудности с расположением заданий в тетради, соблюдением полей. Каждый из этих моментов может стать предметом специального обучения и научения, которое потребует усилий и времени. В то же время помощь в освоении пространственной ориентации (право – лево, знание окрестностей, оценка расстояния до предмета, бросание мячика в цель) способна сделать специальное обучение работе в тетради более легким.
Испорченный телефон
«Что мы только ни делали – все впустую, от него ничего не добиться!» – довольно типичная жалоба. Что за ней?
При всем том, что тяжесть аутизма может быть очень разной, взаимодействие с подавляющим большинством детей все-таки возможно. Когда оно не удается, мы слишком часто ищем причину в особенностях состояния ребенка, но не в своих действиях и поведении. Между тем дело часто и в нас. Родителям бывает очень трудно сделать поправку на то, понял ли их ребенок и насколько. Они видят и болезненно переживают его отличия от других, но им трудно представить себе, как он воспринимает и понимает то, что они говорят и делают. Не только трудно, но и больно.
Пятилетний мальчик испытывал непреодолимую страсть к играм с водой. Он заливал ванную и кухню, мог играть с водой в унитазе и, к ужасу родителей, даже пить из него. Он забирался в каждую лужу на улице и порывался открыть все попадавшиеся на глаза краны. Пока эти игры оставались в рамках, понимавшие их неизбежность родители относились к ним терпимо. Беда была в том, что они не успевали уловить критическую точку игры, за которой игра уже выходила за рамки. А когда это случалась, следовало наказание. Реакция на него поражала и часто сердила еще больше: он смеялся в ответ! Дело дошло до того, что, нагрешив очередной раз, он бежал к матери и, точно повторяя обычные ее слова: «Опять потоп! Горе ты мое луковое!», радостно хохотал. Родители не могли понять, что творится.
Попробуем взглянуть на происходящее глазами самого ребенка. Игры с водой ему очень нравятся, но как же трудно понять, почему за них вдруг наказывают! Подчинить игры непонятным правилам дозволенного и недозволенного он еще не может. Наказание приходится на пик игры, когда удовольствие от нее максимально, и воспринимается как продолжение игры, в которую включается и реакция родителей. Что, если дать ему возможность играть, не вызывая недовольства? Ему стали устраивать ежедневные получасовые купания в ванне, во время которых он мог делать все, что ему угодно, а попытки выходящих за рамки игр вне купания пресекались мягко, но решительно. Спустя несколько недель проблем стало значительно меньше.
Четырехлетняя девочка очень любила рвать в мелкие кусочки бумагу. Она ухитрялась добраться даже до книжных полок, специально поднятых выше ее роста, изорвала случайно оставленные на столе деньги, а о забытых взрослыми газетах и говорить не приходится. Бабушка ничего не могла с ней поделать и лишь пугала девочку: «Вот подожди – мама придет с работы и накажет!» Результатом стал панический страх прихода матери – из всего происходившего девочка усвоила лишь то, что за приходом матери следует наказание. Это и неудивительно, потому что ей было не по силам связать наказание с тем, что происходило задолго до прихода матери. Приход матери стал наказанием! Вместо одной трудности – две! Выход был найден не сразу. Мы начали с того, что мать, приходя домой, всегда имела с собой несколько листков бумаги. Девочка могла рвать принесенные листки и даже получать дополнительные, если клочки разорванных были собраны. Затем ей показали, как сметать клочки в совок. Это занятие пришлось ей по душе – и она стала участвовать в уборке квартиры. Страх перед приходом мамы постепенно исчез. Бумагу девочка продолжала рвать, но много меньше и реже.
Аутичность мешает обычными способами (спросить, уточнить) убедиться в том, что ребенок нас понял, что мы понимаем его поведение, а не просто оцениваем его удобность или неудобность для нас. Любой ребенок теряется, если действия взрослых непонятны или противоречивы. Если за одно и то же раз поцелуют, а другой накажут, он оказывается в ситуации «черный, белый – не бери, да и нет – не говори».
Приходится, особенно поначалу, напоминать себе, что ребенок не злонамерен, а просто не может, не умеет иначе и у него есть свои переживания и мотивы, отнюдь не направленные на то, чтобы сделать плохо или насолить нам. В его поступках и поведении есть какие-то пока скрытые от нас смысл и значение. Проникая в них, мы лучше понимаем, что ему мешает вести себя более подходящим образом и, стало быть, помогать ему. Ну а если все же не понимаем? В любом случае лучше действовать, исходя из того, что каждый поступок ребенку для чего-то нужен, что-то дает ему и несет в себе какой-то важный для него смысл, пусть и непонятный для нас. Обращаясь к нему, мы принимаем реальность такой, какая она есть, и можем пробовать быть понятнее. Форма и содержание общения еще далеки от идеала, но это уже общение.
В меняющемся мире
Даже здоровый взрослый, страдающий от монотонности жизненной рутины и ищущий новых впечатлений, нуждается в сохранении чего-то привычного как ниточки, связывающей вчера и сегодня. В чемодане или кармане путешественника всегда есть какая-то милая мелочь, играющая такую роль. Дети стремятся взять на прогулку какую-то игрушку, принести в детский сад что-то свое.
Можно представить, как должна быть сильна такая потребность у аутичного ребенка. Ведь даже в привычном окружении для него скрьно много непонятного и пугающего, а изменения вызывают страх и напряжение. Пока окружающий мир не открывается свободно и полно, а воспринимается как пугающий хаос, стремление противиться изменениям и находить успокаивающую поддержку в сохранении неизменности окружения будет сохраняться и осложнять жизнь. Но, защищая от неприятных переживаний, непереносимость изменений одновременно сужает и ограничивает мир, в котором живет ребенок, становясь барьером на пути развития. Поэтому преодоление сопротивления новому не только облегчает жизнь семьи, но и расширяет перспективы ребенка.
В этом могут помогать уже упоминавшиеся приемы аккомпанирования и десенсибилизации.
Один из моих пациентов к 3,5 года не ел ничего, кроме жидкой белой каши. Любая другая пища вызывала бурный протест. Мать все же не теряла надежды и каждый день старалась предложить ему что-то новое, что его, возможно, привлечет. Он стал бояться времени кормления, вообще не шел к столу. Я попросил мать на некоторое время оставить мальчика в покое – пусть с удовольствием ест то, что любит. Через некоторое время она начала постепенно день за днем делать манную кашу более густой. Если она видела появляющуюся настороженность, добавка на несколько дней прекращалась. Затем так же постепенно понемножку она стала добавлять в кашу другие протертые крупы и продукты. Каждый день «неполноценного» питания казался ей трагическим, добавки – микроскопическими и едва ли способными изменить стиль питания, но она продолжала, и через какое-то время уже не приходилось при каждом ее визите обсуждать эту проблему – она втянулась и выполняла намеченную программу. Когда мы позже вернулись к вопросу о питании, меню было уже гораздо более широким и вполне терпимым.
Аккомпанируя новому чем-то привычным и приятным (надо только быть уверенными в том, что аккомпанемент действительно приятен ребенку, а не вам), часто удается ввести ребенка в новую ситуацию менее заметно для него, без особых страхов и протестов. Сочетание аккомпанирования и десенсибилизации, когда очень неспешный подступ к новому совершается под защитой привычного и приятного, открывает более широкие возможности. Для этого совсем не обязательно всегда делать что-то особое. Находка одной из матерей сводилась к тому, что она вешала где-нибудь в стороне новую одежду для ребенка, не пытаясь ее надевать – он категорически отказывался надевать что-то новое. Она давала ему время ввести новую одежду в его картинку мира. Иногда он оказывался рядом с одеждой, иногда трогал – первые реакции настороженности вскоре исчезли. А мать переместила одежду поближе к месту его игр. Так за несколько месяцев они пришли к тому, что он смог надевать ее. В другой семье вещи покупали в двух-трех экземплярах на вырост, и постепенно появилась возможность менять сначала детали одежды, потом саму одежду, потом привносить в нее новые элементы.
Как правило, даже ждущие от специалистов гарантирующих успех способов поведения родители сами придумывают множество приемов, подходящих именно для их детей. Они хорошо понимают, что пугает ребенка не только сам факт новизны, но и вполне определенная деталь, какой-то признак нового.
Иногда помогает случайность, если, конечно, родители могут ее использовать. Четырехлетний малыш упорно протестовал против появления в комнате сервировочного столика на колесах, и мать вынуждена была держать его в довольно тесной кухне. Как-то она застала сына играющим с водой в стоящей на столике миске. Она чуть откатила столик, и мальчик передвинулся вслед. Тогда она, ни слова не говоря, потихоньку повезла столик в комнату так, чтобы мальчик легко успевал за ним, не переставая играть. Через несколько минут он уже играл в комнате, а когда он закончил игру, осталось только убрать миску.
Даже в самых благополучных случаях настороженность по отношению к новому сохраняется, не исчезая полностью. В более старшем возрасте это принимает форму консерватизма жизненных правил и привычек, некоторого педантизма. Ганс Аспергер образно говорил о «ностальгии кошек» – привязанности детей не столько к людям, сколько к помещению и привычным вещам.
Одной борьбы с сопротивлением новому недостаточно. Оно отражает повышенную потребность в упорядочении картины мира и определенности, приносящих чувство безопасности. Невозможно подчинить этому всю жизнь семьи, но лучше, если в ней присутствует та степень упорядоченности, которая дает возможность ребенку чувствовать себя увереннее.
Ритуалы и стереотипии
Ритуалом может стать практически любое действие. Самые простые ритуалы, как мы уже говорили, восполняют недостаток информации из окружающего мира. Это могут быть раскачивания из стороны в сторону или вперед-назад, пробежки, прыжки, кружение, онанизм т. д. Близко к ним излюбленное аутичными детьми качание на качелях, где они проявляют неожиданную ловкость и координированность. Все эти действия приносят массу ощущений, дают возможность чувствовать, ощущать, переживать себя. Такие ритуализованные стереотипии могут наблюдаться даже у здоровых взрослых в условиях монотонной и обедненной жизни. Кто из нас не ловил себя, например, на раскачивании в моменты погружения в себя, задумчивости, когда мы как бы отключаемся от окружающего мира? Потребность аутичных детей, чьи связи с миром крайне ограниченны, в такой самостимуляции значительно выше.
Другие стереотипии и ритуалы более сложны и содержательны. За ними можно уловить какие-то события, лежащие в их основе, например связанные со страхом. Внешне они могут быть очень похожи на навязчивости – биение себя по голове в состоянии раздражения, многократное мытье рук и т. д.
Но так или иначе, прежде чем пускаться в борьбу со стереотипно-ритуальным поведением, имеет смысл вспомнить и подумать о том, что в нем проявляется пусть и необычная, но все же форма приспособления к миру. Это предохранит от тотальной войны против стереотипий и ритуалов и позволит обращаться к тем из них, кто вносит непереносимо много неудобств в жизнь семьи или создает опасность для самого ребенка. Иными словами, речь идет не о закрытии театра ритуалов, а о его репертуаре. Много раз я видел, как при попытках полностью блокировать этот тип поведения дети становились практически неуправляемыми.
Прервать ритуал трудно. Он потому и ритуал, что должен быть выполнен в полном объеме и именно таким образом. Если родители решают бороться с тем или иным проявлением стереотипно-ритуального поведения, им придется набраться выдержки и упорства. Американский психолог Уитмер описал в 1919 году историю Дона, который не расставался с игральной картой. Если ее отнимали, он до крови расцарапывал себе лицо. Уитмер посоветовал няне отобрать карту и мягко, но решительно удерживать руки Дона, не давая ему царапать лицо. Она держала его руки несколько часов. Иногда она освобождала их, но едва Дон тянулся к лицу, снова захватывала и держала. Спустя несколько часов он уже мог оставаться без карты, не царапая лицо. После этого преодоление других ритуалов шло уже легче. Вмешиваться лучше в самом начале установления ритуала. Принципиально важно, чтобы вмешательство было доведено до конца. Как ни трудно перенести вызывающие жалость протесты ребенка, необходимо, если уж начали, оставаться непреклонным и решительным, но мягким. Эта процедура не терпит раздражения взрослого и должна выполняться со всей возможной любовью. В ней ребенок совершает маленький, но принципиальный шаг в развитии – убеждается в том, что без ритуала можно жить, а родители не злы. Если родители по каким-то причинам (из жалости или надеясь, что «дальше сам поймет», или отозвавшись на телефонный звонок) уступают, они тем самым показывают ребенку, что у него есть шанс, что он сильнее их, невольно побуждая к продолжению сопротивления.
Успех не должен побуждать родителей злоупотреблять своей силой, становясь ожившей фигурой Самсона, разрывающего пасть льву. От менее хлопотных или опасных ритуалов можно просто отвлекать – дав какое-то время понаслаждаться ими, попытаться переключить на что-то интересное. Какое именно время? Оно для каждого ребенка разное, у каждого есть свой предел, за которым ритуал становится уже ненужным, и свои признаки, по которым это можно заметить. Это самое удачное время для попытки отвлечь, переключить. Обычно не приходится экспериментировать слишком долго – все это известно по опыту, и нет смысла спешить. Лучше несколько позже, но эффективнее.
Часть ритуалов можно попытаться перевести в игру, наполняя ритуальную форму игровым содержанием. Ольга Сергеевна Никольская приводит такой пример. Часами ребенок может кружиться с поднятыми над головой руками. Взрослый, находясь на расстоянии, никак специально не привлекая к себе внимания ребенка, начинает тоже кружиться, очень-очень постепенно и осторожно приближаясь и дожидаясь, пока ребенок обратит на него внимание. Тогда, продолжая кружение, негромко нараспев начинает приговаривать: «Мы деревья. Мы большие высокие деревья. Вот как качаются наши ветки», стараясь удерживать внимание ребенка и не спугнуть. Он ничего не требует от ребенка – просто кружится, постепенно приближаясь, пока не начнет чувствовать, что ребенок кружится уже не просто рядом, а вместе с ним, подключается к предложенной игре. Используя приемы такого рода, можно переводить многие ритуальные формы в игры и бытовые навыки.
Справляясь с одними ритуалами, надо быть готовыми к возникновению других – пока есть потребность, будут находиться все новые и новые формы. Недавно освоенные навыки могут становиться ритуалами: один без конца моет посуду, другой метет пол, третий чистит зубы. Эти ритуалы чаще временны и не требуют особых усилий для преодоления – их вытесняют новые обретенные навыки, нуждающиеся в закреплении, автоматизации и одновременно успокаивающие. Но надо потерпеть, дождаться…
Склонность к ритуализации можно использовать для выработки практических умений. Когда привести ребенка к осознанному и правильному поведению не удается, повторные показы или – часто это лучше – выполнение действия вместе приводит к его усвоению и возможности пользоваться им в нужных ситуациях или при напоминании. Но прививаемый таким способом навык должен быть законченным, так как усвоенный лишь отчасти и ритуализованный в таком виде, он потом трудно поддается доделке и переделке. И, конечно, важно привязывать формируемые навыки к ситуациям или сигналам, чтобы ребенок не использовал жест прощания вместо приветствия или не смахивал крошки со стола сапожной щеткой.
С какой-то частью ритуалов так ничего и не удается поделать. Все, что тогда остается, это пытаться контролировать их время, место и интенсивность, чтобы они не совершались на людях, не затягивались надолго. Если все же это случается, дайте ребенку закончить ритуал: это его лекарство, без которого сюрпризы поведения могут быть более впечатляющими.
Разрушитель
«Он передвигается по квартире, как тайфун, там, где он прошел, все разбросано или сломано», – рассказывает мать. «Кажется, что все ломается от одного его взгляда», – говорит другая. Действительно, за многими детьми не уследить – за ними стелется след разрушений: разбитая посуда, разорванные книги, потоп в ванной, перевернутая ваза…
В одних случаях это проявление раздражения в ответ на неудачу. Пришедший на помощь взрослый, который поможет добиться успеха и поощрить этот успех, сделает для ребенка больше, чем раздраженно-утешающий, порицающий или наказывающий.
В других случаях – гораздо чаще! – это проявление недостаточной координации, неумения играть. Ребенок, можно сказать, играет даже не предметами, а отдельными их свойствами: кастрюля – гремит, вода – льется, ключи – постукивают, песок – сыплется, бумага – рвется. То, что нравится, он будет повторять подолгу, каждый раз заново получая удовольствие от получаемого эффекта. Такие игры довольно просты и кажутся взрослым то примитивными, то разрушительными. Зачем, скажем, толкать кастрюлю в чашку? Сделавший это пациент пришел в восторг, видя, как мама вставляет вымытые кастрюли одна в другую. Вкладывание предмета в предмет стало любимой игрой. В ход шло все, до чего он мог добраться. Одна беда – он еще плохо отличал большое от маленького, а потому пытался запихнуть кастрюлю в чашку, большую коробку в маленькую, порезал руки, заталкивая чайный стакан в кофейную чашечку. Он ничего не хотел разрушать, этот мальчик. Каждый раз, когда очередная вещь ломалась, он ужасно сердился и огорчался.
На разрушительные игры можно смотреть по-разному. Да, они доставляют много хлопот и сожалений. Но в них могут изучаться свойства предметов и мира. Эти игры свойственны и обычным детям, стремящимся узнать, что там внутри куклы или машины, разрисовывающим новые обои или обдирающим их клочок за клочком. Едва ли кто-то из детей минует этот этап. Но у аутичных детей он наступает позже, и не соответствующее возрасту поведение приносит больше неприятностей.
Если желательно, чтобы собственное место для игр и игрушек имел каждый ребенок, то для аутичного оно обязательно. Пусть игрушек будет не слишком много и пусть они будут простыми и прочными. Нет смысла в картонных кубиках с малопонятными рисунками, а вот цветные пластиковые будут в самый раз. Хороши игры с глиной, пластилином, песком, водой. Сейчас в продаже есть импортный пластилин – разноцветный и яркий, он сделал из нетоксичных материалов (его можно даже есть), легко отмывается, удаляется из волос. Если в большую корзину насыпать много мелких пластиковых шариков, получится отличный сухой бассейн. Там, где ребенок спит и играет, стены лучше покрасить легко моющейся краской – они могут служить отличной доской для рисования.
Если такой игровой уголок есть, остальную часть дома легче оградить от разрушительных экспериментов. Конечно, ребенок не может безвылазно сидеть в этой золотой клетке, да это и не нужно. Но разрядка и удовольствие, полученные в своем уголке, успокаивают и улучшают поведение в других местах.
Страхи
Пугать и напугать аутичного ребенка может все («Даже то, что не может», – добавил в разговоре со мной один из отцов). За большинством страхов так или иначе кроется неспособность достаточно объемного видения мира. Столкнувшись с предметом или даже его свойством и испытав неприятные ощущения и переживания, ребенок начинает их бояться и избегать. Повышенная готовность к образованию стереотипий быстро закрепляет страховое поведение. Часто и страх сам по себе давно прошел, а страховое поведение сохраняется. В три года мальчик споткнулся и ушибся; он падал и ушибался потом много раз, но в тот двор, где он ушибся впервые, его привести было невозможно: «Я физически ощущаю его ужас», – говорит мать, уже сама обходя этот двор.
Если страх стал просто привычкой, то справляться с ним приходится так же, как с любой другой привычкой. Способность родителей наблюдать и понимать ребенка, импровизировать, используя ресурсы ситуации здесь и сейчас, играют решающую роль.
Один из детей панически боялся открытого портфеля. Этот страх очень помешал установлению контакта между нами: к несчастью, на первом приеме около моего стола стоял открытый портфель, и на последующих приемах мальчика с трудом удавалось ввести в кабинет. Появление страха было связано со временем, когда у него установился контакт с матерью, а она как раз должна была выйти на работу. Перед уходом она открывала портфель, чтобы сложить необходимые вещи и бумаги. Уже на второй день ее работы мальчик отреагировал на открытый портфель сильным страхом и протестом. Когда мать возвращалась с работы, он всячески стремился убрать портфель в шкаф. Давно уже он мог спокойно оставаться без матери, но страх открытого портфеля сохранялся. Я не стал прятать от него свой портфель, но каждый раз из портфеля выглядывало или вынималось что-то, что могло быть интересным для него – веревочка (он очень любил крутить веревочки) или конфета. Мать стала собирать портфель вечером, когда мальчик уже спал, и оставлять его в прихожей. Утренние сцены вокруг открытого портфеля прекратились. А возвращаясь, она каждый раз приносила и на глазах у мальчика доставала из портфеля что-нибудь, что ему нравилось. Сначала он пугался, но любопытство брало свое и открытый портфель привлекал его все больше. Он осмелел и стал сам подходить к портфелю, чтобы достать веревочку. Видимо, мы с матерью переусердствовали – он стал открывать любые портфели в ожидании приятного сюрприза, а не найдя его, плакал. Кроме того, далеко не всем нравилось такое его поведение. Пришлось пойти на решительное пресечение покушений на чужие портфели, а дома организовать игры с фокусом – портфель можно было открывать сколько угодно, но сюрпризы в нем были разные и все реже и реже, а потом исчезли. Но в то же время они стали находиться где-нибудь в других местах. Проблема открытого портфеля была решена.
Когда ребенок понимает речь, можно прибегнуть к внушению с использованием механизма запечатления (у аутичных детей это может быть даже легче, чем у обычных, благодаря прекрасной механической памяти и склонности к формированию стереотипов). Мальчик в возрасте 6,5 года не ел ничего, кроме картофеля фри и особого сорта сосисок. Мы с родителями воспользовались его излюбленной фразой «Я большой». При каждой возможности родители в разговорах между собой, прямо не обращаясь к ребенку, вставляли что-нибудь типа: «Ты уже большой/ большая и можешь есть все». Они изменили способ накрывать стол: если раньше пища раскладывалась по тарелкам, то теперь она выставлялась в центре стола, каждый мог взять то, что хочет, и только мальчику по-прежнему клали на тарелку его любимую картошку с сосиской. И наступил день, когда он потребовал что-то с общего блюда. Дальше оставалось мягко поощрять изменения.
К страхам ребенка присоединяются страхи родителей, и не всегда понятно, у кого они сильнее. Меры по предупреждению страхов у ребенка порой достигают гигантских масштабов и сами способны поддерживать страх. Некоторые родители воспринимают страх как предвестник или симптом психоза – они начинают так бояться детского страха, они так насторожены в отношении ребенка, что создают буквально перенасыщенную тревогой атмосферу вокруг него. Между тем ребенку часто достаточно один раз переступить страх, чтобы он никогда больше не возвращался. Лорна Винт приводит блестящий пример мальчика, который панически боялся ванны. Новая няня, ничего не знавшая об этом, в первый же день посадила его в ванну. Удивленная раздавшимся из ванны смехом вместо крика мать обнаружила его радостно плещущимся в воде. Так же легко няня научила его пользоваться туалетом. У этой няни был лишь один секрет успеха – она не была напряжена сама и вела себя совершенно естественно, не заражая страхом мальчишку.
В зависимости от происхождения, выраженности и содержания страхов возможна одна из трех тактик:
1) сразу показать ребенку, что бояться нечего;
2) постепенно, используя аккомпанирование, десенсибилизацию и другие методы, научить его не бояться;
3) позволять и помогать ему избегать того, что пугает, ожидая, что с течением времени удастся найти удачный подход или страх угаснет сам.
При любой выбранной тактике очень важна уверенность родителей в том, что они делают. Труднее всего начать, но по мере продвижения вперед уверенность возрастает.
Удивительно, что нередко захлестываемые страхами дети не чувствуют реальной опасности и ведут себя до безрассудства неосторожно – могут шагнуть в яму, выйти на дорогу, повиснуть на подоконнике, пытаться потрогать проезжающие машины. Такое псевдобесстрашие держится на незнании и непонимании окружающего мира. Безусловно, это требует не только усиленного надзора, но и обучения элементарным навыкам безопасности – избегать огня, высоты, правильно переходить улицу. Мало рассказать и даже показать – всегда надо убедиться, что ребенок в состоянии делать то, чему мы его учим, в том числе и тогда, когда мы за ним не смотрим. Даже это не может быть абсолютной гарантией безопасности, а потому дополнительные меры предосторожности не будут лишними. Важно учить безопасному поведению, не запугивая и не формируя новые страхи.
Дела житейские
То, что обычные дети осваивают сами или с минимальной помощью взрослых и достаточно легко, для аутичных становится трудной проблемой. Это особенно очевидно в повседневной жизни, в самых простых житейских делах.
Часть детей не может научиться жевать, и приходится постепенно вводить в рацион твердую пищу или даже двигать руками челюсть ребенка, обучая его жеванию. Но и при всех ухищрениях жевание может стать доступным довольно поздно. Иногда, уже умея жевать, но поперхнувшись или подавившись, они снова перестают есть твердое, но тогда уместнее работать со страхом, а не возвращаться к урокам жевания.
Немало хлопот доставляет неумение самостоятельно есть, даже когда ребенок не слишком избирателен в еде и хорошо жует. Обратите внимание на то, что именно вас не устраивает: неумение пользоваться столовыми приборами и вести себя за столом – совсем не одно и то же. Может ли ребенок аккуратно поесть, если ложку держит, как лопату, и не попадает в рот? Можем ли мы ждать, а тем более требовать, чтобы он вел себя за столом «прилично»? Когда ребенок кормится отдельно от взрослых, у него нет возможности наблюдать, как это делают другие, – пусть лучше ест со всеми как умеет. Если он не в состоянии делать нужные для еды движения, можно встать сзади, взять его руку в свою и совершать все нужные движения вместе. Это придется повторить не раз, пока вы почувствуете, что ребенок уже не сопротивляется, уже идет за вашей рукой, уже начинает действовать самостоятельно. Из-за трудностей владения ложкой родители не решаются дать ребенку в руки вилку и долго кормят болтушкой из первого и второго. Это не лучший выход из положения. Можно нарезать второе блюдо заранее и все же дать ребенку возможность учиться обходиться с ним.
Из-за неаккуратности, медлительности или из-за того, что ребенок слишком мало ест, родители нередко сами кормят его. Но так он вообще теряет возможность научиться есть самостоятельно. Кормление с ложки решает проблему сегодня, порождая еще большую проблему на завтра.
Очень полезно привлекать ребенка к помощи в накрывании стола. Для начала хороша клеенка с нарисованными чашками, тарелками, ложками, вилками, подсказывающими, что куда поставить. После еды ребенок может помогать собирать и мыть посуду. В это время можно и чашки посчитать, и цвета рисунков на посуде показывать…
Объяснение и демонстрация на доступном уровне нужны, но ребенку нужно также почувствовать, ощутить всем телом то, что он делает, – включить телесную, мышечную память. Вспомним также, что мелкие движения пальцев рук у аутичных детей не слишком хороши. Поэтому, обучая одеваться и раздеваться, застегиваться и расстегиваться, хорошо обратить внимание на одежду. Она должна быть простой, с крупными пуговицами и широкими петлями. Поначалу чем их меньше, тем лучше. Как и при обучении пользованию ложкой, становимся сзади и мягко, без насилия, но уверенно руководим движениями ребенка, подбадривая его словами, если они не мешают, и не забывая похвалить, когда действие закончено. Так придется действовать до тех пор, пока не почувствуем, что руки ребенка все меньше и меньше нуждаются в наших, и сможем все больше отпускать их на волю.
Одевание и раздевание – что, казалось бы, проще? Но попробуйте взять лист бумаги и написать инструкцию по надеванию и сниманию рубашки для воображаемого человека, который и в глаза-то ее не видел, и вы поймете, как эта простота обманчива. Где у рубашки верх и где низ, где лицевая сторона и изнанка, эти пуговицы должны быть спереди или сзади и т. д.? Всё это отнюдь не простые для аутичного ребенка вопросы. А ведь еще надо понять последовательность действий – сначала голову, а потом руки или наоборот? Просто дать рубашку и сказать: «Надевай» – значит поставить его перед всеми этими вопросами и оставить наедине с ними. Можно использовать одежду с рисунками, различающимися на передней и задней сторонах, или сделать цветные нашивки для передней стороны. Положив одежду так, чтобы ее было удобно надевать, можно направлять движения ребенка, если ему самому они пока не удаются. Все это требует терпения и времени – на такие с виду простые вещи уходят недели и месяцы.
Освоив отдельные действия, но еще не умея использовать их в ансамбле, ребенок продолжает нуждаться в уходе. Рубашка надета – победа! Но она так и осталась не заправленной в штанишки. Лицо моется с похвальной энергией, но на щеках остаются полосы грязи – оказывается, он тер только нос! Для некоторых родителей все это становится знаком того, что внешний вид особого внимания не требует: «Целое, теплое, не промокает – и хорошо, а остальное ему безразлично!» Может быть, сегодня, действительно, безразлично. Но это небезразлично в другом: встречают, как известно, по одежке; и красивый, аккуратный ребенок получит больше поддержки. Со временем это поможет ему больше обращать внимания на свою внешность, станет дополнительным побуждением к уходу за собой. Что же до безразличия к своей внешности, то аутичные дети часто поражают своей тонкой эстетичностью, умеют ценить красоту и гармонию, в окружении которых и вести себя начинают иначе.
Привлечение ребенка к помощи по дому кажется на первый взгляд невыполнимой задачей. Если говорить о помощи ребенка взрослым, это так, по крайней мере вначале. Но я о другом – о помощи взрослых ребенку. Здесь важен сам процесс освоения бытовых навыков. Начинать лучше с малых и самых простых дел, которые по силам. Сразу длинные последовательности действий трудны. Одна из матерей прежде, чем предложить что-то делать ребенку, представляла себе это действие, как в замедленном кино, и, сравнивая потом с этим поведение ребенка, лучше видела, что именно ему трудно.
Дрессировка ради дрессировки («А сейчас будем учиться застегивать пуговки») едва ли будет полезна – все усваивается лучше в контексте жизни и легче становится ее частью, а не разученным номером. При этом ребенок постоянно нуждается в обоснованном поощрении: сначала просто за то, что он делает, потом за то, как делает, потом за то, что делает, за результат.
Он может помогать взрослым в самых разных делах – важно, чтобы это были не скучные уроки, а совместное дело, игра или живой момент жизни, а стало быть – не из-под палки и по возможности радостное занятие. В нем есть возможности продолжать знакомство с миром, сопровождая наблюдаемое ненавязчивыми комментариями: «Это машины», «Это трамвай», «Это дядя идет». Ребенок может внешне не реагировать на них, но на самом деле он слышит и запоминает, соотносит с тем, что уже знает и умеет.
Надеяться на то, что поможет физкультура, не приходится. Она требует от ребенка как раз того, чего ему недостает, – ловкости, хорошей координации и согласованности действий, сознательной целеустремленности. Но внедренные в повседневную жизнь элементы физкультуры совсем нелишни: бегать, прыгать, танцевать, плескаться в ванне или реке, качаться на качелях, копаться в песке, перетаскивать что-то. Езда на трехколесном велосипеде – вполне возможное занятие, которое быстро начинает нравиться. Хороши и детские лыжи, не требующие особо тонкой координации. Столь любимое кружение под музыку может стать основой для своеобразной аэробики.
Дать советы на все случаи жизни невозможно, да и не нужно. Но некоторые основные правила могут быть полезны.
1. Прививаемые навыки лучше усваиваются на базе уже существующих умений. Чтобы играть в футбол, надо уметь бегать, попадать ногой по мячику… Элемент за элементом, шаг за шагом, от простого к более сложному. Простое и сложное не абсолютные понятия, и сложное для одного просто для другого. Важно помочь ребенку овладеть целостным навыком.
2. Каждое освоенное действие и достижение требуют поддержки и поощрения, закрепляющих полученные навыки. В каждой семье есть свои способы поощрения, но всегда важно, чтобы они были своевременны и искренни.
3. Новые навыки лучше вырабатываются при сочетании с уже сложившимися и приятными для ребенка. Лорна Винт приводит хороший пример того, как уже имеющийся навык помогает формированию нового. Ребенок уже различает большое и маленькое, но не различает цвета. Не дальтонизм ли? Нет, он раскладывает пуговицы одинакового размера на кучки по цветам, но не может назвать цвета, взять пуговицу нужного цвета и т. п. Тогда возьмем большой квадрат, например красный, и несколько зеленых разного размера – от маленького до крупного. Ребенку показывают большой красный и самый маленький зеленый квадрат: «Это красный, это зеленый». Затем учат его самого называть цвета и показывать их (это требует повторных опытов). Поскольку красный квадрат большой, а зеленый маленький и ребенок умеет различать большое и маленькое, он справляется с этим. Тогда рядом с красным квадратом выкладывают весь набор зеленых один за одним, начиная с самого маленького, и каждый раз просят указать на красный и зеленый. Где-то в середине этого занятия, когда зеленые квадраты уже достаточно велики, ребенок обычно понимает, что различать требуется цвет, а не размер. Этот момент похож на творческое озарение. После него другие цвета выучиваются при простом показе и назывании. Нарежете вы для такой игры цветные квадраты или осенью во время прогулки используете зеленые и красные листья разного размера – выберите сами, да и одно другому не мешает, а может быть, вы найдете и другие варианты.
4. Обучение и научение тем успешнее, чем точнее мы понимаем, что именно мешает освоению того или иного навыка.
5. Почти во всяком столкновении с миром и взаимодействии с ним есть период накопления, когда видимых достижений нет и все усилия кажутся пустыми. Но пройдет этот период – и вы сможете убедиться, что старались не напрасно.
Наука общения
Иногда слышу от родителей, что легче смириться со многими, даже тяжелыми нарушениями у ребенка, чем с его неспособностью к общению. В ее преодолении, в обучении общению много препятствий, но это не основание, чтобы терять надежду. Даже небольшое улучшение изменяет жизнь. «Я впервые почувствовала, что общаюсь с человеком», – точно выразила это одна из матерей. Мать другого, теперь уже взрослого, пациента рассказала: «Вы не поверите, но на первых порах мне было легче не спать и не есть сутками, возясь с ним, чем разглядеть в нем человека. Но когда мне это удалось, все пошло иначе. Я была настолько счастлива даже самыми маленькими его достижениями, что изменилось все в доме. Даже в отношениях с мужем появился оттенок того, что было, когда мы только ждали ребенка». Вспоминается беседа с группой японских специалистов в 1979 году. Один из них, уточняя свой вопрос, добавил, что у его сына аутизм и они с женой, пользуясь сходными с моими методами, добились неплохих результатов. Надо было видеть на его лице раскованную и радостную улыбку счастливого отца! Улыбка эта оплачена многими годами нелегкой душевной работы и преодолений трудностей. Но она бесценна, потому что за ней улучшившаяся жизнь их ребенка, их самих, семьи.
Трудности общения могут быть вызваны разными причинами. Ребенок с алалией (отсутствием речи) пытается изъясняться без слов, жестами, но ласков, привязан к родителям; когда ему что-то нужно, может указать или просто привести взрослого за руку. При умственной отсталости содержание общения беднее, но общение есть. У аутичных детей развитие речи часто в разной мере задержано и своеобразно. Но и при неплохой речи и достаточном умственном развитии они находятся вне общения, не стремятся к нему и даже избегают его. «В раковине», «за стеной» – говорят родители. Ребенок умеет говорить – повторяет чужие слова и фразы, отрывки из песен или сказок, но не обратится с просьбой. О том, что он в чем-то нуждается, можно понять только по крику или беспокойству. Но в чем именно? Можно действовать наугад методом тыка или полагаться на то, что по манере поведения угадываешь желание ребенка. Но при малейшей возможности имеет смысл поощрять выражение желания тем способом, который ребенку доступен. Уже одно это – пусть и бедное пока, но уже общение. Конечно, хочется услышать что-нибудь типа «Я хочу пить» или «Мама, дай водички», но даже одно «пить» или «дать» хорошо. Их можно продолжить «Дать… конфетку», «Пить… молочко» и выполнить просьбу, поощряя высказывание и закладывая способность расширить пользование словами для общения. На первых порах важно, не что именно ребенок говорит, а то, что он пытается словами сообщить о желании. Раз за разом он начинает улавливать, что слова, речь – ключик к получению желаемого.
Взрослые часто очень многословны в общении с детьми. Они приспосабливаются не к тому, как ребенок понимает речь, а к своим представлениям о детской речи: упрощение, лепет, сюсюканье, коверканье слов, тонкий голос и много, слишком много слов. Нормально развивающийся ребенок как-то справляется с потоком обрушивающейся на него речи. Аутичный же тонет в нем, будучи не в состоянии обнять вниманием и понять сказанное. Фраза «А вот мы сейчас вместе с куколкой сядем за столик и покушаем вкусную кашку» окажется непонятной или заставит принести куклу, тогда как фраза «Будем кушать» – в пределах возможного понимания. Говорить короткими, простыми, понятными для ребенка фразами поначалу труднее, чем многословно сюсюкать. Хорошо, если это четко произнесенные, простые, достаточно интонированные слова. Поначалу трудно удерживаться на таком уровне речевого общения все время, но на этом фоне более свободная речь уже не так пугает ребенка, не так давит и дает ему возможность расслышать и узнать новые слова и обороты.
У аутичных детей много трудностей в использовании глаголов, личных местоимений, форм утверждения и отрицания, согласия и несогласия. Вместо «не хочу» – крик, вместо развернутой просьбы – приказное «дать», вместо «я» – «ты» или вообще ничего. При очень большой настойчивости можно добиться некоторого успеха дрессировкой, но при этом довольно высок риск стереотипизации речи и привязки тех или иных слов и выражений к той конкретной ситуации, в которой они были усвоены: ребенок может словом «пить» просить все, от еды до вещи, и выражать желание сходить в туалет.
Ребенок нуждается не только в снабжении его речевыми формами, словарным запасом, но и в помощи по установлению связи между словами и тем, что они обозначают. Язык осваивается двумя параллельными способами: ищутся имена для вещей и вещи, обозначаемые именами. Нужно время, чтобы узнать, что вот эта блестящая штучка, которая много раз в день приносит в рот что-то вкусное, называется ложка, и на то, чтобы найти в окружающем мире то, что называют таким красивым словом лосьон. Без установления связей слова и того, что оно обозначает, мир остается закрытым. Эта закрытость хорошо знакома по игре: если прикрыть глаза и долго повторять про себя «стол, стол, стол…», то через какое-то время слово повисает в сознании само по себе без представления о столе, о том, что это слово обозначает. Потом откроешь глаза – и через какое-то время вдруг озарение: вот эта стоящая перед тобой штука и есть стол. Можете представить себе, что творится с ребенком, у которого связи слова и предмета так и не устанавливаются.
Общению может мешать и то, что на этапе освоения речи используются свернутые фразы-консервы, в которых количество слов минимально. Когда ребенок говорит: «Трамвай медведь», то трудно догадаться, что он хочет поехать на трамвае к врачу, где найдет нравящегося ему мягкого мишку. Адресованная чужим людям такая речь вызывает недоумение, и родителям приходится брать на себя роль переводчиков, что тоже можно превратить в урок. Одно дело пояснить другому человеку: «Он говорит, что…», и совсем другое – обратиться к самому ребенку: «Хорошо, мы поедем на трамвае и…»
Превращая общение в игру, можно учить обращаться к другим, задавать вопросы, отвечать на них, спрашивать разрешения и т. д. Словесные инструкции для еще только овладевающего речью ребенка часто остаются непонятными. Повторные, тем более с нарастающим недовольством просьбы: «Позови папу гулять!» ничего не дадут, потому что неизвестно, что такое «позови». Но если нашептать на ухо нужные слова, подвести к отцу и попросить повторить, отец согласится и мама скажет, как хорошо ребенок позвал папу, и они отправятся на прогулку, то урок состоялся. И лишь после многих таких уроков можно ждать, что ребенок справится с просьбами типа «позови…», «скажи…».
Обычно слово «не» осваивается раньше, чем «нет», а «нет» раньше, чем «да». В ответ на вопрос «Дать?» ребенок сначала отвечает «дать», «не дать» и лишь потом «нет» или «да». Чтобы помочь научиться правильно пользоваться этими словами, лучше предлагать вопросы, не навязывающие выбора, давая возможность ответить согласием или несогласием. Тем более что в дело может вмешиваться эхолалия и в ответ на «Хочешь или не хочешь?» получим «Не хочешь», но тут же при вопросе «Не хочешь или хочешь?» в ответ прозвучит «Хочешь». Кстати, это имеет смысл учитывать и при оценке развития ребенка – оно нередко переоценивается потому, что родители используют нужное слово последним, а ребенок его механически повторяет. Вспоминаю отца 6-летнего мальчика, научившегося считать. Отец с гордостью продемонстрировал это: «Два плюс три будет шесть или пять?» И мальчик ответил: «Пять». Не то чтобы я хотел огорчить отца, нет – мне и самому было интересно. Я спросил: «Три плюс два будет пять или шесть?» И мальчик отозвался: «Шесть». Отец был огорчен, но это стало началом следующего этапа работы со счетом.
Серьезной помехой в общении становятся речевые стереотипы и ритуалы, попугайная речь. Бесконечно и механически повторяемые никому не адресуемые и ничего не передающие фразы вклиниваются в общение и ставят в тупик. Одни из стереотипных выражений можно привязывать к ситуациям и поощрять совпадение с ними, а потом и направленное использование. Другие лучше игнорировать, при этом находя и поощряя в речи ребенка нестереотипные выражения.
Но свести все общение к одному только речевому контакту было бы неверно. Есть еще языки жестов, поз, мимики. Не владеющий ими ребенок, даже вступая в речевое общение, может выглядеть говорящей куклой. Общение без слов, несловесный контакт лежит в основе и словесного общения: слова сами по себе не являются общением, они скорее один из языков, которым общение пользуется.
В быту, в повседневной жизни складывается бесчисленное множество ситуаций, позволяющих без использования специальных приемов помочь ребенку устанавливать несловесное общение. Он не смотрит в лицо и старается уйти от чужого взгляда, уклониться от контакта. Но временами можно поймать его взгляд и оставаться в зрительном контакте столько, сколько хочет и может он сам без ощущения дискомфорта. Можно начать говорить что-то шепотом, привлекая к себе взгляд ребенка. Можно строить смешные гримасы. Можно прижаться носом к носу ребенка и вращать головой и глазами, давая ребенку возможность наблюдать смешные движения глаз, – многие дети очень любят эту игру.
Овладение необходимыми для общения жестами у аутичных детей замедлено. Приходится специально учить здороваться, прощаться, проявлять готовность к общению и свои чувства и т. д. Когда ребенок еще мал или не воспринимает словесных пояснений, можно буквально лепить жесты, направляя его руку для жестов приветствия и прощания, обнимая себя его руками. Важно делать это так, чтобы ребенок получал удовольствие. Примитивно? Манипуляция? Да, конечно, с одной стороны, а с другой – один из возможных путей, помогающих ребенку познать все эти жесты не только головой, но и телом.
Общение – это не только выражение своих чувств и мыслей, но и восприятие чужих. Мы уже говорили, как это может быть трудно для аутичного ребенка. В известном смысле правильное распознавание и понимание чужих эмоций служит ключом и стимулом к выражению и проявлению собственных. Распознавание эмоций затруднено, и поясняющие комментарии могут облегчать его: «Дядя улыбается – он радуется» или «Мама целует мальчика – ласкает, любит».
Важными могут оказаться самые неожиданные моменты. Так, лучше учить сначала жестам приветствия и прощания в ответ на инициативу другого, а уж потом – по собственной инициативе. Лучше помочь в выражении не только положительных эмоций, вызывающих расположение других, но и отрицательных, не только форм согласия, но и форм отказа.
Трудно помочь аутичному ребенку в общении с детьми, но можно помочь присоединиться к детской игре и поддержать на первых порах, когда возможны негативные реакции на ребенка. Защитить себя аутичный ребенок обычно не может – на пару тактов запаздывает в распознавании ситуации, не хватает сообразительности, физической сноровки для защиты. Когда терпение кончается, он может быть слепо и разрушительно агрессивен, вызывая на себя новую волну непринятия. Но пребывание среди детей настолько необходимо, что приходится искать пути смягчить агрессивность – иногда это удается только с помощью лекарств. Даже сидящий в стороне от группы и как будто совершенно отрешенный ребенок воспринимает неожиданно многое. Один из моих пациентов, просидевший так в детском саду около трех месяцев, однажды поразил воспитателей, вдруг прочитав все стихи, которые разучивались группой в эти месяцы.
Иногда кто-то из детей одному ему ведомыми способами находит точки соприкосновения с аутичным ребенком и постепенно вводит его в группу. Некоторые родители образуют семейные группы, позволяющие обеспечить детям общение, а родителям – паузы для занятий собой. Одни дети, пусть и нелегко, и не сразу, адаптируются в детском саду, другим это оказывается не по силам.
Общение – та самая сфера, в которой практически невозможно добиться абсолютной победы. Так или иначе, но оно всегда с некоторой особинкой. В этом отношении усилия родителей направляются не на то, чтобы переломить сохраняющего своеобразие ребенка, а на приспособление к жизни сохраняющего своеобразие ребенка.
Игры
Мы отчасти уже касались особенностей игры у аутичных детей. Даже в самых простых играх ребенок знакомится со свойствами вещей: твердость и мягкость, тяжесть и легкость, гладкость и шершавость, форма, цвет, размер и т. д. Игровой материал для самого ребенка не так уж важен, но все же лучше подобрать простые, яркие и безопасные вещи, с которыми он может свободно и без риска для себя и других играть. Ребенок играет с ними сам и с родителями, которые могут отвести для этого несколько раз в день по 5-15 минут. Есть целый ряд обучающих игр, которые не требуют слов и поэтому возможны даже с неговорящими детьми.
Надень кольцо. Нужны две одинаковые цветные пирамидки – одна для ребенка и другая для взрослого. Взрослый располагается на таком расстоянии, чтобы не мешать ребенку, который может видеть его и пирамидку. Когда ребенок надевает кольцо на стержень, взрослый делает то же и ждет следующего действия ребенка, вновь повторяя его. Когда надевание закончено, пирамидки ставятся рядом, чтобы ребенок мог видеть их одинаковость. Если игра приходится по вкусу, можно использовать несколько разных пирамид или сменные наборы цветных колец, чтобы разнообразить ее и не превращать в стереотипные действия.
В другом варианте инициатива отдается взрослому. Он надевает кольцо на своей пирамидке и ждет, чтобы ребенок сделал то же. Здесь уже от ребенка требуются внимание, понимание и возможность действовать целенаправленно, чтобы повторить действие. Затем взрослый надевает следующее кольцо…
Цветное лото. Для игры нужен набор карточек, на каждой из которых два квадрата одинакового или разного цвета, и набор кубиков такой же раскраски. Перед ребенком в случайном порядке выкладываются кубики, и взрослый молча (!) кладет перед ребенком одну из карт. Ребенок должен без показа взрослым сам поместить кубики на соответствующие квадраты карты. Ошибки он исправляет сам; взрослый не проявляет неодобрения. Правильное исполнение поощряется.
Разложи по форме, разложи по цвету. Для игры нужны три цветных подноса и девять цветных предметов: три кубика, три цилиндра и три шара (или другие демонстративно различающиеся формы) тех же, что и подносы, трех цветов для каждой формы. Перед ребенком ставятся все подносы и выкладываются все фигуры. Он должен сам разложить фигуры по подносам. На следующем этапе задание сложнее – даются два подноса и шесть фигур двух цветов, которые надо разложить на подносы. Можно использовать разные формы (например, большие и маленькие человеческие фигурки разных цветов) и варьировать согласно возможностям ребенка количество фигур, цветов, подносов.
Во все эти игры играем молча: важно не натаскивать на выполнение действия, а создавать условия для самостоятельных открытий. Если вы хотите использовать поощрение, оно должно быть простым и следовать за верным действием, а не тогда, когда игра закончена.
Игры, требующие усвоения правил. Это могут быть игры типа лото; подбор фигур по образцам, сочетающим признаки цвета и формы или цвета и предмета; подбор карты со схемой показываемого предмета; подбор фигур или картинок; складные картинки и несложные головоломки. Правила игры не объясняются. Взрослый только напоминает, если нужно: «Сейчас я…», «Сейчас ты…», «Сейчас мой ход», «Сейчас твой ход». Правильные действия ребенка поощряются, но неодобрение выражать нельзя.
Взрослым бывает трудно втянуться в такие игры и ждать, пока ребенок сам поймет, что от него требуется. Но эти игры стимулируют активность самого ребенка, приводят его не к формальному умению, а к пониманию.
Позже можно обратиться к разрезным картинкам, карточкам с буквами, с сочетаниями букв и изображением предмета, название которого с этой буквы начинается. Если вы покупаете такие игры, то подбирать их нужно по возможностям ребенка, а не по указанному на них рекомендуемому возрасту. Хорошо, если вы сможете сделать такие игры сами, учитывая особенности вашего ребенка.
Это были обучающие игры. В общении с детьми ребенок встретит игры соревновательные. Войти в них ему трудно – смысл слов «проиграть» и «выиграть» еще непонятен, игра необязательно заканчивается поощрением, соревновательность еще недоступна. Моделью таких игр может быть игра в мяч – бросить и поймать; здесь удачи и неудачи чередуются, удачи поощряются. Сначала мяч большой, потом поменьше. Другой вариант – спрятать и найти предмет.
Прекрасные возможности открывает рисование, если оно не сводится к механическому натаскиванию и обучению рисовать общепринятые вещи, которые ребенку вдобавок еще и не знакомы. Очень многие дети находятся на раннем этапе рисования, который взрослые пренебрежительно называют мазней или каракулями. Но вещи, которые в них осваиваются, столь же важны, сколько просты и похожи на азбуку рисования: линия, толщина, изгиб, нажим, цвет, пространство листа, цветовые пятна – и все это сделано собственной рукой. Без более или менее уверенного владения этими элементами невозможно перейти к предметному и сюжетному рисованию. К тому же каракули прекрасно выражают эмоциональное состояние и помогают освободиться от неприятных эмоций. Больше подходят не рвущие бумагу карандаши и быстро ломающиеся фломастеры, а мелки или легко смывающиеся с вещей краски. Есть специальные краски, в которые можно окунать палец и пользоваться им как кистью или вообще рисовать всей пятерней. Лучше, если ребенок рисует не на обрывках и клочках, а на достаточно больших листах белой бумаги, чтобы у него была возможность испытывать как можно более яркую радость творчества (а это именно творчество, в котором экспериментирование с цветом, формой и способами рисования неотделимо от самовыражения). Постепенно начнут проступать и усложняться вполне определенные формы. Совсем хорошо, если ребенок может посещать группу арт-терапии с подготовленным к работе с аутичными детьми арт-терапевтом.
Мы уже говорили об играх с песком и водой. Своей свободой, незаданностью, простором для бесконечного экспериментирования они напоминают мазню и могут быть основой для множества обучающих игр. Можно лепить горки разной формы, прорывать канавки покороче и подлиннее, поливать цветы, стирать, сравнивать сосуды по емкости. Они хороши тем, что дают прекрасную возможность на разных материалах и в разных ситуациях продолжать обучающие и развивающие игры.
Со временем становятся возможными игры в группе из 2–3 детей. Несколько встреч уйдет на то, чтобы присмотреться к тому, как ребенок играет сам, как реагирует на окружающее и организует свое время. Он может довольно быстро разыграться или несколько встреч просидеть в стороне, может оказаться объектом агрессии и агрессором. Вмешательство должно быть минимальным – только ради безопасности его и остальных детей. Важно набраться терпения и дождаться, чтобы ребенок начал что-то (не так важно, что именно) делать сам. При этом он часто начинает говорить – шепотом или громко. Взрослые откликаются на это простым повторением его слов, которое не пугает, помогает чувствовать себя спокойнее и поддерживает стремление продолжать игру. Родители, которые раньше методом натиска безуспешно пытались научить ребенка играть, бывают приятно удивлены появляющимися знаками доверия, продвижением в игре. Допускаемые ребенком к игре, теперь они могут участвовать в ней гораздо активнее и расширять ее обучающие возможности. По мере увеличения количества совместных действий с родителями и другими детьми увеличивается и способность подстройки к их действиям, включения в общие процессы.
Прогулки, выезды за город и более дальние поездки приносят новые возможности. Но чтобы не блокировать их, надо брать с собой не только жизненно необходимые вещи, но и важные для ребенка, привычные детали окружения (например любимую маленькую подушку, коврик, столовый прибор и др.). Они, по выражению Клары Парк, проявляют свою магию, успокаивая ребенка в новой, непривычной обстановке, уменьшая тревогу и расстройства сна.
Помогать ребенку и не мешать себе
Обучение всегда обращено к новому, что трудно из-за свойственных аутизму сопротивления новому и настаивании на привычном. Есть две возможности преодолевать это. Одна – очень постепенный ход обучения, продвижение маленькими прощупывающими шагами с замедлением темпа при первых признаках сопротивления. Другая – помощь во взятии барьера одним прыжком, чтобы избежать сопротивления и дать возможность убедиться в том, что новое не только не страшно, но и приятно или интересно. Ни одна из этих возможностей не лучше и не хуже другой – лучше гибко использовать обе, сообразуясь с состоянием ребенка и особенностями момента.
«Он упрям, как осел, – говорят родители, – его с места не сдвинуть». Нет сомнения, что и среди аутичных детей много упрямых, но все же не больше, чем среди детей вообще. То, что кажется упрямством, часто просто следствие ограниченных возможностей и непонимания. По мере продвижения в развитии это уменьшается. Для ребенка, не понимающего происходящее вокруг и с ним в достаточной мере, упрямство может оказаться одним из немногих способов избежать столкновения с тем, что вызывает напряжение и тревогу.
Повторяющиеся неудачи (а они особенно часты в обучении, напоминающем школьное, с негативными реакциями и принуждением со стороны взрослых) приводят к тому, что ребенок избегает всего напоминающего обучение.
Повышенная истощаемость проявляется при перегрузке общением, длительной произвольной концентрации внимания и выражается в крике, плаче, топанье ногами, самонаказании, отказе от занятий и т. п. Это должно не приводить к отказу от обучения, но подсказать переход к более щадящим занятиям, поиску утомляющих ребенка моментов и избеганию их. Сопротивление уменьшается, когда взрослые увеличивают дозы поддерживающего внимания и поощрения. В конце концов, всегда есть за что похвалить ребенка – если не за конечный результат, то за старание или удачно сделанный фрагмент. Даже если мы нарисуем квадрат его рукой и похвалим, это может адресовываться его участию в общем деле. Иное дело, когда без отчетливых причин ребенок отказывается делать то, что определенно умеет. Здесь уместнее побуждение, стимуляция, неявная поддержка, помогающие выполнить задание самому и получить поощрение.
Как у любого человека, у аутичного ребенка бывают периоды подъема и спада, хорошего и плохого настроения, готовности быть с людьми и потребности в уединении. Иногда родители могут предвидеть изменения – у метеолабильных, реагирующих на изменения погоды, у детей с подчеркнутыми суточными ритмами эмоциональности и работоспособности, с потребностью в определенном количестве сна или не переносящих ощущения голода. Когда это так, колебания можно предупредить или смягчить. Но в общем ребенок имеет право похандрить без того, чтобы мы непременно добивались от него радующего нас поведения.
У обычных детей в 2–3 года начинается кризис трехлетних, проявляющийся в упрямстве (ребенок настаивает на том, что он сказал, потому лишь, что он сказал это) и негативизме (ребенок отвергает сказанное взрослым только потому, что это сказал другой). Этим кризисом заявляет о себе появление «я», испытывающего себя, экспериментирующего с зависимостью/ независимостью, устанавливающего границы допустимого.
Попытки взрослых подавить такие реакции приводят к бунту, чреватому неуправляемостью ребенка, от которой он и сам страдает. У аутичных детей этот кризис происходит в возрасте появления и становления «я» – его можно наблюдать в 4–5 лет и старше.
Можно понять желание обучить как можно большему и как можно скорее. Но ни один ребенок не проходит с полной отдачей последующий этап развития, если предыдущий пройден не полностью, остался незавершенным. Это вносит искажения, новые элементы неравномерности и без того в неравномерное развитие. Начало обучения с занятий более высокого уровня, чем реально доступный ребенку, чаще затрудняет, чем облегчает работу с ним. «Торопись не спеша», – говорили древние.
В диалоге с ребенком всегда участвуют двое – он и взрослый. Все трудности диалога не могут быть объяснены одним только состоянием ребенка. Наше поведение с ним бывает более и менее удачным. Оно является инструментом помощи ребенку. Забота о нем без самобичевания за допущенные ошибки, желание и умение учиться на своих ошибках расширяют возможности.
Физическое здоровье
Аутичные дети по умению рассказать о том, что их беспокоит, пожаловаться, призвать на помощь часто похожи на годовалых малышей. Неблагополучие сказывается на поведении – беспокойство, плач, возбуждение могут быть единственными явными признаками. Иногда ребенок и пытается сказать, что нездоров, но делает это так по-своему, что взрослым его не понять. Один из моих пациентов, бабушка которого лечилась от атеросклероза и который испытывал пристрастие к звучным словам, вдруг начал повторять слово «пирацетам». Родители приняли это за очередное увлечение, но когда на следующий день у него уже явно разыгралась ангина, они припомнили, что он повторял это слово без обычного экстатического восторга, как будто хотел что-то сообщить. Поэтому надо по возможности раньше обучать ребенка подаче сигналов физического неблагополучия.
Быть на приеме у врача часто испытание для детей, для аутичных – тем более. Хорошо, если родители включают детскую поликлинику в маршрут прогулок без нужды в обращении к врачу или могут познакомить ребенка с медиками. Важно включать медицину в обычный, не вызывающий тревоги и страха мир ребенка, научить без страха показывать горло (например, в играх «открой рот – закрой глаза», когда во рту оказывается что-то вкусное). С появлением сюжетных игр хорошо поиграть с ребенком в доктора и пациента; такие игры полезны и после визита к врачу – они позволяют отыграть пережитое, разрядить неприятные чувства.
Если ребенка наблюдает детский психиатр, то при визитах к другим врачам надо сообщить о получаемом у психиатра лечении во избежание несовместимости лекарств или усиления/ослабления действия одних препаратов другими.
Когда надо лечить ребенка в больнице, матери лучше быть с ним или по крайней мере навещать очень часто: ребенок может оказаться слишком трудным для непривычного к таким детям персонала, а на этапе повышенной привязанности к матери он может тяжело реагировать на отлучение от нее.
У некоторых детей аутизм сопряжен с заболеваниями, требующими постоянного приема лекарств или соблюдения диеты. Надежды на то, что ребенок примирится с этим и будет активно следовать предписаниям врача, нереалистичны. Поэтому уместнее всего ограничительное поведение родителей, делающее обязательным выполнение назначений и невозможным отказ от них.
Эмоциональный квартет
«Хорошо, – сказал один из отцов, – мы учим его всему, что нужно для общения, но как сделать, чтобы он хотел общаться?» Действительно, человек – существо не только познающее, но и чувствующее, эмоциональное, переживающее. И если говорить об общении, то самое его начало, самый корень – чувства. Они диктуют то или иное поведение, сигнализируют о его эффективности, притягивают к одним вещам и отталкивают от других. Плохо идти у них на поводу, но еще хуже убивать их.
Чувства пронизывают и наше общение с аутичным ребенком. Осознание своих чувств и взрослому человеку дается нелегко. Чаще мы подставляем на место того, что действительно чувствуем, то, как мы думаем, как якобы должны чувствовать.
Поведением же руководят реальные чувства, которые мы не осознаем. На одном из семинаров у меня произошел такой диалог с участницей – пример не касается аутизма, но хорошо показывает, как несознаваемые чувства могут руководить поведением.
Она: Скажите, с какого возраста мальчик должен проводить все время с отцом?
Я: Мальчики, вообще-то, любят быть с отцами…
Она: Я немножко не об этом. С какого возраста мальчика отец обязан взять на себя все общение с ним?
Я: А зачем отцу это делать?
Она: Как зачем? Чтобы сын, когда вырастет, не стал женственным.
Я: А что – он дает основания беспокоиться об этом?
Она: Да, он чересчур ласковый.
Я: Вы могли бы сказать, как это проявляется? Ну, хоть в последний раз – это было…
Она: Вчера. Он, как всегда, обнимал меня, говорил, как он меня любит, придумывая мне ласковые имена… долго-долго…
Я: А сколько ему лет?
Она: Шесть.
Я: И что же вы чувствовали в этот момент?
Она: Я думала…
Я: Пожалуйста, что вы чувствовали в тот момент?
Она: Ну, как это – что я чувствовала? Любовь к ребенку.
Я: Скажите, как вы узнали, что это чувство любви? Что вы чувствовали в тот момент?
Она: Любовь к ребенку.
Я: Ну, хорошо. Что это было за чувство в тот момент, о котором вы знаете, что это любовь к ребенку?
Она: Чувство любви.
Я: Вот вы определяете, что боитесь, по тому признаку, что у вас дыхание перехватило, руки похолодели, сердце заколотилось, и говорите себе: «Я боюсь» или «Ой, мне страшно». Так ведь? А что вы чувствовали вчера, когда сын подошел к вам и ласкался?
Она: (Пауза) Ну, мне хотелось… чтобы это кончилось… как будто оттолкнуть… (Пауза) Раздражение! Он такой липучий!
Итак, подведем итог. Осознанное чувство раздражения позволяло бы находить приемлемые выходы, например мать могла сказать сыну: «Мне очень приятно, что ты меня любишь. И я тебя тоже очень люблю. А сейчас, извини, я должна…» или попросить отца уделять сыну чуть больше внимания, чтобы она могла передохнуть. Это был бы эффективный путь разрешения проблемы. Не осознавая своего раздражения, она хочет обязать мужа по таким-то и таким-то соображениям с такого-то времени (и вопрос ко мне – с какого, наконец?) освободить ее от общения с сыном. Этот путь принесет множество конфликтов и неприятных переживаний всем троим.
Ваши чувства, вызываемые ребенком и его проблемами, имеют право и могут быть очень разными: от жалости до злости, от нежности до раздражения… Они не плохи и не хороши – они таковы, каковы есть. Вопрос не в том, как их уничтожить, а в том, как с ними быть. Они становятся помехой, когда не осознаются и руководят вами исподтишка, придавая действиям иной, нередко противоположный смысл.
Аутичному ребенку осознать свои чувства чрезвычайно трудно в силу возраста и особенностей состояния. Тем не менее чувства руководят им. Руководят намного сильнее, чем взрослыми. По мере развития все дети проходят несколько уровней эмоционального регулирования поведения. Проходят, пожалуй, не то слово; скорее, строят здание эмоционального регулирования слой за слоем, этаж за этажом.
Первый уровень – самый общий. На нем происходит эмоциональная оценка безопасности и комфорта. Это чувство часто определяет первое впечатление о ком-то или о чем-то. На этом уровне оцениваются наиболее общие особенности окружающего мира – переливы, переходы, динамика явлений (мелькание света, волны тепла и т. д.).
Этот уровень действует на самых ранних этапах развития, обеспечивая жизненно важную ориентировку. Поведение, которое руководится лишь этим уровнем, можно наблюдать на первом месяце жизни здорового ребенка – если он не спит, взгляд отрешенно или зачарованно скользит, ни на чем не задерживаясь. Если следующие уровни не включаются или включаются недостаточно, поведение носит полевой характер – все попадающее в поле зрения привлекает внимание, но оно через миг переключится на что-то другое. У части аутичных детей такое поведение можно наблюдать еще в возрасте 3–5 лет и старше.
На этом уровне проявляется и свойственная многим аутичным детям сверхчувствительность, при которой самые обычные раздражители воспринимаются как запредельные: звук капающей из крана воды – наподобие канонады, умеренное освещение – как ослепительный свет, тепло – как ожог и т. д.
К помогающим приемам относят следующие.
1. Обеспечение чувства комфорта и безопасности. Если водить ребенка по комнате за руку, то можно по руке чувствовать его попытку обходить что-то. При возможности знакомим его с предметами, пытаясь уловить, что вызывает напряжение и помогая уменьшить его. Если это не удается, предметы можно убрать или уменьшить встречи с ними.
2. Гармонизация опыта. Прогулки в лесу, парке, старом городском районе, не застроенном стандартными серыми коробками, у озера, наблюдение из комнаты дождя, снегопада, деревьев на ветру… Ребенок оказывается очень чувствителен к такому окружению – успокаивается, становится менее шумным и агрессивным либо, наоборот, возбуждается. Внимание к его реакциям помогает выбирать подходящее ему и принимаемое им. Часто дети выкладывают разные узоры из попавших в руки материалов – в этом занятии и самих узорах есть что-то спокойно-отрешенное. Взрослый может мягко подключиться, что-то рассказывая или комментируя. Внимание ребенка проявляется коротким взглядом, брошенным на взрослого, или тем, что он возьмет взрослого за руку и подведет ближе к тому, что приятно.
3. Ритмизация. Достигается включением в жизнь ребенка искусственных ритмов – музыки, орнаментов. Особенно приятно детям сочетание музыки с раскачиванием, кружением. Взрослому довольно легко подключиться к этому, привлечь ребенка к зрительному контакту.
Второй уровень связан с психофизической адаптацией к окружению. На нем вырабатываются стереотипы удовлетворения потребностей, основанные на повторяемости внешних условий. Так усваивается ритмический режим питания, появляется готовность к взятию на руки. Ведущие эмоции выражают себя как удовольствие/неудовольствие. Эмоциональная память закрепляет приятные связи и участвует в выработке привычек. Для ребенка в первые месяцы жизни источником удовольствия становится прежде всего собственное тело – он сосет соску или палец, теребит руки и ноги, лепечет и т. д. Аутичный ребенок живет на этом уровне гораздо дольше, застревая на самостимуляции и стереотипиях. Помогают все способы наполнения привычных для ребенка стереотипий игровым житейским содержанием, как мы это уже обсуждали.
Третий уровень в норме наступает во втором полугодии жизни. Эмоциональные реакции связаны уже не с чувством безопасности (первый уровень) или удовлетворения/неудовлетворения потребности (второй уровень), а с достижением желаемого. Препятствия не пугают, а вызывают любопытство, влекут. Преодоление их создает, накапливает опыт побед и поражений. С этим уровнем связаны многие игры, например спрятаться, чтобы потом быть найденным. У аутичных детей этот уровень сохраняется много дольше и заявляет о себе то б бесстрашном исследовательском поведении, то в бесконечных прыжках со шкафа, то в маленьких игровых хитростях.
Прекрасное поле для помощи аутичному ребенку на этом уровне – игры с элементами преодоления доступных ему препятствий, достижения успеха. Это могут быть игры со взрослыми или в группе сверстников.
Четвертый уровень связан с формированием эмоционального контроля за ситуацией. Здесь уже поведение определяют эмоциональные реакции других, а не только реакции предшествующих уровней. Для аутичных детей первым человеком, чьи реакции воспринимаются, как правило, становится и надолго остается мать. Затрудненное восприятие человеческих эмоций требует описанной выше поддержки – разъяснения и тренировки узнавания проявления эмоций другими людьми, помощи в понимании значений эмоций и т. д.
Неравномерность развития аутичных детей проявляется не только в отношении отдельных функций, не только в соотношении познавательной и эмоциональной сфер, но и в соотношении описанных четырех уровней. Они могут формироваться быстрее или медленнее, функционировать более или менее активно, проявления предшествующих уровней могут преобладать над проявлениями последующих. Все это делает представления о них лишь общей схемой понимания, в которой можно найти место для каждого ребенка и надеяться, что существуют и какие-то специальные, ключевые методы работы именно с ним. Реальность такова, что в развитии и состоянии аутичного ребенка чаще всего причудливо неравномерно переплетаются особенности всех четырех уровней, не объединенные в гармоничную систему.
Поэтому и помощь при аутизме требует от родителей не следования жестким схемам, а гибкой импровизации, опирающейся на достаточно тренированную способность смотреть и видеть (наблюдать) поведение ребенка не как удручающее сочетание нарушений, а как отражение и выражение внутреннего состояния его психики и души. За большинством симптомов скрываются вполне определенные механизмы не только формирования, но и преодоления трудностей. Слушать и слышать, смотреть и видеть, вчувствоваться и чувствовать, вдумываться и понимать необходимо для того, чтобы помощь ребенку не имела характера насилия, но поддерживала раскрытие существующих у него возможностей.
Принять ребенка душой таким, какой он есть, и принять разумом, осознавая его реальные затруднения и проблемы, а не лежащие на поверхности симптомы, значит сделать тот первый шаг, с которого начинается путь возможной помощи.
Управление поведением
Отчасти мы уже касались этой темы. Чем тяжелее проявления аутизма, тем больший акцент приходится делать на этих методах, направленных не только на облегчение или снятие симптомов, но и на помощь в развитии.
Сначала методы управления поведением были довольно жесткими. Например, наказание слабым, но достаточно болезненным электрическим разрядом за проявление особо нежелательного поведения – разрабатывались специальные игрушки и даже предлагалось сделать пол чем-то вроде электрической панели, включаемой при нежелательном поведении.
Позже спектр методов расширялся, они становились мягче и опирались уже не только на классическую теорию условных рефлексов, но и на так называемое оперантное научение. Речь идет не о направленных влияниях на поведение при помощи поощрений и наказаний, а об использовании их для подкрепления случайного поведения, которое близко к желательному. Эти методы привлекательны в работе с аутичными детьми по многим причинам: 1) некоммуникативность ограничивает или делает невозможным применение других методов; 2) их использование возможно и при низком интеллекте ребенка; 3) возможность достаточно надежного учета эффектов; 4) возможность задействовать в помощи всех, включая непрофессионалов.
Вот некоторые из таких методик.
Методика наводнения используется в поведенческой терапии для снятия привычных тревог и страхов. Ее эффект объясняют предупреждением тревоги и страха в присутствии обычно вызывающих их стимулов. Избегание таких стимулов служит подкреплением страха и способствует его закреплению по механизму оперантного научения: если я боюсь, скажем, лягушек и, едва завидев их, обхожу стороной, полученное удовлетворение от избегания страха в следующий раз подскажет снова испугаться и успешно обойти. Важно такую цепочку самоподтверждающего поведения разорвать, что методика наводнения и делает. При аутизме тревога часто проявляется через разные формы протестного поведения (крики, агрессия по отношению к другим, себе или вещам). Для уменьшения ее ребенок на какое-то время помещается в ситуацию, обычно вызывающую сильную тревогу, а возможности избегания ситуации, ухода из нее блокируются. Это то, что сделала посадившая ребенка в ванну няня, о которой рассказано раньше.
Постепенная экспозиция – более мягкий метод, предполагающий пошаговое погружение, начинающееся с вызывающих минимальную тревогу ситуаций и продолжающееся в сторону более тревожных. У аутичных детей это часто помогает преодолеть непринятие нового (одежды, пищи, ситуаций). Семье для этого нужно быть единой командой с едиными подходом и планом действий и намеченных результатов, чтобы не оказаться лебедем, раком и щукой, тянущими ребенка в разные стороны.
Поощрение и наказание (кнут и пряник). Поощрение усиливает поведение, наказание ослабляет. И поощрение, и наказание разделяют на негативные и позитивные в зависимости от типа воздействия. Позитивное поощрение – награда (похвала, поцелуй, что-то вкусное или приятное), негативное – освобождение (от обязанности что-то делать, запретов, ограничений). Позитивное наказание – окрик, выговор, негативная оценка, шлепок; негативное – лишение возможности чего-то (играть с чем-то, смотреть телевизор и т. д.).
Это не сложно, и дети безо всяких теорий пользуются поощрением и наказанием, воспитывая нас. Вот мы ребенку чего-то не дали. Он начинает позитивно нас наказывать – плачет, канючит, дерется и т. д. Мы терпим, терпим и в конце концов даем – позитивно поощряем его протестное поведение как способ достигать желаемого. Он в ответ негативно нас поощряет – перестает плакать и кричать, как бы надеясь, что в следующий раз мы будем сговорчивее.
Понимая происходящее, мы в будущем обратим внимание на то, как научить просить другими способами и как отвечать на выраженную правильно просьбу, не выполняя ее в ответ на рев. При этом нужно быть готовыми к тому, что плач на какое-то время усилится и лишь потом пойдет на спад. Если нет уверенности в том, что мы сможем вынести эту пытку плачем, лучше и не начинать, потому что, сдавшись, подкрепим плач как способ манипулирования нами.
Не менее интересные ситуации происходят, когда мы пробуем поощрять сразу несколько вещей. Вы, например, стараетесь научить ребенка проситься на горшок и помогать вам в уборке, поощряя то и другое. Каждый раз, когда он помогает, вы его поощряете, например конфетой. Это приводит к желаемому результату – он помогает даже без просьб, и вы решаете, что можно уже не кормить за это конфетами. Будьте готовы к тому, что он может начать без нужды проситься на горшок, стремясь вернуть прежнее количество поощрений, а привлечь его к уборке будет все труднее.
Что будет поощрением или наказанием, во многом зависит от ребенка. Одна и та же пища может быть позитивным поощрением, если ребенок любит ее, и негативным поощрением, если ребенок ее не любит и может не есть. Поощрения могут быть первичными, не зависящими от жизненного опыта ребенка (еда, питье), и вторичными, обусловленными опытом (похвала, аплодисменты). Важно, чтобы у ребенка была мотивация действовать: если он сыт, то и самое соблазнительное первичное поощрение может оказаться неэффективным.
Приходится строить тактику и стратегию поощрений. Поощрение не одноразовая, а планируемая процедура. Непрерывный план требует поощрения каждый раз, когда ребенок ведет себя желательным образом. Эффект при этом достигается быстро, но и быстро угасает. Поэтому когда эффект достигается, уместно перейти к прерывистому плану поощрения, чтобы закрепить его и сделать выработанный навык устойчивым. Можно поощрять через одинаковые и разные промежутки времени или за одинаковое и разное число успешных действий.
Поощрение через одинаковые промежутки времени приводит к слабому эффекту – желательное поведение демонстрируется только к привычному времени получения пряника. Эффект поощрения через разные промежутки времени более выражен, но неустойчив. Поощрение за одинаковое число успешных действий дает более высокий и устойчивый результат, но в нем есть и подвох. Он связан с насыщением или усталостью: не надо мне ничего, лишь бы не трогали. А вот поощрение за разное число успешных действий приводит к самому большому и устойчивому эффекту. Это тот самый план, который заложен в игровые автоматы. По нему же работает рулетка.
Поощрение и наказание – сильные и эффективные инструменты при правильном их применении. И первое условие этого – осознанное использование их как инструментов помощи, а не как средств достижения собственного удобства или эмоциональной разрядки.
Кнут или пряник? Использованием только одного из них больших результатов не добиться. Например, школьные эксперименты сравнивали успеваемость в классах только поощряющих учителей («Троечка – ты молодец!»), только порицающих («Пятерка, но хилая, ты должен лучше») и тех, кто хвалил и порицал за дело. В классах третьих успеваемость была высокой, в первых двух низкой. Монотонная пластинка поощрения/наказания, особенно у склонных к стереотипному поведению аутичных детей, не срабатывает. Использование поощрения вне продуманного плана, от случая к случаю, может приводить к дополнительным поведенческим трудностям.
В работе с аутичными детьми в силу особенностей их внимания, восприятия и памяти значительную роль играют указательные стимулы (позитивные или негативные), работающие как подсказка того, что поощрение будет или не будет получено. Мать 4-летнего мальчика долго не могла понять, почему он не просится в туалет ночью, хотя днем уже делает это. Оказалось, что поощрения, используемые для научения, применялись всегда днем, когда настольная лампа с цветным абажуром не горела; зажженная ночью, она срабатывала как негативный указательный стимул.
Успех сам по себе может быть вторичным поощрением выполненного действия и одновременно положительным указательным стимулом для следующего действия. Это лежит в основе создания так называемых поведенческих цепочек, законченность которых приводит к получению первичного поощрения. При их создании важно, чтобы переход к следующему действию совершался только после правильного выполнения предыдущего, что и служит указательным стимулом. Сам процесс можно сравнить с выпечкой кекса: собрать все, что для него нужно, смешать, смазать форму маслом, поместить в нее тесто, поставить в духовку, выдержать определенное время, извлечь из духовки и дать остыть. Только теперь наступает время первичного позитивного поощрения всего предыдущего: кекс можно есть.
Стимуляция поведения с помощью поощрения требует соблюдения ряда условий.
1. Поощрение следует только за выполнением намеченного действия и немедленно после него. Это особенно важно при научении новым навыкам. Когда навык освоен, поощрение может становиться отсроченным.
2. Величина или индивидуальная значимость поощрения: чем больше поощрение и чем оно значимее, тем больше эффект. Однако есть граница, за которой наступает эффект насыщения и поощрение перестает работать. Это особенно касается первичных поощрений. Поэтому лучше иметь их в наборе (например, изюм, мелкое печенье, леденцы, еще что-то), чтобы у ребенка сохранялся интерес к ним.
3. План поощрений зависит от того, что именно делается. При выработке новых навыков эффективнее постоянное поощрение, для обеспечения их устойчивости – прерывистое. Переход от первого ко второму должен быть постепенным.
4. Словесные пояснения помогают осознанию связи поведения/навыка и поощрения. Они уместны даже тогда, когда кажется, что ребенок не понимает речь, – он воспринимает тон, интонации, жесты. Кроме того, нередко оказывается, что непонимание лишь кажущееся.
5. Подсказки и указательные стимулы важны для выработки навыков. Когда действие в ответ на просьбу регулярно поощряется, сама просьба начинает запускать выполнение этого действия. Урежение подсказок помогает перевести поощряемое действие в самостоятельный и устойчивый навык.
6. Чтобы навык вписывался в целостное поведение и распространялся шире, чем только ситуация научения ему, используются расширение круга поощрений и их урежение по мере распространения навыка на другие ситуации.
Шейпинг (от англ. shape – форма) – специальная техника, строящаяся на поощрении успешного приближения к желательному поведения. Ее используют, например, для обучения речи. Все начинается с имитации голоса обучающего. Сначала ребенок поощряется чем-то вкусным за то, что смотрит на рот обучающего. Когда это достигается, взрослый начинает издавать определенный звук и поощрять ответ ребенка таким же звуком. Затем – новые звуки с поощрением каждого из них… И так до возможности говорить слова. Шейпинг может использоваться в комбинации с созданием поведенческих цепочек.
Для поощрения желательного, но редкого поведения может использоваться частое поведение. Это особо уместно, когда трудно найти подходящее или соответствующее желательному поведению поощрение. У аутичных детей в качестве такого поощрения могут использоваться любимые ими игры с водой или песком. Трудность состоит в том, что обычно такое поощрение не может следовать сразу за желательным поведением и для установления связи поведения и поощрения необходим достаточный уровень развития ребенка.
Дифференцированное поощрение представляет собой комбинацию позитивного поощрения и погашения, при помощи которой поощряются все виды поведения за исключением нежелательного. При свойственных аутичным детям стереотипиях этот метод используется достаточно часто. Важно учитывать возможности ребенка. Если, например, он может провести без стереотипий не больше пяти минут, то, скорее всего, на начальном этапе поощрение уместно за каждые 3–4 минуты, проведенные за другим занятием.
Ослабление поведения с помощью наказания должно быть не наказанием в бытовом смысле, которое держит ребенка в страхе, а средством помощи. Здесь речь не идет об угрозах («Накажу!»), ремне, отправке в угол и т. п. Формы наказания как инструмента помощи иные.
Эффект замечаний («Нет!», «Стоп!» и т. п.) трудно предсказуем – нередко они воспринимаются ребенком как проявления внимания и поэтому срабатывают как позитивные подкрепления нежелательного поведения.
Переделывание – одна из форм позитивного наказания, включающая в себя ликвидацию последствий нежелательного поведения и обучение желательному. Оно требует словесных инструкций, постоянного наблюдения и нередко физического руководства, которое не следует путать с принуждением.
Прерывание поощрений сводится к тому, что на заранее оговоренное короткое время ребенок лишается всех возможностей получения любых позитивных поощрений. Обычно это отсаживание в сторону, когда ребенок может видеть происходящее, но не может участвовать в нем. Ребенку следует объяснить, за что именно и на какое время он помещается в такую ситуацию.
Использование наказания подвергается критике с разных позиций. Оно сомнительно этически и часто – с точки зрения законности. Кроме того, в сугубо практическом смысле оно не столько угашает нежелательное поведение, сколько просто подавляет его. Эффекты наказания обычно кратковременны, неустойчивы и связаны с той ситуацией, в которой наказание использовалось, а распространенные побочные эффекты – избегающее и/или агрессивное поведение, негативные эмоции, в том числе страх перед наказывающим – осложняют последующую работу. Основные слабые места наказания: 1) его соотнесение с желательностью/нежелательностью поведения при игнорировании мотивов и возможностей ребенка; 2) восприятие его ребенком как отвергания и обиды; 3) искушение воспитателя манипулятивностью; 4) высокая вероятность того, что само интенсивное внимание к нежелательному поведению объективно окажется его позитивным подкреплением; 5) если оно используется в группе, другие дети могут воспринимать поведение взрослого как потенциальную угрозу для себя и выражать это протестным или избегающим поведением.
С наказанием приходится быть особо осторожными, чтобы не вызвать бунта. Оно должно следовать немедленно за нежелательным поведением: чем позже, тем менее ребенку понятно – за что. Оно должно быть: 1) последовательным, то есть применяться каждый раз при нежелательном поведении, а это значит, что поводом для него должно становиться не все, что по разным причинам может быть нежелательно взрослым, а один-два не слишком частых вида поведения – в противном случае ребенок замыкается или вступает в войну на выживание с наказывающим; 2) умеренным по силе – слабое не доходит, чересчур сильное вызывает протест, а постепенно усиливающееся связано с риском привыкания к нему; 3) инструментом помощи, а не способом подчинения и обиды («До пяти лет я был уверен, что меня зовут Заткнись», – сказал мальчик.)
Все эти и другие способы управления поведения объединяет в себе так называемая АВА-терапия (Applied Behavior Analysis – прикладной анализ поведением) – вид модификации поведения, последнее время широко применяемый при аутизме. Пользоваться им могут не только профессионалы.
При желании вы можете пройти курс обучения АВА-терапии и использовать ее самостоятельно (подробнее об АВА-терапии можно посмотреть здесь: / Прикладной_анализ_поведения, а о возможности обучения здесь – -academy.com/, /, -aba.blogspot.de/). ABA не обещает излечения от аутизма, но помогает использовать имеющиеся у ребенка ресурсы для научения необходимым в жизни навыкам. Будучи не просто «ящиком с инструментами», а системой помощи, ABA помогает избежать отрицательных эффектов неловко реализуемых благих намерений. Например, единственное, что определенно любил один из моих пациентов, это завороженное кружение под старинную клавесинную музыку. Родители использовали это как поощрение, пытаясь научить его умываться, – через неделю он бесконечно умывался ради включения проигрывателя. Похожим образом ценой уменьшения или снятия одних симптомов часто оказывается усиление или закрепление других.
Обращение или общение?
Способы управления поведением невозможно свести к одним только техническим приемам. Ни один прием, даже тщательнейшим образом отработанный, не будет эффективным сам по себе, вне общей системы помощи. Тело такой системы – приемы, методики, техники работы с ребенком (обращение), но ее душа – движимое любовью общение, любовь, выражающая себя в общении.
Принципиально важно, чтобы жизнь с ребенком строилась как общение. Лишь в очень редких случаях аутизм перекрывает общение полностью – какие-то возможности остаются. Пусть это всего лишь приоткрытая, а не настежь распахнутая дверь в душу ребенка, но она есть! Воспользоваться ею – нелегкая задача, требующая от родителей гибкости, терпения и импровизации. Усилия вознаграждаются тем, что при налаживании возможного общения мы создаем более широкие возможности для помогающей работы с теми или иными нарушениями.
Это может показаться просто словами. На самом деле о каком общении речь, когда ребенок не включается в него?! Вспоминаю одного из своих пациентов, с которым мы недолго работали, когда ему было лет пять или даже поменьше… Спустя двадцать лет помогавшая ему Н. Е. Марцинкевич не без удивления обнаружила, что он меня помнит. «В. Е. был первый доктор, который разговаривал со мной, а не с мамой обо мне», – сказал он ей. Вот отрывок из его письма по электронной почте (орфография и пунктуация сохранены).
«Привет Виктор Ефимович начну вам рассказывать о нелегкой моей жизни от 13 до 19 лет вам покажется что это шутка но это то что я пережил у меня были немыслемые отставания в развитие я был самым тупым существом на свете я остался ребенком в облике взрослого человека я верил даже таким вещам которым поверил бы только ребенок я не знал что я взрослый мне стыдно когда я вспоминаю что я в 15 лет рылся в песочнице и играл с детьми в пистолетики не удивительно что на меня все пальцем показывали однажды в лагере в 16 лет когда я хотел вместо второй смены уехать с первой то мне 10 летний мальчик сказал что он едит я сказал все равно я тогда он сказал что он в автобусе вышибет стекло и выкинет меня и я верил и паникавал и все смеялись это я для примера написал а произошло это потому что меня родители только из-за специальной школы и из-за того что я чем-то отличался от других меня изалировали от внешнего мира меня никуда не водили не в гости не в кружки даже для таких как я даже в школе мать меня так быстро проносила по коридору что я не мог даже ознакометься с интерьером не говоря уже о людях я даже забыл кто я на самом деле забыл своих друзей помнил только вас и то смутно меня даже из-за троек в школе водили по врачам и врачи меня пичкали таблетками и хотели в интернат здать и в больницу положить и говорили что я инвалид и только благодаря такому человеку как Наталья Евгеньевна мне удалось вернуться к нормальной жизне она меня как раз водила в кружки для общения и у себя показывала много… первый раз я пошел в Эрмитаж с Натальей Евгеньевной и в заключении спасибо за то что вы меня свели стаким замечательным человеком как Наталья Евгеньевна».
История одной девочки
Из многих детей я выбрал именно ее не только потому, что она оправдала казавшиеся несбыточными надежды, но и потому, что это не могло бы случиться без удивительной душевной щедрости и силы ее матери, не падавшей духом и не опускавшей руки даже в самые трудные моменты. Итак…
Мы познакомились, когда ей было 3,5 года. Она родилась от первой беременности, часть которой мать из-за угрозы выкидыша провела в больнице. Роды, однако, прошли хорошо. Матери и отцу было тогда по 24 года.
Первые месяцы девочка часто срыгивала и была беспокойна после кормлений, но с переходом на искусственное вскармливание это прошло. Мать вспоминает, что девочка была «толстой и спокойной», мало реагировала на окружающее и раскачивалась в кроватке. В 4 месяца проявился экссудативный диатез, а позже – аллергия на некоторые запахи. В 10 месяцев после тяжелого ложного крупа долго была беспокойна, плохо спала. До полутора лет боялась ходить, хотя уже умела. Около 10 месяцев произнесла первое слово «мама», но потом до двух лет трех месяцев не говорила, а затем поразила родителей, рассказав слышанную до года сказку. К этому времени уже знала и показывала буквы. Труднее давались навыки самообслуживания, а в полтора года после тяжелого гриппа, осложнившегося воспалением мочевого пузыря, перестала проситься на горшок и днем, и ночью, что и стало причиной обращения.
К началу знакомства девочка совершенно не умеет общаться с ровесниками и младшими детьми. Со старшими детьми и взрослыми контакт лучше. На улице не дает матери взять себя за руку, уходит от нее и подолгу не отзывается, когда мать ее ищет. Новые люди в доме, включенные кофемолка и пылесос, музыкальные игрушки вызывают страх и протесты. Многое не умеет делать, но помощь ни от кого не принимает. Неласкова и избегает ласки, не проявляет сочувствия. Не различает живое и неживое и может потребовать, чтобы «убрали» человека или «убили» вещь. В куклы не играет. Ей подарили большую куклу, но она ее так боится, что кукла оказалась на антресолях. Играет только с мягкими медведями, которых у нее много, – купает их, кормит и говорит, что «хочет быть Мишенькой». Другие игрушки разбрасывает и не дает никому собирать. Себя называет «она» или ласковым домашним именем, глаголы использует только в повелительном наклонении. Знает и называет все буквы. Пытается рисовать, но карандаш держать не умеет и рисует только каракули. Часто как заведенная повторяет когда-то услышанные фразы, часами кружится под музыку или повторяет одно и то же действие. На улице в одном и том же месте повторяет когда-то сказанную здесь матерью фразу. Очень трудно привыкает ко всему новому. Неуклюжая и неловкая. Сохраняется ночное недержание мочи.
Первая встреча. С трудом и со слезами введена матерью в кабинет. В лицо не смотрит и говорит, отвернувшись в сторону. Себя называет в третьем лице и лишь иногда при напоминаниях матери автоматически повторяет: «Надо сказать – я хочу». Повторяет чужие слова и фразы, а те немногие вопросы, которые она задает, копируют часто обращаемые к ней дома: «Как это называется? Что мама делает?» – ответа на них не ждет и не слушает. Взяв со стола наручную куклу-медведя, ставит его, сажает, вкладывает в рукав мелких кукол: «Там хорошо». Диалог с ней не удается ни мне, ни матери. Очень необычно выражает удовольствие: получив конфету или ухватив со стола мишку, прижимает их к себе, плотно сжав ноги и урча, на людей не смотрит, напрягается всем телом, лицо краснеет; это все продолжается секунды, после чего она присаживается так, что ее не видно из-за стола, и через несколько минут, по-прежнему ни на кого не глядя, встает довольная и расслабленная: «Оргастическое удовлетворение», – говорит мать.
С 3,5 до 7 лет девочка получала очень мягкое, малыми дозами лекарственное лечение, на фоне которого мать по намечаемым нами вместе планам вела работу с девочкой дома.
4 года 1 месяц. Стала чаще играть с матерью и бабушкой, но совершенно не играет с приехавшей двоюродной сестрой двух лет. Требует чтения одних и тех же книг, которые «в тысячный раз в одних и тех же местах комментирует одними и теми же словами». Стереотипно повторяет когда-то услышанные фразы. С детьми в контакт не вступает. На улице «с упорством психически больного, клеящего коробки, обдирает кору со свежих прутиков». Стала играть с некоторыми игрушками, строить из кубиков, но медведи остаются самыми любимыми. После мытья головы, которое очень не любит и всегда дает вымыть голову только со скандалом, подолгу моет игрушечных мишек. Стала чаще задавать вопросы об окружающем. Иногда смотрит телевизор, который раньше не давала включать. Появились элементы привязанности к матери. За последние полгода начала говорить «он», «она», «они», а вслед за этим в свободной речи стали появляться выражения «я берет», «я держит». Ночью может проснуться и заявить о своем желании «писать на подушку». Успокоить, пока она это не сделает, невозможно.
4 года 8 месяцев. Увереннее пользуется словом «я», появились времена у глаголов – «ходила», «иду», «пойду». Начала задавать вопросы «что?», «почему?», «как?». Теперь играет с куклами, которых моет, одевает и т. д. Пишет буквы и цифры. Пытается давать мотивированные оценки: «Гадюка плохая – она кусается». Перестала бояться мытья в ванне, но ногти стричь не дает. Играет только там, где есть дети, но требует, чтобы они на нее не глядели. Очень привязалась к матери, не отпускает ее от себя, часто пугается, когда видит мать спящей. Заинтересовалась разницей между живым и неживым и очень испугалась предельно осторожного ответа матери, долго расспрашивала, живая ли она, живая ли мама. Научилась кататься на трехколесном велосипеде, раньше вызывавшем панический страх. Осенью после возвращения с дачи долго была раздражительна, неспокойна, при ходьбе останавливалась и всегда одинаковым жестом потирала нога об ногу. Стала вступать в диалог и даже – неожиданно для матери – отвечать на вопросы. Стала охотно ходить ко мне. На приемах с интонацией радостной гордости подчеркивает свое умение говорить «я»: «Я пытаюсь открыть дверь», «Я пытаюсь порисовать мелом», «Мне дали конфету». Может проспрягать глагол, считает до 10. Прекратилось недержание мочи.
Я попытался отменить лекарства, но состояние ухудшилось, и пришлось возобновить их прием.
4 года 11 месяцев. Семья переехала на другую квартиру. Несколько дней девочка ходила по комнатам, перебирала вещи, на которые раньше, казалось, и внимания не обращала, и успокоилась, только убедившись, что все взято. Незадолго до переезда «закатила грандиозный скандал по поводу переставленных в шкафу книг, хотя раньше в упор не замечала ни шкафа, ни книг». Охотно играет со старшими. Речь стала свободнее и живее, уверенно пользуется словом «я», подхватывает беседу. Стало возможным убедить и переубедить ее: начала есть новые блюда – раньше меню было жестко ограниченным. Дала осмотреть себя лор-врачу и педиатру – до этого ее «лечили издали». Начала оставаться без матери и очень этим гордится. Может пересказать содержание прочитанных ей небольших текстов. Стала иногда проявлять сочувствие к домашним. Много рисует, и это уже не каракули, как раньше: появляются изображения мишек, людей, намеки на сюжет. Небрежно, легко и быстро заполняет множество листов очень похожими один на другой рисунками. Потребовала у матери братика. От общения довольно быстро устает и раздражается.
5 лет 2 месяца. Мать отмечает, что «она становится с каждым днем все интереснее. Приходит время, и до нее вдруг доходит давно слышанное». Если мать рассержена или огорчена, девочка несет ей что-нибудь вкусное. Пытается рисовать красками. Начала обращать внимание на младших детей, опекать их. Стала лучше играть с двоюродной сестрой. Свободно пишет и читает про себя, но не вслух. Появляются элементы ролевых и соревновательных игр. Постоянно поправляет неправильности в речи окружающих, но мать смущает налет штампованности в ее речи: «Говорит как с иностранного переводит». Хочет в школу. Похвастала обследованием у психолога: «Я как в школе была».
5 лет 8 месяцев. За лето значительно уменьшились эхолалии. Больше и лучше играет со старшими и младшими детьми, но не с ровесниками. В детский сад пойти не захотела: «Я детей боюсь, мне с ними плохо и неинтересно. Пусть мама ходит на работу, когда я в школу пойду». Ходит с матерью в музеи, где ведет себя «неожиданно прилично». Мать все же начала работать, оставляя девочку у бабушки, где она резка и возбуждена, хотя дома с матерью всегда ровна и спокойна. Отца принимает лишь постольку, поскольку он ей не мешает. Много рисует, появились сюжетные рисунки с мишками, курами, людьми, улыбающимися солнцем и луной. Делает зарядку под телевизор. Улавливает сходство вещей и явлений, складывает и вычитает в пределах десятка, но предметный счет дается труднее счета в уме, и она при просьбе сложить предметы откладывает их в сторону и просит «дать задачку», с которой легко справится. «Вдруг сделала открытие – у нее 10 пальцев». Во всем ее поведении стало больше свободы, пластичности, инициативы и меньше прежней патефонности.
5 лет 10 месяцев. Мать работает – теперь девочка проводит день у бабушки достаточно спокойно. Появились фантазии, стала переносить в игры увиденное и услышанное. Начала отвечать на попытки новых людей познакомиться с ней. Играет с куклами, которых наделяет переживаниями: не желая ожидать приема и сердясь на меня, заявила: «Аня [кукла] побьет окна в кабинете». Ногти стричь не дает, а насильно остриженные пытается приставить на место. Любит английские сказки. Сочиняет истории, характеризующие ее представления о мире: «Джонни поссорился с Пэгги, закопал ее в землю и поливал. Выросло дерево. И на нем – много маленьких Пэгги. Он потряс дерево – они упали и ушиблись».
6 лет. После двух месяцев повторяющегося внушения «Все дети, которым исполнилось 6 лет, стригут ногти» назавтра после дня рождения сама попросила мать остричь ей ногти. Доза получаемого лекарства без осложнений уменьшена. Состояние девочки обсуждалось с большой группой врачей: отвечала на их вопросы, рисовала, затеяла живую игру на равных с пытавшимся предлагать ей тестовые вопросы профессором, а уходя, вежливо и чинно со всеми простилась.
6 лет 4 месяца. Охотно пошла в детский сад, расширяет игровой репертуар и круг бытовых навыков. Бегло читает, пишет и никогда не повторяет ошибок, если они были разъяснены. Легко и быстро запоминает английские слова. В рисунках чаще появляются люди и все больше звучит тема общения.
7 лет. Привыкла к детскому саду, хотя вначале уставала и говорила: «У меня насморк, не пойду в детский сад. Хочу отдохнуть от этих глупых детей, которые меня дразнят». Постепенно вживаясь, начала участвовать в общих занятиях, защищать себя и даже выступила на утреннике. «Рада, когда с ней играют дети, – говорит мать, – но все еще выпадает из ряда, отстает на полфазы. О событиях в детском саду рассказывает спустя месяц-два, по свежим следам от нее ничего не добиться». Быстрее меняет привычки и интересы. Начинает вести себя как старшая в отношениях с пятилетней кузиной, хотя та намного гибче в поведении. Играет в обычные для девочек игры, пробует шить, хотя и очень неловко, лучше применяет знания в быту. Долго требовала у матери брата или сестру, потом заявила: «Вырасту – куплю мальчика и девочку и буду рассказывать им, как я была маленькая», а позже: «Вырасту и буду рожать много-много детей». Тяжело пережила смерть любимого ею деда.
7 лет 6 месяцев. В 7 лет 1 месяц у девочки был тяжелый судорожный приступ – и она начала получать противосудорожное лечение. Это не помешало ей пойти в школу, где она заметно отличается от детей, но постепенно начинает устанавливать более или менее удовлетворительные отношения. Учится охотно и чрезвычайно ответственно: даже болея, рвется в школу, матери приходится «учить ее тому, от чего других детей отучают» – иногда пропустить школу или опоздать, что-то не доделать.
8–9 лет. Учится легко, самостоятельно и хорошо. Первый класс окончила с похвальной грамотой. Влюбилась в соседа по парте и много говорит с матерью о нем. Когда устает, в речи начинают проскальзывать эхолалии. Начала заниматься музыкой, второй класс окончила с единственной четверкой по математике среди остальных пятерок. Стала рисовать с натуры. Добрее и ласковее относится к отцу, раньше никогда не пользовавшемуся ее благосклонностью. Легко обыгрывает родителей в «Эрудит». Пишет рассказы с диалогами, один из которых подарила мне.
Жили-были Крокодил, Слон и Веник. Жили дружно. Работали. И у каждого была своя работа.
Крокодил: Я принес утенка да цыпленка для супа.
Слон: А я принес целое ведро воды. Пейте, сколько хотите!
Веник: А я вымел весь мусор и в огне сжег.
Так они работали, а к вечеру сядут за столом, едят крокодилов суп, любуются на убранную Веником квартиру и похваливают дела.
Крокодил: Ай да Веник! Как ты хорошо убрал квартиру! Дышать стало легче. А раньше мы просто задыхались.
Слон: Какой ты. Крокодил, вкусный суп сварил! Я просто пальчики облизал.
Веник: Молодец, Слон! Много ты воды принес. И как же это ты смог донести столько?
Так они жили, хвалили друг друга, пока не поссорились.
Крокодил однажды говорит: «Что это мы всегда делаем одно и то же? Может, на время поменяемся работами?»
Слон и Веник (хором): Согласны! Согласны! Это ты хорошо придумал. А то нам уже надоело все одно делать. Так они поменялись работами.
Крокодил: Я дом приберу.
Слон: А я пойду ловить утенка да цыпленка.
Веник: А я пойду за водой.
Пошел Веник за водой, а Слон и Крокодил дома хозяйничают. Идет Веник по дороге, а навстречу ему Медведь.
Медведь: Ты куда. Веник?
Веник: Я за водой.
Медведь хватает Веника за прутик.
Веник: Пусти меня!
Медведь грубо бросает Веника на землю так, что у Веника отрывается прутик. Веник хромает домой с оторванным прутиком. А что дома делается!
Крокодил (плачет): Плохи мои дела! Стал я мусор собирать – неудобно. Ну, собрал я его, стал сжигать. Ах, я лапу обжег! Что мне делать?
Слон (плачет): Поймал я утенка и цыпленка – щиплются, проклятые! Небось Крокодила они боялись!
Приходит Веник без одного прутика. Увидели его Крокодил и Слон… (все кончается миром, и каждый делает свое дело).
Несколько раз за это время повторялись судорожные приступы, похожие на первый, но затем они стали легче и реже; противосудорожное лечение девочка будет получать еще много лет.
После 9 лет. Охотно и по-прежнему сверхответственно учится в школе. Лишь к 8 классу ее реакции на четверки стали не такими трагическими, как раньше. Лучше даются и становятся больше по душе гуманитарные предметы. Самостоятельна, тянется к общению, хорошо – даже слишком! – понимает настроение собеседника, юмор, но все-таки больше понимает, чем чувствует. При этом в общении довольно неуклюжа, чем-то трудноуловимым отличается от сверстников, постоянно занята анализом общения, как бы «обсчитывая и просчитывая» возможные варианты, а в неудачах винит всегда себя. Это особенно занимает ее в возрасте 13–15 лет. Примерно до 5–6 класса ее друзьями были бойкие мальчики: она играла с ними в войну, но могла также обнять и поцеловать. В 12 лет начались менструации, к которым была подготовлена матерью и отнеслась довольно «хладнокровно, как к насморку», заявив: «Еще этого мне не хватало!» В 7–8 классах она «без остатка вкладывается в учебу и школьные дела, хочет все на свете понять – от таблиц Брадиса до бог знает чего». В новой обстановке ориентируется трудно, может заблудиться в новом для нее районе, постеснявшись спросить у кого-нибудь дорогу. Учится хорошо, но школа начинает утомлять ее – шумно, чересчур много общения.
С 15 лет я видел ее по ряду причин лишь эпизодически. Девочка окончила 10 классов и поступила в гуманитарный институт.
Каждый раз, когда мне приходится встречаться с новым аутичным ребенком, я вспоминаю эту девочку и ее мать. Вспоминаю, потому что хотя и знаю, что далеко не все дети достигнут того же, но хочу надеяться. Вспоминаю, потому что они многому научили меня и как врача, и как человека, давая возможность передавать их опыт другим семьям и помогая иначе смотреть на трудности и смысл собственной жизни. Это бесценный опыт, который расширялся и обогащался в работе с другими семьями, благодарностью которым я и хочу закончить наш разговор.
Заключение
В книге трудно написать первую фразу – ищешь, с чего бы начать, какие такие слова сказать, чтобы книга заиграла, а потом просто пишешь самые простые, какие только есть, слова… Еще труднее поставить последнюю точку – это недосказал, то можно сказать иначе, здесь сделать покороче, а там другой пример привести. Сколько бы и как бы ни было сказано, всегда есть возможность сказать больше и лучше. Но как сказано – так сказано. Это только конспект той книги, которую пишете и будете писать вы о вашей жизни с вашим ребенком.
Моя цель будет достигнута полностью, если читатель, которого эта проблема лично не затронула, сумеет почувствовать и, может быть, пережить полную драматизма, а иногда и трагичности, но все же по-своему счастливую жизнь аутичного ребенка и его семьи. Да, они отличаются от вас. Да, они не такие. Однако и вы для них не такие, и я не такой. Но посмотрите – как они учатся у нас, преодолевают свои отличия и пробиваются к нам через стену аутизма, как щедро учат нас тому, чему без них мы никогда бы не научились. Они, вы, я – у всех нас равные права на счастье, на то, чтобы быть принятыми и любимыми, расти не только телом, но и душой. И если вы, встретившись с ними, не отшатнетесь и не унизите жалостью, не отведете в сторону своего ребенка – уже одним этим вы поможете. А возможно, и захотите помочь больше…
Если книга касается вас и вашего ребенка, не исключено, что вы разочарованы – и это все, что наука может сказать? Верить в силу науки свойственно большинству людей. Но что значат достижения науки, если мы не умеем использовать и применять их в жизни? Исследования аутизма продолжаются, но пока так много неясного, так несовершенны предлагаемые средства… Однако воспитание – это прежде всего искусство. А этика искусства, как точно сказал О. Уайльд, состоит в совершенном применении несовершенных средств. Мера этого совершенства является и мерой выполнения нашего долга по отношению к детям, и мерой нашего собственного человеческого роста.
Клара Парк в книге «Осада» рассказывает о своей дочери Джесси и о более чем 20-летней работе с ней. Она заканчивает книгу словами: «Не мы выбрали этот жизненный опыт, мы отдали бы все, чтобы избежать его, но он изменил нас и сделал нас лучше. Он дал нам урок, который не берут добровольно, тяжкий, медленный урок… человек возвышается страданием. И этот урок – дар, полученный от Джесси. Теперь я пишу то, что пятнадцать лет назад (когда Джесси было 8 лет. – В. К.) написать была бы не в состоянии: если бы я сегодня получила право выбора – принять эту судьбу со всем, что она принесла, или отвергнуть ее горькую щедрость – я бы раскрыла объятия ей навстречу, потому что жизнь, открывшаяся всем нам, не могла быть воображена. И я не изменю последнего слова этой книжки. Это – любовь».
Примечания
1
-stiven-viltsher-hudozhnik-risuyuschiy-panoramy-gorodov-po-pamyati.html; – -cs.ru/topics/118724/;
(обратно)









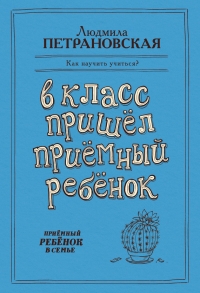
Комментарии к книге «Аутята. Родителям об аутизме», Виктор Ефимович Каган
Всего 0 комментариев