В. Э. Смирнов Гражданственность и гражданское общество: самоорганизация и социальный порядок
Рекомендовано к изданию Ученым советом Института социологии НАН Беларуси.
Рецензенты: доктор философских наук, профессор Т. П. Короткая, доктор социологических наук, профессор В. И. Русецкая, доктор философских наук, профессор Г. Н. Соколова.
Предисловие
В 1990 г. Ф. Фукуяма [259] объявил конец истории. Последние социальные революции, знаменующие собой поражение советского, коммунистического проекта, подвели, по его мнению, черту под эрой бурных социальных катаклизмов. Распространение идеологии либеральной демократии как венца социально-культурной эволюции человечества гарантирует, как считает Фукуяма, переход всего мира на рельсы устойчивого развития, т. е. стабильного развития в рамках одной «идеальной» системы без революций и социальных катаклизмов.
Удивительно, что почти два десятилетия жизнь, казалось бы, подтверждала позицию мыслителя, хотя, конечно, в обществах мировой периферии «кое-где, порой» еще случались социальные бури, которые можно было по известной привычке назвать «родимыми пятнами прошлого», последними социальными столкновениями в борьбе за торжество демократических ценностей.
Но как всегда, в конце концов, история преподнесла сюрприз. Виной ли тому всемирный экономический кризис, либо что-то другое, но социумы забурлили вновь. Не только на периферии, как, например, «арабская весна» на севере Африки и Ближнем Востоке, но и в сердце мирового гегемона десятки тысяч людей выходят на улицы с серьезными социально-экономическими требованиями. Совершенно очевидно, что одни только формально-демократические методы управления и поддержания социального порядка в обществе представляются этим людям недостаточным средством для решения их проблем, что и приводит к таким уличным протестам, как «Occupy Wall Street!».
Неожиданно вскипело и российское общество, еще совсем недавно, по мнению социологов и политологов, погруженное в сон. Массовые протестные акции не прекращаются уже более года, и как будут развиваться события дальше, не ясно.
Более того, оказалось, что все эти социальные выступления сложно уложить в уже ставшую традиционной схему наступления и торжества демократии. «Арабская весна», начинавшаяся под демократическими лозунгами, сегодня все более явно проявляет совсем другой характер, связанный с агрессивным исламизмом и традиционализмом. В США и Европе все чаще звучат антикапиталисти-ческие лозунги, а труды К. Маркса вновь становятся бестселлерами. На митингах в России все больше появляется, с одной стороны, националистических, а с другой, красных коммунистических флагов и лозунгов.
В общем стабильность общества как показатель конца истории оказалась фикцией, а перед обществознанием вновь встали вечные вопросы: насколько стабилен порядок в обществе и чем этот порядок поддерживается, как и насколько можно управлять обществом, и где лежат пределы подобной управляемости, кто управляет обществом, и какие механизмы все же удерживают общество от хаоса.
При этом проблема управляемости в обществе является актуальной для любой социальной системы; особенно остро она проявилась в обществах, характеризующихся резкой ломкой ценностных установок и норм взаимодействия между субъектами социальной жизни, между обществом и властью. Стало понятно, что управляемость в обществе является интегральным качеством, зависящим от управляемости всех его подсистем (центрального властного управления — властной вертикали, экономической подсистемы, сферы самоорганизации граждан и др.). Поэтому научный анализ степени и форм управляемости в каждой из них стал необходимым условием для выявления и обеспечения факторов, способствующих укреплению социального порядка и устойчивому развитию общества.
Чрезвычайно важной и актуальной проблемой в данном контексте становится изучение исторически сложившихся в обществе институтов самоорганизации. Так как эти социальные институты, как правило, не формальны, а иногда и не артикулированы, то политическая власть зачастую выстраивает свои управленческие стратегии по отношению к ним без должного учета специфики их организации. В связи с этим снижается качество управленческих взаимодействий как в области взаимоотношений сферы общественной самоорганизации и центральной власти, так и на уровне гражданской самодеятельности как таковой.
В этом смысле одной из задач данной монографии является выявление того, как сложившиеся устои, традиции и нормы влияют на управленческие взаимодействия, на модели поведения управляющих и управляемых. Тем более что в ситуации социальных изменений, смены системы государственного устройства, типа и форм власти субъекты управления зачастую принимают и используют формы и способы поддержания управляемости и порядка, заимствованные из других социальных систем, как правило, западных. В результате возникает ситуация, когда институциональные модели, принимаемые центральной властью для организации взаимодействия с общественными ассоциациями, не вполне соответствуют традиционным неформальным институтам самоорганизации, имеющим иную культурно-историческую обусловленность. В частности, в качестве образца социального института, опосредующего взаимоотношения общества и власти, безоговорочно принимается такой институт, как гражданское общество классического типа.
Нужно сказать, что на Западе гражданское общество как социальный ресурс управляемости социумом не только продемонстрировало свою эффективность, но и было хорошо изучено и описано в социальных науках. Однако опыт внедрения и формирования данного института в постсоветских странах показал, что, несмотря на количественный рост партий, общественных организаций и ассоциаций, продолжает сохраняться разрыв между надеждами, возлагаемыми на него, и реальной политической практикой и повседневной жизнью граждан.
На наш взгляд, заимствование институтов, эффективных в других странах, на постсоветском пространстве зачастую приводит к созданию превращенных институциональных форм, так называемых институциональных ловушек. Попытки создания института гражданского общества по западному образцу в стране с укорененными традициями коллективизма, служения общему благу и общественной солидарности по моделям, в основе которых лежит защита частного интереса и конкурентная этика, приводят, как правило, к формированию квазиинститута гражданского общества. Вследствие чего, несмотря на общий рост управляемости как качества социума, достигнутый благодаря восстановлению механизмов политической власти, такой ресурс, как управляемость в сфере самоорганизации и самодеятельности населения, используется в недостаточной степени. Это не только снижает степень управляемости обществом, но и подавляет потенциал гражданственности людей, чем создает «слабые звенья» в функционировании социальной системы.
В этом плане в монографии ставится цель выявить сущность и содержание социальных институтов, в частности института гражданственности, в рамках которых исторически и культурно осуществлялась самоорганизация и самодеятельность людей в обществах восточнославянской цивилизации, возможности их оптимального использования во взаимоотношении общества и власти на постсоветском пространстве, и в частности в Беларуси.
Основной идеей монографии является положение о том, что в основе управляемости социумом лежат конкретноисторические особенности взаимосвязи власти и общества. На определенном этапе исторического развития на Западе (Новое время) и в государствах восточнославянской цивилизации появляется автономная от общества власть в форме бюрократии, осуществляющей централизованное управление, и, соответственно, автономное от власти общество. Однако возможности центрального, властного, бюрократического управления общественной периферией фактически ограничены численностью бюрократического аппарата и формальными методами управления.
В монографии выдвигается идея о том, что исторически проблема «периферического» управления решалась по-разному: посредством гражданского общества на Западе и феномена гражданственности в восточнославянской цивилизации. В отличие от западных обществ, где гражданское общество, будучи естественным результатом культурно-исторической эволюции, отражает типические характеристики западного социума, в России, Беларуси и других странах постсоветского пространства решением проблемы периферического управления исторически стал институт гражданственности.
Глава 1 Формы взаимоотношения общества и власти
1.1. Теория и методология исследования гражданского общества и гражданственности
Так как предметом любого исследования является логическое описание объекта посредством совокупности понятий, при помощи которых описывается объективная реальность, в монографии такой предмет раскрывается на трех уровнях: категориальном (общетеоретическом), концептуальном (частнотеоретическом) и конкретно-эмпирическом.
На категориальном уровне исследования гражданское общество и гражданственность рассматриваются с точки зрения тех парадигмальных схем социальной реальности, которые включают феномен взаимоотношения общества и власти как базового элемента. В этом смысле в основании категориальной матрицы исследования лежит система специальных научных категорий, используемая в рамках нескольких принятых автором социологических парадигм: социально-исторического детерминизма, структурно-функциональной, интерпретативной и др.
На частнотеоретическом уровне гражданское общество и гражданственность как социальные ресурсы управляемости в обществе описываются в формате теории среднего уровня. Основу понятийной матрицы в данном случае составляет спектр таких понятий, как «гражданское общество», «гражданские ассоциации», «власть», «самоорганизация», «гражданственность» и др.
Конкретно-социологическое изучение гражданского общества и гражданственности осуществлялось в монографии на основании результатов тех конкретных эмпирических исследований, которые предпринимались социологами на постсоветском пространстве, а также в Беларуси, включая пилотажное авторское социологическое исследование 2009 г. (всего опрошено 342 человека) и социологический опрос населения г. Минска 2010 г. (всего опрошено 410 человек), мониторинги изучения общественного мнения населения (Институт социологии НАН Беларуси) 2011–2012 гг. Специфика языкового поля в этом случае состояла в концентрации внимания на тех сторонах взаимоотношения общества и власти, которые поддаются количественному и качественному измерению, операционализации, шкалированию и т. п.
Методологической основой изучения гражданского общества и гражданственности как социального ресурса в процессе взаимоотношения общества и власти на категориальном уровне явились работы К. Маркса, М. Вебера, Т. Парсонса и др. В частности, для объяснения культурноисторической обусловленности институциональных форм взаимоотношения общества и власти использовался принцип социально-исторического детерминизма К. Маркса. Также для выявления специфики способов диалога общества и власти использовался тот факт, что при рассмотрении различных взаимоотношений и взаимосвязей в социальных системах Т. Парсонс в сконструированную формализованную модель системы действия вводит функциональную категорию интеграции, которая наряду с адаптацией, воспроизводством и целедостижением является базовой для функционирования системы. По Т. Парсонсу, любая общественная система имеет две основные оси ориентации. Первая ось: внешнее — внутреннее. Это значит, что любая система ориентируется либо на события окружающей среды, либо на свои собственные проблемы. Вторая ось: инструментальное — консуматорное. В этом случае ориентация системы связана либо с сиюминутными, актуальными, либо с долговременными, потенциальными потребностями и целями. На пересечении осей возникает набор из 4 основных функциональных категорий и соответствующий им инвариантный набор функциональных проблем:
1) адаптации системы к внешним объектам;
2) целедостижения (получения удовлетворения или кон-сумации от внешних объектов с помощью инструментальных процессов);
3) интеграции (поддержание гармоничных бесконфликтных отношений между элементами системы);
4) воспроизводство структуры и снятия напряжений (сохранения интернализованных и институционализован-ных нормативных предписаний и обеспечения следования им) [187, с. 524–525].
На уровне социальной системы функцию целедостиже-ния обеспечивает политическая подсистема, функцию интеграции — правовые институты и обычаи, функцию воспроизводства структуры — система верований, мораль и органы социализации, включая семью и учреждения образования, функцию адаптации — экономическая подсистема.
Итак, согласно Т. Парсонсу, необходимыми условиями выживания социальных систем являются достижение целей системы посредством формы правления или правительства, интеграции системы общинами, ассоциациями и организациями, поддержания приверженности ценностям, а также адаптации к внешней среде. При этом соблюдение интегрального единства общества обеспечивает, по Т. Парсонсу, тот факт, что оно должно иметь «достаточное количество своих компонентов, акторов, адекватно мотивированных на действие в соответствии с требованиями ее ролевой системы, настроенной позитивно относительно выполнения ожиданий, и негативно — к слишком деструктивному, т. е. девиантному, поведению» [188, с. 100]. Данное понимание Т. Парсонсом функциональных свойств интеграции и места в ней ролевых отношений и социальных ожиданий составляет в монографическом исследовании проблемы гражданского общества и гражданственности как социальных ресурсов управляемости в процессе взаимоотношения общества и власти ее парадигмальную основу.
Второй аспект категориального уровня исследования касается интерпретативной социологической парадигмы, основанной на теории рационального действия М. Вебера. Выделяя четыре вида действия (целерациональное, ценностно-рациональное, аффективное и традиционное), М. Вебер настаивает на том, что рационализация социального действия — тенденция исторического процесса. Считая, что этот процесс протекает не без «помех», «отклонений», М. Вебер все-таки утверждает, что европейская история последних столетий и вступление других, неевропейских цивилизаций на путь индустриализации, предложенный Западом, свидетельствуют о том, что рационализация есть всемирно-исторический процесс. В частности, он утверждал: «Одной из существенных компонент «рационализации» действия является замена внутренней приверженности привычным нравам и обычаям планомерным приспособлением к соображениям интереса. Конечно, этот процесс не исчерпывает понятия «рационализация» действия, ибо последняя может протекать, кроме того, позитивно — в направлении сознательной ценностной рационализации — и негативно — не только за счет разрушения нравов, но также и за счет вытеснения аффективного действия и, наконец, за счет вытеснения также и ценностно-рационального поведения в пользу целерационального, при котором уже не верят в ценности» [39].
Соглашаясь с данной теорией, в частности с типологией социального действия и с ролью духовных образований в развитии социума, мы сомневаемся в выводах, сделанных М. Вебером в отношении предопределенности исторического развития различных цивилизаций по западному образцу. В исследовании указанный недостаток мы учитываем как на парадигмальном уровне, так и на концептуальном. В частности, используем идеи М. Крозье, в основе которых лежит принцип рассмотрения социального субъекта в качестве действующего индивида, обладающего «ограниченной рациональностью» (он и творец: «голова, проект, свобода», и исполнитель, и существо, подверженное аффектам). Общество, с его точки зрения, есть совокупность интеракций, т. е. множество межличностных взаимодействий, принимающих форму «игры» и формирующих «коллективную ткань» жизни общества [133, с. 37]. Хотя заявления автора об определяющей роли «игрового» характера взаимоотношений не бесспорны, тем не менее в монографии принимается и развивается положение о том, что трансформация общества напрямую зависит от изменения сознания его членов, осуществляющих «коллективное обучение» новым отношениям в рамках социальных институтов.
Парадигмальный характер также имеет для монографического исследования методологический принцип теории Н. К. Михайловского, по мнению которого социология должна пользоваться не только объективным методом (поиском «правды-истины»), но и субъективным (оценкой социальных явлений и событий с позиций «правды-справедливости») [167]. В реальном мире необходимо действовать в соответствии с целями и «общим идеалом», недопустимо механически переносить на человеческое общество законы природного мира. Пренебрежение идеалами неизбежно ведет к взгляду на общественную жизнь как на процесс, где каждый руководствуется эгоистическими принципами, не стремясь ни к собственному совершенству, ни к совершенству общества в целом [47, с. 108].
Следует отметить, что в работе конструирование предмета исследования на общетеоретическом уровне осуществлялось в границах парадигмы структурно-функционального и системного анализа, конфликтологическая теории; парадигмы социальных дефиниций, включающей теории социального действия и феноменологическую социологию; а также парадигмы социально-исторического детерминизма, представленной марксизмом.
То есть, соглашаясь с мнением Н. Бора, что никакое сложное явление нельзя описать с помощью одного языка, какой-нибудь одной интерпретации или на основе одной парадигмы, в монографии при анализе проблемы периферического управления обществом в процессе взаимоотношения общества и власти мы используем методологический принцип — принцип мультипарадигмальности.
Теоретический уровень анализа определялся в книге в контексте исторических закономерностей развития и функционирования общества, институтов (таких, как религия, власть), личности и гражданских ассоциаций; а сам анализ носит сравнительно-исторический и социально-теоретический характер. При этом в анализе выступали две группы вопросов, касающихся структуры социума: 1) места и роли гражданского общества и гражданственности как социального ресурса управляемости в процессе взаимоотношения общества и власти в разных социальных системах, а также во взаимодействии ее с внешним миром (системная и структурная парадигмы, социально-исторического детерминизма и теории социального действия); 2) природы и характера различных форм и способов взаимоотношения, рассматриваемых с точки зрения «внутреннего опыта» субъекта, его непосредственного восприятия «жизненной целостности», «предынтерпретации» социальных связей на основе убеждений, мировоззренческих принципов, культурных традиций и др. (интерпретативная парадигма). Предмет исследования данной проблемы на этом уровне предполагал построение концептуальной схемы в контексте закономерностей конкретной системы «общество — государство» в странах постсоветского пространства, и в частности в Беларуси.
Гипотетические положения о специфике взаимоотношения общества и власти, о формах и способах периферического управления обществом проверялись эмпирически с помощью данных социологических исследований (мониторинговых, сравнительных) на конкретно-эмпирическом уровне. Реальная практика проведения авторского пилотажного социологического исследования, осуществленного в 2009 г. в одном из районов г. Минска, и основного социологического опроса населения г. Минска в 2010 г. разворачивалась с учетом методологических и исторических моделей системы «общество — власть». Однако она осуществлялась на конкретно-эмпирическом уровне, где исследовались узколокальные тенденции и особенности взаимоотношений с местной властью разного рода социальных субъектов (индивидов, ассоциаций, социальных групп и др.). В основном в опросе ставились ситуационные или оперативные проблемы, которые не только подтвердили авторскую концептуальную схему, но и послужили материалом для выработки рекомендаций в целях оптимизации управленческих решений.
Изучение феномена власти в системе «общество — власть — индивид» явилось еще одним звеном исследования, требующим методологического обоснования. В рассмотрении данного аспекта проблемы мы также обращались к идеям классиков социологии: Т. Парсонса и М. Вебера, к другим современным западным и отечественным авторам. Согласно М. Веберу, «власть есть возможность того, что одно лицо внутри социального отношения будет в состоянии осуществить свою волю, несмотря на сопротивление других, участвующих в действии» [38, с. 366].
Основной признак господства власти, по М. Веберу, — способность аппарата управления гарантировать «порядок» на данной территории путем угрозы или применения психического или физического насилия в системе «общество — власть». М. Вебер выделяет три основных элемента: господствующее меньшинство, аппарат управления и подчиненные господству массы. Власть пытается культивировать веру в свою легитимность, понимаемую Вебером как способность политических режимов создавать социальную базу поддержки своих действий и формировать позитивное отношение массового политического сознания по отношению к данному режиму. Именно различные виды веры в легитимность связывает ученый с различными организационными формами властных структур (харизматическое господство, традиционное и рационально-легальное).
Но если для М. Вебера главным во взаимоотношениях общества и власти является обеспечение веры в легитимность политического режима у действующего субъекта, то для Т. Парсонса важен нормативный аспект осуществления легитимности, понимаемый как сочленение системы норм и экспектаций с регулирующими их ценностями. И у М. Вебера, и у Т. Парсонса в конечном счете при условии легитимности порядка индивид должен добровольно подчиняться существующему режиму, поскольку он понимается как рационально действующий субъект, осознающий необходимость послушания. Парсонс считает, что в основе стабильности процессов взаимодействия лежит дополнительность социальных ожиданий: «…такая связь между ролевыми ожиданиями и санкциями, очевидно, является взаимодополнительной. То, что является санкцией по отношению к эго, по отношению к другому — его ролевое ожидание, и наоборот» [188, с. 96].
При написании монографии мы опирались также на идеи белорусского социолога С. А. Шавеля, который, развивая теорию социальных ожиданий Т. Парсонса как способа объяснения взаимосогласованных действий в обществе, отмечает, что основой социальной интеграции являются социальные ожидания относительно других людей. «По своему содержанию, — отмечает С. А. Шавель, — социальные ожидания есть антиципация (предвосхищение, прогнозирование) вероятных реакций другого (других) участников взаимодействия в ответ на собственные действия субъекта» [266, с. 195]. Ученый, раскрывая понятие социальных ожиданий в контексте теории социальных ролей, утверждает, что «через формулу ролевых ожиданий общество «указывает», какое действие считается социально приемлемым и инструментально эффективным» [266, с. 75]. По мнению С. А. Шавеля, согласование ожиданий есть основной закон сохранения системного взаимодействия.
Все это становится возможным на основе дополнительности ролевых ожиданий и согласованности ожиданий социальных [266, с. 171–172].
В отличие от М. Вебера мы полагаем, что институт власти не основан на насилии, на способности «осуществить свою волю, несмотря на сопротивление других». Здесь происходит в конечном счете сведение власти к насилию. На наш взгляд, власть основана на способности субъекта власти управлять, выполняя свою роль в рамках соответствующих социальных институтов, удовлетворяя социальным ожиданиям управляемых, соответствуя в своем поведении сформированным в культуре и транслируемым ее традиционным паттернам (набору стереотипных поведенческих реакций или последовательностей действий) поведения власти. Даже насилие со стороны власти становится приемлемым, если оно осуществляется в соответствии с культурно обусловленными паттернами, и невыносимым, если поведение власти не отвечает ожиданиям управляемых.
В этом смысле концепция М. Вебера относится к «секционным концепциям власти», представленным также такими авторами, как Х. Лассуэлл, Э. Кэплэн, Р. Даль, Д. Картрайт, С. Льюкс, Э. Гидденс и др. В них власть рассматривается как асимметричное отношение, как власть «над кем-то», как отношение с нулевой суммой, в котором рост власти одних индивидов и групп означает уменьшение власти других индивидов и групп.
В современной отечественной литературе при рассмотрении взаимоотношения общества и власти также, как правило, имеют в виду их противостояние. В данной работе развивается точка зрения, присущая «несекционной концепции власти», допускающей, что власть может осуществляться к общей пользе. Власть рассматривается здесь как коллективный ресурс, способность реализации общего интереса. Современными представителями этого подхода являются такие авторы, как Т. Парсонс, Х. Арентд и некоторые другие.
В монографии обосновывается концепция, согласно которой ситуация, о которой можно говорить как о противостоянии власти и общества, исторически конкретна. По нашему мнению, множество общественных систем организованы таким образом, что отношения власти у них являются функцией общественной пирамиды, неотделимы от общества, и, как следствие, говорить относительно них о противостоянии общества и власти невозможно. Таковы были отношения власти на родоплеменной стадии общественного развития. Ровно так же невозможно в терминах противостояния власти и общества рассматривать полисный мир классической античности и феодальное общество.
Общество может находиться в определенных отношениях с властью только при условии автономности власти от общества, чего не могло быть в эпоху классической античности и феодальную эпоху. Политическая власть в древнегреческом полисе осуществлялась гражданами по выбору или по жребию. Выполнение обязанностей по осуществлению власти было не только правом, но и обязанностью всех граждан полиса. Поэтому власть не была автономной, не имела собственного, не совпадающего с общественным интереса.
Подобным образом власть не имела автономии в феодальные времена. Функции власти осуществляли феодалы в соответствии со своим местом в иерархии сеньоральновассальных отношений согласно размерам земельных владений. Экономическая, социальная и властная структуры существовали неразрывно, обусловливая друг друга. Общество было гомогенно, и говорить об автономии власти не приходится. Конечно, нельзя отрицать социальной конфликтности и в полисном мире, и при феодализме, однако эти конфликты были в полной мере именно классовыми и не могли выражать конфликта власти и общества.
В Европе автономная власть появилась в Новое время с распадом феодального общества и рождением бюрократии. Впрочем, автономная от общества власть существовала и раньше, в иные исторические эпохи. Начиная с восточных деспотий, китайских императорских учреждений, поздней римской империи, были организованы бюрократии, профессиональное чиновничество, занятое управлением. Однако эта бюрократия до поры находилась в подчиненном положении, встраивалась в традиционную гомогенную структуру общественной пирамиды. С развитием буржуазной парламентской демократии в Европе появилась особая категория профессиональных политиков, которая, интегри-ровавшись с бюрократией, определила высокий уровень автономии власти. Именно в такой ситуации можно говорить о взаимоотношениях власти и общества.
Автономия власти заключается в том, что иерархия власти, бюрократическая и политическая вертикаль сегодня существуют отдельно от общественной иерархии и не совпадают с нею. Профессиональные политики и чиновники оформились в достаточно автономную социальную группу, с собственными внутренними отношениями, иерархией, интересами и целями, далеко не всегда совпадающими с интересами и целями общества. Как следствие стал возможен конфликт власти и общества, который нельзя рассматривать как, например, классовый (хотя обычно классовая составляющая в нем присутствует).
Нужно заметить, что в Новое время в связи с ростом социального веса буржуазии появляется и «общество» в узком, специфическом смысле, как некая общественность, осознающая свои, отличные от властных интересы и цели. Проблемой гомогенного феодального общества было то, что оно отторгало и игнорировало элементы социальной структуры, не входящие в классическую иерархическую триаду «крестьянин, рыцарь и священник». Как следствие, в условиях отсутствия автономной власти городская буржуазия, чей реальный вес в общественной иерархии существенно вырос, была полностью отстранена от системы политической власти и не имела легальных путей на нее воздействовать. Она и образовала то самое «общество», которое в осознании своих особых интересов выступило против политической власти феодального общества. Это «общество» и стало прологом современному обществу, осознающему свою автономность от современной политической власти.
В этой ситуации возникла проблема управляемости обществом, в частности его периферией, от чего во многом зависит социальный порядок в обществе. В данном контексте управляемость — это «качественная характеристика социальной среды, позволяющая социализированным субъектам устанавливать и достигать определенные цели во взаимодействии друг с другом. Управляемость создается и обеспечивается субъектами управления. Однако субъекты распространяют управляемость в обществе не непосредственно, а с помощью создания институтов управления, транслирующих управляемость» [205, с. 12]. Соответственно, можно определить периферическое управление как систему управленческих отношений, отношений власти и подчинения, организующих сферу гражданских взаимоотношений, самоорганизации и самоуправления, независимых от системы центрального, государственного управления, в целях поддержания и совершенствования социального порядка в обществе.
Большинство социальных институтов влияют на управляемость обществом, однако существуют такие, которые прямо поддерживают и воспроизводят определенную форму властного управления. В первую очередь это политические институты и институты, воспроизводящие бюрократическую организацию власти. Эти институты организуют определенную область человеческой деятельности, а именно государственное управление.
Как показано выше, именно автономизация государственной власти, появление автономной иерархии профессиональных политиков и бюрократов поставили перед обществом проблему управляемости. Она заключалась в том, что для управления всем обществом, вплоть до мельчайших проявлений его стихийной самодеятельности, требовался управленческий аппарат, равновеликий самому обществу. Понятно, что подобный Левиафан общество попросту не в состоянии содержать. Проблема была разрешена посредством разграничения сфер центрального и периферийного управления. Если центральным управлением занимались профессиональные политики и бюрократы (властная вертикаль) и оно входило в сферу государственного управления, то периферийное управление осуществлялось иным способом, а именно с помощью гражданского общества на Западе и института гражданственности в рамках восточнославянской цивилизации. Гражданское общество и гражданственность выступили в качестве социальных ресурсов управляемости обществом на периферическом уровне. Социальные ресурсы в данном контексте — это латентные социальные практики, ролевые модели и нормы, хранимые культурой, которые в процессе их освоения через социальные взаимодействия (индивида, общества, власти) могут способствовать укреплению, совершенствованию и развитию социальной организации, качеству управляемости обществом.
Нужно отметить, что термин «управляемость» был введен в научный оборот кибернетикой, где управляемость тесно связана с подконтрольностью; в кибернетике управляемость означает способность системы достигнуть контролируемых параметров. В подобном контексте понятие управляемости появилось и в социальных науках, тут же получив негативный оттенок. Об «управляемом обществе» и «управляемой демократии» как кризисном состоянии общества говорили Г. Маркузе и Э. Фромм. Постепенный пересмотр понятия управляемости начал происходить в рамках синергетики, где речь пошла о «точечной управляемости», где управляемость нужна, чтобы задать направление саморазвитию. Управляемость в синергетике стала пониматься как качественная характеристика управления, а в социологии — как характеристика всей социальной среды [205].
Исходя из современной социологической теории, можно выделить две основные точки зрения в понимании феномена управляемости. Это субстанциональный подход, где акцент ставится на исследование субъектов, производящих и воспроизводящих управляемость, формирующих специфические институты управления. Такому подходу адекватны взгляды Т. Парсонса, П. Бергера и Т. Лукмана. Другая точка зрения, которую представляют П. Бурдье, Н. Луман и Э. Гидденс, ставит акцент не на субъектах и институтах, а на связях между ними, которые и формируют, по мнению исследователей, субъекты и институты.
Как наследство негативных подходов к понятию управляемости и сегодня зачатую противопоставляют управляемость и самоорганизацию. Самоорганизация и управляемость (особенно в синергетике) рассматривается в контексте дихотомии хаоса и порядка, однако современная социологическая теория видит в управляемости как раз предпосылку самоорганизации. Любое совместное действие в рамках самоорганизации предполагает наличие управляющего субъекта и управляемого объекта, пускай речь идет всего лишь об уборке двора жильцами дома, и в данном случае не важно, что роли могут легко меняться. Поскольку мы говорим о самоорганизации, очевидно, что возможности субъекта управления управлять никак не подкреплены силой и авторитетом, которыми обладают формальные институты государственного управления. Условием добровольного установления отношений управления как со стороны управляющего субъекта, так и со стороны управляемых являются наличие институтов (норм, ролей), в рамках которых происходит действие, и степень интериоризации субъектами социальных норм и ролей, сформированных в рамках этих институтов.
На Западе области центрального и периферического управления встречаются на уровне местного самоуправления, которое, по мнению некоторых авторов (О. Оффердал [183]), можно рассматривать и как низовой уровень государственного управления, и как важнейший элемент организации гражданского общества. В связи с этим западная политическая доктрина признает за местным самоуправлением крайне важную роль. Гражданственность в отечественной традиции в меньшей степени замкнута на местное самоуправление и выступает инструментом в коммуникации с государственной властью на любом уровне властной иерархии, зачастую отдавая предпочтение высшим.
Нужно сказать, что в поисках адекватной стратегии модернизации постсоветского общества российские, белорусские и ученые других стран бывшего Советского Союза осознали необходимость достоверного знания, осмысления процессов взаимоотношений общества и власти в своем отечестве. В социологической, философской и политико-правовой литературе появилось большое количество научных публикаций, в той или иной степени освещающих проблемы взаимоотношения общества и власти. Это, в частности, работы белорусских ученых: Е. М. Бабосова, Ю. М. Бубнова, А. Н. Данилова, И. В. Котлярова, А. С. Майх-ровича, В. А. Мельника, С. В. Решетникова, С. А. Шавеля, а также российских обществоведов: К. С. Гаджиева, А. А. Галкина, З. Т. Голенковой, Б. Я. Замбровского, И. И. Кравченко, Ю. А. Красина, В. П. Макаренко, В. В. Петухова, Ю. М. Резника, В. Г. Федотовой и др., содержащие попытку осмысления мирового опыта в решении проблем управляемости обществом на всех уровнях и сферы гражданской самоорганизации в частности, а также соотнесения их с постсоветской действительностью. При этом почти все обществоведы, изучающие проблемы гражданского общества, считают, что механическое перенесение на постсоветскую действительность различных институтов гражданского общества, существующих в странах Запада, не приносит ожидаемых результатов.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. В качестве методологических оснований исследования гражданского общества и гражданственности наиболее оптимальным является мультипарадигмальный подход, включающий структурно функциональный анализ, интерпретативную социологию и социально-исторический детерминизм.
Во взаимоотношениях общества и власти с точки зрения социального порядка и управляемости обществом существуют две сферы социальной деятельности, которые регулируются разными социальными институтами. Сфера центрального управления — институтами политической власти и бюрократической организации, и сфера периферического управления — институтами гражданского общества на Западе и гражданственности в восточнославянской цивилизации.
Нам бы не хотелось, чтобы у читателя сложилось впечатление, что управляемость и порядок в обществе — прерогатива власти и управляющих органов. В любом обществе управляемость выступает не как однонаправленный процесс воздействия субъекта управления на объект (управляемых), а как явный или латентный диалог, вза-имовоздействие, в ходе которого инициатором выступает либо власть (центральное управление), либо общество (периферическое управление). Сфера гражданской самоорганизации, или, с точки зрения социологии управления, сфера периферического управления, является важнейшей системой управленческих отношений, отношений власти и подчинения, организующих сферу гражданских взаимоотношений, самоорганизации и самоуправления, независимых от системы центрального, государственного управления, в целях поддержания и совершенствования социального порядка в обществе. Она же является и способом реализации субъектности общества.
Соответственно, управляемость в обществе обеспечивается таким субъектом управления, как центральная власть, а также самим обществом благодаря тем формам социальной самоорганизации, которые и являются способами реализации его субъектности.
1.2. Социальная самоорганизация как способ реализации субъектности общества
В начале XXI в. вопрос о субъекте истории, казалось бы, уже закрытый в рамках марксизма и ряда других доктрин, приобрел необыкновенную актуальность, чему поспособствовала новейшая история, где простой человек слишком часто выглядит не более чем объектом манипуляции элит. Это нашло отражение в философских, социологических и политологических теориях. Однако рост популярности национализма возвращает нас в круг идей классической (но не современной) либеральной мысли, где вопрос о субъекте истории решался вполне определенным способом, и этот способ стал важнейшим элементом не теоретической рефлексии, а идеологической программы националистических движений.
Историософия либерализма, национализма и ряда других буржуазных доктрин Нового времени исходит из того, что народ стал субъектом истории только в эпоху модерна с утверждением демократии и гражданского общества как поля самоорганизующихся общин. Только в этот период, согласно данной точке зрения, народ образует нацию, через нее и посредством нее народные массы могут выступать в истории как субъекты. До становления модерна народные массы были лишь объектом исторического действия внешних сил, ибо организованные не более чем в рамках «локальных идентичностей» они не имели ни возможностей (физических, ментальных), ни социальных навыков к какому-либо историческому действию [134].
Такое положение, согласно данному подходу, привело к полной политической десубъективизации низовых, локальных общин, поскольку в рамках «демократических» и родственных националистических теорий историческая субъектность, как правило, сводится к субъектности политической. Реальным же субъектом истории в домодерновую эпоху считались лишь элиты, «дворянские династические корпорации» по мнению некоторых исследователей [135], что свидетельствует о живучести убеждения, что историю всегда творят исключительно элиты, герои. Во всяком случае, это представление не угасло со времен Геродота и Фукидида. Т. Карлейль говорил об истории как биографиях великих личностей, а Ницше рассуждал о сверхчеловеках и массах как глине в их руках. Сюда же можно отнести элитарные теории В. Парето, Дж. Мозеса, современных американских исследователей Х. Циглера и Т. Дая и др. Общество в таких теориях делится на массы и элиты, причем массы — «ситуативно возникающие (существующие) социальные общности, вероятностные по своей природе, гетерогенные по составу и статистические по формам выражения» [77, с. 234–235], в этом качестве просто не в состоянии проявлять реальную субъектность.
Альтернативный взгляд был предложен в марксизме. Историческая субъектность была признана им за всеми людьми, всем человечеством. В работе «Святое семейство» Маркс и Энгельс писали: «… а именно человек, действительный, живой человек — вот кто делает все это, всем обладает и за все борется. «История» не есть какая-то особая личность, которая пользуется человеком как средством для достижения своих целей. История не что иное, как деятельность преследующего свои цели человека» [157, с. 102]. Человек признается субъектом истории в первую очередь как производительная сила общества, как субъект общественного производства. В процессе труда человек воспроизводит себя, а через распредмечивание овеществленного в продуктах социального бытия общественного труда воспроизводит других людей и в целом общество. К сожалению, нужно признать, что сегодня именно в постсоветских странах с их когда-то мощнейшей школой изучения и развития марксизма сам марксизм основательно забыт (и забыт агрессивно), в то время как в западном мире наследие Маркса активно изучается и развивается.
Но вернемся к классическим либеральным и националистическим теориям. Как правило, на отечественной почве они являются результатом заимствования как процесса, сопутствующего вестернизации, на которую, к добру или нет, сориентировался в высокой степени постсоветский мир. Однако факт заимствования не отменяет проблемы генезиса названных представлений. Основой для подобных теоретических построений, на наш взгляд, послужили абсолютизация и гиперболизация специфических черт западноевропейского исторического развития. Затем делу поспособствовала нужда захватившей власть буржуазии в легитимации своей новоприобретенной власти и защите своих групповых интересов, выдаваемых за национальные интересы. Впрочем, нужно заметить, что та эпоха осталась в прошлом, и уже совсем другие теории придают легитимность современным западным элитам, а классический национализм, как и классический либерализм, отправились на экспорт, в том числе и на постсоветское пространство, поскольку вестернизация, по образному выражению, вскармливается продуктами второй свежести [245, с. 107].
Однако, как и вещи с чужого плеча, заимствованные социальные теории с трудом укладываются в ложе отечественного социального и исторического бытия. Вот с этими накладками мы и попытаемся разобраться, а начнем с того, что рассмотрим европейский исторический контекст, в котором сложились эти теории, а затем обратим внимание на отечественную историю, чтобы увидеть их подобия и отличия.
Дело в том, что после империи Карла Великого Европа, несмотря на формальный раздел, оставалась единым целым. Государственные границы были проведены сравнительно случайно и отражали перипетии феодальной борьбы и феодального родства, а не расселения народов и племен. Например, гасконцы как бы жили под скипетром французского короля, однако под рукой герцога аквитанского, по совместительству короля Англии, а другая их часть под именем «баски» и вовсе проживали на территории других королевств. Бургундцы (вполне отдельная народность, имевшая долгое время собственную государственность — королевство Бургундия — и сложившаяся на основе смешения гал-лоримлян и бургундов) жили и в графстве Бургундия, которое приносило оммаж императору Священной римской империи германцев, и в герцогстве Бургундском, вассальном французскому королю. В общем, о каком-то адекватном национально-территориальном делении говорить было сложно. Более того, все эти вассалитеты и подданства вовсе не были устойчивой структурой, и периодически благодаря династическим бракам и разводам, сменам династий и войнам элементы этих сложноподчиненных вассалитетов и подданств меняли свое положение.
В результате простой народ закономерно перестал интересоваться чем-то за пределами своего герцогства и графства и не ощущал какой-то особой близости с зачастую иноплеменными подданными своего короля, живущими бог знает где. Как следствие такого положения вещей появилась возможность сказать, что «история Европы определялась дворянскими династическими корпорациями». Под историей тут, очевидно, имеется в виду последовательность конфликтов, войн, территориальных переделов и т. п. Вот это и есть корни демократическо-националистической теории, гласящей, что народ до наступления модерна собственной исторической субъектности не имел, хотя нужно отметить, что у народов и племен Европы все же было специфическое осознание своей общности, но оно касалось общеевропейской идентичности, имперского осознания себя как «христианского мира».
Однако вернемся к анализируемым теориям. Итак, уже применительно к Европе этот подход (либеральный и националистический) основан на, как минимум, двух ошибочных положениях. Во-первых, в нем отчуждение народа от политического, от государства существенно преувеличено. Конечно, в том же французском королевстве жили и гасконцы, и бретонцы, и провансальцы, которым до короля в Париже особого дела не было, однако и в средневековой Франции мы можем обнаружить государствообразующий народ — северофранцузскую народность, сложившуюся как смесь франков и романизированных галлов. Язык этой народности лег в основу французского литературного языка, на территориях проживания этого народа распространялась власть ранних Капетингов, а Париж — это в первую очередь их столица. И в годы столетней войны они решительно доказали, что их отчуждение от политической сферы не стоит сильно преувеличивать.
Вторая ошибка состоит в том, что войны и переделы границ представляются им делом волюнтаристской воли «дворянских династических корпораций», что в действительности противоречит историческим фактам. Например, гиеньские бароны не просто так выступали на стороне английского короля, не только по причине вассалитета герцогу Аквитании, ибо, будучи одновременно подданными короля Франции, они имели достаточную свободу маневра. Но Аквитания была связана с Англией экономически, например, экспортируя в Англию вино, а с французскими виноделами других областей Франции, наоборот, конкурировала. Ровно по тем же причинам выступала против Парижа Фландрия, нуждавшаяся в английской шерсти и сбывавшая туда же готовое сукно. И фландрские герцоги, которые и хотели бы быть верными вассалами короля, стояли перед выбором: или бежать в Париж, или возглавить жителей Фландрии в их борьбе против королевской власти.
Но экономические интересы — это не строчки в балансовых книгах, а реальные, жизненные интересы простых людей. Из интересов, из воль этих простых людей, гиеньских крестьян и виноделов, фландрских сукновальцев и прядильщиков складывалась совокупная воля народов, которая принуждала баронов и герцогов воевать не где попало, а где нужно. Так народ проявлял себя как субъект исторического процесса. Впрочем, было бы вульгарно сводить все интересы к интересам экономическим. Есть и другие интересы, и как только эти интересы в своем единстве складывались в волю народа, «дворянские династические корпорации» действовали в нужном направлении или лишались головы.
Уже на этих примерах видно, что даже для Европы адекватность обсуждаемой теории весьма сомнительна. В приложении же к России и существенной части постсоветского пространства (восточнославянскому миру) эта теория и вовсе теряет всякую возможность претендовать на описание исторической реальности. Дело в том, что осознание своего единства русским народом произошло куда раньше, чем такое же единство было осознано в Европе в формате наций. Уже «Слово о полку Игореве» говорит о целостности и единстве русской земли, русских людей. Если во Франции провансальцы и, например, бретонцы вплоть до Великой революции воспринимали свое единство только через подданство, то на Руси осознание своего единства имело другие, куда более глубокие основания. Причин тому можно выделить немало, но поиск причин такого положения вещей не является предметом нашего разговора. Как бы то ни было, осознание себя общностью русских людей пережило такие испытания, как политическая раздробленность и оккупация западных областей русской земли литовцами и поляками. Никакой новгородский, рязанский, казачий или иной сепаратизм в те века не доходил до отрицания своего русского имени и своей принадлежности к русскому народу. В результате мы можем сказать, что отсутствует само основание, на котором европейцы построили националистическую теорию, а именно представление о народностях, связанных только случайным подданством и замкнувшихся в результате этого в кругу своих интересов, что и привело к отчуждению от политического, от истории.
Каков же тот социальный механизм, посредством которого осуществлялся процесс интеграции индивидуальных интересов и превращение этих интересов в волю народа, а народ, соответственно, в субъект исторического процесса? Если рассуждать не только на историческом языке, но и на языке социологическом, то, на наш взгляд, сама возможность интеграции индивидуальных воль в единую волю определенной общности лежит в способности людей к самоорганизации. В современном обществе произошла в некотором смысле узурпация либеральными теориями дискурса, связанного с самоорганизацией как социальным феноменом. Трудно отрицать, что способность к самоорганизации и образованию самоорганизующихся общностей народом является важным (хотя и не единственным) фактором, посредством которого народ может проявить свою единую волю, т. е. свою субъектность в истории. Однако, по нашему мнению, в отличие от буржуазного либерализма (где собственно национализм и почерпнул немалую часть своих постулатов) способность к самоорганизации вовсе не возникает у людей с появлением гражданского общества и, соответственно, нации. Можно согласиться с мнением В. С. Степина, что способность к самоорганизации есть родовая черта человека, присущая любому обществу на любой стадии исторического развития [232, с. 14]. Общество. где способность к самоорганизации нарушена, находится в больном, кризисном состоянии, в каком сегодня находится Россия, да и большая часть всего постсоветского пространства. Нужно учитывать, что разные общества в процессе исторического развития изобрели разные формы самоорганизации, разные «схемы», и то же гражданское общество на Западе — лишь одна из этих форм, отражающая специфику развития западного социума.
Поскольку факты истории демонстрируют, что народы не спали беспробудно все «донациональные» века, а периодически просыпались, например в России в период Смуты, крестьянских восстаний, крестьянско-казачьей колонизации Сибири или во Франции в эпоху, связанную с именем Жанны дАрк, а также многочисленных крестьянских и коммунальных движений, теоретики не могут закрывать на это глаза и вынуждены идти на компромисс с историей, признавая, что народы иногда «просыпались», а потом «засыпали» вновь. Ошибка тут заключается в том, что вопрос самоорганизации не рассматривается социологически. Не учитывается, что самоорганизация — это не просто случайная толпа, собравшаяся на перекрестке дорог. Самоорганизация происходит институционально, способность к самоорганизации, как и способы действия самоорганизовавшихся локальных групп в сфере политического, есть навык, которому люди научаются в процессе своей социализации. Люди обучаются определенным социальным ролям, воспринимают социальные ожидания, и все это связано с нормами и ценностями народа. Следствием такого положения вещей является то, что нельзя вдруг «проснуться», проявить способность к самоорганизации, вмешаться «в историю», а потом забыть о ней. Навыки самоорганизации, сам социальный институт, в рамках которого происходит самоорганизация, должны регулярно воспроизводиться, каждое следующее поколение должно научаться этим навыкам, и не просто по книжкам и рассказам дедушек, а регулярно разыгрывая эти роли, повторяя процедуру самоорганизации. Если провести грубую аналогию, то у теоретиков либерализма и национализма периодические пробуждения народа выглядят ровно так же, как выглядела бы компания людей, никогда не игравших в футбол, но собравшихся по случаю и обыгравших неплохую приезжую команду. А ведь так не бывает. Чтобы разыгрывать матч на поле, нужно играть хотя бы во дворах и играть регулярно.
Таким образом, сам факт крестьянских восстаний и других народных «пробуждений», факт исторического действия на политическом уровне (в том числе в эпоху Смуты в России) говорят о том, что способность к самоорганизации есть и деятельность по самоорганизации, и продукт этой самоорганизации. То есть локальные сообщества и институциональные формы их участия на политическом уровне в «донациональные» эпохи всегда присутствовали в восточнославянском и мире в целом и были естественным способом народной жизни.
Второй недостаток либерального подхода заключается в том, что в нем некритично воспринимается западная традиция с разделением народа и неких «начальников», которых как будто спустили в страну на парашюте. Нельзя отрицать, что в истории случались общества, где элиты и впрямь прибывали на парашютах: то ли это было завоеванием, то ли результатом мировоззренческого раскола общества, как сегодня в России, например. Но это были именно исторические эксцессы, «химеры», по образному выражению Льва Гумилева. Такие общества не обладали стойкостью и либо разваливались при ударах извне, либо находили способ взаимной ассимиляции, как, например, франко-нормандские элиты английского королевства, энергично англофицировавшиеся в ходе столетней войны.
Нормальное же общество едино, и сам факт длительного исторического существования и преуспевания того или иного общества однозначно говорит о таком единстве. В этом смысле, опять же в логике традиции, разделяющей народ и «начальников», либеральная доктрина говорит о самоорганизации только как о действии на местном, локальном уровне, не учитывая, что продукт самоорганизации — локальная общность — это вовсе не невнятная толпа индивидов, а система со своей иерархией, отношениями власти и подчинения, «зерно» общности высшего порядка и в конечном счете все государство, от крестьянина до царя есть продукт самоорганизации народа. В этом смысле удивляет, почему неформальные способы самоорганизации на низшем уровне представляются некоторым авторам [134] самоорганизацией народа, а как только они приобретают формальный характер, оформляются в государственные организационные формы, они чудесным образом превращаются в структуры подавления, выдуманные непонятно откуда взявшимися начальниками. Удивляет, как эти теории, неадекватные даже по отношению к Западу, применяют к восточнославянской истории, характеризующейся необыкновенно высоким уровнем вертикальной миграции на протяжении практически всей истории, от Древней Руси, где не сложилось никакого замкнутого военного сословия, и оно постоянно пополнялось из простого народа, Московского царства, где Иван Васильевич Грозный целыми разрядами, несколько раз переводил в дворяне боевых помещичьих холопов, до Николаевской России, где до 20 % офицеров русской армии являлись выслужившимися из солдат крестьянами. Где кончаются начальники и начинается народ? Народное ополчение Минина и Пожарского в большой степени состояло из помещиков. Они народ или начальники?
По мнению авторов анализируемых теорий, только демократические институты и парламентские процедуры обеспечивают народу возможность субъектно проявлять себя в истории. Но зная историю западных демократий (не говоря о последнем 20-летнем российском опыте), такое полагать по меньшей мере несерьезно. Как специфические социальные мифы легитимизировали власть феодальных элит в средние века, так новые социальные мифы, в том числе и миф о демократии (куда входит и миф о нации), всего лишь легитимизировали власть буржуазных элит в Новое время. Никакие демократические процедуры никогда за всю историю западных демократий не позволили отчужденным от политической власти классам и социальным группам завоевать власть. Власть всегда принадлежала тем или иным группировкам буржуазии и осуществлялась в интересах буржуазии. Как крестьяне сдерживали эксплуатацию и хищничество элит угрозой бунта, побегами и т. п., так рабочие и фермеры Нового времени сдерживали хищничество буржуазных элит угрозой восстания и стачек. Как карательные отряды вешали и пороли крестьян, так куда в больших масштабах расстреливали лионских ткачей или участников «марша ветеранов». Сегодня СМИ, как правило, эффективнее стволов и штыков, но изменилась ли ситуация по сути? Что более эффективно влияет на политику властей: письма депутатам и конгрессменам или челобитная царю?
Либеральный подход предлагает сделать вывод, что народ если и был когда-то субъектом исторической жизни, так это в античную эпоху, впрочем, и «народ» состоял тогда из достаточно узкой группы лиц. Однако с подобной позицией трудно согласиться, потому что реально воля людей проявляет себя куда сложнее и куда сильнее, чем посредством «демократических институтов». В том числе она проявляет себя через социальное согласие или, наоборот, несогласие на молекулярном уровне. В терминах социальной механики это выглядит следующим образом. Существуют социальные институты, в рамках которых люди могут повышать свой статус. Но чтобы эти институты функционировали и воспроизводились, люди должны ЖЕЛАТЬ повышать свой статус в этих институтах. В этом смысле та же буржуазная система, власть буржуазных классов определяется тем и постольку, поскольку представители эксплуатируемых классов хотят стать буржуазией. Институциональные системы некоторых постсоветских государств, основанные на коррупции и воровстве, несмотря на все свое уродство и публичную критику в СМИ, живее всех живых именно потому, что на входах в нее, в самом низу, где только начинается движение вверх, стоит очередь желающих. Если тот или иной конкретный институт теряет свою притягательность, если на входе очереди нет, то он отмирает, как отмирает член, лишившийся притока крови. Можно, конечно, туда «нагнать» народ в приказном порядке, но коли согласия нет, ничего не выйдет, все равно такой институт будет отмирать, только что поглощая ресурсы. Верно и то, что если формальной организации и даже самого социального института не существует, а функция, которую он должен выполнять, уже появилась, т. е. появилась новая общественная нужда, народ сам создаст этот институт, для начала как неформальный. Вот так, создавая на основе самоорганизации и отбрасывая отжившие социальные институты, из которых состоит институциональная система общества, народ и проявляет свою волю в истории. Так народ делает историю. При этом процесс образования и отмирания социальных институтов и институциональных систем в целом — это продукт деятельности всего народа, а не только беднейших массовых слоев, которые некоторые авторы предпочитают называть народом в противовес начальству [135]. Как будто они не догадываются, что начальство есть продукт тех самых социальных институтов, которые живут или отмирают в зависимости от согласия народа.
Так как, каким образом воля народа определяла исторический путь страны? Как свидетельствует история — везде и посредством всех формальных и неформальных социальных институтов производилось это действие: посредством миллионов отдельных взаимодействий, посредством активности в социальных лифтах общества, а также посредством реакции миллионов подчиненных возвращалась она к власти и проверялась обратной связью. Когда после завоевания бассейна Волги массы русских крестьян тронулись на жирные южные земли, они определяли исторический путь России, когда общины пуритан отправились в Новый Свет, они определяли исторический путь будущих Соединенных Штатов. Когда крестьянские сыновья исправно служили и побеждали, выслуживая погоны и личное дворянство, они опять же определяли исторический (своей страны) путь России. В войну 1805 г. русские солдаты не очень понимали, зачем и за что они воюют, и через 2 часа после начала сражения при Аустерлице объединенная армия союзников (в основном русских войск) бежала. Иначе было при Бородино, когда «Наполеон… все генералы, все участвовавшие и не участвовавшие солдаты французской армии, после всех опытов прежних сражений (где после вдесятеро меньших усилий неприятель бежал), испытывали одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв половину войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения» [238, с. 275–276]. Вот так русский народ волею своей писал историю. «Нравственная сила французской, атакующей армии была истощена. Не та победа, которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знаменами, и тем пространством, на котором стояли и стоят войска, — а победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии, была одержана русскими под Бородиным!» [238, с. 276]. Нельзя одержать нравственную победу из-под палки. Нельзя утвердить тысячелетние государства, создавать уникальную культуру только волей «начальников и командиров». И Берлин в 1945 г. одной волей Сталина, если бы с этой волей в унисон не слились миллионы индивидуальных воль, взять было тоже нельзя.
Конечно, участие народных масс в истории нельзя сводить исключительно к бессознательному, молекулярному действию в рамках системы социальных институтов общества. В данном разделе речь идет лишь об этой форме субьектности, однако народ выражает свою волю и через вполне осознанные действия — поддержку или, наоборот, борьбу против тех или иных политических сил, движений или персон, олицетворяющих эти силы и движения. И вот такая осознанная деятельность невозможна без развитых навыков к самоорганизации, поскольку акторами политической сферы являются по большому счету не индивидуумы, а организованные общности.
Но не только как субъект политического действия выступают самоорганизовавшиеся общности, но и как среда трансляции и распространения новых идей и представлений, как среда, в которой рождаются и утверждаются эти представления о должном. Если рассматривать историю любого государственного народа, то можно заметить, что в некотором смысле его история есть цепь перестроений собственного государства. И тут имеет смысл вспомнить слова Х. Ортеги-и-Гассета: «Строительство государства невозможно, если народное сознание неспособно отвергнуть привычную форму общежития и, мало того, вообразить новую, еще невиданную. Такое строительство — это подлинное творчество. Первоначально государство возникает как чистый плод воображения. Воображение — освободительное начало в человеке. Народ способен создать государство в той мере, в какой он способен фантазировать» [181, с. 138]. Без этой способности к фантазии всего народа любые проекты элит и героев так и остаются сухой теорией.
Тем не менее для выявления особенностей исторической субъектности того или иного общества, его способности и возможности осуществлять периферическое управление и тем самым повышать степень управляемости есть смысл проанализировать специфику таких исторически сложившихся форм взаимоотношения общества и власти, присущих западной и восточнославянской цивилизациям, как гражданское общество и гражданственность.
Глава 2 Социальные и историко-культурные основания форм взаимоотношения общества и власти в западной цивилизации
2.1. Эволюция представлений о гражданском обществе как институциональной форме взаимоотношения общества и власти
Гражданское общество как философское понятие введено в науку Аристотелем. Он утверждал, что перед тем как определить, что есть государство, необходимо понять, что такое гражданин, ибо что есть государство как не совокупность граждан. Очевидно, под нормальным государством Аристотель понимал древнегреческий полис. В своем знаменитом труде «Политика» Аристотель говорит о том, что полноценное гражданство и сообщество граждан существуют только там, где верховная власть действует в интересах общего блага, а граждане могут принимать «равное участие во всех выгодах общественной жизни» [11, с. 469]. Однако античной демократии были чужды представления о законах, стоящих над государством-общиной, об ограничениях и правовых принципах, которые мы сегодня называем конституцией. Законодательство античных государств — полисов устанавливалось исключительно по воле граждан. Волею же граждан определялись права и обязанности самих граждан и неграждан (метеков, перегринов и т. д.). Идеи неотъемлемых прав человека, незыблемых конституционных принципов не существовало. Права конкретного человека вне его общины были обусловлены силой общины, ее политическими взаимоотношениями с другими общинами. Внутри же полиса частные интересы гражданина сливались с интересом общины, а в случае их столкновения приоритет, бесспорно, отдавался полисным интересам. Любой человек идентифицировал себя исключительно как гражданин полиса и был всецело зависим от него, а люди, не являющиеся представителями полисного мира, в полном смысле людьми не признавались.
Причиной тому была ситуация, когда сообщество граждан одновременно прямо и непосредственно представляло власть. Каждому гражданину было вменено в обязанность исполнять властные функции. Власть и общество граждан не были расчленены, не являлись в этом смысле особыми, автономными друг от друга субъектами, потому говорить о гражданском обществе в античную эпоху можно лишь условно. Можно предположить, что подобная ситуация была связана с религиозными, языческими представления древних греков, в которых отсутствовала идея неких надмировых (существующих вне «естественного космоса»), абсолютных истин, подобных христианским, источником которых становится надмировой абсолют. Соответственно, как сказано в «Законах» Платона [191, с. 124], мораль и религия должны существовать не потому, что существуют боги и предписывают правила, а потому, что они предписаны законом.
С другой стороны, общество, которое одновременно было и властью — государством, на самом деле включало в себя сравнительно ограниченный круг полноправных граждан. Вне общества — государства находились неполноправные «не граждане» и вовсе бесправные рабы. Более того, античная история предоставляет нам примеры взаимоотношений таких «не граждан» и общества — государства. Например, известный из древнеримской истории исход плебеев на Священную гору [169, с. 291–292]. Однако античная мысль не объясняла подобные процессы.
Знакомое нам гражданское общество как социальный факт и как идея начинали свое становление в эпоху Ренессанса, когда среди традиционного общества средневековой Европы впервые появились ростки Нового времени.
Впрочем, надо заметить, что сама возможность такого типа общества была уже заложена в христианстве. Интересна в этом плане книга Августина «О граде Божием» (De civitate Dei), где богослов предлагает ряд идей, особым образом развитых в эпоху Возрождения и далее — в Новое время. Эти идеи отразили особую антропологию западной культуры. Наказанием за грехопадение, по Августину, было само преступление. Человек «кровью и потом» вынужден был добывать хлеб свой, изнурять тело свое в попытках насытить его. Поставив любовь к самому себе выше любви к Нему, единственному, кто мог насытить его, человек стал рабом своих потребностей. Испортился человек, испортился и мир. «Мир не выполняет своих обещаний, — писал Августин. — Он лжец и предатель» [2, с. 94].
Но если классическое христианство признавало за грех страстную погоню за удовлетворением своих потребностей, предлагало смирять их, то Новый мир взглянул на ситуацию по-иному. Оставаясь на той же позиции факта человеческого несовершенства, Новое время зеркально изменило оценку. «Понимаемая отцами церкви как оковы, бесконечная и безнадежная фиксация каждого человека на своих собственных желаниях, стала в либерально-буржуазной идеологии условием самой возможности свободы», — пишет М. Сахлинс [207].
Телесные потребности — зло в христианской традиции, становятся «натуральными» у Т. Гоббса, а уж в экономической традиции от А. Смита до М. Фридмана они превращаются в основной источник прогресса и добродетели. Эти потребности делаются главным мотором поведения человека. Человек Ренессанса, по сути, элементарен. Он стремится от нужды и боли к насыщению и удовольствию. «Удовольствие не только высочайшее благо, но это и есть благо в чистом виде, сохраняющее принцип жизни и, таким образом, базовый принцип всякой стоимости», — писал Лоренцо Валла [35, с. 102]. И продолжая, он восклицал: «И что есть цель дружбы? Не была ли она столь желанна и так высоко ценима во всех странах людьми всех возрастов за что-либо кроме удовольствия от выполнения взаимных услуг, таких как дать, или получить те вещи, которые обычно нужны людям? Что касается господ и слуг, не может быть никакого сомнения, что их единственная цель — общая выгода. А что я должен сказать об учителях и учениках?.. Что, в конце концов, формирует связь родителей с детьми, если не выгода и удовольствие?» — пишет он [35, с. 102–103].
Оттуда растет и специфический индивидуализм Запада. Когда значимой утвердилась научная легитимация идеологических воззрений, механика И. Ньютона стала блестящим образцом подобных человеческих отношений. Впрочем, и до Ньютона Бернардино Телезио уже писал: «Совершенно очевидно, что природой движет эгоистический интерес. Природа не терпит ни пустоты, ни чего-либо бесцельного. Все вещи с удовольствием входят в контакт друг с другом, поддерживают свое существование и сохраняют себя в этом контакте» [25, с. 22].
По мнению Макиавелли, гражданское общество представляет собой совокупность противостоящих друг другу интересов различных общественных групп. Соответственно и демократия в таком обществе невозможна, потому что демократия требует от народа единства, высокой нравственности, благородства и отваги в деле защиты отечества и демократического, республиканского строя. Как следствие, перемены политических систем объяснялись Макиавелли порчей нравов, а рецептом было их исправление. В этом смысле он в полном соответствии следовал за античными авторами и в первую очередь за Ливием, безусловным для него авторитетом.
Современное ему общество Макиавелли полагал развращенным, озабоченным стяжательством, разделенным корыстными интересами сограждан. Вследствие этого восстановить республиканскую форму правления в таком обществе нет никакой возможности, и тем более нет возможности ее защитить. Это общество не в состоянии самостоятельно ни противостоять гнету тиранов, ни даже самостоятельно защитить свое отечество от нападения извне. Такое общество, по мнению флорентийца, не может считаться гражданским, такому обществу необходим правитель. Но ввиду пассивности и безнравственности общества правителю для защиты государства приходится применять любые средства, в том числе и совершенно безнравственные. Ложь, обман, убийства, война — все это не просто дозволенные, но обязательные средства для сохранения государства, ибо, по мнению Макиавелли, государство само по себе является целью и интересы государства превалируют над любыми другими интересами.
Важность этого трактата также состоит и в том, что он впервые отразил появление автономной от общества власти, государства, обладающего особенными интересами, отличными от общественных, ибо только в этом случае можно говорить о приоритете государственных интересов.
Религиозной реакцией на потребительский имморализм Ренессанса становится аскетизм Реформации. Потребительство осуждается, как и любая роскошь, траты и излишества. В то же время труд, успешная профессиональная деятельность введены в ранг добродетели. Если католическая церковь признавала как слабость человека, так и возможность в нем и добра и зла, то Реформация объявила зло изначально присущим человеческой природе. Оно направляет его волю так, что ни один человек не способен совершить что-либо доброе исходя из собственной природы. «Одна из основных концепций всего мышления Лютера — это убеждение в природной греховности человека, его полной неспособности по собственной воле выбрать добро» [78]. Именно здесь можно увидеть корни «естественного человека» Гоббса. И здесь же можно наблюдать первый европейский «Левиафан», коим стала теократическая Женева под управлением Кальвина.
Религиозная идеология Реформации отказывала человеку в способности какими-либо своими действиями обеспечить себе спасение. Это по силам только Богу. Никакие молитвы, благотворительность и иные «добрые дела» ни на сантиметр не в состоянии приблизить человека к Богу. Он не должен даже размышлять, угодны ли Господу его труды, он не может быть уверенным в своем спасении, даже если у него есть вера. Праведность Христова заменяет его собственную праведность, утраченную в грехопадении Адама. Но никогда в жизни человек не может стать вполне праведным, потому что его природная порочность никогда не исчезает окончательно. «В ходе исторического развития, — отмечает Э. Фромм, — проповедь Лютера привела к еще более серьезным последствиям. Потеряв чувство гордости и достоинства, индивид был психологически подготовлен и к тому, чтобы утратить и столь характерную для средневекового мышления уверенность, что смыслом и целью жизни является сам человек, его духовные устремления, спасение его души» [257, с. 78]. Кальвин учит, что мы должны унизиться, что посредством этого самоуничижения мы и полагаемся на всесилие Божие. Он поучает, что человек не должен считать себя хозяином своей судьбы. Человек не должен стремиться к добродетели ради нее самой: это приведет лишь к суете. «Ибо давно уже и верно замечено, что в душе человеческой сокрыты сонмы пороков. И нет от них иного избавления, как отречься от самого себя и отбросить все заботы о себе, напротив, все помыслы к достижению того, что требует от тебя Господь и к чему должно стремиться единственно по той причине, что Ему так угодно» [257, с. 80].
Еще резче Кальвин поставил вопрос, предложив новую версию идеи «предопределения», утверждая, что Бог не только предрешает, кому будет дарована благодать, но и заранее обрекает остальных на вечное проклятие. Согласно Кальвину, спасение или осуждение не зависит ни от какого добра или зла, совершенного человеком при его жизни, но предрекается Богом до его появления на свет. Почему Бог избирает одних и проклинает других, — это тайна, непостижимая для человека, и не следует даже пытаться проникнуть в нее. Бог это делает, потому что ему угодно таким образом проявлять свою безграничную власть.
У Кальвина проглядывает, следовательно, идея прирожденного неравенства людей. У него все люди делились на тех, кто будет спасен, и тех, кому предназначено вечное проклятие. Поскольку эта судьба назначена еще до рождения, никто не в состоянии ее изменить, что бы он ни делал в течение своей жизни. Человеческое равенство отрицается в принципе. Люди созданы неравными. «Хотя и говорят, что Бог послал сына своего для того, чтобы искупить грехи рода человеческого, — проповедует Кальвин, — но не такова была его цель: он хотел спасти от гибели лишь немногих… И я говорю вам, что Бог умер лишь для спасения избранных…» (проповедь, прочитанная в 1609 г. в Бруке) [40, с. 213]. Отсюда и невозможность солидарности между людьми, замечает П. С. Гуревич, поскольку отвергается сильнейший фактор, лежащий в основе этой солидарности, — общность человеческой судьбы [78]. Точно знать, избран ты или отвергнут Господом, невозможно, об этом остается лишь догадываться. Определенным доказательством избранности служит постоянное, упорное и неутомимое следование добродетели. И одной из важнейших добродетелей является труд, профессиональная деятельность.
Кальвинизм требует, чтобы человек постоянно старался жить по-божески и никогда не ослаблял этого стремления. Оно должно быть непрерывным. Сам факт неутомимости человека в его усилиях, какие-то достижения в моральном совершенствовании или в мирских делах служат более или менее явным признаком того, что человек принадлежит к числу избранных. Деятельность служит не достижению какого-то результата, а выяснению будущего. Богатство необходимо не для роскошных трат «здесь», но как доказательство вечного блаженства «там». «Добросовестное стяжание» — это благочестие, соединяющее человека с Богом. Более того, отказ от богатства, коли есть тому возможность, есть грех. «Если Бог указует вам путь, следуя которому вы можете без ущерба для души своей и не вредя другим, законным способом заработать больше, чем на каком-либо ином пути, и вы отвергаете это и избираете менее доходный путь, вы тем самым препятствуете осуществлению одной из целей вашего призвания, вы отказываетесь быть управляющим Бога и принимать дары Его для того, чтобы иметь возможность употребить их на благо Ему, когда Он того пожелает», — комментирует М. Вебер [40].
Мы видим, что эпоха определила особую форму индивидуализма. Человек, не уверенный в себе (поскольку не уверен в своем спасении), тем более не уверенный в окружающих, способный лишь надеяться и эту надежду подтверждающий неустанной деятельностью, стал совершенно одинок. Это не просто отчуждение от других, это и трансцендентное отчуждение от непостижимого Бога, что, в свою очередь, делает отчуждение людей друг от друга глубочайшим.
Так же эпоха Реформации впервые предлагает удивительный тезис. Тезис о том, что собственность священна. Священна именно потому, что, с одной стороны, позволяет проявлять ту энергию деятельности, каковая служит доказательством будущего блаженства. «Право собственности обеспечивает природную сферу именно той активной энергии нашей воли, в которой, по Цвингли, мы подобны действующей божественной силе», — пишет Дильтей [88]. А с другой, попытка посягнуть на чужую собственность — это, значит, посягнуть на награду Господа, на уверенность в спасении и тем самым на саму вечную жизнь собственника, что, естественно, преступление гораздо более страшное, чем просто хищение средств для потребления. Не удивительно, что уголовный кодекс Англии Нового времени не знает себе равных по жестокости наказаний за преступления против собственности.
Разделение людей на избранных и отверженных также приводит к выводу о необходимости жесточайшего контроля со стороны избранных над отверженными. «Наш Господь Бог очень высок, поэтому он нуждается в этих палачах и слугах — богатых и высокого происхождения, поэтому он желает, чтобы они имели богатства и почестей в изобилии и всем внушали страх. Его божественной воле угодно, чтобы мы называли этих служащих ему палачей милостивыми государями», — читаем мы у Лютера [112].
Из рассуждения о высоком предназначении и праве избранных следует и определенная позиция реформаторских законоучителей в отношении государства и общества. Появляется идея «республики избранных». Их право и обязанность — устанавливать государство и ставить препоны обреченным на адские муки в их «дьявольских поползновениях». «Они первыми признали право нового христианского духа формировать государственное устройство. Они видели долг христиан в том, чтобы участвовать в создании структур власти. Государству необходимо, по мнению Цвингли, обладать присутствующим в истинном Евангелии высшим убеждением: лишь истинный христианин правильно выполняет функции своей должности; правление, лишенное страха Божьего, — тирания и низложение тирана общей волей народа оправданы» [88]. И там же: «Самоуправление христианского народа стало идеалом реформаторов вплоть до эпохи Кромвеля и его кавалеров, и этот идеал способствовал преобразованию Европы вплоть до революции 1688 г.» [88]. Впрочем, Кальвину удалось организовать общину в соответствии со своими взглядами в Женеве. То, что вышло, мы бы сегодня, несомненно, назвали тоталитарным государством. Кальвин полагал, что церковь и государство преследуют одни и те же цели, поэтому к делу религиозного воспитания граждан и поддержания их добродетели следует привлечь органы власти. Для наблюдения за нравственностью и благочестием горожан были избраны специальные агенты-наблюдатели, которые пытались наставить на путь истинный своих подопечных. А если им это не удавалось, то за дело брались власти.
Женевец осуждался и подвергался жестоким санкциям за отступление от принципов и правил благочестия, четко закрепленных в специальных актах. В этом деле Кальвину помогла юридическая подготовка, полученная в молодости. Сам он, а также его адепты (обычно иммигранты из католических стран, где протестантизм притеснялся) часто выступали на суде со стороны обвинения. В протоколах заседаний суда зафиксирована масса приговоров, вынесенных под влиянием этих выступлений. Например, «азартного игрока выставили у позорного столба с картами, привязанными к шее. А молодая женщина, явившаяся в церковь с завитыми по тогдашней моде волосами, была осуждена на несколько дней тюремного заключения, причем в ту же тюрьму отправили и парикмахера, соорудившего ей прическу. Категорически была запрещена всякая роскошь в одежде, шумные публичные увеселения и танцы» [56, с. 172]. Как видим, протестантская этика внедрялась в общество далеко не только убеждением.
Итак, Реформации современный Запад обязан ряду основополагающих идей, легших краеугольными камнями в основу его социальной антропологии в общем и представлений о гражданском обществе в частности. Это идея человека как изначально склонного к злу, что в светском варианте позже выразилось в концепции гоббсова естественного человека, а также идея священного права собственности, обязательной для самореализации индивидуума. Впервые было утверждено изначальное неравенство людей, что стало основой расизма, в том числе и социального. Обосновано также в рамках философии протестантизма право народа (конечно, только избранных) на формирование государственного и политического устройства. В дальнейшем республика избранных трансформируется в республику собственников. Эпоха Реформации была решающим шагом на пути формирования представлений о человеке как об индивиде, атоме социального бытия. Тем самым был сделано определяющее движение к формированию современной социальной антропологии западного человека, краеугольного камня в понимании сущности «гражданского общества» на Западе.
В некотором смысле протестантская политическая философия была направлена на преодоление уже возникшей автономии власти и общества, и именно «республика избранных» должна была быть средством такого преодоления. С тех пор идеал единого, не разделенного на власть и народ общества, возникающий то в раннехристианских общинах, то в античном полисном мире, с регулярностью проявлялся в форме политического идеала вплоть до построений Ханны Аренд.
Объективные процессы, происходящие в обществе, нуждались в теоретическом и идейном обосновании. Непосредственно с именем Т. Гоббса связано появление первой концепции гражданского общества. Его теоретические построения особенно важны, поскольку «гоббсово видение человека в естественном состоянии является исходным мифом западного капитализма» [279, с. 66].
В произведении «Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского» Т. Гоббс в качестве цели государства обозначает необходимость обеспечения безопасности. А идея безопасности непосредственно связана с понятием «естественного состояния». Понятие естественного состояния является ключевым в его теоретических построениях. Человек естественный, по Гоббсу, дик, априорно агрессивен и никакими моральными ограничениями не связан. «Природа дала каждому право на все. Это значит, что в чисто естественном состоянии, или до того, как люди связали друг друга какими-либо договорами, каждому было позволено делать все, что ему угодно и против кого угодно, а также владеть и пользоваться всем, что он хотел и мог обрести.» [62, с. 17]. Потому и роль государства у Гоббса крайне велика, ибо этот дикий человек должен быть «смирен» и его разрушительные инстинкты жесточайшим образом связаны и направлены в «гражданское» русло. Для Гоббса автономия государства от общества очевидна.
Гоббс представляет человека одиноким, зависящим только от себя самого и находящимся во враждебном окружении, где его признание другими измеряется лишь властью над этими другими. Сосуществование индивидуумов в обществе определяется фундаментальным условием — их исходным равенством. Но это равенство кардинально отлично от того, которое было декларировано в христианской религии: там все люди равны «по большому счету», ибо созданы по образу и подобию Божию. Здесь же, по Гоббсу, «равными являются те, кто в состоянии нанести друг другу одинаковый ущерб во взаимной борьбе»: «Когда же частные граждане, т. е. подданные, требуют свободы, они подразумевают под этим именем не свободу, а господство» [62, с. 367].
Равенство людей в обществе Гоббса предполагает в качестве идеала не любовь и солидарность, а непрерывную войну, причем войну всех против всех (bellum omnium contra omnes): «.. хотя блага этой жизни могут быть увеличены благодаря взаимной помощи, они достигаются гораздо успешнее подавляя других, чем объединяясь с ними» [62, с. 303].
Понятно, что в неконтролируемом состоянии такая конкуренция индивидуумов означала бы самоуничтожение человечества. Так как по Гоббсу «происхождение многочисленных и продолжительных человеческих сообществ связано… с их взаимным страхом» [62, с. 302], то политический порядок является своеобразным договором между всеми «воюющими сторонами». То есть политическая власть получает легитимацию «снизу», от совокупности свободных и равных граждан, а не «сверху», согласно иерархии, освященной традицией и религией.
Рациональная философия Гоббса вернула в понимание общества необходимый «двигатель», им стали «натуральные» потребности человека. Индивидуум в его представлении — это «атом», которого к движению побуждают «натуральные» потребности. В некоторых случаях эти «атомы» объединяются в ассоциации для достижения своих целей.
Из предложенной антропологии следуют взгляды Гоббса на общество и государство. В его работе высказываются идеи о появлении различных форм и видов государства, а также выделяется и рассматривается гражданское общество как часть государства. Гражданское общество понимается Гоббсом как совокупность определенных групп, имеющих свои интересы. Совершенно четко и однозначно звучит мысль о главенствующей роли государства над гражданским обществом, оно здесь ставится под полный контроль со стороны государства. Указывается, что отношения между государством и гражданским обществом должны быть строго регламентированы в «грамотах, данных сувереном» либо «законами государства».
Таким образом, основоположник теории гражданского общества Т. Гоббс выделяет две основные черты гражданского общества: 1) наличие социальных групп, имеющих свои интересы и достигающих их в конкурентной борьбе;
2) гражданское общество — часть государства, государство стоит над гражданским обществом, дабы контролировать борьбу и удерживать ее в русле мирной конкуренции. «Дополнением к западной антропологии эгоистичного человека было столь же глубоко укорененное представление об обществе как дисциплине, культуре как принуждении, где эгоизм есть природа индивидуума, власть есть сущность общества», — замечает по этому поводу М. Сахлинс [207].
Несколько с другой стороны на общество посмотрел Джон Локк. Его работа «Два трактата о правлении» раскрывает комплекс проблем, связанных с государственной властью и гражданским обществом, политическими свободами, законностью, собственностью, состоянием войны, формой государственности и др. Локк проводит аналогию между семьей и государством. Он, как и Гоббс, является сторонником договорной теории (общественного договора) происхождения государства. В отличие от Гоббса главной целью государства Локк считает сохранение свободы и собственности. Он пишет: «Главная и основная цель, ради которой люди объединяются в республики и подчиняются правительствам, — сохранение их собственности» [141, с. 137].
Гражданское общество, по Локку, это общество политическое, т. е. та общественная среда, в которой государство имеет свои интересы: «И таким образом. гражданское общество становится третейским судьей. разрешает все разногласия, которые могут возникнуть между любыми членами этого общества. Кто объединены в одно целое и имеют общий установленный закон и судебное учреждение, находятся в гражданском обществе» [141, с. 142]. В соответствии с идеями Дж. Локка можно определить гражданское общество как составляющую государства, а именно как общественно-политическую его часть. В то же время в случае противоправных действий со стороны государя гражданское общество имеет право выразить недоверие своему правительству и избавиться от него.
Любопытно, как автономия власти и общества, отчуждение граждан от власти, в «протестантский век» воспринимаемое как несчастье, нуждающееся в излечении, постепенно получает легитимацию и превращается в благо, в право человека на свой приватный круг. В более чистом виде эта идеология высказывалась Бенджаменом Констаном в статье «О свободе у древних в ее сравнении со свободой у современных людей». «Мы не можем более следовать античному типу свободы, состоявшему в деятельном и постоянном участии в коллективной реализации власти, — рассуждает Констан. — Наша свобода должна заключаться в мирном пользовании личной независимостью. То участие, которое в античности каждый принимал в осуществлении национального суверенитета, не было, как сегодня, пустой абстракцией.
Целью древних было разделение общественной власти между всеми гражданами страны. Это-то они и называли свободой. Цель наших современников — безопасность частной сферы; и они называют свободой гарантии, создаваемые общественными институтами в этих целях.» И заключает: «Личная независимость есть первейшая из современных потребностей. Значит, никогда не надо требовать от нее жертвы ради установления политической свободы» [122].
Идею «сдержек и противовесов» как необходимого элемента общественного порядка развивает Ш. Л. Монтескье. Идея Монтескье о внутреннем устройстве государства напрямую связана с идеей самоуправления, без которой невозможно существование гражданского общества. Он полагает, что в свободном государстве всякий человек, который считается свободным, должен управлять собою сам, а законодательная власть должна принадлежать всему народу. Но так как в крупных государствах это практически невозможно, а в малых связано с большими неудобствами, то необходимо, чтобы народ делал посредством своих представителей все, что он не может делать сам. Поэтому, считает Монтескье, членов законодательного собрания не следует избирать из всего населения страны в целом, но жители каждого крупного населенного пункта должны избрать себе в нем своего представителя. В XXVII главе девятнадцатой книги «О духе законов» Монтескье формирует основы наиболее совершенного, по его мнению, политического строя, в котором мы можем заметить определенные черты гражданского общества. По Монтескье, в свободном государстве каждый гражданин должен обладать собственной волей и быть независимым, где все граждане будут «пользоваться правом говорить и писать обо всем, о чем не запрещено говорить и писать прямым постановлением законов» [170, с. 117]. Министры обязаны отдавать отчет о своей работе перед народным собранием. Следовательно, понятие гражданского общества по Монтескье включает идеи самоуправления, свободы выбора, свободы слова, отчетности избранных вышестоящих органов перед народом. Монтескье впервые предлагает разработанную технологию отношений автономной власти и общества.
Интерес представляют взгляды на историю формирования гражданского общества Адама Фергюссона. Во многом он развивает идеи Монтескье. Он считал, что человек без общества вообще не может существовать, потому что потребность в обществе присуща самой природе человека. В своей работе «Опыт истории гражданского общества» Фергюссон использует понятия «общество» (гражданское общество) и «государство» как синонимы. Следовательно, можно предположить, что эти понятия для него тождественны. Говоря о развитии обществ, основополагающим он считает соперничество, конкуренцию государств. Причем в соперничестве побеждает не более крупное и многочисленное государство, а единое духом. «Несмотря на численное преимущество и превосходство в вопросе ресурсов для ведения войны, сила нации вытекает из ее характера, а не из ее богатства или численности» [246, с. 223].
И в этом обществе каждый его член стремится к равенству исходя из природного равенства людей: «Любовь к равенству и любовь к справедливости изначально являлись одним и тем же. И хотя с появлением различных обществ члены их получали неравные привилегии, хотя сама справедливость требует, чтобы к таким привилегиям относились с должным вниманием, те, кто забывает, что изначально люди были равны, легко вырождаются в рабов; если же такие люди оказываются в роли хозяев, им нельзя доверять распоряжение правами ближних. Для воцарения в обществе некоторой политической свободы, пожалуй, достаточно, чтобы члены этого общества либо поодиночке, либо как участники различных организаций отстаивали свои права. В условиях республики гражданам надлежит либо настойчиво утверждать принципы равенства, либо умерять притязания прочих сограждан, налагая на них некоторые ограничения» [246, с. 165].
Очевидно, под равенством автор понимает только равенство в сфере политических и гражданских прав. В его концепции встречается явное противоречие. Если человек изначально склонен к равенству и справедливости, то непонятно, почему приходится «настойчиво утверждать принципы равенства, либо умерять притязания прочих сограждан, налагая на них некоторые ограничения». Позволяет добиться утверждения политических свобод в первую очередь закон. «Закон есть договор, заключенный между членами общества; в согласии с ним осуществляют свои права и правительство и подданные; в согласии с ним поддерживается мир в обществе» [246, с. 267]. Чтобы законы не нарушались, нужно препятствовать полной концентрации власти в одних руках, каждый гражданин должен участвовать в управлении: «Предлагалось предотвращать избыточную концентрацию власти в одних руках посредством увеличения отдельных состояний. посредством исключения права первородства и последовательности наследования» [246, с. 268].
Чтобы права и интересы граждан не нарушались, они должны проявлять свою позицию, отмечает Фергюссон. Поэтому те, кто обладает общностью интересов, должны объединяться в партии. Но так как люди в большей своей части бывают недостаточно грамотными и неопытными в социально-политической сфере и могут допускать серьезные ошибки при управлении, им следует делегировать во властные структуры своих представителей. Таким образом гражданам нужно учредить сенат, в обязанности которого должно входить не принятие решений, а рассмотрение и подготовка вопросов, решение по которым будет принято на собрании коллективного органа. Также в управлении, по мнению Фергюссона, должна участвовать вторая группировка — знать. Несмотря на то что система не однопартийная, обе структуры противостоят народу, поэтому и простонародью необходимо выдвигать своих представителей. То есть это правительственная структура, созданная во избежание централизации власти в одних руках. «Там, где народ действует исключительно через своих представителей, он может выступать в качестве единой силы», — пишет автор [246, с. 173].
У Фергюссона ясно выражена идея, что постоянная борьба различных групп, партий и т. п. есть залог и способ существования гражданского общества. Априорно это общество понимается как общество конкурентное, а постоянная взаимная конкуренция является его сутью.
Первая критика «гражданского общества» предложена Ж. Ж. Руссо. По сравнению с предшествующей традицией он как бы поменял знаки положительного и отрицательного в своей трактовке соотношения гражданского общества и естественного состояния, идеализируя последнее. В целом, развивая идеи народного суверенитета и широкой демократии, Руссо крайне редко использует понятие «гражданское общество». Наиболее важной в его концепции представляется связь между частной собственностью и гражданским обществом. Ж. Ж. Руссо в «Рассуждениях о происхождении неравенства» так писал о возникновении гражданского общества: «Первый, кто расчистил участок земли и сказал: «это мое» — стал подлинным основателем гражданского общества» [206, с. 161]. В основании гражданского общества — непрерывная война, «хищничество богачей, разбой бедняков».
Именно поэтому такое общество с самого начала — разобщенное общество, отчужденное общество. И отсюда, по Руссо, все беды и несчастья человечества. «От скольких преступлений, войн, убийств, несчастий и ужасов уберег бы род человеческий тот, — пишет он, — кто, выдернув колья или засыпав ров, крикнул бы себе подобным: «Остерегитесь слушать этого обманщика; вы погибли, если забудете, что плоды земли — для всех, а сама она — ничья!» [206, с. 162]. Из этого следует, что частная собственность — это отнюдь не «естественное» право человека, как это доказывали и доказывают до сих пор идеологи гражданского общества. Частная собственность имеет сугубо историческое происхождение, и, как догадывался уже Руссо, это происхождение было обусловлено экономической необходимостью, а потому у людей не сразу сформировался смысл данного понятия. «Ибо это понятие — «собственность», — пишет Руссо, — зависящее от многих понятий, ему предшествовавших, которые могли возникать лишь постепенно, не сразу сложилось в человеческом уме. Нужно было достигнуть немалых успехов, приобрести множество навыков и познаний, передавать и увеличивать их из поколения в поколение, прежде чем был достигнут этот предел естественного состояния» [206, с. 162]. Собственность — предел естественного состояния, за которым начинается совсем другое, гражданское состояние, и вместе с тем политическое состояние, по мнению Руссо.
Важной ступенью в представлении об обществе стали труды Адама Смита. Если у Гоббса потребности представляются как натуральные, то у Смита они становятся главным двигателем прогресса и развития общественной добродетели. Центральное место в исследовании А. Смита занимает теория экономического либерализма, которая базируется на идее естественного порядка. Под естественным порядком Смит понимает рыночные отношения. По мнению ученого, рыночные законы тем лучше могут воздействовать на экономику, чем более учитывается только частный интерес и игнорируется общественный. Интересы общества в рамках такого подхода рассматриваются как не более чем сумма интересов составляющих его лиц. Развивая свои идеи, Смит вводит понятия «экономический человек» и «невидимая рука», которые в последующем приобрели огромную популярность и теперь часто представляются самоочевидными. Сущность «экономического человека» продемонстрирована во второй главе книги I «Богатства народов», где разделение труда выводится из естественной определенной склонности человеческой природы к торговле и обмену. Упомянув, что собаки друг с другом сознательно костью не меняются, А. Смит характеризует «экономического человека» словами: «Он скорее достигнет своей цели, если обратится к их (своих ближних) эгоизму и сумеет показать им, что в их собственных интересах сделать для него то, что он требует от них. Всякий предлагающий другому сделку какого-либо рода, предлагает сделать именно это. Дай мне то, что мне нужно, и ты получишь то, что тебе нужно, — таков смысл всякого подобного предложения. Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов. Мы обращаемся не к их гуманности, а к их эгоизму, и никогда не говорим им о наших нуждах, а об их выгодах» [223, с. 101].
Согласно А. Смиту, сущность «невидимой руки» заключается в пропаганде таких общественных условий и правил, при которых, благодаря свободной конкуренции предпринимателей и через их частные интересы, рыночная экономика будет наилучшим образом решать общественные задачи и приведет к гармонии личную и коллективную волю с максимально возможной выгодой для всех и каждого. Другими словами, «невидимая рука», независимо от воли и намерений индивида — «экономического человека», направляет его и всех людей к оптимальным результатам, выгоде и к более высоким целям общества, как бы оправдывая тем самым стремление человека-эгоиста ставить личный интерес выше общественного. Таким образом, смитовская «невидимая рука» предполагает такое соотношение между «экономическим человеком» и обществом, т. е. «видимой рукой» государственного управления, когда последняя, не противодействуя объективным законам экономики, перестанет ограничивать экспорт и импорт и выступать искусственной преградой «естественному» рыночному порядку, минимизируя свое воздействие на «естественный» порядок [224, с. 211]. Стало быть, рыночная система хозяйствования, а по Смиту — «очевидная и простая система естественной свободы», благодаря «невидимой руке» всегда будет автоматически уравновешиваться. Государству же для достижения правовых и институциональных гарантий и обозначения границ своего невмешательства остаются три весьма важные обязанности. К ним он относит издержки на общественные работы (чтобы «создавать и содержать определенные общественные сооружения и общественные учреждения», обеспечивать вознаграждение преподавателей, судей, иных чиновников, священников и других, кто служит интересам «государя или государства»); издержки на обеспечение военной безопасности; издержки на отправление правосудия, включая сюда охрану прав собственности («ночной сторож»). Итак, «в каждом цивилизованном обществе» действуют всесильные и неотвратимые экономические законы — в этом лейтмотив методологии исследования А. Смита.
Таким образом, А. Смит убедительно высказал ряд идей, легших в основание понимания социального порядка и роли гражданского общества в управляемости обществом на Западе. Это, во-первых, взгляд на человека как «человека экономического». Человека, основным мотивом деятельности которого является следование частному интересу по удовлетворению своей потребительской нужды. С ним смыкается идея «невидимой руки». Это важная идея, оказавшая существенное влияние на дальнейшее развитие представлений об обществе в рамках западной культуры: «. буржуазное общество освободило эгоистичного человека из тюрьмы христианской морали и позволило вожделению бесстыдно разгуливать при свете дня, успокаивая социальную справедливость утверждением, что частные грехи — это есть общественное благо» [207].
Однако утверждение о том, что многочисленные действия масс индивидуумов, направленные на достижение сугубо частного интереса (движения от голода и страдания к насыщению и наслаждению), чудесным образом превращаются в общее благо, не является очевидным. В дальнейшем этот миф утвердился как базовый не только в сфере экономической науки, но и как основополагающий принцип социального бытия и в то же время стал узловой точкой для критики как классической западной антропологии, так и классических представлений об обществе. В частности, на основе своих социально-экономических представлений Смит выдвигает идею о «минимальном государстве», впоследствии разработанную Т. Пейном в его концепции минимального государства, подразумевающей самостоятельное гражданское общество и весьма ограниченную роль государства как необходимого зла, Д. С. Миллем, создавшим образец отношений государства и гражданского общества, не зависящего от государства.
Таким образом, наконец-то теоретикам с помощью концепции «невидимой руки», распространенной и на внеэкономические сферы социальной жизни, удалось преодолеть «парадокс Левиафана». Ибо до этого трудно было понять, каким же образом действия человека «естественного», человека «экономического», эгоизм которого возведен в разряд добродетели, могут приводить к общему благу, а не разрушать общество. Представлялось, что только мощное государство в состоянии последовательно преследовать общую пользу. «Невидимая рука» заменила принуждение Левиафана.
Последовательная трактовка гражданского общества как особой, внегосударственной сферы общества стала утверждаться в Европе вслед за публикацией книги А. Токвиля «О демократии в Америке». В этой работе автор анализирует объективные условия существования и государственно-политическое устройство США. По его мнению, гражданское общество — это общество, в котором граждане разбиты на группы по интересам, которые, опираясь только на свои возможности, стараются разрешить все проблемы, возникающие в их общественной жизни, и только в крайнем случае допускают в свою жизнь государственную власть. Проиллюстрировать понимание А. Токвилем понятия гражданского общества можно небольшим отрывком из его книги: «Предположим, загромоздили улицу, проход затруднен, движение прервано; люди. организуют совещательный комитет; это импровизированное объединение становится исполнительной властью и устраняет зло, прежде чем кому-либо придет в голову мысль, что, помимо этой исполнительной власти, осуществленной группой заинтересованных лиц, есть власть другая» [237, с. 83]. Гражданское общество, по А. Токвилю, это часть государства, однако во многом независимая. Гражданскому обществу присущи следующие черты: 1) свобода слова; 2) свобода выбора; 3) идея самоуправления; 4) наличие частной собственности; 5) наличие групп по интересам, реально отвечающим требованиям граждан (фонды, партии, профсоюзы и др.); 6) наличие среднего класса.
Однако нужно иметь в виду, что, когда Токвиль описывал гражданское общество в США, он подразумевал современный ему социум, на который он экстраполировал пример устоявшегося порядка восточных штатов. Если же рассматривать генезис американского общества, историю становления американского государства, то становится очевидным, что американское общество развивалось совершенно нетипично, в направлении, обратном тому, как развивались общества Старого Света. Американское общество складывалось в направлении увеличения именно государственной власти путем перераспределения власти от гражданских общин в пользу федерального правительства. На заре американской истории происходили крайне жестокие конфликты государственной власти Соединенных Штатов с гражданскими общинами и ассоциациями. Стоит только вспомнить известную войну в Юте (Utah War) — конфликт 1857–1858 гг. между федеральным правительством США и мормонами на территории Юта. Судебный процесс, прошедший по поводу известной «бойни у Маунтин-Медоуз», вскрыл совершенно тоталитарную сущность общины, внутри которой господствовала атмосфера тирании, доносительства и террора [277]. В данном случае, как во многих других, центральная власть выступила в роли защитника индивида от тотального всевластия гражданской общины. В результате — парадокс: не ассоциации, а государство становилось защитой для гражданина от давления и несвободы, осуществляемой гражданской ассоциацией в отношении личности. Сегодня в США современные идеологические доктрины, конечно, по-прежнему превозносят гражданское общество как идеальную, единственную истинно цивилизованную систему организации социального порядка, но в сфере коллективного бессознательного, выраженного в искусстве, литературе и кинематографии, прорывается ужас индивида перед тоталитарным всевластием гражданской общины. Сюжеты, в которых индивид испытывает террор со стороны жителей маленького городка, улицы, затерянной общины, часто в мистическом и фантастическом преломлении, сюжеты, где страшные тайны подобного «гражданского общества» одноэтажной Америки вторгаются в область «нормального», городского, государственного мира, весьма распространены в американской литературе и кино. Стоит вспомнить и мастера ужаса Стивена Кинга, построившего на подобной сюжетной коллизии большинство своих произведений, и Дина Кунца, и Роберта МакКаммона, и других известных авторов.
В отличие от А. Токвиля важной стадией в процессе понимания и социального конструирования гражданского общества в нравственном аспекте стали работы И. Канта. Кант, рассматривая двойственную сущность человека, считает, что человек как существо природное подчиняется закону причинности и поэтому он несвободен, а как существо разумное и социальное человек свободен, поскольку несет в себе нравственный закон, выраженный в стремлении к свободе и справедливости. Все люди рождаются свободными, но каждый человек должен согласовывать свою свободу действий со свободой его сограждан. Эти два начала (природное и социальное) постоянно конфликтуют в отдельном человеке и между людьми. Обуздать «природную стихию» возможно на основе «общественного договора», и, заключая договор, люди ограничивают свою свободу в пользу государства.
Кант выдвигает положение о разделении полномочий институтов гражданского общества и государства. Так, семья, церковь, школа и другие общественные объединения способны без государства соблюдать общепринятые нормы общежития и воспитывать их у граждан. Государство же объединяет людей в рамках права и обеспечивает соблюдение законов всеми подданными, реализацию свобод граждан. Наиболее демократическим государственным устройством, по мнению Канта, является республика. Она позволяет проводить в жизнь принципы свободы и социальной справедливости. Кант осознает неправомерность отождествления гражданского общества и государства и пытается очертить их функциональные границы. Функционирование гражданского общества он усматривает в его связи с правовым государством. Во многом взгляды И. Канта революционны. Человек рассматривается уже не как действующий только со своим личным интересом на основании «натуральных» потребностей, но имеет двойственную природу и благодаря своей высшей, разумной, свободной, социальной природе способен свободно действовать в пользу общего блага.
Совершенно по-новому рассматривает изучаемое нами явление немецкий философ Г. В. Ф. Гегель в работе «Философия права». Нужно отметить неоднозначность подхода Гегеля к гражданскому обществу. Будучи в некотором смысле его апологетом, Гегель в то же время предложил основы для глубокой критики этого понятия. «Гражданское общество, — пишет Гегель в «Философии права», — есть дифференциация, которая выступает между семьей и государством, хотя развитие гражданского общества наступает позднее, чем развитие государства; ибо в качестве дифференциации оно предполагает государство, которое оно, чтобы пребывать, должно иметь перед собой как нечто самостоятельное. Гражданское общество создано, впрочем, лишь в современном мире, который всем определениям идеи предоставляет их право» [57, с. 218].
Гражданское общество, таким образом, появляется только в «современном мире», вырастает из семьи, но с другой стороны, благодаря тому, что оно «имело перед собой» государство. Однако это государство есть, по мнению Гегеля, «внешнее государство», поскольку не выражает сущности общественной жизни, ее субстанции, а является не более чем как выражением частных интересов. «Эту систему, — пишет Гегель, — можно ближайшим образом рассматривать как внешнее государство, как государство нужды и рассудка» [57, с. 221]. Соответственно и гражданское общество, выраставшее, «имея перед собой» такое государство, имеет подобные черты: «В гражданском обществе каждый для себя — цель, все остальное для него ничто» [57, с. 222].
В данном случае логика Гегеля, как ни странно, отступает от его же диалектического метода. Факты истории демонстрируют нам, что «внешнее» по Гегелю, автономное государство вовсе не предшествовало гражданскому обществу, а развивалось вместе с ним, в диалектическом единстве и борьбе. Также можно обратить внимание на то, что, согласно категорическому императиву Канта, гражданское общество, в котором «каждый для себя — цель, все остальное для него ничто», есть общество по сути безнравственное. «Нравственное, — обращает внимание Гегель, — теряется здесь в своих крайностях, и непосредственное единство семьи распалось на множество» [57, с. 249]. Таким образом, рождаясь из семьи, гражданское общество теряет нравственный характер.
Гегель видит основное противоречие гражданского общества в том, что здесь особенное отрывается от всеобщего, нравственное — от «морального». Гегель и хотел бы оправдать разрыв, следуя за А. Смитом с известным тезисом «я способствую всеобщему благу, потому что хочу блага себе» [57, с. 208]. Однако безнравственный характер либерального государства ему очевиден, и, несмотря на свою привязанность к конституциализму, Гегель желает «прикрепить» к безнравственному гражданскому обществу «нравственное» феодальное государство. Шпицрутены прусских юнкеров (т. е. государство), вот что, по Гегелю, может из стаи диких животных сделать достойных членов человеческого общества, обеспечить общее благо и нравственный характер общества.
Впрочем, немецкий философ сам замечает несколько «кривую» форму предложенного им «конца истории». Он просто примиряется с ней. Отсюда ведущий мотив философии Гегеля — примирение с действительностью, потому что она другой не может быть.
Именно это, введенное Гегелем различие между гражданским обществом и политическим обществом, отождествляемым с современным ему рациональным государством, К. Маркс положил в основу своей исторической теории, но «поставив его с головы на ноги» [156, с. 307]. Вслед за Гегелем Маркс рассматривал гражданское общество как результат исторического развития, а не как природное состояние.
В своих трудах Маркс употреблял термин «гражданское общество» в нескольких значениях. Во-первых, этим термином он определял основы исторического развития как такового, его базис. Во-вторых, гражданское общество у него — это также и форма организации буржуазного общества, противостоящего государству. Соотношение первого и второго значения Маркс вполне осознавал и объяснял следующим образом: «Гражданское общество обнимает все материальное общение индивидов в рамках определенной ступени развития производительных сил. Оно обнимает всю торговую и промышленную жизнь данной ступени и постольку выходит за пределы государства и нации, хотя, с другой стороны, оно опять-таки должно выступать вовне в виде национальности и строиться внутри в виде государства. выражение «гражданское общество», — продолжает Маркс о втором значении, — возникло в XVIII веке, когда отношения собственности уже освободились из античной и средневековой общности. Гражданское общество как таковое развивается только вместе с буржуазией; однако тем же именем всегда обозначалась развивающаяся непосредственно из производства и общения общественная организация, которая во все времена образует базис государства и прочей идеалистической надстройки» [158, с. 71].
Прослеживая генезис гражданского общества в его втором значении, Маркс пишет, что «гражданское общество было политическим обществом, так как органический принцип гражданского общества был принципом государства… сословия гражданского общества и сословия в политическом смысле были тождественны» [155, с. 301].
Таким образом, Маркс впервые четко и однозначно связал появление гражданского общества в его современном смысле с появлением автономных друг от друга общества и государства.
Вслед за Гегелем К. Маркс рассуждает о гражданском обществе как о мире «потребностей, труда, частных интересов, частного права.» [154, с. 405]. Однако «принципом. гражданского общества, — утверждает Маркс, — является потребление и способность к потреблению. Современное гражданское общество есть последовательно проведенный принцип индивидуализма, индивидуальное существование есть последняя цель; деятельность, труд, содержание и т. д. суть только средства» [155, с. 312].
Поэтому в буржуазном гражданском обществе, считает Маркс, человек достигает максимальной отчужденности и потери своей целостности, сводясь к частным функциям, «к члену гражданского общества, к эгоистическому, независимому индивиду, с другой — к гражданину государства, к юридическому лицу» [154, с. 406].
Таким образом, гражданское общество есть наиболее острое выражение того «первородного греха», каковым является по Марксу разделение труда и первое самоотчужде-ние человека. Поскольку внешнее, автономное государство у Маркса имеет классовую природу, то и идеальное государство не допускает преодоления в нем противоречий гражданского общества, откуда и следует вывод о необходимости революционного преобразования общества, а гражданское общество в этом смысле исторически преходяще. Гражданское общество составляет исторически детерминированные образования, характеризующиеся особыми формами и отношениями производства, классового разделения и классовой борьбы и защищаемые соответствующими политико-правовыми механизмами. Причем само гражданское общество имеет преходящий характер, поскольку оно порождает пролетариат — могильщика буржуазного общества. В марксистской теории государство принадлежит надстройке, в то время как гражданское общество относится к базису.
Несколько иначе на проблему взглянул Грамши, отнеся гражданское общество к сфере надстройки. А. Грамши, анализируя механизм господства буржуазии в первой половине XX в., выделял три его составные части, три «общества» (по его терминологии): экономическое, политическое и гражданское. Совокупность тех частей надстройки, которые осуществляют функцию принуждения и прямого классового господства (военного, полицейского, юридического, правового), составляет «политическое общество». Однако в чистом виде, полагал Грамши, такого общества, соответствующего системе «охраны общественного порядка и соблюдения законов», существовать не может. Оно переплетается с той частью надстройки, которая у него выступает под именем «гражданского общества». Это совокупность всех тех рычагов и органов в государстве, которые позволяют буржуазии осуществлять идейное и нравственное руководство порабощенными классами, т. е. идеологическая надстройка общества. В связи с этим Грамши обратил внимание на следующее: «На Востоке государство было всем, гражданское общество находилось в первичном, аморфном состоянии. На Западе между государством и обществом были упорядоченные отношения, и если государство начало шататься, тотчас же выступала наружу прочная структура гражданского общества. Государство было лишь передовой траншеей, позади была прочная цепь крепостей и казематов» [74, с. 200].
Интерес к понятию «гражданское общество» упал с конца XIX в. и его ренессанс связан с общественно-политическими трансформациями в Восточной Европе и СССР конца XX в. К сожалению, с тех пор категория гражданского общества перешла в разряд идеологического штампа, лозунга.
В настоящее время существует распространенная трактовка гражданского общества как чего-то идеального и превосходного. В связи с этим вопрос ставится даже о «конце истории», ведь история, так или иначе, есть смена общественных форм, а зачем обществу меняться, если идеал достигнут? Но при этом вопрос не ставится о реальной основе этого общества и его историческом происхождении. Более того, как свидетельствует литература, у Гоббса, Локка, Руссо, не говоря уже о Гегеле и Марксе, понятие гражданского общества было четче и определеннее, чем у современных западных социологов. Сегодня гражданское общество определяется чисто феноменологически, через описание его «благостного» воздействия на все стороны общественной жизни и на примерах из практики западного мира.
При этом прослеживаются следующие линии в трактовке категории «гражданское общество». В «социал-демократической» — гражданское общество признается сердцевиной всей политической жизни общества, утверждается, что только через развитие и совершенствование гражданского общества можно реализовать стремление к равенству и справедливости. Государство, в свою очередь, обязано обеспечивать функционирование гражданских институтов, гарантировать демократические основания их организации, сдерживать рыночную экономическую сферу, стремящуюся к поглощению всего, что несовместимо с ее логикой прибыли. Этот подход смягчает либеральную идею «государства — ночного сторожа» и подчеркивает, что государство должно быть социальным и демократическим.
Либеральная традиция развивает другую линию в понимании идеи гражданского общества, где центр тяжести переносится на свободу (в первую очередь экономическую). Свобода представляется превыше всех других ценностей, а саморегулятивная функция гражданского общества понимается как механизм защиты индивидуальных прав и свобод от посягательств государства. Свободный и независимый индивидуум — это центральная фигура идеи гражданского общества. Сторонники такого подхода сосредоточивают свое внимание на экспансионистской природе государства, способной угнетать и ограничивать такие институты, как семья, профессиональные и территориальные ассоциации, церковь и др., не учитывая, что и сами институты гражданского общества могут подрывать друг друга, проявляя взаимный экспансионизм. Здесь акцент ставится на примате индивидуального, апофеозе прав и свобод, ассоциативности и самоорганизации, индивидуалистических ценностях.
Дискуссии об отношении государства и гражданского общества продолжаются и по сей день. Так, например, Э. Арато считает, что разграничение между гражданским обществом и государством было унаследовано от английской либеральной традиции. С развитием капитализма государство минимизировалось таким образом, что стало возможным освобождение «стихии рынка» [127]. Поэтому он предложил вместо противопоставления гражданского общества и государства модель, состоящую из трех частей: государство, гражданское общество и экономика. Т. Янссон, характеризуя отношения гражданского общества и государства, полагает, что мы имеем дело со специфическим треугольником: государство, с одной стороны, а с другой, ниже — местное самоуправление: муниципалитеты, относящиеся к общественной сфере и государству, добровольные объединения, ассоциации, помещающиеся в «частной, социальной, свободной сфере» [276, с. 6]. В результате в одних обществах наибольшее распространение получил коммуналистский тип общества (с акцентом на местное самоуправление), а в других общество стало «ассоциативным». Добровольные организации становились общенациональными.
Идея гражданского общества на протяжении последних десятилетий расширялась и углублялась, теряя в то же время онтологическую четкость и все более становясь матрицей идеологической борьбы. Она дополнялась идеей демократии, основанной на политическом плюрализме, общем конкурсе и партнерстве конкурирующих социальных групп, идеей ограничения государственной власти установленными правовыми нормами, идеей индивидуальной свободы человека, расширением демократии в социальном плане.
В заключение можно сделать вывод, что понятие гражданского общества на Западе прошло длинную и сложную эволюцию. Можно сказать, что исторически «современное» гражданское общество есть результат разделения единого, «политического» общества средневековья на автономное (или внешнее, словами Гегеля) государство и автономное общество как таковое. Вызванное к жизни специфическими, исключительными особенностями развития западной цивилизации, оно включает ряд узловых свойств независимо от конкретной трактовки этого понятия в рамках той или иной теоретической парадигмы. Это понятие неразрывно связано со специфической антропологией западной культуры и во многом следует из нее.
Суть ее в следующем. Понятие гражданского общества воплощает представления о человеке как индивидууме, «атоме» социального действия. Поведение индивида рассматривается как рациональное, и целью его является всемерное и максимально полное удовлетворение своих потребностей. В процессе этих действий индивид сталкивается с другими, ему подобными, с которыми он в результате конкурирует за ограниченные ресурсы. Эти взаимоотношения индивидов и происходят в сфере гражданского общества. Равная исходная конкурентоспособность определяется равными правами индивидуумов, таким образом неотъемлемые права человека становятся обязательным условием существования гражданского общества. Таким же неотъемлемым условием становится наличие собственности как механизма, с помощью которого человек способен к конкуренции, ибо собственность заменила камни, палки и копья «естественного человека». В процессе взаимодействия индивидуумы на рациональной основе, в результате договора могут объединяться в ассоциации, чтобы с большей эффективностью добиваться своих целей. Это особенно важно, учитывая, что государство в системе всеобщей конкуренции, «играющее» на том же поле, гораздо сильнее, чем любой индивидуум по отдельности, и, таким образом, только ассоциации в состоянии поставить предел экспансии государства и оставить его в рамках «полезного» гражданскому обществу. С этим же связана и высокая роль именно политических прав.
Человек такого общества движим эгоистическим интересом, но «невидимая рука» преломляет совокупность личных интересов в общее благо. Государство полностью лишено сакрального значения и выполняет лишь функции по обслуживанию гражданского общества. Однако такая ситуация есть результат никогда не затухающей, перманентной борьбы гражданского общества против государства.
В XX в. несколько большее внимание было обращено на такую функцию государства и гражданских ассоциаций, как «смягчение» результатов всеобщей конкуренции. Однако в моделях, предлагаемых на экспорт, акцент ставится именно на такой функции гражданских ассоциаций, как их способность ограничивать государство. Данное представление о гражданском обществе, взаимоотношении общества и власти, социальной сущности человека отражает базовые принципы западной (субсидиарной) институциональной матрицы. Институциональная матрица как социологическое понятие — это «устойчивая, исторически сложившаяся система базовых институтов, регулирующих взаимосвязанное функционирование основных общественных сфер — экономической, политической и идеологической» [177]. Разрабатываемая такими известными экономистами, как К. Поланьи и Д. Норт, а в постсоветской литературе О. Бессоновой и С. Кирдиной, теория институциональных матриц показала, что они (рыночные или редистрибутив-ные матрицы) лежат в основе меняющихся эмпирических состояний конкретного общества и, несмотря на реформы и даже революции, постоянно воспроизводятся.
2.2. Гражданское общество как ресурс управляемости в западных социумах
В отечественной социологии попытки определения понятия «гражданское общество» осуществлялись неоднократно. Однако все они были трудно операционализиру-емы, в то время как операционализируемость как необходимое свойство базовых понятий в социологии как науке предполагает определение его через указание правил фиксирования соответствующих эмпирических признаков. По существу речь идет о поиске эмпирических значений понятия «гражданское общество». Цель процедуры опе-рационализации — осуществить логику смыслового перехода от общего к особенному и частному. Общее в наиболее точном виде заключено в самом понятии гражданского общества, отражающем существенные и необходимые его характеристики. Но уже на уровне понятийного анализа мы сталкиваемся с проблемами и противоречиями его эмпирической интерпретации. Так, если сводить, например, гражданское общество к совокупности граждан, т. е. «владеющих имуществом свободных членов общества, которые осознают, заявляют, декларируют и с помощью инструментов гражданского права и государства могут реализовать свои интересы» [138, с. 60], то, соответственно, основными показателями гражданского общества выступят масштабы существования владеющих собственностью граждан и сам факт гражданства людей, так как гражданами, по мнению автора данного определения, являются только те, кто владеет собственностью и в чьих интересах государство проводит социально-экономическую политику. Понятно, что те, кто не владеет собственностью, не являются гражданами и не могут выступать акторами гражданского общества. С другой стороны, если гражданское общество сводить к части общества, включающей в себя неполитические отношения [148], то эмпирическими показателями выступят почти все отношения в обществе: профессиональные, досуговые, семейные и др., что по существу нивелирует суть данного понятия.
Все это говорит о том, что залогом адекватной социологической операционализации и, соответственно, возможности изучения гражданского общества эмпирическими методами является точное и недвусмысленное определение понятия данного феномена, отражающее его существенные и необходимые признаки.
Так как в научной литературе понятие гражданского общества получило обширное, отражающее многообразие точек зрения, освещение, проанализируем достоинства и недостатки некоторых определений. Одним из факторов, затрудняющих поиск эмпирических индикаторов, является то, что на «демократической» волне 1990-х в понимание гражданского общества были обильно инкорпорированы ценностные установки и политические предпочтения авторов. Как следствие, до сих пор гражданское общество априорно рассматривается как нечто очень хорошее. Показателен в этом плане подход, в котором гражданское общество понимается как «оптимальное состояние общества для промышленной цивилизации» [25, с. 79]. Почему «оптимальное», не доказывается, и, соответственно, понятие гражданского общества не становится более четким. Подобная ценностная нагруженность предложенных в научной литературе определений во многом превалирует в ущерб научной строгости.
Интересным является мнение некоторых ученых, считающих, что для формирования гражданского общества необходимы два базовых условия: наличие автономных от политической власти социальных субъектов и формирование типа личности, особенностью которого является способность взаимодействовать с другими в целях общего блага, подчинять частные интересы интересу общественному [87]. Со вторым условием трудно согласиться, ибо способность личности подчинять свои частные интересы общему благу есть условие существования любого человеческого общества и человеческой цивилизации как таковой. Однако авторами подмечен один важный аспект, а именно то, что говорить о взаимоотношении общества и власти, об отношениях гражданского общества с властью мы может только тогда, когда существует относительно автономная власть и относительно автономное общество.
Трудно отрицать тот факт, что в древнейшие эпохи уже были автономные от политической власти субъекты. Например, сохраняющие внутреннюю автономию жреческие корпорации в Древнем Египте, этнические племена, «друзья и союзники римского народа» в Римской империи, пользующиеся самоуправлением сибирские и иные инородцы в Российской империи и др. Однако власть и общество в целом разделились на относительно автономные объекты только в Европе Нового времени.
Ряд ученых определяют гражданское общество как системный элемент социума, часть общества, взятую вне политической власти и включающую в себя неполитические отношения [148]. Данная точка зрения, на наш взгляд, методологически малопродуктивна, так как неясно, какие именно отношения являются неполитическими. Структура социальных отношений, находящихся вне политики, бесконечно сложна и обширна: это и отношения врача и пациента, отношения футболиста и тренера или отношения двух футбольных команд и т. п. Можно ли такие отношения определять как гражданские?
Существует точка зрения, причисляющая к гражданскому обществу в качестве системообразующих, структурноорганизационных элементов государство, самоуправление, труд, капитал и даже семью [108]. Такой подход также вызывает вопросы. В частности, какие элементы в таком случае не входят в гражданское общество? Вкупе же с утверждениями, что основой для гражданского общества является личность с высокой правовой культурой, социально-инновационным типом мышления и установкой на созидательную деятельность, что, в свою очередь, само гражданское общество обеспечивает индивиду высокую степень свободы, справедливости, солидарности и гражданского согласия, возникает вопрос: чем это не коммунизм? Или рай земной? Подобное определение можно назвать религиозным, но научным — трудно. Если вспомнить, что гражданское общество как социальный феномен появилось в начале Нового времени и вполне развилось к XIX в., то этот рай в наиболее экономически развитом на тот момент обществе блестяще описывал в своих романах Ч. Диккенс.
Интересен подход к гражданскому обществу, существующему в виде 1) гражданской утопии как вымышленной, идеальной модели; 2) гражданской идеологии, с теоретических позиций обосновывающей возможность построения гражданского общества; 3) гражданской рациональности, заключающей в себе общие представления о гражданском обществе и принципах его функционирования [199]. Этот подход акцентирует внимание на гражданском обществе как социальном движении, а не только социальном институте. В то же время весьма важным нам представляется анализ автором фактора рациональности в понимании гражданского общества, а именно идея о том, что сама «гражданская рациональность несет в себе печать социокультурных оснований данного общества, ту специфику, которая привносится содержанием национальной и религиозной жизни» [199, с. 123]. Учет того факта, что рациональность как текст несет в себе культурные коды создателя, крайне важен, на наш взгляд, для понимания специфических особенностей других форм взаимодействия общества и власти с точки зрения управляемости и организации социального порядка.
Вызывает сомнение взгляд на гражданское общество как на институт, появившийся с возникновением собственности и государства [138] и связанный с обладанием людей собственностью. Данная точка зрения представляется нам зауженной, поскольку речь скорее идет о частноправовых отношениях, сводящей гражданское общество к частному праву, к отношениям собственности. Не менее странно, хотя и модно, связывать возможность свободы с наличием собственности. Утверждать, что население стран древнего Востока пребывало в перманентном рабстве по причине ограниченности института собственности и что сегодня наличие собственности у человека есть условие его свободы, — социал-дарвинист-ская вульгаризация представлений («республика собственников против массы пролетариев») XVIII в. Без свободы нет морали, но отрицать наличие морали в любой человеческой культуре невозможно. Мораль, а следовательно, и свобода, имманентны любому социуму, независимо от специфики института собственности. При этом неясно, о какой собственности идет речь? Подобные воззрения созвучны взглядам теоретика неолиберализма Ф. А. Хайека, который утверждал, что «… индивидуальная собственность составляет ядро моральных норм любой развитой цивилизации.» [262, с. 54]. Очевидно, для подтверждения этого тезиса достаточно просто обозначить как неразвитые те цивилизации, где институт собственности не получил особого развития. Не так давно казалось, что подобный евроцентризм остался в прошлом, но, как видно, сегодня он зажил новой жизнью.
Автор данной концепции считает, что гражданское общество существовало еще в античности, так как в нем жили свободные собственники. При этом условием гражданского общества представляется автору десакрализированное, рациональное отношение к власти, государству. Но ничего подобного в античную эпоху не было и быть не могло. Кстати, не было и никакой независимости гражданина с его собственностью от полиса или res publica. В этом смысле даже в римской республике с ее развитым частным правом собственность была в некотором смысле условной, т. е. республика всегда имела право на собственность и жизнь гражданина в случае необходимости. Это и определило в будущем возможность проскрипций и конфискаций со стороны власти. Подобное отношение обеспечивалось сакральным восприятием государства, которое представлялось явлением бесконечно большим, чем сумма его граждан. Например, Рим метафизически представлялся римлянам не как население города, а как все поколения римских граждан, живых и мертвых, где мертвых гораздо больше, чем живых. Через mundus (в пространственных представлениях римлян местом связи Города со своими мертвыми являлась круглая яма, над которой после принесения жертв был возведен свод) мир мертвых соединяется с миром живых, и эту связь нельзя было ни разорвать, ни воссоздать заново. Более того, мир мертвых был более значителен, чем мир живых, и как результат, государство бесконечно более значимо, чем любой гражданин и даже все живущие граждане, вместе взятые.
Неточно также, по нашему мнению, утверждать, что условием гражданского общества является существование среднего класса, отличающегося самодостаточностью, т. е. наличием средств и качеств, позволяющих представителям среднего класса самостоятельно решать свои жизненные проблемы и самостоятельно выстраивать свои жизненные стратегии [100]. Эту идею невозможно соотнести с тем, что большая часть так называемого среднего класса и у нас, и в развитых западных странах вовсе не являются собственниками, а являются наемными работниками, пролетариями, хотя и в виде «белых воротничков». Как результат, они зависимы от государственной политики и экономической ситуации на рынке гораздо больше, чем представители рабочих специальностей или крестьяне. В качестве примера можно вспомнить упадок науки в 1990-е годы во многих постсоветских государствах, одним махом ввергнувший массы ученых (почитавших себя средним классом) в состояние экономической и жизненной катастрофы. Не менее беззащитны «белые воротнички», занятые в частном бизнесе, перед лицом экономических катаклизмов. Ни о какой самодостаточности в решении своих жизненных проблем им говорить не приходится. Даже если речь идет о таких обычных социальных свободах, как возможность «поболеть», взять выходной, поехать в отпуск, сменить место работы и жительства, то наиболее свободным и самостоятельным в этом смысле является человек, работающий на государственном предприятии. Менее свободны наемные работники частных фирм, и уж совершенно несвободен владелец мелкого бизнеса, например магазина, мастерской, ларька. Такого «собственника» — представителя среднего класса скорее можно назвать «рабом» ларька, магазина, кафе и др. Кроме того, не нужно забывать, что средний класс существовал и существует в некоторых диктаторских, тоталитарных, фашистских странах, где о гражданском обществе говорить можно с большой натяжкой.
Интересны разработки теории гражданского общества, осуществленные белорусскими социологами, в частности определение гражданского общества, данное Е. М. Бабо-совым. Гражданское общество, по его мнению, это «спонтанная организация индивидов и добровольных ассоциаций граждан, независимых от государства и действующих в политической, экономической и социокультурной сферах общества, защищенных правовыми установлениями и нормами от прямого вмешательства государственных органов» [13, с. 11]. Однако, как показано выше, сущность идеи гражданского общества лежит именно в сфере политического, в сфере отношений общества с властью и по поводу власти. На этот аспект указывает И. В. Котляров, утверждая, что гражданское общество связано с переходом «основных властных функций от государства к независимым общественным объединениям» [125, с. 14]. При этом подчеркивается необходимость учета конкретно-исторических и социально-культурных факторов, влияющих на социальные процессы в обществе. В частности, А. Н. Данилов подмечает, что для построения гражданского общества в постсоветских странах пока не хватает «реального представления о механизмах функционирования общества» [82, с. 194].
Так как же можно определить понятие гражданского общества, учитывающее вышеуказанные признаки и позволяющие дать ему эмпирическую интерпретацию? На наш взгляд, гражданское общество в его классическом понимании есть социальный институт, обеспечивающий управляемость автономного от власти общества на уровне самоорганизации. В этом смысле институт гражданского общества есть совокупность социальных ролей, норм и ценностей, определяющих отношения граждан и ассоциаций друг с другом и государством, основанных на принципе субсидиарности: 1) по поводу перераспределения власти; 2) на основе самоорганизации, а не императивных норм законодательства; 3) в условиях возможности свободного и рационального выбора различных ассоциаций, созданных по инициативе граждан. Благодаря этому институт гражданского общества регулирует отношения автономных друг от друга власти и общества.
Однако нужно сказать, что только интерриоризация названных ролей, норм и ценностей, «разыгрывание» этих ролей в процессе социальной деятельности делают этот институт реальной составляющей институциональной системы общества.
В данном определении, на наш взгляд, зафиксированы сущность и содержание института гражданского общества, позволяющие выделить основные и достаточные критерии отнесения той или иной ассоциации к гражданскому обществу. На основании этих критериев можно ответить на вопросы: является ли семья, религиозная секта, национальные меньшинства, артель, клуб любителей кактусов, фирма, профсоюзы, местные советы и другие организации элементами гражданского общества? На наш взгляд, крайне неосторожно в научных работах однозначно относить признание о членстве респондентов в той или иной ассоциации к гражданскому обществу. Судя по таким интерпретациям, например, в Беларуси около 40 % населения являются соучастниками гражданского общества[1]. Но если посмотреть на виды ассоциаций, куда включены респонденты (в благотворительные организации — 0,8 %; в женские — 1,0 %; в молодежные — 4,0 %; национально-культурные землячества — 0,3 %; организации жильцов, соседей (ЖСК) — 3,4 %; национально-культурные организации, связанные с искусством и образованием (музыкальные коллективы, образовательные центры), — 0,4 %; политические партии — 0,4 %; профсоюзы — 33,5 %; профессиональные ассоциации (коллегии адвокатов, союзы архитекторов и др.) — 0,9 %; спортивные общества, туристические клубы — 2,4 %; церковные или религиозные организации — 2,0 % и другие — 2,1 %), то становится понятным, что трактовка их ответов как участников гражданского общества является слишком преувеличенной. Тем более что реальными участниками этих ассоциаций называют себя только 14,5 % опрошенных.
В целях обоснования необходимости и достаточности категориальной основы понятия института гражданского общества есть смысл рассмотреть его сущность подробнее. Основополагающим условием существования гражданского общества является господство субсидиарной идеологии и примата частных интересов граждан. Субсидиарная идеология означает «приоритет (при прочих равных условиях) прав более мелкой, низкой самоуправляющейся общности по сравнению с общностью более крупной, более высокого уровня» [117]. Таким образом, утверждается, что высшая, более крупная общность имеет только те права, которые своей волей делегированы ей более мелкими, низшими, общностями. Подобное мировоззрение напрямую связано с исторически новым пониманием иерархии как расположением элементов от низших к высшему, в то время как классическая иерархия есть, наоборот, расположение элементов от высшего к низшим.
В своем пределе, или, наоборот, в своей основе, подобное мировоззрение отталкивается от примата частного интереса граждан. Именно частный интерес отдельных граждан есть элементарная база всей системы субсидиарной иерархии, ибо групповой интерес даже первичной общности легитимен постольку, поскольку выражает частные интересы граждан, составляющих эту общность, и только в том объеме, который делегирован гражданами. Нетрудно заметить, что подобные представления связаны с особой антропологией, а именно с представлением о человеке как рациональном, атомарном субъекте. Наиболее ярким выражением такой антропологии стал «экономический человек» А. Смита.
Кроме этого основополагающего условия гражданское общество характеризуется рядом обязательных свойств. Во-первых, важнейшим свойством отношений, нормируемых институтами гражданского общества, является то, что эти отношения возникают только по поводу власти. Там, где люди объединяются в целях заработка, получения прибыли или экономии средств, мы видим экономические структуры, а не гражданские общности. Это артели, акционерные общества или потребительские кооперативы и т. п. Подобные артели, акционерные общества, потребительские кооперативы и другие сообщества существовали еще на заре истории: это и объединения купцов, ремесленников, средневековые цеха и древнеримские коллегии.
Возьмем, например, такую структуру, как кондоминиум, которую нередко обозначают как важный элемент становящегося гражданского общества. Насколько такое суждение справедливо? Кондоминиум как сообщество собственников жилья вступает во взаимоотношения с государством и гражданскими ассоциациями с целью чисто материальной: наиболее эффективно распорядиться средствами, затрачиваемыми на поддержание своего жилья в адекватном состоянии, на оплату горячей воды и отопления, газа и электричества и т. п. По сути, это обычный потребительский кооператив. Сообщество собственников жилья становится элементом гражданского общества только тогда, когда деятельность его выходит за рамки экономии средств и поиска лучшего подрядчика. Например, когда сообщество требует закрыть ночной магазин, расположенный в непосредственной близости от дома. Это уже взаимоотношения с государством в лице местной власти по поводу власти, ибо вопросы расположения магазинов, ресторанов и промышленных объектов находятся в компетенции тех или иных органов власти, и на часть этой компетенции, конечно в локальных масштабах, претендует названное сообщество собственников жилья. Оно полагает себя вправе определять, может или не может магазин находиться на установленном местной властью месте. Если сообществу удается настоять на своем, значит, ему удалось в свою пользу перераспределить определенное властное полномочие по конкретному вопросу.
Также не являются гражданскими ассоциациями такие общности, как сообщество коллекционеров бабочек, туристический или шахматный клуб. Они не вступают ни в какие отношения с государственной властью, и потому не являются элементами гражданского общества, несмотря на то что современные авторы, в попытках найти в отечественной истории какие-либо формы, хотя бы отдаленно напоминающие классические элементы гражданского общества, зачастую готовы причислить к ним любые сообщества.
Вместе с тем эти ассоциации, созданные в целях экономической деятельности либо на основе общих культурных или досуговых интересов, являются плодотворной почвой для образования гражданских ассоциаций. Уже существующая организационная структура, позволяющая сообществу иметь общие задачи и ставить общие цели, легко превращается в элемент гражданского общества, как только целью ее деятельности становится не заработок, хобби и т. п., а перераспределение власти.
Таким образом, можно резюмировать. Всевозможные экономические, профессиональные, гендерные и возрастные объединения, сообщества по интересам и другие сами по себе элементами гражданского общества не являются, но могут служить базой для проявления гражданской активности.
Второй признак гражданского общества — возникновение его элементов (организаций) на основе самоорганизации, а не императивных норм законодательства. То есть ассоциация должна быть продуктом самодеятельности граждан, а не императивно определена конституцией или иными законодательными актами, как, например, парламент. Парламент в этом смысле не является элементом гражданского общества.
Но возникает вопрос, всякая ли самоорганизация граждан относится к гражданскому обществу? Надо заметить, что самоорганизация — необходимое, но не достаточное условие для причисления той или иной социальной ассоциации к гражданскому обществу. Часто наш народ обвиняют в слабой способности к самоорганизации. Трудно признать это обвинение справедливым. Можно привести немало примеров, когда сообщество наших соотечественников, оказавшихся по той или иной причине оторванным от государственной, административной системы, мгновенно и эффективно самоорганизуется. В июне 1989 г. в Иглинском районе Башкирии взорвался газ, вытекший из трубопровода. В результате этого произошло крушение двух пассажирских поездов, 573 человека погибли, 623 были ранены. Комиссия, расследовавшая эту катастрофу, выяснила удивительные факты. Пассажиры, оставшиеся в живых, не впали в панику, а в кратчайшие сроки организовали помощь пострадавшим, собрали воду и медикаменты, послали людей в ближайший населенный пункт и даже, как бы странно это сегодня ни звучало, подготовились к обороне (люди решили, что, возможно, началась война). Это ли не пример способности к самоорганизации? И насколько поведение советских людей контрастирует с ситуацией в Новом Орлеане, когда известное наводнение разрушило привычную систему жизнеобеспечения, а люди сидели в домах и пассивно ждали помощи властей.
Такие формы самоорганизации, как привычные в недавнем прошлом очереди, дежурства по лестничной площадке в многоквартирных домах, в дачных кооперативах и т. п., существовали и существуют поныне. Но можно ли эти самоорганизующиеся ассоциации отнести к гражданскому обществу? По нашему мнению, нет. Ибо они не вступают ни в какие отношения с властью, тем более по поводу власти. Они не ставят вопрос перераспределения власти, т. е. не отвечают основному критерию принадлежности к гражданскому обществу.
Из этого следует вывод: существующие сегодня формы гражданского общества обусловлены не столько способностью либо неспособностью граждан к самоорганизации, сколько готовностью либо неготовностью граждан брать на себя властные полномочия, и соответственно, разделять ответственность, а также, что особенно важно, делегировать свою свободу кому-то, кроме государства. Что, впрочем, не удивительно. Известный в отечественной литературе пример самоорганизации как формы гражданского общества — Домком (кондоминиум) под предводительством Швондера из известной пьесы М. Булгакова оставляет не лучшее впечатление.
И третий основополагающий признак, определяющий принадлежность той или иной ассоциации к гражданскому обществу, — это возможность свободного и рационального выбора различных ассоциаций, созданных по инициативе граждан. Важным свойством гражданского общества является то, что граждане объединяются в гражданские ассоциации на основе свободного и рационального выбора. Дело в том, что всевозможные ассоциации традиционного типа существовали во всех обществах всю историю человечества. Например: они объединялись по этническому, религиозному, племенному, сословному и другим критериям. Членство в подобных ассоциациях не было свободным и рационально осмысленным, а принималось как естественная, «природная» обязанность и право, что бы ни лежало в основе подобного объединения: традиция или некое «природное» свойство. Английский антрополог и социолог Э. Геллнер, возражая против отождествления различных форм «первичной солидарности» с элементами гражданского общества, полагал, что факт независимости традиционных и «квазитрадиционных» ассоциаций от государства не может быть основанием для причисления последних к гражданскому обществу, ибо они защищают интересы своих членов ценой индивидуальной свободы, приносимой в жертву общине [58, с. 48]. Поэтому можно сказать, что гражданское общество и гражданские ассоциации возникают с появлением рационального мышления и рационального индивида как базовой единицы общества, т. е. только в Новое время.
В рамках подобного подхода, осмысливая современную ситуацию с гражданским обществом на Западе, можно констатировать существенные изменения в данном феномене. Эпоха постмодерна вызвала к жизни большое количество различных гражданских ассоциаций, не имевших аналогов в индустриальную эпоху. Свободное и рационально осмысленное членство в той или иной ассоциации уступило место естественным, традиционным, по существу иррациональным мотивам вступления в нее. На смену партиям, профсоюзам и другим гражданским организациям пришли сообщества сексуальных девиантов, легальные сообщества этнических меньшинств, субмолодежные, религиозно-сектантские и т. п. ассоциации, места которым не было в эпоху абсолютного могущества национальных государств. Основания для членства в подобных ассоциациях лежат вне свободного и рационального выбора. Сексуальные меньшинства идентифицируют свои особенности с врожденными качествами, этничность также выглядит как характеристика, независимая от свободной воли человека. Таким образом, основания для членства в подобных ассоциациях не являются результатом свободного и рационального выбора. Более того, трудно не заметить по последним событиям во Франции, России, США и других странах склонности подобных сообществ к тоталитарности, пренебрежительному отношению к закону, к закрытости от посторонних мира меньшинств. Как следствие меньшинства, в первую очередь этнические, являются питательной средой для возникновения криминальных, асоциальных сообществ.
Подобные ассоциации с полным правом можно определить как «квазитрадиционные» и вслед за Геллнером с полной уверенностью отказать им в праве определяться в качестве элементов структуры гражданского общества. Принимая во внимание, что вес подобных сообществ растет, а формы, методы деятельности и принципы их организации экспортируются в привычные для нас гражданские ассоциации, учитывая также, что многие классические гражданские организации вроде профсоюзов и политических партий теряют в современном мире свою значимость либо меняют внутреннюю сущность, можно признать, что институциональный кризис гражданского общества на Западе налицо. Скорее сейчас можно говорить о «симуляции» институтов гражданского общества [105].
В этом плане сложный и дискуссионный вопрос, насколько местное самоуправление можно признавать институтом гражданского общества, разрешается на основе предложенных критериев определения гражданского общества. Во-первых, индивидуум не в состоянии свободно и рационально вступить или выйти из определенной общности, организованной структурами местного самоуправления. Конечно, теоретически можно поменять место проживания, но на практике такая возможность нереальна для подавляющего большинства людей. Во-вторых, структуры местного самоуправления, его формы и сам институт императивно определены конституцией и иными законодательными актами и не являются продуктом самодеятельности граждан.
В то же время нужно признать, что деятельность граждан в рамках структур местного самоуправления является почвой для развития гражданской активности. Можно согласиться с известным норвежским политологом О. Оффердалом, что местное самоуправление является тем пространством, где граждане учатся действовать политически. Именно участие в управлении обеспечивает реализацию гражданского потенциала личности [183].
Необходимо отметить еще одно важнейшее следствие данного подхода к пониманию института гражданского общества. Поскольку отношения гражданского общества и государственной власти имеют своим предметом перераспределение власти, очевидна адекватность политики государства по сужению сферы деятельности зарубежных и местных «гражданских» ассоциаций, активно поддерживаемых из-за рубежа, в отечественном политическом и гражданском пространствах. Перераспределение власти в пользу подобных ассоциаций равнозначно утрате части суверенитета, тем большей, чем на большую область компетенций осуществляются претензии данных ассоциаций.
Надо заметить, что условием существования гражданского общества является легальность и законность. Гражданские ассоциации, граждане, вступая во взаимоотношения друг с другом и государством по поводу власти, только тогда могут именоваться гражданским обществом, когда их отношения строятся на законных, легальных основаниях. Потому нельзя назвать гражданским обществом олигархов, претендующих на приватизацию государственной власти, и экстремистские группы, добивающиеся своих политических целей с помощью террора.
Предложенное определение института гражданского общества носит сущностный характер, тем не менее в условиях методологической работы с анализом конкретных общественных систем позволяет учитывать социальнокультурный характер его применимости. Культурноцивилизационный контекст данного определения отражается в понятии «норм», регулирующих отношение людей к государству. Дело в том, что в нормах концентрируется весь историко-культурный опыт того или иного общества; их нельзя установить законодательным путем; они (нормы) есть квинтэссенция образа жизни, ценностей и идеалов народа. Поэтому нормы взаимоотношения граждан с государством в западных странах отличаются от норм, регулирующих те же отношения в странах нашей цивилизации. Претензии на власть и к власти в нашем отечестве, по мнению ученых, имеют иные исторически обусловленные формы [225].
Итак, выделив основные признаки гражданского общества, зададимся вопросом, можно ли на основании того, что в России, Беларуси и в других постсоветских странах появились и существуют множество различных партий, движений и ассоциаций, утверждать, что гражданское общество западного образца на постсоветском пространстве существует или, как минимум, успешно развивается? По нашему мнению, нельзя. Формы парламентской демократии, скопированные у Запада, у нас не основываются на тех базовых структурах самоорганизации, которые мы определяем в качестве сущностной основы гражданского общества. Партии, движения и ассоциации должны выражать групповой (который, с точки зрения субсидиарного принципа, легален постольку, поскольку объединяет сумму частных интересов граждан) интерес тех или иных социальных групп. Так, в эпоху своего рождения республиканская и демократическая партии США выражали интересы городской буржуазии Севера и сельской (плантаторов) аристократии Юга соответственно. Сегодня электорат партий кардинально изменился, однако и сейчас можно достаточно однозначно соотнести определенный групповой интерес конкретных социальных групп с поддержкой той или иной партии. Точно с такой же точки зрения можно рассматривать тори и вигов в Англии, ХДС, ХСС и СДПГ в Германии и т. д. Суть же парламентской политической процедуры заключается в согласовании интересов тех социальных групп, интересы которых и представляют партии. Сама возможность политического торга, компромиссов, иных видов согласований основана на примате частного интереса граждан.
Напротив, основа самоорганизации в восточнославянских обществах заключается в апелляции к общественному интересу, и легитимность любой гражданской инициативы подтверждается сверху — как подтверждение ее соответствия интересу всего общества через соотнесение заявленной инициативы и фундаментальных ценностей, провозглашаемых властью и принятых обществом, либо носителем альтернативной легитимности в ситуации мировоззренческого раскола общества. Как следствие, партии на постсоветском пространстве являются, как правило, макетами, продуктами манипуляций власти либо, в лучшем случае, фракциями одной, «государственной» партии. А если все же и появляются более реальные и независимые от власти партии, то и в этом случае они мало имеют общего с политическими партиями на Западе, поскольку априори не способны к политическому торгу. Утверждая собственную легитимность через приверженность альтернативным фундаментальным ценностям, они попросту не имеют поля, на котором возможно было бы развернуть политический торг, идти на компромиссы и согласовывать позиции, ибо конкурируют во всех сферах, вплоть до мировоззрения. Таким образом, их противостояние заведомо антагонистично.
Из всего вышесказанного видно, что система партий, движений и ассоциаций вовсе не является показателем наличия или отсутствия гражданского общества классического типа. Нельзя забывать, что противопоставление субсидиарного и коммунитарного типов общества, примата частного или общественного в нем есть противопоставление идеальных типов. Реальные общества, как западное, так и других цивилизаций, находятся на определенном расстоянии от крайних позиций. Соответственно, в любом социальном действии в сфере самоорганизации можно выделить разнонаправленные векторы. В политической сфере, наверное, можно ожидать появления партий, более похожих на западные парламентские партии, и появления оппозиции, которую власть определяет как «конструктивную оппозицию». Однако вес таких партий в обществе, очевидно, будет гораздо ниже, чем вес парламентских партий на Западе.
Таким образом, можно еще раз подчеркнуть, что гражданское общество как социальный институт обеспечивает управляемость автономного от власти общества на уровне самоорганизации. В этом смысле институт гражданского общества представляет собой совокупность социальных ролей, норм и ценностей, определяющих отношения граждан и ассоциаций друг с другом и государством, основанные на принципе субсидиарности: 1) по поводу перераспределения власти; 2) на основе самоорганизации, а не императивных норм законодательства; 3) в условиях возможности свободного и рационального выбора различных ассоциаций, созданных по инициативе граждан.
Основными эмпирическими показателями феномена гражданского общества выступают признаки, которые отражают необходимые и достаточные связи между людьми и ассоциациями в отношениях с государством. Это: 1) показатели, отражающие отношения людей к власти по поводу власти; 2) раскрывающие субстратный аспект гражданского общества — способность людей к самоорганизации; 3) характеризующие субъекта (актора) гражданских действий, его готовность отдать ассоциации часть своей свободы, способность свободно и рационально проявлять инициативу, вступая в ту или иную ассоциацию, и, что особенно важно, признавать легитимность следования частным интересам в сфере политического со стороны всех гражданских контрагентов (граждан, ассоциаций, партий).
Наша идея состоит в том, что в обществе, построенном на субсидиарной основе (в котором только и возможно гражданское общество классического образца), субъекты, выступающие в сфере публичной политики от лица тех или иных социальных групп, не только могут, но и должны провозглашать свою приверженность частному (групповому как сумме частных) интересу этих групп. На этом зиждется их легитимность в политической сфере. В обществе же коммунитарного типа субъекты публично-политического пространства, наоборот, утверждают свою легитимность через апелляцию к общему благу, и более того, подозрение в преследовании частных и групповых интересов становится тяжким обвинением.
Пока, как правило, социологи в исследованиях идут по пути прямых вопросов о необходимости или ненужности гражданского общества в нашей стране. Между тем изучение гражданского общества должно выражаться не с помощью вопросов типа: «как вы считаете, развитие гражданского общества: это хорошо или плохо?», «необходимо ли в нашей стране гражданское общество» и т. п., а в выяснении того, готов ли каждый гражданин в реальной ситуации отчуждать свою свободу в пользу той или иной гражданской ассоциации? Доверяет ли он распоряжаться своей свободой институтам гражданского общества? Как свидетельствуют опросы в Беларуси, большинство опрошенных белорусов доверяют государственной власти в лице Президента Республики Беларусь (свыше 60 %) и различным ветвям власти (Национальному собранию, Совету министров, конституционному суду и местной власти — более трети опрошенных соответственно каждой ветви власти). Таким же общественным ассоциациям, как независимые профсоюзы, доверяют только 15,6 % респондентов, политическим партиям — 9,8 %, представителям зарубежных организаций, фондов в Республике Беларусь — 12,4 %, оппозиционным партиям и движениям — 4,7 % респондентов[2].
Та же тенденция в общественном мнении наблюдается в отношении к «защитным» мерам. Если в советскую эпоху большинство людей со своими проблемами и нуждами шли в профкомы, завкомы, партийную и комсомольскую ячейку (сейчас этим структурам отказано в праве называться элементами гражданского общества), то сегодня большинство в решении своих проблем надеется только на государство (на суд — 26,2 %, милицию — 24,5, друзей и знакомых со связями — 17,5 % респондентов). Обратились бы за защитой в общественные правозащитные организации лишь 3,6 %, а в профсоюзы — 3,7 % респондентов.
Традиционная методология изучения гражданского общества, получения и трактовки социологических данных не объясняет их противоречивости, так как с точки зрения западной теории гражданского общества факт доверия государственным структурам и недоверия гражданским ассоциациям (партиям, профсоюзам и др.) абсурден. Поэтому, как следствие, полученные в опросах данные приобретают не научное объяснение, а мифологические трактовки в зависимости от пристрастий авторов (вера народа в доброго царя; рабская от рождения натура простых людей; отсталость от западной демократии и т. д.).
Глава 3 Социальные ресурсы управляемости обществом в восточнославянской цивилизации
3.1. Генезис институциональных форм и способов управляемости в обществе
Рассматривая специфику отечественного социума, уясняя его основания, необходимо также обратиться к наиболее глубоким истокам нашей культуры. Они в громадной степени лежат в специфике восточного православия и византийской цивилизации, через которую восточнославянские народы приобщились к мировой культурной традиции. Православие, а через него и государственная и общественная организация, соотношение общества и власти в немалой мере имеют своими основаниями принципы, выработанные тысячелетней историей византийского царства. Многое, от очевидного, как, например, придворный царский церемониал, до сущностного, как идея симфонии, и забавного, вроде ношения густой бороды, было заимствовано русским миром из византийской культуры. Не только в духовной сфере, но и «ряд частных сторон государственного, правового и социального строя Древней Руси отразил на себе влияние образцов и идей византийской церковности. Блестящий анализ этой материи в применении к домонгольскому периоду дал Ключевский, показавший, как преобразовывалось по Номоканону наше право уголовное, гражданское, имущественное, обязательственное, семейное, брачное, как возвышалась женщина, как таяла холопская неволя, обуздывалась кабала ростовщичества и тому подобное. Анализ Ключевского применим в известной мере и ко всей старорусской эпохе: и к судебнику Иванов III и IV, и даже к уложению царя Алексея Михайловича» [114].
Путь Византии, а затем и восточнославянского, русского мира имел и имеет фундаментальные отличия от пути европейского, и источник этого расхождения лежит в глубокой древности. Заметим, что название «восточнославянская цивилизация» в мировой литературе не употребляется и страдает рядом недостатков (например, оно не учитывает то, что к этой цивилизации принадлежат неславянские народы, т. е. в него введен расово-этнический признак). Как правило, ее называют российской или русской цивилизацией (О. Шпенглер, Н. Я. Данилевский, А. Тойнби, П. Сорокин, Ф. Бродель, Ю. Бэгби, К. Куигли, С. Хантингтон, И. Валлерстайн). Однако в современной литературе термин «восточнославянская цивилизация» стал общепринятым, что и обусловило употребление его в нашей работе.
На заре западноевропейской цивилизации восточный Рим был неподражаемым образцом для молодых варварских королевств. Теодорих Великий писал императору в Константинополь: «Богу угодно было, чтобы я научился правительственной науке в вашей империи. Наше королевство — подражание вашему; мы превосходим другие народы тем, что подражаем вам» [241, с. 49]. Но с самих истоков развитие западного и византийского общества пошло разными дорогами.
На Западе, в среде варварских королевств сильная центральная власть практически отсутствовала. Неспособность этой власти обеспечить защиту права людей не богатых и не могущественных определила необходимость каждого искать себе индивидуального покровителя из богатых и могущественных. «Каждый, — говорится в одном распоряжении Карла Великого, — имеет право после смерти своего господина рекомендовать себя другому» [241, с. 56]. И еще: «Всем дозволяется держать в своей коммендации свободных людей» [241, с. 56]. Эта система зависимости слабейших постепенно, развиваясь, привела к всеобщей системе индивидуальной зависимости по иерархии. «Вот результат, к которому пришло западноевропейское развитие в X в. Характеризовать его можно немногими словами. Сверху донизу постепенно понижающаяся лестница иерархических ступеней. Верхние слои держатся узами сеньората и вассалитета, нижние находятся в полном подчинении феодальной знати, которая раскинула свои корни по всей территории, подвергшейся влиянию романизации», — писал Ф. И. Успенский [241, с. 72]. Таким образом, общество сложилось как совокупность индивидуальных договоров. Надо заметить, что в подобном договорном отношении скрупулезная фиксация прав и обязанностей договаривающихся сторон имела важнейшую роль.
На землях Византийской империи сложилась иная ситуация. За защитой своего права человек имел возможность апеллировать к сильной центральной власти. Но сама эта власть, осуществляя достаточно эффективную защиту частного права граждан, в то же время именно по причине своего могущества не была связана буквой договора со своими подданными.
На Западе община (марка) быстрыми темпами распадалась, ибо власть местных сеньоров была слишком велика для того, чтобы крестьянская община могла эффективно бороться и защищать себя. Община же на Востоке, сохранившаяся еще с римских времен в восточных провинциях, а с V в. усилившаяся благодаря миграции славян, находила надежную защиту в лице императора, черпавшего именно из общины основные экономические и людские средства для достижения государственных целей. Как и на Западе, на Востоке было свое сословие властителей, или донатов, как именуются они в греческих источниках, постоянные поползновения которых угрожали цельности и независимости сельской общины, но центральная власть и закон последовательно стояли на страже интересов общины. Известен старейший правовой акт, в котором важное место уделено крестьянской общине. Это Крестьянский закон, изданный в VIII в. В классическом римском праве никаких упоминаний о крестьянской общине не было, как не было подобных упоминаний в формах римского права, перекочевавших в правовые системы феодальных королевств западной Европы. Данный закон был явной правовой новацией. «Этот закон должен послужить точкой отправления в истории экономического развития на Востоке», — пишет по этому поводу Ф. И. Успенский [241, с. 212]. Надо заметить, что почти все статьи этого законодательного сборника импортированы впоследствии и в русское право, начиная с устава Ярослава.
Особенные условия сложились на Западе и в отношении церкви и государства. Вплоть до VIII в. Римский престол находился в пределах государственного поля Византийской империи, будучи в то же время не настолько связанным с центральной императорской властью, насколько связана была Константинопольская патриархия. Когда, в результате внешнеполитических перипетий и движения итальянского сепаратизма, папский Рим вышел из-под непосредственного влияния Восточной Римской империи, Папа был уже не только духовным владыкой, но и светским государем, достаточно независимым и в мирских делах от светских властей в Европе. Это предопределило специфику отношений церкви и власти, при которой Папа выдвинул принцип примата духовной власти над светской, что выражалось не только в духовной, но и политической сферах. Как результат — конфликты пап и императоров Священной Римской империи германской нации, конкурентная основа взаимоотношений церкви и светской власти на Западе.
Иначе обстояло дело на Востоке. Поздняя Римская империя, восточная ее часть, называемая Византией, встретилась с проблемой автономии власти и общества еще тогда, когда на Западе только закладывались основания западной цивилизации, такой, которую мы знаем. И поиски решения этой проблемы в Византии велись в направлении преодоления случившейся автономии, а не фактического ее признания и закрепления, в результате чего сложилась концепция симфонии. Согласно ей, император правит в тесном контакте с духовенством, с Патриархом (до определенного момента Папой), православной Церковью. Между ними существуют органичные отношения, которые называются греческим словом — «симфония», т. е. «созвучие», «единозвучие». Симфония — это термин политической и церковной практики, так называемой симфонии властей. «Теократическая тема христианства развивается в России не в смысле примата духовной власти над светской, как это случилось на Западе, а в сторону усвоения государственной властью священной миссии. Это не было движение в сторону це-зарепапизма — Церковь сама шла навстречу государству, чтобы внести в него благодатную силу освящения. Точкой приложения Промысла Божия в истории является государственная власть — в этом вся «тайна» власти, ее связь с мистической сферой. Но потому церковное сознание, развивая теократическую идею христианства, и стремится найти пути к освящению власти. Власть должна принять на себя церковные задачи, — и потому церковная мысль, именно она, занята построением национальной идеологии. Власть позже примет эту, созданную Церковью идеологию и сделает ее своим официальным кредо, но вся эта идеология — церковна и по своему происхождению и по своему содержанию», — писал о сущности «симфонии» В. Зеньковский [101, с. 247].
Идущая от панегириста Юстиниана Евсевия Кесарийского идея симфонии легла в основу бытия Византийской империи, а затем и Руси. Православие может существовать лишь в православном государстве, глава которого помазывается на царство и действует по благословению епископа. И царская власть, и священная епископская происходят из одного источника, но священство имеет приоритет в духовных делах, а царство — в светских. Идея симфонии прошла длительную метаморфозу от идеологемы «Москва — Третий Рим» до теорий официальной народности, «Святой Руси», Советов и известного лозунга: «Народ и партия едины».
Учение «о двух градах», земном и небесном, оставило свой след и на Западе, и на Востоке, но если на Западе оно трактовалось прямо в политическом смысле, то на Востоке оно воспринималось скорее как аскетическая метафора, как фиксация монашеского отшельнического духовного опыта, а не как религиозно-политическая доктрина. Это учение следовало прикладывать к личной духовной практике, а не к социально-политическому целому. И в таком случае оно оставалось вполне в рамках догматической и политической ортодоксии. Многие восточные отцы церкви описывали оппозицию между земным и небесным в таких же, а подчас и в более жестких терминах, но православие помещало эти темы в контекст аскетики, в социально-политической области придерживаясь иного — симфонического подхода.
В византийской империи власть мыслилась не как стоящая над государством, обществом и церковью, а как с ними неразрывно слитая. Три участника общественно-политического процесса — государство, церковь и общество — не могли быть соперниками, они гармонично соединялись в едином Православном царстве, созданном Богом во исполнение Его промысла. Протоиерей Владислав Цыпин излагает идею симфонии так: «Суть симфонии составляет обоюдное сотрудничество, взаимная поддержка и ответственность, без вторжения одной стороны в сферу исключительной компетенции другой» [263]. «Симфония властей» присутствует только тогда, когда император, басилевс понимается не только как временный владыка, как носитель временной власти, но как духовная мистическая эсхатологическая опора всей христианской традиции, поскольку, являясь «кате-хоном», он препятствует приходу антихриста, «сына погибели», и, соответственно, выполняет функцию, гораздо более глубокую и серьезную, нежели обычные князья, короли, цари. Идея симфонии породила теократическую утопию священного государства, в котором мирское, светское, экономическое, социальное, правовое, административное должны гармонически сочетаться с благодатным, аскетическим, созерцательным, литургическим. «В этом принципиальное отличие восточного христианства от западного, где утвердилась идея автономии светскости и духовности. На Западе общество постоянно балансировало между двумя соревнующимися силами — императорской властью и церковью, что привело в итоге к возникновению рационалистического гуманизма, когда Богочеловек был потеснен Человеком, Государством, Нацией. На Востоке не было и не могло быть Ренессанса в западноевропейском значении этого слова, утверждения обособленности человека от Бога, его моральной и онтологической самостоятельности», — заключает В. Зеньковский [101, с. 102–103].
Надо заметить, что Церковь не ограничивается рамками религиозного института, но проецирует свое собственное сакрализующее церковное «излучение» на все, что происходит в империи. «Отсюда рождается концепция «литургической империи» («leitourgia» по-гречески — «единое действие», «всеобщий труд»). Здесь складывается имперская «литургия», когда каждый труженик, каждый простой христианин, даже осуществляя самую простую работу, соучаствует во всеобщем спасении, поскольку в таком государстве нет строгой и четкой грани между церковным и нецерковным. Все, что лежит внутри границ тысячелетнего христианского православного царства, сакрализировано», — отмечает А. Г. Дугин [91]. Именно тут, на наш взгляд, корни идеи «коллективного спасения», которая стала важнейшим фактором, отличающим «дух» православия от «духа» западной церкви.
Следует обратить внимание на еще одну важнейшую черту, присущую властной вертикали в Константинополе и позже в России вплоть до сегодняшнего дня. Это иерархичность власти, которая в Новое время была утеряна на Западе. Вернее сказать, в западной культуре сам принцип иерархии претерпел кардинальные изменения.
Термин «иерархия» (от hieros — святой, arche — власть) появляется у Псевдо-Дионисия Ареопагита в его трактатах «О небесной иерархии» и «О церковной иерархии». Там мы находим вполне ясное определение этого термина: «Иерархия… есть священное устроение, знание и действие, уподобляющееся, насколько это возможно, божественному и к дарованным ей от Бога озарениям соразмерно для бого-подражания возводимое» [89].
Итак, согласно Дионисию, иерархия — это отражение божественного порядка в субъектах, стремящихся уподобиться божественному. Как следствие, иерархия в оригинальном виде может мыслиться как последовательность элементов, уровней, расположенных от высшего к низшему. Именно так и в Византии, и в России (в том числе и в СССР) выстраивалась властная вертикаль. Легитимность власти распространялась не от низшего к высшему (согласно принципу субсидиарности), а, наоборот, от высшего к низшему, что и предполагает иерархия. Царь (император) освящал и придавал легитимность князьям и вельможам, и так, сверху вниз всему общественному организму. Впрочем, и высшая власть точно так же получала легитимность сверху, от начальной, высшей точки иерархии, от Бога как абсолютного источника легитимности. В советскую эпоху таким источником легитимности стала идея коммунизма.
Иначе дело обстояло на Западе, начиная с Нового времени. Само понятие иерархии потеряло свой сакральный смысл и было поставлено с ног на голову. Под иерархией стали понимать «систему последовательно подчиненных элементов, расположенных от низшего к высшему» [129, с. 264]. Подобный взгляд стал важным элементом всей структуры не только политического мировоззрения, но и рационального знания как такового. Идеи народовластия, демократии, гражданского общества в контексте западного понимания иерархии можно прямо соотнести с научными теориями классического рационализма, например теорией Дарвина. Взгляд на иерархию как на структуру восхождения от низших элементов к высшим стал важнейшей частью рационалистической картины мира, утвердившейся на Западе.
Таким образом, еще в византийскую эпоху оформились идеи симфонии и коллективного спасения, иерархии власти и «литургического» общества, что позже, уже в России преломилось в идею «соборности». Община как основной способ социально-экономической организации в земледельческой сфере получила в Византии правовую форму, что, несомненно, способствовало устойчивости общины и в России, где византийское право играло важнейшую роль вплоть до Нового времени, а в ряде случаев и дольше. Названные идеи естественным образом через приобщение к религиозной традиции были перенесены и на отечественную почву.
Когда в конце XIV в. Великий князь Московский Василий I отказывался подчиниться Византийскому императору, он получил очень характерную отповедь от Константинопольского патриарха. «Невозможно, — писал патриарх Василию I, — христианам иметь церковь, но не иметь царя, ибо царство и церковь находятся в тесном союзе и общении между собой, и невозможно отделить их друг от друга. Святой царь занимает высокое место в церкви, — он не то, что поместные государи и князья» [9].
Особенную остроту вопросы отношения церкви, царства и общества приобрели в России после падения Константинополя в 1453 г. Миссию православного царства примерило на себя Московское государство. Еще в посланиях старца Филофея царь именуется «хранителем православной веры», т. е. имеет церковные задачи, церковную власть, а митрополит Макарий (современник Иоанна IV) доходит до формулы: «Тебя, государь, Бог вместо Себя избрал на земле и на престол вознес, поручив тебе милость и жизнь всего великого Православия» [101, с. 49].
Надо подчеркнуть именно это специфическое обоснование самодержавия царя. Не воинской силой, не юридическим правом легитимизируется царская власть, но выполнением им сакральной миссии, осуществлением связи земли и «неба». Известный апологет царской власти Иосиф Волоцкий, возвеличивая своей позицией царскую власть, твердо исповедал, что неправедный царь — «не Божий слуга, но диаволов», что естественно лишало такого «неправедного» царя права на владычество православным царством. Не нарушение каких-либо прав подданных, а измена «литургии» всего народа по святому служению была тем нарушением, которое определенно предоставляло подданным право на сопротивление такой «диаволь-ской» власти. Уже здесь мы видим источник необыкновенной силы и в то же время удивительной хрупкости нашего общества.
В XVI в. в Московском царстве происходят глубокие реформы на уровне местного самоуправления. Были отменены кормления и введена губная и земская системы. Формально многие свойства органов самоуправления напоминают аналогичные органы, развивавшиеся в то же время в странах западной Европы. Тем показательнее сущностные отличия отечественных земств от западных представительских учреждений.
В. О. Ключевский решительно отказывает земским учреждениям Московского государства в праве называться самоуправлением в привычном, известном с Запада смысле этого понятия. «Местное самоуправление в настоящем смысле слова есть более или менее самостоятельное ведение местных дел представителями местных обществ с правом облагать население, распоряжаться общественным имуще — ством, местными доходами и т. п. Как нет настоящей централизации там, где местные органы центральной власти, ею назначаемые, действуют самостоятельно и безотчетно, так нет и настоящего самоуправления там, где выборные местные власти ведут не местные, а общегосударственные дела по указаниям и под надзором центрального правительства» [119]. Историк утверждает, что дело не столько в выборе или в назначении местных властей, сколько в свойстве самых функций, ими отправляемых, и в степени их зависимости от центральной власти. «Рассматривая круг дел губных и излюбленных земских старост, сбор государственных податей, суд и полицию, видим, что это были все дела не местные, земские в собственном смысле, а общегосударственные, которые прежде ведались местными органами центрального правительства, наместниками и волостелями. Следовательно, сущность земского самоуправления XVI в. состояла не столько в праве обществ ведать свои местные земские дела, сколько в обязанности исполнять известные общегосударственные, приказные поручения, выбирать из своей среды ответственных исполнителей «к государеву делу». Это была новая земская повинность, особый род государственной службы, возложенной на тяглое население», — добавляет он [119].
В этом выразилось принципиальное отличие взаимоотношений государства и общества в восточнославянской традиции. В определенном смысле — развитие того же принципа «симфонии». Власть и общество не имеют четкой границы, не противостоят, а взаимно проникают друг в друга. Общее дело одновременно становилось и частным, поскольку, в рамках представлений о коллективном спасении как сути и цели царства, спасение есть одновременно и высшая частная, и высшая общая цель. Даже крепостные крестьяне полагали свой труд в пользу помещика государственным тяглом. Помещик получал право на эксплуатацию крестьян не ЗА службу по договору. Служба была безусловной. Труд крестьян, несущих государственное тягло, предоставлялся помещику ДЛЯ службы, для успешного ее несения. Все в государстве, согласно московской идеологической доктрине, несли государственную службу: одни военной службой, другие трудом.
Интересно, что институт холопства в Московском государстве, т. е. договора личной зависимости, сделался презираемым, статус холопа приобрел негативный оттенок. А ведь надо помнить, что холоп — это не только лакей; были и боевые холопы, составляющие воинские отряды бояр, и холопы, управляющие поместьями, и даже холопы, занимающие высокие по своей значимости посты. Институт холопства, согласно законодательным источникам того времени, это всего лишь институт личной зависимости, легший на Западе в основу средневекового общества. Но если на Западе служить частному лицу считалось нормой, обусловленной договорной зависимостью, то в Российском государстве отчуждение личной свободы являлось нормальным только в пользу государства («царская копейка дороже рубля барского»). Как реальная практика приватизация власти и в русской истории была нередким феноменом, другое дело, что приватизация власти на Западе воспринималась как естественный порядок вещей, а в России — как покушение на государство. Обвинение же в приватизации власти воспринималось как государственная измена.
Не менее интересные особенности демонстрирует также система губного управления, выполнявшая функции охраны правопорядка. На Западе сутью ранних правоохранительных органов было восстановление нарушенного права, частного договора. Иначе в России: «Цель губного процесса строго полицейская — предупреждение и пресечение «лиха», искоренение лихих людей. Губная грамота грозила губным властям: «А сыщутся лихие люди мимо их, и на них исцовы иски велеть имати без суда, да им же от нас (государя) быти кажненым». Потому губного старосту заботило не восстановление права в каждом случае его нарушения, а обеспечение общественной безопасности», — замечает по этому поводу В. О. Ключевский [119].
Царь, дав на земском соборе 1550 г. указание кормленщикам прекратить многочисленные административные тяжбы мировым порядком, по сути подготовил отмену кормлений. Уже в 1552 г., как отмечалось в летописях, «кормлениями государь пожаловал всю землю», т. е. земское самоуправление становилось повсеместным учреждением, сначала в форме опыта, а затем — закона 1555 г., не дошедшего до нас в подлинном виде. Существенно, что земский мир не обязывался, а получал право выкупить кормление служилых управителей и заменить своими выборными людьми. Такой откуп платился в казну, что означало для государства двойную выгоду: материальную — получение откупа и состоявшую в улучшении управления. Кормленщики же взамен получали поместья, становившиеся основным средством содержания служилых людей.
Итак, сущность земского самоуправления XVI в. заключалась не только в самоуправлении, но и, что важно, в выполнении государственных приказных поручений, перелагавшихся с военно-служилых людей на местных выборных. Можно сделать вывод, что в таком виде земское самоуправление не служило и не могло служить исходной позицией в качестве зародыша гражданского общества в России. Однако в этих условиях, немыслимых для гражданского общества с точки зрения новой европейской философии, укреплялись черты общей ответственности, круговой поруки «мира», ставшей впоследствии особенностью российской жизни, ощущавшейся при любых политических условиях.
Земские соборы в XVI в. созывались в 1550, 1566, 1584 и 1598 гг. Эти «советы всея земли» (как их называли в памятниках XVII в.) были светским подобием «Освященных» соборов церкви, у которых они заимствовали само название «собора» и иерархический состав. Земские соборы собирались Иоанном IV дважды «для выработки общего постановления по особо важным вопросам государственной жизни и для принятия членами собора ответственного кругового ручательства в исполнение соборного приговора», и эти соборы по своему составу, по регулярности, по исходившей «сверху» инициативе собрания никак не подходят под пример европейского парламента [119]. Движение шло по пути расширения представительства, а затем в 1584 г. (подтверждение прав на державу Федора Ивановича) и в 1598 г. (избрание на царство Бориса Годунова) заключалось еще и в самостоятельном (без царской воли, по крайней мере) созыве, формулировании и принятии решений.
В ряде случаев отечественным прототипом гражданского общества пытаются представить определенный феномен, родившийся в конце XVIII в., известный как «общественность». Такой точки зрения придерживается, например, В. Волков [45], и, надо заметить, некоторые основания для подобного подхода есть. Понятие «общественность» в русском языке неоднозначно. В одном значении понятие общественности связано с представлениями об общественной солидарности, определенном качестве во взаимоотношениях людей в обществе. В другом — под общественностью понимается особая группа людей, читающая и политически активная публика.
Авторство этого термина обычно приписывается Николаю Карамзину; он ввел его в опубликованных в 1791 г. «Письмах русского путешественника» [111]. Известнейший русский историк ввел этот термин для обозначения особого качества человеческой солидарности — «духа общественности», или «мудрой связи общественности» [111, с. 176]. Более поздние исследования показали, однако, что впервые это слово использовал Александр Радищев в тексте 1789 г., имея в виду общественное мнение [99, с. 47].
В 1817 г. на русский язык была переведена книга Фергюссона «Опыт истории гражданского общества». В переводе понятие public spirit (дух общественности) было переведено как общественность [246]. Об «общественности» вновь заговорили в литературной среде на рубеже 40-х годов XIX в. Это понятие встречается в работах В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. П. Огарева и др., как отражающее идею социальной солидарности, специфического качества, формирующегося у людей, живущих в обществе.
С появлением и ростом численности разночинной интеллигенции, что сопровождалось формированием новых институтов общественного мнения и профессионализации литературно-критической деятельности, постепенно утвердилось и другое значение понятия «общественность», а именно круг людей, объединенный определенными ценностями, деятельностью и способом жизни. Новая пишущая и читающая общность, по своему образованию, доходу и видам деятельности явно выделяясь из массы простого народа, в то же время противостояла «салонному» аристократическому обществу. Обязательными качествами человека, претендовавшего на то, чтобы считаться представителем общественности, были «прогрессивность», активная заинтересованность популярной в кругах общественности, как правило, общественно-политической тематикой, деятельность в этой сфере.
Популярность этого понятия выросла в 60-е годы XIX в. в связи с реформами Александра II, когда в России бурно развивалась независимая пресса. Сформировалось специфическое, надсословное поле, объединившее образованные слои и группы читающей публики, представлявшее собой некую воображаемую общность.
Общественность, общественное мнение сразу встало в критическую позицию по отношению к государству. Независимая пресса апеллировала к общественности и общественному мнению и одновременно воспроизводила их в качестве социального института. Таким образом, вырабатывая альтернативную официальной повестку дня, оттачивая свою позицию в сфере общественных дебатов, общественность стала важным субъектом общественного действия.
По ряду признаков общественность мы могли бы отнести к элементу гражданского общества. Это люди и группы людей, осуществляющие деятельность, независимую от государственной власти, обычно критически к ней настроенные.
Но уже один признак сразу вырывает российскую общественность из области привычного содержания понятия «гражданское общество». Рынок, частная собственность почитается одним из наиболее значимых источников и элементов классического гражданского общества. Сущностные черты антропологии гражданского общества вращаются вокруг защиты собственности и «экономического человека». Сам термин «civil society» в английском языке на немецком звучит как «burgerliche Gesellschaft» от родственного Burger, буржуа. Сфера капиталистического свободного рынка существовала в России и развилась к началу XX в., это несомненно. Проблематично другое — как она соотносится с идеей и практикой общественности.
Исследования показывают, что молодая российская буржуазия никак не связывала себя с «общественностью» [278]. Сам В. Волков вынужден признать, что «социальная группа экономической буржуазии не связывала себя с общественностью, а, напротив, тяготела к союзам с государственной бюрократией и правыми партиями» [45, с. 81]. И этот фактор имеет непосредственную связь со спецификой идейных оснований общественности как феномена русского общества.
В противоположность западному гражданскому обществу, ориентированному на защиту частного интереса, исходящему из частного интереса граждан, русская «общественность» ориентировалась на общий интерес в самом идеальном смысле этого слова. Судьба и благо других, до самоотречения, — вот императив русского прогрессивного общества. Виднейший представитель этой самой общественности В. Белинский писал в свое время: «Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братьев по крови» [21, с. 22]. И взирая на историю народовольческого и социалистического движения в дореволюционной России, трудно не признать, что он был искренен. Русская общественность, за редким исключением, была вдохновлена народническими идеалами. «Сострадание живет во мне и жжет мне душу», — пишет Н. К. Михайловский [167, с. 250]. Именно он пустил в оборот слова «кающийся дворянин» — слова, эквивалентные формуле П. Л. Лаврова об «уплате долга» народу.
Часто в качестве прототипа гражданского общества рассматривают земское движение, игравшее громадную роль в русской жизни начиная с земской реформы 1864 г. Земская реформа 1864 г. положила начало формированию земств, сфера деятельности которых охватывала вопросы местного хозяйства и финансов, торговлю и промышленность, образование, строительство, судебное производство, поддержание общественного порядка и медицинскую помощь населению. В основу реформ их авторами — Н. А. Милютиным, С. С. Ланским были положены принципы выборности и бессословности.
Однако трудно согласиться с Б. Н. Мироновым, увидевшим в подобных учреждениях прообраз гражданского общества по западному образцу [166]. Земства находились под контролем центральной и местной властей, многие решения собраний и управ должны были утверждаться губернатором или министром, финансировались они из налогов с населения: 1 % брался с доходности земли, с земледелия и промыслов крестьян, с дохода торгово-промышленных заведений. Деятельность земских учреждений не имела политических функций, это было управление лишь в сфере народного хозяйства (прежде всего агрокультуры, продуктивности скота, ветеринарии), медицины, образования, страхования, статистики, почты, приютов, тюрем и т. п.
К началу ХХ в. эта система имела следующий вид. Общины, объединяющие крестьян одной деревни или нескольких малых соседних деревень, имели орган крестьянского самоуправления — сельский сход, который, в свою очередь, избирал сельского старосту. Несколько общин входили в волости, как правило, это несколько деревень с населением до 2000 человек. За порядком и сбором налогов следили старосты, волостные старшины и волостные судьи. Их в свою очередь контролировали мировые посредники, подчиненные губернскому учреждению по крестьянским делам. По закону 1889 г. мировые посредники и уездные собрания были заменены земскими участковыми начальниками, которые назначались из дворян и имели полномочия по утверждению решений крестьянских сходов, назначению и смещению должностных лиц и даже по наказанию крестьян.
Подобно земским органам эпохи Московского царства, сельские старосты и волостные старшины, сборщики податей и другие выборные были для власти бесплатным дополнительным административно-полицейским звеном, выполняли в большой степени государственно-управленческие функции. Волостной старшина следил за «сохранением общественного порядка, спокойствия и благочиния в волости».
Население, разделенное на курии, избирало уездное земское собрание. Помещики и зажиточные горожане избирали прямо, а крестьяне (только мужского пола) — через выборных от общин. Имущественный ценз был очень высоким. Так, в Москве и Петербурге в прямых выборах участвовали около 5 % взрослого населения. При таком порядке выборов в уездных собраниях дворяне составляли почти 50 % депутатов («гласных»). Они избирали губернское земское собрание (в 1890 г. 89,5 % их депутатов были дворянами). Исполнительными органами уезда и губернии были земские управы.
Особенным было уже то, что базовым, наиболее массовым уровнем земств были крестьянские общины, первичные структуры отечественного традиционного общества, а высшие уровни земской организации находились в руках дворян. Таким образом, земства как структуры местного самоуправления трудно определить как элемент, даже в зачаточном виде, гражданского общества по западному образцу.
Английский антрополог Эрнест Геллнер выдвинул в свое время возражение против отождествления любых форм первичной солидарности с гражданским обществом на основе их функциональной схожести [58]. Он полагал, что нельзя смешивать с гражданским обществом квазитра-диционные общины и ассоциации, построенные в том числе и по сословному признаку.
Не осознавая этого отличия от западного общества, но интуитивно подозревая его, идеологи земского движения так и не смогли прийти к окончательному выводу, что же такое земства. Или это общественная организация, или все же государственная. В объяснительной записке к проекту «Положения о земских учреждениях», направленной в 1863 г. в Государственный Совет, высказана мысль, что «земское управление есть только особый орган одной и той же государственной власти и от нее получает свои права и полномочия; земские учреждения, имея свое место в государственном организме, не могут существовать вне его» [151, с. 92]. Но одновременно, в том же самом документе, земские учреждения называются общественными, а то и частными, хозяйство их в правовом плане приравнивается к хозяйству частного лица, а компетенция ограничивается местными хозяйственными интересами, особыми «земскими» делами таким образом, что характеризует земство как институт негосударственный. Причина такого противоречия заключается, видимо, в попытке свести основания земской организации к привычным западным представлениям о гражданском обществе, а между тем земства конца XIX в. имеют общие черты с земствами XVI в. Это институт традиционного, сословного, солидарного общества. Идеи конкурентных отношений социальных групп, общества и власти не присущи ему, а потому и четкого размежевания между делом общественным и делом государственным просто не существует.
Нельзя отрицать, что некоторые деятели, стоявшие у истоков земского движения, например Н. А. Милютин, пытались придать земствам строго «гражданскую» окраску. «Земское управление как чисто местное, очевидно, не может и не должно нисколько касаться государственных дел, ни интересов государственной казны, ни суда, ни, наконец, полиции исполнительной, сего главного местного органа центральных учреждений. Вне этих отраслей собственно правительственной деятельности остается обширный круг местных интересов, большею частию мелочных, так сказать, обыденных и для Высшего Правительства не важных, но составляющих насущную потребность местного населения», — писал он. «Земства, — добавлял Милютин, — не могут и не должны иметь характера политического; их значение собственно административное» [165]. Но в реальности все сложилось не так. На земства были возложены различные задачи именно государственного значения и к началу XX в. земства предъявляют властям именно политические требования общегосударственного значения, правда, предъявляют верноподданнически.
Идеологом «государственнической» модели земств стал петербургский профессор Н. М. Коркунов. «Общественная теория, — писал он, — видит сущность самоуправления в предоставлении местному обществу самому ведать свои общественные интересы и в сохранении за правительственными органами заведывания одними только государственными делами. Общественная теория исходит, следовательно, из противоположения местного общества государству, общественных интересов — политическим, требуя, чтобы общество и государство — каждое ведало только свои собственные интересы. Государственная теория, напротив, в самоуправлении видит возложение на местное общество осуществления задач государственного управления, службу местного общества государственным интересам и целям. С этой точки зрения самоуправление предполагает не противоположение и обособление местного общества и государства, а призыв местного общества на службу государству. Согласно общественной теории, самоуправление есть самостоятельное осуществление местным обществом своих собственных, общественных интересов, согласно государственной теории — осуществление государственных интересов» [124, с. 165–166].
Это принципиальное отличие от западных моделей местного самоуправления ярко выразилось в идейной сфере. Так же как и вся «общественность», ее земская составляющая апеллирует к благу России в сакральном понимании и к служению народу. «Это были незабвенные шестидесятые годы, которые здесь, на окраине, переживались позднее, чем в центре России. Первые земские деятели — люди идеала, бескорыстного порыва к труду на общую пользу», — вспоминает земский врач В. Н. Дмитриев [151, с. 22]. Специфическое мышление образованных классов России обоснованно критикует Н. А. Бердяев. «Любовь к уравнительной справедливости, общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, почти что уничтожила интерес к истине» [24]. Но насколько справедлив этот упрек, учитывая, что в русской традиции истина всегда соединялась со справедливостью в слове «правда»?
Часто любят говорить о чрезмерно забюрократизированной советской власти, а также царской власти в России. Этот распространенный миф не имеет под собой оснований. И в царской России, и в СССР бюрократический аппарат был явно недостаточен для адекватного выполнения управленческих функций и численно (в процентном отношении) весьма уступал бюрократиям стран Запада [55].
Еще эпоха Московского царства со всей очевидностью продемонстрировала решительное противоречие между потребностями государства в управлении и ресурсами государства, выделяемыми на управленческие нужды. Управление посредством земельной аристократии приводило к ее усилению и ослаблению центральной власти. Кормления были не эффективны и потому именно настоятельными нуждами государства можно объяснить введение земского и губного самоуправления XVI в. Определенная самостоятельность, самоуправление на местах были жизненно необходимы быстро растущему русскому государству.
Надо помнить, что динамика освоения территории в процессе создания будущей империи была беспрецедентной. Так, в начальный период формирования Московского государства его территория выросла более чем в шесть раз, а со времени вступления Ивана Грозного на престол и до конца XVI в. Московское царство увеличилось вдвое. «К середине XVII в. российское государство было самым большим государством в мире, территория которого увеличивалась темпами, не имевшими себе равных в истории… Только в период между серединой XVI в. и концом XVII в. Москва приобретала в среднем по 35 тыс. кв. км (площадь современной Голландии) в год в течение 150 лет подряд. К началу XVII в. Московское государство равнялось по площади всей остальной Европе, а освоенная в первой половине XVII в. Сибирь по масштабу вдвое превышала площадь Европы» [184, с. 113–114]. Таким образом к середине XVIII в. территория России по сравнению с Московией начала правления Ивана III увеличилась более чем в 50 раз, составив шестую часть обитаемой суши.
Однако это беспрецедентное историческое движение осуществлялось в крайне неблагоприятных природно-климатических, демографических (низкая плотность населения) и внешнеполитических (перманентные внешние агрессии) условиях, что обусловило дефицит значимых для развития ресурсов (прежде всего финансовых).
На создание бюрократии, как оно происходило на Западе, элементарным образом не хватало средств, отсутствовал излишек общественного продукта, который было бы возможно выделять на содержание профессионального управленческого аппарата, потому и были предприняты попытки сразу в двух направлениях. Это местное самоуправление в виде земств и губной системы, с одной стороны, и замена аристократического землевладения помещичьим, с другой.
К сожалению, обстоятельства внешней и внутренней жизни государства, постоянная сверхмобилизация побудили власть сделать ставку на поместное землевладение.
А. Пресняков констатировал, что «в основе тех глубоких противоречий, какие раскрыты кризисом Смуты в социальном и политическом строе Московского государства, лежало одно, глубочайшее, экономическое противоречие — несоответствие наличных окрепших и организованных сил страны неустранимым запросам ее исторических судеб» [194, с. 43]. В связи с этим он замечает, что «удовлетворение настоятельнейших потребностей обширного государства, только что пережившего тяжелый кризис и изнуряемого внешней борьбой, было едва по силам его населению. Несоответствие средств и потребностей вело к тому, что государство все более и более властвовало над народной жизнью, а самодеятельность земская быстро замирала» [194, с. 44].
Все же не стоит говорить только об ошибочности данного пути. Целую эпоху принятая система достаточно успешно поддерживала государство и способствовала его развитию. «С реформы Петра Великого падение вельможества очистило остальному дворянству путь к высшим государственным степеням и власти. Отсюда начинается блестящая его история и продолжается до кончины императора Александра I… Служба и чин стали теперь давать диплом на дворянство; вследствие этого лучшие элементы из прочих классов вступили в ряды этого сословия и придали ему особенный блеск, предохраняя от застоя и неподвижности, столько опасных для всякого сословия» [107, с. 137].
Жестокость крепостного права, его относительно позднее распространение имело своей причиной в том числе ту же нужду в управлении громадными территориями и людскими массами в условиях хронического дефицита средств. Необходимо помнить, что кроме обязательной службы помещик выполнял функции местной административной власти на местах, отвечал за сбор налогов и таким образом заменял всю массу низовых штатов налоговых органов податного управления, полиции, судов и т. п. Выполнял он многие иные государственные функции. С одной стороны, подобная практика облегчала бремя казны, с другой же, обеспечивала всевластие помещика над крестьянином, позволяя ему одновременно быть и землевладельцем, и крепостным хозяином, и представителем государства.
Апогея эта система достигла в царствование Петра Великого, и уже при преемниках его наблюдался ее закат. «В господствующем землевладельческом классе, отчужденном от остального общества своими привилегиями, поглощенном дрязгами крепостного владения, расслабляемом даровым трудом, тупело чувство земского интереса и дряхлела энергия общественной деятельности», — пишет В. О. Ключевский [118, с. 295].
Обвиняя Российскую империю в относительно позднем решении крепостного вопроса, необходимо помнить, что решить его на 100, например, лет раньше у властей физически не было возможности. Еще Екатерина II была убеждена в необходимости отмены крепостного права. Павел готов был упразднить этот институт, Александр I составлял прожекты, а Николай I все свое царствование назначал комиссию за комиссией, желая во что бы то ни стало еще при жизни решить крепостной вопрос. Ему это не удалось, но в заслугу ему надо поставить энергичные меры по развитию русской бюрократии, чиновничества, служащего за казенное жалование, а не по поземельной обязанности.
Но пока такая бюрократия не была создана, никакое освобождение крестьян было невозможно, ввиду невозможности удовлетворить государственную нужду в управлении громадными территориями и людскими, крестьянскими массами. Бюрократия как социальная группа и была инструментом, в некоторой степени удовлетворяющим эту государственную потребность. С ее появлением возникла возможность ликвидации крепостной зависимости крестьян. «Русская дореволюционная бюрократия была создана Императором Николаем Первым в качестве опорной точки для освобождения крестьян: не было никакой физической возможности реализовать освобождение крестьян, опираясь исключительно на дворянский государственный аппарат» [226, с. 44].
Впрочем, надо заметить, что русская бюрократия была крайне слаба, численность ее была, очевидно, недостаточна. Это одна из главных причин ее слабой эффективности, несмотря на высокие темпы ее количественного роста. Так, в четыре раза, до 60 тыс. чел., чиновничество выросло в первой половине XIX в., а к 1857 г. бюрократический аппарат вырос еще на 50 %. Таким образом, численность чиновников росла втрое быстрее, чем население страны (население выросло за указанное время вдвое). Стабильно росла численность чиновников и во вторую половину XIX в., достигнув к началу XX в. (1903 г.) 384 тыс. чел., а вместе с канцелярскими служителями — не менее 500 тыс. чел. [98, с. 71].
Несмотря на указанный рост, относительная численность чиновников далеко отставала от показателей развитых европейских стран: в конце XVIII в. один чиновник приходился на 2250 чел., в 1851 г. — на 929 чел.; в 1903 г. — на 335 чел. [98, с. 221]. В середине XVIII в. в Пруссии пропорционально ее территории чиновников было более чем в сто раз больше, чем в России. В 1900 г. соотношение численности управленческого аппарата к численности населения составляло лишь треть такового во Франции и половину — в Германии [185, с. 78].
Одной из причин недостаточной эффективности российской бюрократической машины был низкий образовательный уровень большей части чиновничества. Такое положение было связано с отсутствием учебных заведений на начальном этапе и недостаточным их количеством позже. По данным П. А. Зайончковского, даже среди принятых на службу в 1894 г. лица с высшим образованием составляли 32,52 %, со средним — 15,05 % и с низшим — 52,43 % [98, с. 34].
Такая ситуация сопровождалась и осложнялась крайне низким жалованием, выплачиваемым чиновникам, особенно низших классов. Жалованье некоторых низших категорий госслужащих было ниже, чем даже доход лакея (в начале XIX в. жалованье канцелярского служителя не превышало 200 руб., в то время как лакей получал 183 руб., камер-лакей и швейцар — 203, кучер — 401, лейб-лакей — 463 руб. в год [190, с. 150]).
Подобная ситуация имела место вплоть до падения романовской династии, а ведь нужно учитывать, что на содержание управленческого аппарата в начале XX в. уходило 14 % государственного бюджета (в Англии — 3 %, Франции — 5 %, Италии и Германии — по 7 %). Россия была относительно бедна, и даже низкий по численности бюрократический аппарат обходился ей слишком дорого.
В этих условиях у государства не было иного выхода, как обратиться к земскому опыту и попытаться всемерно опереться на местное самоуправление и гражданственность образованного сословия государства. Более того, очевидная и острая нужда государства идеологически оформлялась в рамках уже сравнительно развитой русской философии, особого, самобытного понимания идей гражданственности, отношения народа и власти, имеющего корни в системе православного мировоззрения.
Земские учреждения, понимаемые крупнейшими идеологами этого движения лишь как первый шаг на пути преобразования российского общества, по многим причинам оказались шагом последним и единственным в рамках рассматриваемой эпохи.
Парадоксально, но именно бюрократия, количественно и, что главное, качественно несостоятельная, сыграла роковую роль в судьбе Российской империи, выступив единым фронтом против попыток вырвать из-под ее неэффективного контроля определенные сферы общественной жизни. Необходимо понимать, что российская бюрократия по необходимости обладала весьма широкой сферой контроля. Это хорошо понимал С. Витте, который писал в этой связи Николаю II: «В России по условиям жизни нашей страны потребовалось государственное вмешательство в самые разнообразные стороны общественной жизни, что коренным образом отличало ее от Англии, например, где все предоставлено частному почину и личной предприимчивости и где государство только регулирует частную деятельность… Таким образом, функции государственной жизни в этих двух странах совершенно различны, а в зависимости от сего должны быть различны и требования, предъявляемые в них к лицам, стоящим на государственной службе, т. е. к чиновникам. В Англии класс чиновников должен только направлять частную деятельность, в России же, кроме направления частной деятельности, он должен принимать непосредственное участие во многих отраслях общественнохозяйственной деятельности» [132, с. 543].
Но это участие, в свою очередь, позволяло бюрократии получать дополнительный и немалый доход по известному принципу: «что охраняю, то и имею». Громадное влияние бюрократии, ее особая роль в государстве как привилегированной части элиты (все же российская бюрократия никогда не была только наемными служащими) основывались на чрезмерных полномочиях. И передача этих полномочий представлялась бюрократической массе не столько реформой, облегчающей ей несоизмеримую ношу управления громадной империей, сколько посягательством на саму ее сущность.
Инициатива административных реформ П. А. Столыпина провалилась из-за активного противодействия бюрократии. Такое противодействие по прошествии времени удивляет, ибо расхождения между взглядами бюрократической верхушки и П. А. Столыпина были крайне незначительны. Следствием этого стали первый (1909 г.) и второй (1911 г.) «министерские кризисы», инспирированные «правыми» под надуманными предлогами. Во многом это и предрешило политическое падение П. А. Столыпина.
Попытки В. Н. Коковцева, пришедшего на смену П. А. Столыпину, продолжить линию на административное реформирование привели к такому же результату, и в 1914 г. он был отставлен от должностей. Гибель Столыпина, отставка Коковцева свидетельствовали о том, что степень окостенения правящей бюрократии определялась отсутствием элементарного инстинкта самосохранения и отторжением тех, кто мог ее спасти. С одной стороны, бюрократия раз за разом демонстрировала свою неспособность решать стоящие перед страной проблемы. Провал переселенческой программы Столыпина — вопиющий тому пример. Однако в сфере удержания аппаратной власти бюрократия оставалась сильна и попытки хотя бы в небольшой степени вмешаться в сферу ее влияния воспринимала в штыки.
Зачастую много говорят о личных качествах императора, субъективных обстоятельствах, приведших к краху, но необходимо понимать, что «если бы та среда, из которой черпались высшие должностные лица, не выделила такого множества людей, готовых ради карьеры на любую подлость вплоть до искательства у пьяного безграмотного мужичонки покровительства, Распутин никогда бы не приобрел того значения, которого, увы, он достиг», — писал В. И. Гурко [79, с. 98]. Причины резкого ухудшения качественных характеристик управленческого слоя обусловлены его тенденцией к превращению в закрытую касту вследствие того, что обладание властью в России было предпосылкой богатства, а не наоборот. Поэтому из десятилетия в десятилетие в списках высших чиновников империи встре — чались те же фамилии: Танеевы, Дурново, Мордвиновы, Мосоловы, Бобринские, Игнатьевы, Набоковы, Треповы и т. д. Вышеперечисленные факторы привели к тому, что накануне февраля 1917 г. обозреватели констатировали, что русская бюрократия «теряет то единственное, чем она гордилась и в чем старалась найти искупление своим грехам — внешний порядок и формальную работоспособность» [цит. по: 275, с. 318]. Таким образом, неэффективность бюрократии, слившаяся с неспособностью власти перераспределить властные полномочия в пользу самодеятельной гражданской периферии, во многом предопределила падение Российской империи.
Советский этап истории страны во многом прошел те же стадии, и в его крахе аналогичные причины сыграли весомую роль. Недаром Г. Федотов, характеризуя период становления советской системы, писал: «. новый режим в России многими чертами переносит нас прямо в XVIII век» [244, с. 96]. И это не проблема неадекватности власти, а проблема объективная. Сталин, в эпоху которого была в полной мере создана советская бюрократическая система и номенклатура как ее верхушка, прекрасно понимал минусы подобного пути, неоднократно называя номенклатуру «проклятой кастой», но мобилизационный режим, в котором жила страна, давал чрезвычайно ограниченное поле для маневра. Необходимо заметить, что в условиях перманентной мобилизации сложился особый (хотя для России и типичный) вид бюрократии, номенклатура. Повторю, что бюрократия необходима любой современной государственной системе. Внесший заметный вклад в разработку теории современной демократии Й. Шумпетер писал, что в современных условиях трудно представить себе какую-либо форму организации социалистического общества, не связанную с созданием громоздкого и всеобъемлющего бюрократического аппарата. «Любая иная мыслимая модель несет в себе угрозу неэффективности и распада. бюрократия — это вовсе не препятствие для демократии, а ее необходимое дополнение. Она неизбежно сопровождает современное экономическое развитие и станет еще более существенным его компонентом в социалистическом государстве» [273, с. 276].
Номенклатурная бюрократия, особые признаки, ее отличающие, такие, как жесткая регламентация карьерного продвижения, последовательность иерархических ступеней, лет и т. п., по своей сути не являются советской новацией, а прямо восходят к принципам еще царской бюрократии вплоть до петровской Табели о рангах, а в более общем смысле даже глубже, к тягловому строю допетровского Московского царства.
Суть этих принципов заключалась в жесткой, условной связи службы и привилегий, получаемых как вознаграждение за службу, а «временный характер привилегий обеспечен посредством исключительного использования денег в качестве средства вознаграждения за выполнение управленческих функций. Преимущество советской системы перед царским дарением «шубы с плеча» состояло в том, что советскую «шубу» в любой момент можно было забрать обратно: она оставалась формально общей, государственной и многократно передаривалась партийным царем» [55, с. 74].
Внутриэлитная дифференциация в СССР базировалась на объеме ответственности и, соответственно, властных полномочий, а не в элитных, массовых слоях — на основе уровня образования и квалификации.
«Широкое применение этого основания, обеспечившее беспрецедентный уровень социальной мобильности советского общества на ранних стадиях его развития, позволило советскому обществу осуществить индустриальную модернизацию в условиях дефицита времени и базовых ресурсов» [55, с. 121]. Впрочем, блестящий анализ становления и сущности советской бюрократии дала О. В. Гаман-Голутвина в работе «Политические элиты России. Вехи исторической эволюции» [55, с. 121].
Но, как и в конце XIX в., усложнение социальной и экономической жизни, с одной стороны, и ослабление ощущения «военного лагеря» у населения страны и самого чиновничества, с другой, привели к необходимости отхода от жестко централизованной системы управления и передачи возможно большей части управленческих функций в руки организованной общественности. Потенции к этому в обществе, как уже было показано ранее, были, но, как и царская бюрократия в свое время, советская номенклатура стала главным противником подобного хода событий. Обсуждаемые реформы отрицались. Эту позицию предельно ясно выразил Н. Подгорный: «На кой черт нам эта реформа? Мы что, плохо развиваемся, что ли?» [16, с. 112].
В то время как неэффективность управления нарастала, кризисные явления в общественной системе стали очевидны, номенклатура продолжала существовать по закону всех элит, а именно рассматривала только те варианты будущего, в которых она сохраняла себя как элита. Кончилось тем, что ни в одном возможном будущем, где существовал бы Советский Союз, не могла существовать номенклатура, и наоборот, сохранить себя как элиту эта социальная группа могла только в условиях разрушения страны. И СССР был уничтожен. Под лозунги ликвидации номенклатурных привилегий и борьбы за гражданское общество был упущен уникальный исторический шанс.
В советскую эпоху интересным и крайне важным феноменом политической и общественной жизни страны были такие органы, как Советы. Как специфическая форма, с одной стороны, самоуправления, а с другой, государственной власти они появились после Февральской революции и впоследствии доказали свою жизнеспособность.
Довольно долго с момента их зарождения Советы предполагались как орган временный, даже подсобный. Деятели революции, большевики и представители других партий предполагали, что Советы есть не более чем временная форма и существуют до тех пор, пока не будут сформированы парламентские органы. Однако идея Советов оказалась куда сильнее, чем предполагалось в столицах, ибо была результатом общественного, народного творчества, естественно выросла из привычных и традиционных форм народного самоуправления. Т. Шанин резонно пишет, что рабочие в массе своей вряд ли знали о теоретических спорах среди социал-демократов и тем более о перипетиях истории Парижской коммуны в 1871 г. «Но каждый рабочий знал, что есть волостной сход — собрание деревенских представителей исключительно одного класса (государственные чиновники и другие «чужаки» обычно там не присутствовали), где выборные представители сел обсуждают вопросы, представляющие общий интерес. Причина того, почему общегородская организация представителей, избранных рабочими основных предприятий, была учреждена так легко и как бы сама собой, была напрямую связана с формами, уже известными и общепринятыми» [267, с. 272].
В своей организации Советы продолжали традиции народных сходов, несли в себе принципы, вдохновлявшие в давние времена Земские соборы. А. В. Чаянов писал: «Развитие государственных форм идет не логическим, а историческим путем. Наш режим есть режим советский, режим крестьянских советов. В крестьянской среде режим этот в своей основе уже существовал задолго до октября 1917 года в системе управления кооперативными организациями» [264].
Не удивительно, что в стране, в которой на тот момент членов всех партий было около 1,2 % населения, партийнопредставительская демократия не была принята. Для многих политических и общественных деятелей той эпохи это было очевидно. М. В. Родзянко в 1917 г. замечал: «За истекший период революции государственная власть опиралась исключительно на одни только классовые организации.
В этом едва ли не единственная крупная ошибка и слабость правительства и причина всех невзгод, которые постигли нас» [61, с. 186].
В отличие от партийно-представительских форм Советы довольно быстро ушли от партийного представительства и формировались по принципу, который условно можно было бы назвать сословным, где условными сословиями были солдаты, крестьяне и рабочие (Советы солдатских, крестьянских и рабочих депутатов).
II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов утвердил принцип полновластия и единовластия Советов на местах в решении местных дел. Местные Советы создавали свои вооруженные формирования (отряды рабочей милиции), что усиливало их власть. Тут в резкой форме выразилось противоречие принципов, на которых выстраивались Советы, и принципов парламентской демократии. Вся власть Советов означала именно всю власть, без всякого разделения властей, «балансов и противовесов». Каждый местный совет воплощал именно всю власть на своей территории. Доходило до того, что многие Советы не признали Брестский мир и формально оставались в состоянии войны с Германией.
Любой совет мог провозгласить на своей территории любой закон, самый с нашей точки зрения нелепый. Такой режим можно было бы назвать анархией, но в то время, когда государственная организация рухнула, Советы в целом выполняли свои задачи по организации общежития людей хотя бы на локальном уровне.
Важным свойством было то, что Советы представляли собой непосредственную демократию. Заводской совет составляли все работники завода, а сельский — все жители села. Они посылали своих представителей в крупные Советы (которые тогда называли «совдепами» в отличие от просто Советов). Конкретными вопросами занимался исполнительный комитет Совета, где в позднейшие времена стали работать профессиональные управленцы, однако сам состав Советов всегда был подчеркнуто непрофессиональным в отличие от западной парламентской демократии, где политика давно профессионализировалась. Это не удивительно, учитывая, что парламенты на Западе представляют собой площадку конкуренции и согласования интересов разных групп и классов, где необходимы профессионалы для отстаивания этих конкурентных интересов, в то время как Советы — это другой тип демократии, выражающий не конкурентную идею, а идею «симфонии». По сути, перед депутатами местных советов, Советов более высоких уровней вовсе не стояла задача защищать интерес какой-либо группы в противостоянии с другими, а наоборот, выработать и плебисцитарным способом поддержать или отвергнуть какое-либо принципиальное направление действий. В таком случае нужны не профессионалы, не «адвокаты» классов и социальных групп, а люди простые, обладающие не специфически политическим, а человеческим авторитетом и значимостью.
В дальнейшем Советы развивались неоднозначно. С одной стороны, постепенно сложилась иерархия Советов от самого высшего, всероссийского, до местных, с разделением компетенции. С другой, в условиях жесточайшей мобилизации Гражданской войны, индустриализации, Великой Отечественной войны Советы были объединены параллельной структурой, а именно партией большевиков (ВКП(б), в дальнейшем КПСС). В целях обеспечения единства и управляемости государственной системы была создана так называемая номенклатурная система, т. е. список государственных должностей, назначение на которые возможно только после согласования с партийными органами. В годы величайшего напряжения страны эти структуры, обеспечившие управляемость и единство, сыграли положительную роль, но в дальнейшем, до самой катастрофы СССР, негативные моменты и тенденции лишь накапливались и сыграли громадную роль в этой катастрофе. Очевидно, они давно пережили себя.
В конце 1920-х годов, когда революционные события несколько улеглись и когда было заявлено о переходе от государства диктатуры пролетариата к так называемой социалистической демократии, появляются новые социальные формы «общественности». Смысл и содержание понятия при этом, естественно, изменились. Новая власть начинает использовать общественность как средство обеспечения добровольного участия рядовых граждан в работе местных исполнительных и представительных органов. В то время механизм советской общественности рассматривался как новая форма управления, призванная постепенно сменить пролетарскую диктатуру (диктатуру класса). Кроме того, мобилизация общественности, утверждала Софья Смидович, необходима для реформирования повседневной жизни и соблюдения норм общественного порядка [45, с. 89]. Таких же взглядов придерживалась Надежда Крупская, полагавшая, что организованная общественность должна постепенно заместить государство [45, с. 81]. Таким образом, в дискурсе 1920-х годов общественность ассоциировалась преимущественно с двумя функциями: формированием демократической базы местного управления и повседневным надзором, контролем за общественным порядком, средством борьбы с отклоняющимся поведением. К идее общественности возвращались там и тогда, где и когда государственная власть оказывалась малоэффективной.
В 1929 г. Владимир Кузьмичев опубликовал примечательное исследование о механизмах формирования и изменения общественного мнения — книгу «Организация общественного мнения», основанную на новых для того времени идеях американского социолога Уолтера Липмана [136]. Кузьмичев пришел к выводу, что общественное мнение формировалось через свободное хождение разнообразных местных слухов, через споры, предрассудки и не было подвластно государственному контролю. В некотором смысле общественное мнение формировалось независимо, но во многих случаях было политически ориентировано. Как приоритетная оценивалась информация, полученная посредством традиционных связей в устойчивых традиционных структурах общества, в противовес официальным информационным каналам. В какой-то мере оно ограничивало и даже подрывало власть государства, сужая возможности информационного воздействия на общество. Подобная ситуация приводила иногда к анекдотическим, а иногда и трагическим результатам.
Известны весьма поучительные воспоминания адвоката Б. Г. Меньшагина из Смоленска о том, как происходили в 1937 г. процессы против «врагов народа» в их области. Он рассказывает случаи из своей практики, когда его назначали адвокатом на такие процессы [161]. Например, в 1937 г. во вредительстве были обвинены 8 человек: ветеринары, члены местного руководства. Трое из них даже признали себя виновными. А дело было в том, что из московского института ПНИИ экспериментальной ветеринарии поступило указание проверить сельский скот на бруцеллез. По причине того, что у недавно заболевшего скота внешних симптомов заболевания нет, диагностику приходилось проводить методом провокации, на основании иммунной реакции. При введении антисыворотки у больного животного появляется нарыв. И в результате сотрудников, проводивших провокации, обвинили в заражении скота. Люди были обвинены вовсе не государственными органами. Наоборот, по инициативе крестьян в колхозах и совхозах были проведены общие собрания, на которых были приняты решения, по сути сводящиеся к тому, чтобы «просить пролетарский суд уничтожить вредителей!». Сила гражданского действия была такова, что суд не рискнул пойти против «воли народа», и обвиняемые были приговорены к расстрелу. Только вмешательство из Москвы предотвратило исполнение несправедливого приговора.
Этот и множество других подобных случаев говорят нам о высоком уровне гражданской активности населения, которую власти скорее приходилось сдерживать в целях обеспечения законности и прав отдельных граждан.
В сталинскую эпоху идеи общественности получили свое воплощение в таких специфических структурах, как Осоавиахим, позже разделенный на Всесоюзное добровольное общество содействия авиации (ДОСАВ), Всесоюзное добровольное общество содействия армии (ДОСАРМ), Всесоюзное добровольное общество содействия военно-морскому флоту (ДОСФЛОТ), движение общественниц в 1936–1940 гг., Общество Красного креста и Красного полумесяца, товарищество «Долой неграмотность», Освод, Автодор и многие другие. Суть этих общественных организаций определялась не на основе защиты частных интересов социальных групп, не в противопоставлении государственной власти, а, наоборот, через тесное взаимодействие с государственными органами и друг с другом, солидарное действие всех общественных элементов ради достижения общей цели. Надо сказать, что результаты действий советских общественных организаций той эпохи впечатляли.
В конце 1950-х годов марксистскую концепцию отмирания государства стали ассоциировать с переходом от государственного управления к общественному самоуправлению и от государственной охраны общественного порядка к общественной — в стиле, напоминающем дебаты конца 1920-х годов (тут нельзя исключить и прямое доктринальное заимствование). Движение самоорганизации общественности, начавшееся в 1959 г. и отличавшееся особой активностью на Урале и в Ленинграде, сочетало в себе ряд моральных и политических установок. Общественность становилась логической опорой стремления ослабить административный контроль за жизнью общества; в связи с провозглашенной десталинизацией и борьбой с последствиями культа личности это означало и ослабление власти карательных органов. Идея создания системы, при которой общество в тесной связи с государственными органами поддерживало бы порядок и отправляло многие воспитательные, надзирательные и судебные функции, отвечала новым политическим реалиям. Специальное постановление от 2 марта 1959 г. «Об участии трудящихся в охране общественного порядка» создало юридическое основание разнообразных общественных форм самоорганизации для поддержания общественного порядка. Для этого потребовалось изменить уголовное законодательство, установив более взвешенное соотношение между моральным воздействием общества и карательными мерами со стороны государства. Так, одна из классификаций подразделяла общественность на производственную (постоянно действующие совещания, общества изобретателей и рационализаторов, общественные отделы кадров) и действующую в сфере культуры и повседневной жизни (внештатные органы управления при местных советах, домовые комитеты, добровольные народные и пожарные дружины). Общественность в основном играла роль инстанции самоуправления, а также источника общественного порядка и моральной организации совместной жизни граждан. В докладе XXII съезду КПСС (1961 г.) Никита Хрущев говорил о превращении пролетарской демократии во всенародную социалистическую — посредством передачи многих государственных функций общественным организациям. Впоследствии эту идею даже включили в новую программу КПСС.
Важнейшим и крайне интересным элементом гражданской активности в советскую эпоху были трудовые коллективы. Это были важнейшие ячейки общественности, и практически все трудоспособные граждане входили в них.
В СССР трудовой коллектив был не только тем местом, где человек трудился и зарабатывал средства для существования. Здесь же в основном он проявлял общественно-политическую активность, занимался творчеством, развлекался (художественная самодеятельность, изобретательское движение, спорт, коллективная организация досуга и т. д.). Важнейшим моментом было то, что оценка личности носила не частный (частичный, отчужденный) характер, как это происходит на Западе, где оценка человека как профессионала в своем деле на работе не имела никакого отношения к оценке его как соседа, друга, члена неформальной ассоциации и т. д. и т. п. В СССР человек оценивался интегрально, всесторонне. Так, например, даже в уголовном приговоре отзывы представителей трудового коллектива, соседей (зачастую это были одни и те же люди) могли существенно облегчить участь преступника, если в других сторонах своей жизни человек проявлял себя хорошо. Трудовой коллектив мог даже взять на поруки такого нарушители и полностью освободить его от наказания. Обратной стороной в такой ситуации были формальные, но главным образом неформальные права коллектива вмешиваться в жизнь своих членов. Так, интегрально, человек оценивался не только трудовым коллективом, но и обществом, и государством. И, что важно, сферы деятельности государства, с одной стороны, и общественности, с другой, постоянно пересекались, накладывались друг на друга, перетекали друг в друга. Например, в такой важной для человека сфере, как получение жилья, вопросы его распределения на первой стадии решали структуры общественности (прежде всего профсоюзы, хотя учитывалось мнение и партийных, комсомольских и других общественных организаций). Более того, государство в лице исполкомов местных советов фактически только выполняло вердикт общественных организаций, хотя и влияние государства на общественные организации было немалым, а в конце советского периода и чрезмерным.
Важнейшее место в обществе, формировавшемся в условиях советского социализма, занимали профсоюзы. Зачастую их рассматривают либо как элемент гражданского общества, либо, наоборот, как «государственную» службу. Но обе точки зрения, особенно в полемике, подмечают у советских профсоюзов черты, не позволяющие их отнести ни к гражданскому обществу западного типа, ни попросту остановиться на том, что это была государственная служба.
С 1956 г. профсоюзы стали участвовать в распределении ассигнований государства на охрану труда и технику безопасности. В 1957 г. по инициативе Пленума ЦК КПСС было принято принципиальное решение о том, что без согласия профсоюзных комитетов администрация не вправе увольнять рабочих и служащих по своей инициативе. В 1960 г. профсоюзам были переданы все хозрасчетные санатории (за исключением туберкулезных) и дома отдыха. Профсоюзы в послевоенный период стали выполнять руководящую роль в отношении Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (в его ряды входило 7,5 млн человек) и научно-технических обществ (20 НТО объединяли свыше 7 млн человек). В ведении профсоюзов имелось свыше 7 тыс. народных университетов, 22 тыс. клубов, домов и дворцов культуры, свыше 294 тыс. красных уголков, более 24 тыс. библиотек [280, с. 118]. Эта сеть была сориентирована на формирование не только профессионально-технических знаний работников, но и их гражданских качеств.
Актуальные вопросы, стоящие в 80-х годах XX в. перед советским обществом, предельно обнажились с началом реформ М. С. Горбачева. Реформы основывались на популярной тогда доктрине, в соответствии с которой роль государства по мере приближения советской системы к коммунизму будет уменьшаться, а сфера общественного самоуправления — соответственно расширяться и развиваться. Эта, воспринятая массами идея вошла в противоречие с групповым интересом «номенклатуры» как специфической социальной группы советского общества, обладавшей властными рычагами. Назревавшее перераспределение власти в обществе, лишающее номенклатуру значительной доли влияния, а возможно, и уничтожающее ее как особую социальную группу, вызвало ответные действия, приведшие к краху СССР. Двигаясь в начале по пути ограничения возможностей передачи властных полномочий обществу, номенклатура добилась выхолащивания сущности общественных движений, роста амбивалентности, социального безразличия людей и формализации деятельности общественных организаций. В дальнейшем номенклатуре удалось возглавить и взять под контроль движение в пользу перераспределения власти. Перестройка начиналась под лозунгами «гласности», «демократизации», «борьбы против номенклатурных привилегий», «общественного самоуправления», «социализма с человеческим лицом». Антисоветских и антисоциалистических лозунгов не предлагалось. Но, имея в руках СМИ и иные рычаги власти, номенклатуре удалось изменить траекторию движения в известном нам направлении. К сожалению, очередной раз сработал закон: элита рассматривает только те варианты будущего, в которых она сохраняет себя как элита.
Таким образом, можно сделать вывод, что всевозможные ассоциации, общественные организации, будучи, с одной стороны, важнейшими институциями в плане проявления гражданского чувства, гражданской активности и гражданской позиции, с другой, являлись совершенно отличными по своим содержанию и сущности от классических гражданских ассоциаций Запада, однако выполняющих сходную функцию, обеспечивающую управляемость и социальный порядок в обществе.
Как и самоуправляющиеся земские и губные органы средневековой Московии, как и земские органы Российской империи, общественные организации советского периода представляли не частный интерес граждан, а интерес общий, выступая либо как общественное, гражданское продолжение властных иерархических цепочек, либо как решительная оппозиция к ним, защищающая опять же не частный интерес той или иной группировки, а выступающая с альтернативным проектом общего блага (общественность XIX в., неформальные «кухонные» ассоциации интеллигенции советского времени). Здесь особенно важно подчеркнуть, что не только «прогосударственные» общественные ассоциации, но и оппозиционные, в том числе западнические, выступающие с проповедью либеральных ценностей, в не меньшей степени далеки от гражданских ассоциаций самого Запада и представляют собой типичное явление отечественной цивилизации.
В представленном историко-культурном анализе рассматривалась преимущественно история досоветского времени и советской эпохи. И хотя «перестройка», распад СССР, образование суверенного белорусского государства, демократические и рыночные реформы богаты примерами гражданской активности населения в различных формах их самоорганизации, их анализ затруднен из-за «аберрации близости». В целях адекватной экспликации современного состояния общества с точки зрения гражданской, общественной активности оно нуждается в дополнительном изучении социологическими методами.
3.2. Гражданственность как форма взаимоотношения общества и власти в восточнославянской цивилизации
Если гражданское общество есть совокупность форм и способов самоорганизации в условиях конкуренции частных интересов в сфере политического, то гражданственность — более сложное понятие, требующее специальной экспликации. Сам термин «гражданственность» в русском языке заимствован (Citizenship, StaatsbewuBtsein), но, как и многие иные социально значимые понятия, получил в контексте отечественной культуры особый, специфический смысл.
На Западе понятие «гражданственность» обычно связано с гражданством, с чертами и качествами «доброго» члена гражданской общины. Дж. Мердок акцентирует свое внимание на «культурной привычке» и факторах, управляющих процессом ее формирования [162]. Культурные привычки и традиция, принятые в определенном социальном контексте, создают условия доверия, сотрудничества, взаимодействия. Они и характеризуют собой гражданственность индивидуума, выступающую важнейшим фактором в процессе межличностных отношений. А. Смит в качестве нравственной основы «цивилизованного общества» принимает «естественную симпатию», которая, впрочем, естественна только в «цивилизованном обществе» [224]. Как подчеркивает С. Сильвер, рассуждая о социологии А. Смита, «возникающий вследствие сложного функционирования механизмов взаимодействия и рефлексии контроль за поведением друг друга является одновременно и источником морального поведения и его прототипом. Симпатия придает умеренность идеям и манерам и обусловливает развитие в высшей степени демократического чувства братства» [110]. Вот это последнее он и соотносит с гражданственностью. Л. Уайт рассматривает гражданственность в контексте своей концепции «символатов», т. е. символизированных межчелове-ческих отношений, которые и являются культурой [209].
Как бы там ни было, несмотря на видимую оригинальность различных подходов, понятие гражданственности в рамках западной культуры в конечном счете можно свести к определению Э. Гидденса, обозначившего гражданственность и как «совокупность правил и ресурсов, способствующих производству (воспроизводству) социальных институтов, «зафиксированных» во времени и пространстве», и как институциализированные социальные роли. Критерием гражданственности, считает ученый, является способность индивида к выполнению социальных ролей в соответствии с установленной социетальной моделью, объективированной как декларируемые и желаемые характеристики индивида [59]. Гражданство есть присущее гражданину умение выполнять свою роль в гражданской общине, пользоваться правами и свободами гражданина и с чувством гражданской солидарности выполнять гражданские обязанности, добронравно относиться к согражданам, уважать их права и свободы. Гражданственность — это, конечно, идеал, но идеал достаточно приземленный, и этим идеалом является добропорядочный бюргер или «потребитель» современности.
Существенно иные черты понятие гражданственности приобрело на отечественной почве. С самого своего появления в XIX в. понятие гражданственности понималось через призму высоких нравственно-этических черт личности. Гражданственность в смысловом поле восточнославянской цивилизации далека от обыденности, это не повседневное состояние; проявление гражданственности обычно требует «гражданского мужества». Человек с высоким чувством гражданственности ориентирован не на частный интерес, он не столько добропорядочный бюргер, сколько тот, кто отдает все силы служению на благо народа и страны. Гражданственность требует от гражданина принимать на себя ответственность за все окружающие человека беды и несправедливости. Как сформулировал А. Н. Аринин, «гражданственность — это узы морально-духовной солидарности… по ответственности за продолжение рода и российской цивилизации, если хотите, — за весь мир, всю природу и все человечество» [110]. Формулировка, конечно, далеко не научная, но вполне адекватно демонстрирующая ту специфику, которую приобрело понятие гражданственности в рамках отечественной культуры.
Сегодня понятие гражданственности широко распространено в отечественном обществоведении и, в частности, в социологии. Однако одной из ее проблем является употребление понятий, которые либо в принципе не могут быть операционализированы, либо не являются предметом социологической науки. Понятие гражданственности употребляют зачастую не с социологической, а юридической, политологической, этической и других точек зрения. С юридической точки зрения свойство гражданственности выводится из юридического факта гражданства, где человек, являющийся гражданином своей страны и в полной мере выполняющий закрепленные в законе обязанности и пользующийся правами, предоставленными гражданину, тем самым проявляет свою гражданственность. Так, по мнению В. В. Маленкова, гражданственность предполагает преимущественно право — вую связь человека и людей как граждан с определенным государством и реализуется через их отношение к правам и обязанностям, закрепленным в соответствующих нормативных актах [150, с. 101]. Есть и более широкие подходы к определению данного понятия. Например, Г. Н. Филонов определяет гражданственность как «интегральное качество личности, позволяющее человеку ощущать себя юридически, социально, нравственно и политически дееспособным», или «комплекс субъективных качеств личности, проявляющихся в деятельности и отношениях человека, выполняющего основные социально-ролевые функции осознанной законопослушности, патриотической преданности в служении Родине и защите интересов своего Отечества, в подлинно свободной и честной приверженности к ориентациям на общепринятые нормы и нравственные ценности, включая сферы труда, семейно-бытовых, межнациональных и межличностных отношений» [250, с. 21]. Об «энергийной нравственности» пишет Б. И. Коваль [120]. Нельзя не обратить внимание и на позицию Ю. М. Резника, трактующего гражданственность как «способ бытия личности в гражданском обществе» [200, с. 26].
Из этого очевидно, что дискурсивное поле категории гражданственности достаточно широко. Однако и социологические подходы, в противовес вышеуказанным, чрезмерно расширяют содержание понятия, в конечном счете уравнивая гражданственность с совокупностью качеств, присущих нормативному типу личности, понимая под гражданственностью полную и максимально «правильную» социализированность человека.
То есть, вместо того чтобы исследовать гражданственность как одно из качеств нормативного типа личности, под гражданственностью понимают нормативный тип личности во всей совокупности его качеств. В связи с этим понятие гражданственности теряет научную определенность, конкретность, приобретая аморфный, неоперационализиру-емый характер.
Гражданственность, как правило, рассматривается в литературе как качество личности, нравственная позиция, характеристика отношения к государству и обществу. С социологической точки зрения подобное качество личности можно рассматривать как совокупность определенных, ценностно обусловленных социальных нормативов поведения, закрепленных в культуре и осваиваемых в процессе социализации. Как правило, представления о тех или иных качествах личности наиболее полно артикулируются в описании героев и антигероев в произведениях народного творчества, в литературе, в кино и т. п. Белорусский социолог Е. М. Бабосов понимает под гражданственностью только личностное качество, определяя ее как «понятие, означающее формирование в сознании и реализацию в поведении человека гражданских чувств и моральных качеств, воплощенных в его способности и готовности выполнять функции гражданина, заботящегося о благе своего Отечества. Она предполагает активную и целенаправленную включенность личности в политическую жизнь общества…» [13, с. 12]. С точки зрения ролевой теории можно сказать, что речь идет об усвоении в процессе социализации определенных ролевых моделей, норм и ценностей, способствующих активной включенности гражданина в политическую жизнь общества, и не просто способствующих, но обусловливающих возможность выполнять функции гражданина. Но если существуют общепризнанные ролевые модели, нормы и ценности, обусловливающие определенные способы деятельности, следовательно, существует определенный социальный институт или институты, в структуре которых эти ролевые модели, нормы, ценности находятся.
Это означает, что самоорганизация граждан, их гражданская активность на благо общества обладает не только свойством спонтанности. Она происходит не хаотично, а в определенных, традиционно и культурно-обусловленных формах, в соответствии с определенными ролями и в рамках специфических социальных институтов, регулирующих эту область человеческой деятельности. В этом смысле высокие гражданские качества — это максимально высокий уровень усвоения и исполнения гражданином названных ролевых моделей, а возможность граждан проявлять гражданственность напрямую связана с состоянием социальных институтов, организующих гражданскую деятельность. В этом отношении данные социальные институты можно назвать социальным институтом гражданственности в отличие от гражданственности как личностного качества.
Описание значимого для общества ролевого поведения как средства социализации его членов обычно для всех известных обществ является важной составляющей произведений художественного творчества. Например, описание действий и речей героев древнегреческого эпоса «Илиада», с данной точки зрения, — скрупулезное и разностороннее описание определенных, социально значимых в древнегреческом обществе ролей. Ровно так же описываются социально значимые роли в произведениях героического эпоса других народов, в современном театре и кино. Это значит, что описание той или иной социально значимой роли одновременно является и описанием соответствующего социального института, ибо не существует ролей без социального института, элементом которого эти роли являются.
Именно поэтому заключающиеся в древних эпосах и иных литературных произведениях описания социальных ролей позволяют вскрыть содержание значимых социальных институтов тех эпох. Таким образом, если признать, что гражданственность есть качество нормативного типа личности нашего общества, художественное описание которого дает нам и литература XIX–XX вв., то в социологическом ракурсе можно трактовать ее как поведенческий норматив, социальную роль, которым соответствует социальный институт, нормы и ролевые модели которого определяют феномен гражданственности.
В связи с этим встает вопрос, только ли по отношению к древним, неизвестным и малопонятным для нас обществам актуальна подобная исследовательская методика, основанная на взаимообусловленности институтов и институциональных ролей, и которой уже давно интуитивно пользуются историки и культурологи при анализе литературных текстов? Или в отношении современного общества она «не работает»? Все ли социальные институты, существующие в современном обществе, выявлены, артикулированы и категориально осмыслены?
Чтобы разобраться в этих проблемах, обратимся к понятию «социальный институт». Э. Дюркгейм обратил внимание на функциональный аспект социальных институтов. По мнению Н. Смелзера, «институтом называется совокупность ролей и статусов, предназначенная для удовлетворения определенной социальной потребности» [210], а Дж. Мид и за ним П. Бергер и Т. Лукман полагают, что институты представляют собой, прежде всего, типичные реакции индивидов на типичные ситуации. Глубоко проанализировал социальные институты Т. Парсонс, определяя институты как надличностные образования, образующие макроструктуру общества и находящиеся между собой в определенных отношениях субординации. Мы же в трактовке социального института используем нормативно-ролевой подход в отличие от субстанционального (структурно-организационного), сводящего социальные институты к организационно-оформленным устойчивым структурам (ведомства, учреждения и т. п.). Нормативно-ролевой подход рассматривает институты как совокупность норм, правил, ролей, регламентирующих деятельность людей, и на этом основании легализирующих ее (деятельность) как институциональную, правомерную и социально значимую. Они характеризуются взаимно принудительными ролевыми ожиданиями в соответствии с заданными образцами.
Как правило, социальные институты подразделяют на формальные и неформальные. По мнению Ф. Фукуямы, «… первые могут быть введены, отменены, изменены росчерком пера. Это типичный манипулируемый объект публичной политики. Напротив, неформальные институты отражают глубоко укоренившуюся социальную практику, которую трудно изменить и на которую трудно повлиять» [29, с. 127]. Формальные социальные институты имеют организацию, закрепленную в законах, уставах, иных нормативных актах, в то время как неформальные существуют без формализации ролей и статусов и строятся на основе неписаных норм. К первым относятся такие институты, как законодательная власть, правоохранительные органы, банковская система и т. д. М. Вебер, описывая условия ин-ституциализации общественных отношений на примере института капитализма и понимая под такими условиями легитимацию троякого рода, в том числе и со стороны правовых норм, ставил акцент на институтах именно такого, формального типа. Ко вторым можно отнести «дедовщину» в армии, молодежные неформальные объединения, вроде рокеров или эмо, антиобщественный институт организованной преступности и др. Эти институты не имеют формальной организации, однако в определенном смысле они даже более устойчивы, чем формальные институты. Их нельзя «отменить» указом и иным правовым актом. При этом неформальные социальные институты, известные нам, как минимум артикулированы. О них говорят, обсуждают, изучают, в том числе и социологическими методами.
Однако, на наш взгляд, в обществе есть такие неформальные социальные институты, которые пока не вскрыты, не артикулированы и, соответственно, не рассматриваются социологической наукой. В этом смысле по сей день актуальны слова Ю. В. Андропова, сказанные 30 лет назад: «Если говорить откровенно, мы еще до сих пор не знаем в должной мере общество, в котором живем и трудимся. Поэтому вынуждены действовать, так сказать, эмпирически, весьма нерациональным способом проб и ошибок» [159, с. 36]. Есть две причины такого положения дел. Одна, если можно так сказать, объективная, связанная с развитием и изменением институциональной структуры нашего общества, с «эпохой перемен», в которой мы живем, когда разрушаются и отмирают одни социальные институты и возникают другие, и далеко не всегда отечественная социологическая наука поспевает за изменениями. Вторая, субъективная, обусловлена тем, что наше общество изучается, как правило, по западной матрице и на основе категориального аппарата западной социологии. Осознавая ту или иную общественную потребность, а следовательно, и необходимость существования определенного института, эту потребность удовлетворяющего, обычным делом становится механическое перенесение на отечественные реалии категориальных схем, отражающих институциональные структуры западного общества. Как следствие, попытки выявить в нашем социуме, в нашей истории аналогичные западным социальные институты становятся малопродуктивными. Так, в отечественной истории и в современной социальной практике усиленно выискиваются элементы «гражданского общества» западного типа. В то же время не принимается в расчет тот факт, что ту же социальную потребность в нашем обществе могут удовлетворять другие институты, отличные по сущности и содержанию от западных.
Такие институты в результате остаются «скрытыми», не выявленными, не артикулированными и для их «опознания» остается единственный способ, а именно через литературу, кино, народное творчество (например, в анекдотах, пословицах, поговорках, сказках и т. д.), где описываются и разыгрываются роли, составляющие собой содержание данного скрытого института. Например, в годы перестройки в СССР стал складываться новый тип организованной преступности с такими, до той поры неизвестными в обществе явлениями, как рэкет, «крыша» и т. д. Задолго до того, как были предприняты первые попытки социологической рефлексии этого становящегося социального института [147], образы рэкетиров стали персонажами анекдотов, сатирических рассказов, поговорок, описывались и разыгрывались в кино и литературе. Данным способом в обществе артикулировались роли нового социального института.
На наш взгляд, в таком ракурсе может быть решена и проблема сущности и содержания понятия гражданственности. В научной среде есть согласие в том, что гражданственность есть качество, присущее нормативному типу личности в отечественной культуре. Это исторически устойчивый феномен. Гражданственность как качество нормативного личностного типа предполагалась в русской литературе XIX и XX вв., предполагается и сегодня. О необходимости воспитания гражданственности говорят и ученые [110, 251].
Наш интерес к понятию и явлению гражданственности связан со спецификой отечественной власти, во-первых, как иерархической, а во-вторых, как власти, исторически основанной на обязанностях, а не правах. Сегодня, как правило, власть противопоставляют обществу, народу, говорят об их взаимоотношении. В этом контексте находит свое место и «гражданское общество», понимаемое как самоорганизовавшееся в определенные структуры общество, противостоящее власти. Надо заметить, что подобный дискурс безусловно толкует власть как нечто отдельное от народной массы, противостоящее ему и осуществляющее функцию власти как некий особый субъект. Подобная позиция имеет своим теоретическим основанием концепцию рациональной бюрократии Макса Вебера, а практическим — опыт западноевропейской цивилизации, начиная от Нового времени и по сей день. Как отмечалось в первой главе, в эпоху Нового времени в странах Запада появляется профессиональная бюрократия, которая занимается исключительно тем, что осуществляет управление. Конечно, ошибкой было бы сводить всю политическую власть к власти бюрократии, однако именно ее рост, расширение компетенций и т. д. сделали бюрократическую власть чрезвычайно важной составляющей политической власти и во многом определили понимание политической власти как автономного субъекта, в определенной мере противостоящего народу. Автономность подобной власти заключается в том, что существует отдельная, особая властная иерархия, главным образом основанная на бюрократической вертикали, и она не совпадает с общественной иерархией, или, правильнее сказать, социальной пирамидой.
Однако, по нашему мнению, было бы ошибкой полагать, что отношения власти и подчинения останавливаются на уровне государственной власти. Как отмечает А. Н. Данилов, есть смысл изучать «не только государственную власть, но прежде всего власть как таковую — как совокупность лиц и институтов, способность оказывать определяющее влияние на общественные процессы и личные судьбы даже и вне действия законодательного поля» [82, с. 11]. Сами по себе гражданские ассоциации и иные элементы гражданского общества зачастую в гораздо более непосредственном виде осуществляют отношения власти и подчинения и тем самым осуществляют функцию управления.
В средние века вплоть до середины XIX в. и на Западе, и в России существовала система власти, которая отличалась от «бюрократической». Суть ее заключалась в том, что она не являлась автономной по отношению к обществу, к народной массе и в полной мере совпадала с иерархией в обществе.
Феодализм — наиболее чистая форма подобного типа организации власти. Специфика его в том, что определенное место в общественной иерархии, в отношениях собственности и других означало и определяло соответственное место в иерархии властного управления. Поскольку тот или иной феодал владел определенными землями, занимал определенное место в синьорально-вассальных отношениях, постольку он и получал определенное место во властной иерархии. Впрочем, можно сказать и наоборот, в том смысле, что место во властной иерархии определяло его право на земельное владение. Власть, имущественное господство и социальное положение обусловливали друг друга и были неразрывны. В еще более законченном виде подобная система властвования встречается в России в московскую эпоху, когда иерархия власти вовсе не ограничивалась благородным сословием, а распространялось на все общество. Причинами тому были как определенный тип отношений, отличающийся «служилым характером» Московского государства, так и то, что благородное сословие еще не отделилось резко от народной массы, регулярно рекрутировалось из нее, да и сама народная масса, или «черный люд» по терминологии того времени, была организована на «служилых» основаниях и тем самым включалась во властную иерархию, распространяемую сверху донизу.
Служилая система в своей основе имела не права тех или иных социальных групп, а их обязанности, их ответственность. Определенные обязанности и ответственность по необходимости обеспечивались соответствующими ресурсами, что определяло как место во властной иерархии, так и саму власть в России сверху донизу. Как следствие, разговор о противостоянии общества и власти, о способах самоорганизации общества в этом противостоянии вообще теряет всякий смысл, ибо власти в обществе, автономной от общества, попросту не существует. Однако изменения в русском общественном устройстве начиная с XIX в. потребовали и в России создания слоя профессиональной бюрократии, хотя бюрократия в ней никогда не достигала численности, подобной бюрократиям западных стран, и не становилась достаточно автономной. Таким образом, бюрократическая вертикаль всегда в значительной части совпадала с общественной пирамидой.
История показывает, что проблема периферического управления встает перед любым обществом, вышедшим на стадию бюрократической автономии власти. Как это видно на примере современной России, отсутствие систем управления в тех или иных периферийных сферах общественной жизни приводит к параличу общества, разрушает его управляемость, нарушает социальный порядок, несмотря ни на какую твердость бюрократической «вертикали». Любое общество исторически дает свое разрешение вышеописанной проблемы. Западное общество организует такие периферийные отношения управления, власти и подчинения в виде гражданского общества, где система работает за счет постоянной конкуренции (борьбы и сотрудничества) властных звеньев за сферы компетенции, что идеологически выражается в борьбе (сдерживании) элементов «гражданского общества» с центральной властью и между собой. (Хотелось бы заметить, что экспоненциальный рост бюрократии в западных странах говорит о кризисе гражданского общества, а не о его расцвете.)
Отечественная же цивилизация дает иной ответ, такой, как «гражданственность». Как и служилая (тягловая) система организации русского общества на заре его истории, гражданственность прямо связана не с правами, а с обязанностью и ответственностью. Гражданственность как качество личности, по нашему мнению, это способность личности, вне зависимости от своего социального положения, взять на себя ответственность за проблемную ситуацию в обществе в сфере своего социального влияния. Принятие на себя ответственности и соответственных обязанностей означает принятие на себя власти в указанной сфере. Именно благодаря гражданственности в «хорошем обществе» восточнославянской цивилизации организуется вся система периферического управления, аналогичная «гражданскому обществу» Запада. Однако для организации «хорошего общества» недостаточно гражданственности со стороны людей. Необходима еще способность государства этой гражданственностью воспользоваться, т. е. своевременно наделять ресурсами и, что наиболее важно, легитимностью того, кто принял на себя ответственность и соответственные обязанности в проблемной ситуации.
Таким образом, гражданственность можно рассматривать двояким образом: и как способность человека выполнять определенную роль в рамках институциализирован-ных отношений (в этом смысле говорят о гражданственности как качестве личности), и как социальный институт. Гражданственность как социальный институт имеет своей функцией организацию и упорядочивание периферийной управляемости в обществе. В этом смысле институт гражданственности выполняет в обществах восточнославянской цивилизации ту же роль, какую институт гражданского общества играет в западном обществе, организуя и воспроизводя социальный порядок. Однако в отличие от него гражданственность с помощью норм, правил, нормативных ролей и статусов упорядочивает отношения между властными институтами и обществом и согласовывает автономные интересы власти (автономной управленческой иерархии) с общественным благом.
В этом смысле гражданственность есть социальный институт, обеспечивающий управляемость обществом на уровне самоорганизации за счет преодоления взаимной автономии общества и власти. Гражданственность как социальный институт есть совокупность интериоризованных социальных ролей, норм и ценностей, регулирующих взаимоотношения людей друг с другом и с властными институтами в обществе, основанном на коммунитарных принципах: 1) в процессе самоорганизации; 2) на основе индивидуальной инициативы, связанной со способностью брать на себя ответственность за проблемную ситуацию в обществе в сфере своего социального влияния; 3) при условии легитимации этой инициативы авторитетом власти или носителем альтернативной легитимности в ситуации мировоззренческого раскола общества; 4) подкрепляемой социальными ожиданиями общества (сообщества).
Из этого видно, что институт гражданственности состоит из трех элементов (базовых ролей): 1) индивидуума, проявляющего гражданственность, т. е. готовность взять на себя ответственность за проблемную ситуацию в обществе в сфере своего социального влияния в интересах общего блага, а не частного интереса; 2) властных институтов в лице своих представителей, которые либо отрицают инициативу, либо поддерживают ее, делегируя инициатору легитимность, властные полномочия и ресурсы, необходимые для осуществления инициативы; 3) социального окружения (общество, народ), формирующего общественное мнение и социальные ожидания, оценивающего общественную значимость гражданской инициативы и, в случае высокой оценки, ожидающего от власти доброжелательной поддержки инициатора, признающего легитимность его нового статуса и его новые властные права.
Если власть не оправдывает ожиданий, то общественное мнение признает ее несправедливой, не заботящейся об общем благе и, в конечном счете, антинародной. Наоборот, если общественное мнение не признает за гражданской инициативой общую полезность в достаточно высокой степени и, более того, подозревает за ней частный интерес инициатора, оно не требует от власти встречных действий в лучшем случае и высказывает в общем отрицательную позицию в худшем. Надо заметить, что обвинение в «проталкивании» частного интереса под видом гражданской инициативы, направленной на общее благо, является худшим возможным обвинением.
И гражданственность, и гражданское общество, как видим, имеют сходные черты. И тот, и другой институт есть отношения людей в процессе самоорганизации по поводу власти, однако не менее очевидно и то, в чем заключается существенное отличие этих институтов. Если в основе института гражданского общества классического образца лежит субсидиарная идеология, основанная на примате частных интересов, то условием существования института гражданственности является господство в обществе комму-нитарной идеологии. В данном случае под коммунитарной идеологией понимаются представления о том, что частные интересы граждан легитимны постольку, поскольку они не идут вразрез с общим интересом. А общие интересы выражаются в определенной системе общепринятых ценностей, норм идеалов и т. д. Следствием таких представлений являются унитарные отношения власти, где верховная власть получает легитимность сверху. Она легитимна настолько, насколько ее деятельность соответствует вышеназванной системе общепринятых ценностей и идеалов, и, в свою очередь, легитимизирует низшие уровни власти, делегируя им права, необходимые для выполнения должных обязанностей.
И в том, и в другом случае источником власти является народ, однако в рамках субсидиарной идеологии народ делегирует определенные права вышестоящим органам, и так по иерархии от низших к высшему, в другой модели народ принимает или, наоборот, отказывает в доверии цельному комплексу представлений, ценностей, идеалов и норм, который в свою очередь придает легитимность всей властной иерархии.
Как отмечалось выше об иерархии и легитимности в организации власти, в отечественном социуме легитимность идет не снизу вверх, а сверху вниз. Как следствие, любая гражданственность может выглядеть самозванчеством без наделения легитимностью со стороны высшей власти или носителя альтернативной легитимности. В то же время отказ от наделения легитимностью со стороны власти в глазах народа выглядит несправедливостью, если действия лица, взявшего на себя ответственность, очевидно направлены на благо людей и страны. В истории России мы можем найти достаточно примеров успешного, справедливого поведения высшей власти в подобных ситуациях. Например, показательна история Ермака, покорителя Сибири. Ермак берет на себя ответственность (войну с сибирскими татарами) и, соответственно, власть в этой сфере, после первых успехов посылает к царю своего сподвижника, атамана Кольцо, за ресурсами и в первую очередь за легитимностью и успешно получает и то и другое. Цепь власти и управления связывается. Приведенный пример, конечно, исключителен, но подобная коллизия вновь и вновь разрешалась на гораздо более обыденном уровне на всем протяжении русской истории.
В отечественных политико-организационных формах попытки преодолеть разделение единого социального пространства на власть и противостоящее ему общество (общественность) выражались и в земской системе конца XIX, начала XX вв., в Советах как специфических органах власти, избегающих политического профессионализма. Позднесоветская борьба с номенклатурой, даже деятельность многочисленных пролиберальных движений во многом проникнуты тем же духом. Более того, не только в России, не только в постсоветских новых независимых государствах, но и в странах Восточной Европы мы можем говорить о господстве таких, в определенном смысле коммунитарных взглядов. Польский философ и социолог Е. Шацкий в статье «Протолиберализм: автономия личности и гражданское общество» продемонстрировал, насколько восточноевропейская «либеральная» оппозиция в 70-80-е годы ХХ в. была по сути нелиберальна (в классической западной трактовке этого понятия). «Вот почему частная жизнь, спокойная приятность пользоваться личной независимостью, как писал Б. Констан, — лозунги, до сих пор высоко чтимые западными либералами, — не могли быть привлекательными для тех в Восточной Европе, кто критически относился к коммунизму и стремился существенным образом изменить status quo. требование автономии и освобождения личности должно было прежде всего подразумевать возможность ее участия в общественной жизни, а также быть декларацией права на нарушение границы частной сферы. Иными словами, движение мысли шло в направлении, противоположном тому, в котором двигался западный либерализм: частное должно было стать общественным» [268, с. 80]. Западный либерализм в полном соответствии с принципом субсидиарности кладет в основу гражданской свободы (и гражданского общества) неприкосновенность приватной сферы гражданина. Гражданские свободы соответственно сводятся к праву на ее защиту, свободе отстаивания частного интереса. В Восточной же Европе речь, наоборот, шла о противодействии попыткам власти обособиться от общества посредством ограничения активности граждан сферой частной жизни. Таким образом, ситуация, напрямую связанная с разделением социума на автономные власть и общество (что и делает неприкосновенность приватной сферы гражданина важнейшей ценностью на Западе), нетерпима уже в Восточной Европе, где протест был направлен против подобного разделения, а общественный идеал лежит в русле преодоления этого разделения.
Неспособность государства в общем и чиновничества в частности воспользоваться гражданской активностью людей, игнорирование ими гражданственности неоднократно становились одной из важнейших причин кризисов управляемости, сотрясавших как Российскую империю, так и СССР и современную Россию.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Перед обществом, в котором появляется автономная властная иерархия в виде рациональной бюрократии, возникает проблема периферического управления, и в разных обществах она решается по-разному. Если на Западе проблема решается посредством «гражданского общества», реализующего отношения управления, то в рамках восточнославянской цивилизации проблема разрешается за счет «гражданственности». Гражданственность есть социальный институт, обеспечивающий управляемость обществом на уровне самоорганизации за счет преодоления взаимной автономии общества и власти. Гражданственность как социальный институт есть совокупность интериоризованных социальных ролей, норм и ценностей, регулирующих взаимоотношения людей друг с другом и с властными институтами в обществе, основанном на коммунитарных принципах: 1) в процессе самоорганизации; 2) на основе индивидуальной инициативы, связанной со способностью брать на себя ответственность за проблемную ситуацию в обществе в сфере своего социального влияния; 3) при условии легитимации этой инициативы авторитетом власти или носителем альтернативной легитимности в ситуации мировоззренческого раскола общества, подкрепляемой социальными ожиданиями общества (сообщества).
3.3. Социологический анализ феномена гражданственности
В монографии гражданственность рассматривается двояким образом: и как способность человека выполнять определенную роль в рамках институциализированных отношений (в этом смысле говорят о гражданственности как качестве личности), и как социальный институт. Гражданственность как социальный институт имеет своей функцией организацию и упорядочивание периферийной управляемости в обществе. В этом смысле институт гражданственности выполняет в нашем обществе ту же роль, какую институт гражданского общества играет в западном обществе, организуя и воспроизводя социальный порядок. С помощью норм, правил, нормативных ролей и статусов институт гражданственности упорядочивает отношения между властными институтами и обществом и согласовывает автономные интересы власти (автономной управленческой иерархии) с общественным благом.
Гражданственность как институт нами рассматривается с трех сторон: как ролевая система, в которую включены нормы и статусы; как совокупность обычаев, традиций и правил поведения, а также как совокупность норм и учреждений, регулирующих определенную сферу общественных отношений. Исторический подход реализовался в рамках понимания социального института как совокупности обычаев, традиций и правил поведения. Понимание социальных институтов гражданского общества и гражданственности как совокупности норм и учреждений, регулирующих определенную сферу общественных отношений, позволило раскрыть структурно-функциональный аспект проблемы. Таким образом, изучение гражданственности как ролевой системы, в которую включены нормы и статусы, образы и ожидания, составило предмет конкретно-социологического исследования.
Так как его целью было не только выявление сущности и содержания форм взаимоотношения общества и власти, но и их изучение на конкретно-эмпирическом уровне, то одной из основных задач стала операционализация понятия гражданственности. На наш взгляд, основными показателями гражданственности в социологическом исследовании выступают следующие: взаимные социальные ожидания личности, представителей власти, общества; их представления о нормативном ролевом поведении (образы) друг друга; специфические способы коммуникации и поведения.
Методика исследования строилась таким образом, что в предложенных социологом ситуациях (обращениях, просьбах, жалобах, протестах граждан по отношению к представителям власти) респондент оценивал санкцию (реакцию) власти с точки зрения ролевой позиции просителя. Эти оценки дают возможность определить образ желательной (нежелательной) власти в глазах общества. Соответственно, рассматривая ситуации, в которых участвуют три элемента (базовых ролей) института гражданственности (представитель власти, носитель гражданской инициативы, представители социального окружения), можно получить представление о характере и содержании названных ролей (желательного либо нежелательного поведения). Индикаторами взаимных социальных ожиданий власти и общества являются: 1) способность власти использовать гражданственность как властный ресурс управляемости обществом; 2) доверие к государственной власти; 3) оценка общественной значимости гражданской инициативы и характера легитимации ее властью.
Исследование проходило в два этапа. На первом этапе (2009 г.) был осуществлен пилотажный опрос, в ходе которого производилась отработка методики и инструментария на примере одного из районов г. Минска. Всего было опрошено 342 респондента, из них 45,7 % — мужчин и 54,3 % — женщин. Выборка случайная (маршрутная), построенная на основе пошагового метода — в выборку попадала каждая 100-я квартира. Опрашивалось взрослое население от 18 лет и старше. Методом сбора информации явилось стандартизированное интервью «лицом к лицу» с респондентами по месту жительства. Вторым этапом было проведение основного социологического опроса населения г. Минска в 2010 г. Выбор г. Минска в качестве объекта исследования обусловлен его особым статусом столичного города, центра экономической, политической и социокультурной жизни, где социальные инновации имеют наиболее четкий и выраженный характер, демонстрирующий в обостренной форме те социальные процессы, которые на периферии имеют сглаженный характер. Опрошено 410 человек. В выборочном массиве Минск представлен 9 районами. Количество интервью распределено пропорционально численности населения каждого района. Выборка также маршрутная; число интервью на одном маршруте не более 10. Шаг отбора домохозяйств равен 100. В качестве контролируемых признаков выступили: пол, возраст, образование. В выборку попали 46,1 % мужчин и 53,9 % женщин. По возрасту респонденты разделились на следующие группы: 18–29 лет — 20,3 %; 3039 лет — 23,4; 40–49 лет — 30,1; 50–59 лет — 15,7; 60 и старше — 11,2 %. По образованию респонденты разделились следующим образом: неполное среднее — 11,5 %; среднее общее, среднее специальное — 55,6; высшее, незаконченное высшее — 32,9 %. Ошибка репрезентативности полученной информации колеблется в пределах ± 3 %, что свидетельствует о надежности и достоверности данных. Кроме того, было проведено 16 глубинных интервью с лидерами гражданских инициатив в Минской области.
На основе социологических опросов, проведенных по результатам данных авторского социологического исследования, мониторингов Института социологии НАН Беларуси за период с 2009 по 2012 г., социологического исследования «Роль СМИ в развитии гражданственности» (проведенного Институтом социологии НАН Беларуси в июне 2010 г. в рамках сектора социологии СМИ под руководством В. И. Русецкой; всего опрошено 2107 человек по республиканской выборке), а также вторичного анализа данных соцопросов российских социологов можно сделать следующие выводы о состоянии и характере взаимоотношения населения и власти и социальных ресурсов управляемости в Беларуси.
Представления о нормативном ролевом поведении власти. Образ власти.
В исследовании в качестве социологических индикаторов образа государственной власти в глазах народа выступают: 1) ее иерархический характер; 2) патернализм (власть воспринимается как защитник, заботливый родитель). Как оказалось, в сознании населения Беларуси (так же, как и в России) сохраняется «традиционный» образ власти, включающий принципы ее иерархичности и патернализма. Согласно социологическому энциклопедическому словарю, понятие «иерархия» определяется как «последовательное расположение социальных статусов от низших к высшим», а «социальная иерархия» — как «система последовательного подчинения структурных подразделений социальной власти от нижестоящего к вышестоящему» [129, с. 264]. Однако, как показано выше, суть иерархии в традиционном понимании заключается не в расположении от низших к высшим, а, наоборот, от высших к низшим. Согласно такому пониманию, каждый уровень власти получает свою легитимность в глазах общества не снизу, а сверху. Иерархия — это воплощение некоего идеального порядка в субъектах, стремящихся уподобиться ему. Соответственно, чем выше находится та или иная фигура, то или иное должностное лицо, тем ближе оно к некоей идеальной власти, тем на большую справедливость, несвязанность ее суетными «земными» проблемами можно рассчитывать при обращении к ней. Царь имеет большую легитимность, чем бояре (оттуда «добрый царь при дурных боярах»), а президент, — большую, чем мэры и губернаторы. Следствием такого положения становится размывание принципа разделения компетенций ветвей и уровней власти.
Проблема заключается в том, что современный переход стран постсоветского пространства к демократии, предполагающий постепенное уничтожение традиционных иерархических властных отношений, установление принципа разделения власти на исполнительную, законодательную и судебную, исключение превалирования одной ветви власти над другими, пока не приносит ощутимых результатов. Респонденты по-прежнему воспринимают власть, исходя из традиционного принципа иерархичности, во главе которой стоит, как правило, высшая исполнительная власть. По результатам опроса оказалось, что 44,1 % респондентов обращались к местным властям по тем или иным вопросам. На вопрос: «Как Вы поступали, если Ваша просьба, жалоба, требование не были удовлетворены на местном уровне?», большинство ответили, что они обращались в вышестоящие исполнительные органы власти, в то время как в суд или к депутату — ничтожно малое число респондентов (табл. 1).
Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы поступали, если Ваша просьба не была удовлетворена на уровне местной власти?»
Обратились | % |
Индивидуальное письмо, жалоба в вышестоящие исполнительные органы власти | 14,5 |
Коллективное письмо, жалоба в вышестоящие исполнительные органы | 18,4 |
Ходил индивидуально на прием к представителям вышестоящих исполнительных органов власти | 28,9 |
Обращался индивидуально к своему депутату | 3,0 |
Обращался коллективно к своему депутату | 4,1 |
Обращался в судебные органы власти | 1,2 |
Нет ответа | 33,8 |
Другое | 11,6
Примечание. Процентное распределение в сумме больше 100 %, так как респондент мог дать несколько вариантов ответа.
При этом из тех, кто добился положительного решения (25,8 %), более двух третей респондентов обращались именно к самым высшим в районе властям — заместителю или председателю районной администрации. Это говорит о том, что если человека не устраивает решение какой-либо бюрократической структуры (ЖЭСа, ЖРЭУ, суда, отдела архитектуры или социальной защиты), то «иерархические» архетипы мышления как бы определяют вектор деятельности, т. е. ту инстанцию, которая способна решить проблему. Как правило, это представители высшей по иерархии исполнительной власти: если не решается проблема на районном уровне, идут в горисполком, облисполком, на прием к Президенту.
Почти не отличаются в этом отношении ответы россиян на вопрос: «Как Вы считаете, у кого должность выше?» [204, с. 59]. Оказалось, что для большинства опрошенных губернатор по должности стоит выше мэра, выше председателя областной думы, т. е., в представлениях граждан, во-первых, нет четкого разделения компетенций во властных полномочиях мэра и губернатора, а во-вторых, законодательная власть не является автономной, а тоже включена в единую иерархическую систему. О реальном разделении властей в представлениях респондентов речь идти не может (табл. 2).
Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, у кого должность выше?», % [204]
Представители власти | У первого | У второго | Их должности равны по своей значимости | Затрудняюсь ответить |
У мэра или губернатора | 12 | 75 | 9 | 4 |
У губернатора или председателя областной думы | 59 | 17 | 12 | 12 |
У мэра или председателя городской думы | 64 | 12 | 13 | 11 |
У Президента или губернатора | 97 | 1,5 | 0,5 | 1
Иерархическую картину власти население принимает как норму, согласно которой совершенно естественно, что центральная власть обладает большими полномочиями, чем региональная (71 % позитивных ответов против 29 % негативных), и полномочия региональной власти «включены» в полномочия центральной, а Президент страны может назначать и снимать губернаторов, мэров, руководителей районных властей, т. е. устанавливать властную вертикаль сверху донизу, включая и органы местного самоуправления. При этом, как отмечает Н. А. Романович, «представление, что власть иерархична, проявляется и в том, каким образом наши сограждане распределяют ответственность между ее структурами. На плечи людей, занимающих самые высокие места во властной пирамиде, всегда водружается большая ответственность» [204, с. 65].
Когда задавался вопрос минчанам, какие именно властные структуры несут ответственность за проблемы с теплоснабжением, жильем, образованием, здравоохранением, то больше всего было ответов типа «районная и городская администрация» в равной степени (52,3 %). Обе структуры воспринимаются респондентами как ответственные за все проблемы, происходящие в районе, только у городских властей обязанностей больше. Если не удается решить что-то на уровне районных властей, то необходимо обратиться в более высокую инстанцию. Таким образом, властная структура не мыслится населением без иерархии в традиционном смысле слова.
Однако нужно заметить, что и власть знает о представлениях народа и старается соответствовать им, преумножая и сохраняя оказанное ей доверие: «Профессиональный политик обязан воплотить эти желания, иначе он потеряет доверие граждан. А народ не узнает своего правителя, если он не будет соответствовать заложенному в культуре образу, и отвергнет его как «чужого» [204, с. 67].
Вторым существенным индикатором образа власти является патернализм — представление о государстве как об «отце», защитнике народа. В частности, на вопрос: «Должны ли мы сами строить свою жизнь или о нас должно заботиться государство?» только 3,7 % ответили, что государство не должно никому помогать, человек должен заботиться о себе сам; 8,9 % — что оно должно полностью взять на себя все заботы о каждом человеке, а 10,7 % — помогать только самым слабым и обездоленным. Большинство же — 71,3 % респондентов утверждают, что государство должно помогать каждому гражданину в решении каких-либо жизненно важных вопросов, возникающих перед ними. Это подтверждает количество ответов респондентов на вопрос: «По какому вопросу или проблеме Вы обращались к представителю местной власти?» Всего по разным поводам за помощью к государственным органам обращались 44,1 % респондентов. При этом более половины (25,8 %) респондентов добились того, чего хотели.
Образ государства как гаранта социальной и экономической защиты прослеживается в ответах респондентов на вопрос о роли государства в регулировании экономикой страны (табл. 3).
Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: «Как должна регулироваться экономика нашей страны?»
Варианты ответов | % |
Государство должно регулировать и следить за соблюдением как можно большего количества аспектов экономической деятельности — качеством продукции, ценами, количеством игроков на рынке и т. п. | 39,0 |
Государство должно устанавливать и следить за соблюдением ограниченного количества правил работы экономики, а в остальном полагаться на естественные рыночные механизмы регулирования | 34,2 |
Государство должно как можно меньше вмешиваться в экономику и полагаться в основном на рыночные механизмы регулирования | 12,3 |
Затрудняюсь ответить | 12,5
Даже в ответах на вопрос: «Должно ли государство поддерживать независимые общественные организации?» более половины ответивших ответили «да» — материально и юридически. Таким образом, данные опроса свидетельствуют о четко выраженных представлениях об отношении власти и общества как патерналистских и структуре власти, построенной на традиционном иерархическом принципе.
Взаимные социальные ожидания общества к власти можно определить на основании таких индикаторов, как 1) доверие к государственной власти и 2) способность власти использовать гражданственность отдельных индивидов как властный ресурс управляемости обществом.
Степень доверия общества к власти просматривается в ответах на вопрос: «Если Вы будете нуждаться в защите своих прав, куда (к кому) Вы в первую очередь обратитесь?», задаваемый респондентам страны в апреле 2012 г. (табл. 4).
Таблица 4. Распределение ответов на вопрос: «Если Вы будете нуждаться в защите своих прав, куда (к кому) Вы в первую очередь обратитесь?»
Варианты ответов | % |
В органы местной власти | 13,8 |
В Комитет государственного контроля | 12,0 |
В милицию | 43,2 |
В прокуратуру | 16,0 |
В суд | 23,8 |
В общественные правозащитные организации | 6,8 |
В профсоюз | 4,3
При этом, как свидетельствуют данные, степень доверия респондентов коррелирует с местом той или иной государственной структуры во властной иерархии, т. е. чем в большей степени она олицетворяет государственную власть, тем сильнее уверенность в эффективности обращения к ней (уверены, что эффективнее для респондента обращение в центральные органы государственной власти — 31,7 %, а в общественные организации — всего 7,7 %)[3]. Так, хотя уверенных в том, что добьются решения своей проблемы, если обратятся к представителю местной районной власти, всего 24,0 %, а в суд — 37,6 %, многие видят путь в решении своей проблемы, в случае неудовлетворительного ответа, в подаче коллективных или индивидуальных жалоб в вышестоящую властную организацию (37,9 %), вплоть до обращения к Президенту Республики Беларусь. При этом 12,4 % респондентов предлагают в целях снижения уровня произвола чиновников усилить власть Президента по контролю за их деятельностью.
Одним из показателей легитимности как власти, так и гражданских ассоциаций со стороны общественного мнения явилась оценка респондентами значимости различных партий, движений, фондов, ветвей власти с точки зрения их приверженности частным или общим интересам. Для этого в основном опросе 2010 г. были заданы два вопроса: о доверии различным партиям, движениям и ветвям власти и о мнении респондентов об интересах, которые эти партии и организации защищают (табл. 5, 6).
Таблица 5. Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы доверяете следующим организациям и ветвям власти?», %
Варианты ответов | Полностью доверяю | В основном доверяю | Чаще доверяю, чем не доверяю | Чаще не доверяю, чем доверяю | Не доверяю | Затрудняюсь ответить |
Не оппозиционные политические партии | 1,3 | 5,1 | 39,1 | 12,5 | 15,2 | 26,8 |
Оппозиционные партии | 1,1 | 4,3 | 32,6 | 15,3 | 19,6 | 22,1 |
Центральные органы власти | 7,9 | 31,5 | 28,3 | 11,0 | 4,1 | 17,2 |
Зарубежные фонды | 3,7 | 4,3 | 27,3 | 6,2 | 29,5 | 29,0 |
Общественные организации (ассоциации, движения) | 8,7 | 40,2 | 20,1 | 5,4 | 2,4 | 23,2
На вопрос: «Чьи интересы выражают и защищают следующие организации?» респонденты ответили следующим образом (табл. 6).
Таблица 6. Распределение ответов на вопрос: «Чьи интересы выражают и защищают следующие организации и ветви власти?», %
Варианты ответов | Интересы всего народа | Интересы группы или класса | Личный интерес лидеров и активистов | Интересы иностранных государств | Затрудняюсь ответить |
Не оппозиционные политические партии | 10,5 | 40,8 | 8,7 | 1,2 | 28,8 |
Оппозиционные партии | 6,2 | 7,8 | 22,1 | 28,1 | 35,8 |
Центральные органы власти | 35,4 | 19,6 | 5,3 | 0,5 | 10,5 |
Зарубежные фонды | 5,8 | 17,3 | 1,2 | 65,5 | 10,2 |
Общественные организации (ассоциации, движения) | 24,8 | 26,8 | 5,5 | 1,8 | 35,1
Ответы респондентов на вопрос об интересах тех или иных организаций при сопоставлении их с ответами о доверии к ним свидетельствуют о явной корреляции между степенью доверия и оценкой их как выразителей и защитников общественного интереса.
Так как целью исследования было выявление социальных ожиданий и паттернов ролевого поведения основных акторов института гражданственности, выраженного во взаимодействии системы «инициативный лидер — общество — власть», то обычное распределение респондентов по видам включенности в общественную деятельность нуждается в его сопоставлении с ответами лидеров общественных ассоциаций. В связи с этим была поставлена задача и проведено эмпирическое исследование в виде глубинного интервью с лидерами общественной активности (всего было опрошено 16 местных активистов).
Анализ опыта местных активистов позволил нам выделить цели включения в гражданскую деятельность, пути реализации предложенных ими проектов, а также причины успехов или неудач в их деятельности. Оказалось, их общественная активность зависела от целей, которые они себе ставили, что позволило выделить несколько типов: иждивенческая (название условное) активность, в виде жалоб и прошений, направленных на реализацию их властями; протестная активность, возникающая из желания жителей противодействовать планам властей, не задумываясь об альтернативных планах; демонстративная активность — использование населения в качестве статистов для реализации отвлеченных политических проектов; конструктивная активность, направленная на коррекцию действий властей для создания более благоприятных условий жизнедеятельности территорий, партнерское взаимодействие.
Если говорить о социальной активности населения в целом, то она не достаточно высока. Не считая участия в выборах, только 12,8 % вступали в какие-нибудь ассоциации по решению местных проблем, 20,7 % подписали коллективное письмо. Если говорить о более или менее активных участниках, то из них были членами инициативной группы только 4,3 %, еще 5,9 % только собирали подписи, 7,5 % респондентов выступали на собраниях, 8,1 % — ходили на собрания.
Как было установлено в ходе интервью с лидерами общественной активности на местном уровне, на процесс развития гражданственности оказывает значительное влияние прежде всего такой фактор, как позиция верховной власти страны, внимание, которое уделяется инициированию общественной активности. Президент страны А. Г. Лукашенко, по мнению участников глубинных интервью, «заставляет местные власти прислушиваться к мнению населения».
В качестве негативных факторов респонденты отмечают недостаточную финансовую обеспеченность местных органов власти, не позволяющую главам оказывать действенную поддержку общественным инициативам; несовершенство правового поля (например, отсутствие механизмов, позволяющих осуществлять финансирование общественных инициатив из местных бюджетов); проблему квалифицированных кадров в органах местного самоуправления. На вопрос: «Должно ли государство поддерживать независимые общественные организации?» 57,9 % респондентов ответили положительно.
Как выяснилось в опросе, на развитие гражданской активности и рост потенциала гражданственности в обществе влияют как объективные, так и субъективные факторы. В качестве объективных называют экономическое развитие территорий, уровень жизни; развитие малого и среднего бизнеса; историю территории и особенности менталитета; национальный фактор; и особенно наличие и остроту проблем. Субъективными негативными факторами, тормозящими гражданскую активность, по мнению респондентов, являются: недоверие части населения к местным властям (не доверяют около трети респондентов), неумение и нежелание жителей района принимать на себя ответственность за решение проблем своего дома, улицы, района, крайне низкое количество лидеров. Как отмечали респонденты, «лидеры общественного мнения, не являющиеся депутатами, главами или директорами, практически вывелись». Многие с грустью отмечали, что «лидеры прошлых десятилетий — перестроечной волны — сходят со сцены. Смены им нет. И общественная активность без лидеров угасает».
Выявление мотивов включенности населения в общественную деятельность позволяет предположить, что в основе общественной активности лежат три группы мотивов (названия условные).
1. «Личностные», основанные на стремлении индивида к общественному признанию, авторитету, личностному росту, приобретению новых связей, опыта, возможностей (16 %).
2. «Социальные», основанные на осознании социально значимой необходимости решения проблем и задач в сфере их социального влияния (36,3 %).
3. «Коммуникативно-конформистские», основанные на желании следовать примеру других, быть в группе, общаться с людьми (14,6 %).
На другие мотивы указали 9 %, на то, что не думали об этом, — 33,1 % респондентов.
Лидерам гражданских инициатив присущи преимущественно первые два типа мотивов, которые, на наш взгляд, должна поощрять система социальных отношений на местном уровне. Имеется в виду моральная, финансовая, организационная помощь инициаторам со стороны власти.
Однако не только взаимоотношения гражданских лидеров и власти определяют характер и специфику института гражданственности. Серьезные проблемы существуют в области отношений «местная власть, чиновники — общественность». Так, социологический опрос показал (данные мониторинга 2009 г.), что одной из важнейших социальных целей респонденты называют необходимость усиления ответственности чиновников перед населением (40,6 %). Это свидетельствует о том, что существует проблема отчуждения между чиновничеством, бюрократическим аппаратом и населением. Не вдаваясь в причины этого явления (это предмет отдельного исследования), заметим, что такая проблема существует и требует своего решения.
Осознавая эту проблему, большинство респондентов (42,8 %) выражают готовность решать ее на своем уровне, «снизу», посредством гражданского действия, объединяясь в общественные ассоциации. Часть респондентов (5,7 %) предлагает обращаться в суды. Определенная часть респондентов считает, что проблему контроля за чиновниками можно решить лишь усилиями президентской власти, «сверху» (12,4 %). Более того, респонденты готовы лично совершать гражданские действия для решения социальных проблем (табл. 7).
Таблица 7. Распределение ответов на вопрос: «Каким образом люди могли бы сделать жизнь в своем населенном пункте лучше?»
Варианты | % |
Делать денежные пожертвования, собирать деньги на решение конкретных задач | 10,4 |
Обращаться в гражданские ассоциации и вместе предъявлять требования к власти | 20,9 |
Обращаться с жалобами или требованиями к власти | 17,0 |
Организовать коллективные действия, сотрудничать с другими людьми, живущими по соседству | 38,6 |
Самим работать на пользу района города, оказывать безвозмездную помощь | 22,5 |
Каким-то другим способом | 33,8 | Затрудняюсь ответить | 11,2 |
Примечание. Процентное распределение в сумме больше 100 %, так как респондент мог дать несколько вариантов ответа.
Таким образом, люди, население, общество имеют высокий потенциал гражданственности, однако существует еще один фактор, мешающий ее реализации. В частности, он касается лидеров, инициаторов гражданских действий. Как отмечалось респондентами, их недостаточно, т. е. не хватает тех людей, которые взяли бы на себя инициативу и ответственность. Важнейшей причиной этого, на наш взгляд, является отсутствие доверия потенциальных лидеров к потенциальным участникам гражданского движения. Так, более половины опрошенных (52,3 %) на вопрос: «Как Вы думаете, есть ли среди окружающих Вас людей (соседей, коллег по работе) способные поддержать вашу инициативу (обращение к местному руководству)?» ответили: «Их немного, единицы». Однако в ходе глубинных интервью выяснилось, что местные активисты, привлекая активное (выразившее желание участвовать) население к участию в реализации гражданских инициатив, не могли назвать ни одного случая отказа от поддержки и нежелания выполнять поручения. То есть люди готовы к гражданской активности, готовы делегировать гражданскому лидеру власть, предоставить свое время, силы и способности, в то время как потенциальные лидеры не готовы доверять людям, принимать власть и брать ответственность на себя.
Это является еще одним подтверждением идеи, что отличие гражданской ассоциации в рамках гражданственности как института от гражданских ассоциаций западного гражданского общества заключается также в ее иерархичности, в том, что она выстраивается вокруг лидера гражданского действия. Поэтому, когда говорят о кризисе доверия в обществе, надо иметь в виду, что речь идет не столько о недоверии потенциальным лидерам общественных движений и, более того, представителям власти, сколько о недоверии потенциальных лидеров и самой власти к народу.
Для проверки своей гипотезы автором был также проведен опрос методом case-study жильцов отдельного дома, ведущих в течение пяти лет диалог с властью (районной администрацией г. Минска) по поводу переноса 2 крупных развлекательных ночных заведений, расположенных в 40 м от их дома, находящихся внутри микрорайона. Всего был опрошен 51 респондент — представитель домохозяйств. Хотя по существующим санитарным нормам размещение в жилом районе таких заведений запрещено, райисполком 5 лет назад принял решение об их размещении. Инициаторы от имени жителей дома, находящегося вблизи этих заведений, обращались в райисполком, но их просьба не была удовлетворена. В процессе переписки с органами власти, сбора подписей и т. п. инициаторы письма стали лидерами общественного движения жильцов дома. После этого лидеры от имени жильцов обратились в вышестоящую инстанцию — горисполком. Тот вернул письмо в райисполком для дополнительного рассмотрения. Получив отрицательный ответ, инициаторы написали письмо в комиссию при администрации Президента. Те также пустили письмо по кругу — в первичную инстанцию — городскую, а затем в районную администрацию. Районная администрация после повторного рассмотрения отказала в удовлетворении просьбы. В результате сформировалась следующая система ролей и ожиданий: жильцы дома приняли инициаторов движения как своих лидеров, легитимизировали их деятельность. Все поручения и просьбы лидеров исправно выполняли: 85 % опрошенных ходили на собрания, 100 % подписали письмо, 60 % выразили готовность дать деньги в случае необходимости (нанять юриста и др.). Однако, после того как был получен отказ властей в удовлетворении просьбы, инициаторы разуверились в успехе дела, что повлекло за собой утрату внутреннего ощущения собственной легитимности. Лидеры усомнились в своем праве на власть, в способности отдавать легитимные распоряжения и, более того, стали терять веру в поддержку людей. Надо заметить, что объективно уровень поддержки людей, по данным опроса, не снизился, а даже повысился. Когда через некоторое время одно из ночных заведений закрылось по собственным причинам, жильцы дома приписали этот успех лидерам движения.
Что можно сказать в данном случае о ролевом поведении людей и местной администрации? Во-первых, еще раз подтвердился тезис о преобладании у населения менталитета патерналистского и иерархического характера: вера, что высшая власть разрешит конфликт; потребность обращаться в инстанции согласно иерархии. И хотя некоторые члены инициативной группы предлагали обратиться в суд, остальные жители дома проявили полное недоверие к этой идее.
Во-вторых, население готово к гражданской деятельности, готово выдвигать из своей среды лидеров и делегировать им власть для решения социальных проблем.
В-третьих, самым узким местом в системе отношений института гражданственности является статус лидера. Его легитимность может быть подвергнута сомнению как со стороны власти (отказом легитимизировать его деятельность), так и местным сообществом (хотя, как показывают результаты опросов, в меньшей степени).
Таким образом, эмпирический анализ феномена гражданственности в белорусском обществе (операционализа-ция, выявление показателей, индикаторов, анкетный опрос, анализ данных) позволяет сделать вывод, что потенциал гражданственности у населения достаточно высок, однако власти не всегда умеют им воспользоваться, поддержать, реализовать властные возможности (власть как ответственность) для пользы общественного блага.
Социологический анализ взаимоотношений общества и власти показал следующее: 1) в общественном сознании граждан постсоветских стран доминирует менталитет патерналистского и иерархического характера: вера в то, что высшая власть, ответственная за жизнь людей, способна разрешить любой конфликт, а также потребность обращаться в инстанции согласно иерархии; 2) осторожность в принятии принципа разделения властей. Несмотря на то что властная бюрократия формально придерживается принципа разделения властей, прописанного в конституции (то, что находится в компетенции местной власти, не может рассматриваться или отменяться решением вышестоящей власти, имеющей свои компетенции), социальные ожидания населения соответствуют иерархическому образу власти: надежда, что вышестоящая власть поступит «справедливо», отменив «несправедливое» решение местных властей; 3) население Беларуси обладает высоким потенциалом гражданственности: 38,6 % респондентов готовы участвовать в коллективных действиях, сотрудничать с другими людьми, живущими по соседству; 22,5 % — самим участвовать в общественных работах на благо района, оказывать безвозмездную помощь; 20,9 % — обращаться в гражданские ассоциации и вместе предъявлять требования к власти; 10,4 % — делать денежные пожертвования, собирать деньги для решения конкретных задач. Однако высокий потенциал гражданственности населения не востребован из-за отсутствия гражданских лидеров и неготовности власти делегировать полномочия на гражданский уровень. Для реализации гражданственности требуется не только ее формирование у граждан, но и активное встречное движение со стороны власти; 4) самым узким местом в системе отношений института гражданственности является статус лидера. Его легитимность может быть подвергнута сомнению как со стороны власти (отказом легитимизировать его деятельность), так и местным сообществом (хотя, как показывают результаты опросов, в меньшей степени); 5) в общественном мнении легитимны только те общественные структуры, которые, выступая на политическом поле, отстаивают в глазах респондентов интересы всего общества, а не частный или групповой интерес. В этом заключается специфическое отличие от Запада, где именно презентация конкретных частных и групповых интересов придает участникам политических взаимоотношений статус легитимных политических акторов.
Глава 4 Индивид, общество, власть и социальный порядок: опыт историко-культурной реконструкции
4.1. Социальный порядок и управляемость в обществе
Идея наведения порядка в обществе проходит лейтмотивом внутренней политики нынешней власти и ожиданий населения стран постсоветского пространства, а поэтому нуждается в научной рефлексии как источников, факторов и предпосылок порядка, так и методов, средств и способов его установления. Среди ученых и политиков проблема социального порядка в последние годы обсуждается чрезвычайно бурно. Результаты социологических опросов свидетельствуют о высокой степени заинтересованности населения и властной вертикали в решении проблем порядка. Но что понимают обе стороны социального взаимодействия (общество и власть) под порядком, остается неясным.
Известно, что порядок в обществе может иметь под собой разные основания. Порядок может сообразовываться вокруг идеи прав и свобод личности, а возможен и при приоритете коллективности, корпоративности, солидарности. В основу порядка может быть положен закон, а может — традиция, мораль или даже сила. То же — в отношении средств достижения порядка: в одних случаях допускается репрессивное пресечение любой социальной инновации или проявления недовольства, в других — опора на готовность граждан добровольно следовать глубоко укоренившимся традиционным формам самоорганизации социума или закону.
Такая многослойность феномена социального порядка ставит перед ученым вполне конкретные вопросы: с каким из многочисленных типов порядка связывают сегодня россияне, белорусы и другие народы постсоветского пространства свои надежды? Какое распределение прав и обязанностей в отношениях человека, общества и государства считали бы они естественным и справедливым? Каким средствам поддержания порядка они отдают предпочтение? Какие условия нужны для обеспечения порядка?
Традиционно проблема социального порядка в обществоведении решалась неоднозначно. Под социальным порядком в широком смысле слова понимался тот или иной способ жизнедеятельности общества и индивидов, культура, определенные социально-культурные связи в социальной системе, культурные ценности, имеющие национальные и общецивилизационные корни и обеспечивающие выживаемость социума и др.
В узком смысле слова понятие «социальный порядок» употребляют для характеристики качественного состояния общества или его отдельных социальных систем или подсистем, в связи с чем говорят не о социальном порядке, а о «локальном порядке» (З. Бауман), «хорошем обществе» (В. Федотова), «политическом порядке», русском (белорусском, украинском) порядке (В. В. Лапкин, В. И. Пан-тин) и т. п.
Социологи, как правило, под социальным порядком подразумевают такие взаимоотношения социальных групп, институтов и индивидов (групп), народа и власти, при которых обеспечивается возможность с большей или меньшей вероятностью предсказывать последствия этих взаимоотношений и поступков, и тем самым гарантировать определенную безопасность личности и стабильность общества (З. Бауман). Если порядок в обществе дает возможность предсказывать и тем самым контролировать результаты взаимоотношений в социальной системе, то беспорядок свидетельствует о нарушении предсказуемости, о существенном разрыве между перспективными моделями отношений, ради которых люди предпринимают определенные действия, и тем, что с ними в результате происходит. Поэтому в самой социальной жизни, отмечает Н. Элиас, «мы обречены сталкиваться с вопросом, возможен ли, и если да, то как, порядок совместной жизни людей, который позволяет достичь, с одной стороны, согласия между личными потребностями и наклонностями, а с другой — всеми теми требованиями, которые ставит перед индивидами их совместная работа по поддержанию и функционированию социального целого» [274, с. 21]. Несомненно, считает социолог, что эта структура совместной жизни, представляющая шанс такого согласия не только немногим избранным, но всем членам социального объединения, и есть социальный порядок. Однако, на наш взгляд, общество — столь необычный феномен, что говорить о возможности сведения сложности социума к аккуратной и рационально выстроенной системе однозначных связей просто утопично и нелепо. В любом обществе существует двойственность и многозначность социальных связей и отношений, а поэтому установление порядка вряд ли когда-нибудь может завершиться. В этом смысле установление порядка в обществе есть самоподдер-живающийся, самовозрастающий, но и саморазрушающий-ся процесс.
Многозначность понятия порядка и путей его достижения, по мнению некоторых ученых, предполагает общие основания. В качестве последних называют такие, как качество жизни и состояние общества. В этом плане рассматриваются такие факторы, как демографическая ситуация, уровень преступности, алкоголизации населения, безработицы, материального благосостояния, обеспеченности жильем, медицинского обслуживания и т. п. В литературе предлагают в качестве показателей социального порядка изучать также «качество социума» (доступ к образованию, наличие горизонтальной и вертикальной мобильности, социальной политики, правовой защиты) и «качество населения» (отношение к наркотикам и алкоголю, трудовые мотивации, наличие позитивных устремлений молодежи, отсутствие аномии, рассогласования ценностей, сохранение идентичности, способность изменяться) и др.
На наш взгляд, предложенные выше характеристики социального порядка могут быть его показателями в обществе только при условии рассмотрения их в широком культурно-историческом контексте, так как не только в разных социально-культурных ситуациях, но и в рамках одного и того же социума видение порядка резко различается. То, что выглядит порядком с точки зрения элиты, может казаться беспорядком другим слоям общества; то, чем выступает порядок для властей, представляется абсолютным хаосом для тех, кем они управляют. С точки зрения, например, российских реформаторов, находящихся у власти, реформы в сфере образования, здравоохранения, соц-обеспечения и другие являются действенным средством установления в стране порядка. По мнению же простых россиян — это не порядок, а театр абсурда, хаос: лучшая в мире система школьного образования уничтожается; бесплатное здравоохранение (недостижимый пример для многих стран и народов) отменяется; льготы заслуженным и больным людям заменяются выплатами, которые в реальной повседневной жизни превращаются в ничто и др. При этом действия властей совершенно рациональны и целесообразны, если рассматривать их в системе либерти-анских ценностей: да, существующую школу надо уничтожить, так как она воспроизводит все того же, советского, человека; грамотный, широко образованный человек теперешней сырьевой России, по их мнению, не нужен. Да и монетаризация льгот приведет к исключительно договорным отношениям индивидов с государством, что поможет раздробить солидарное общество и приблизить его к западному образцу в отношениях индивида и государства и заодно увеличить ВВП.
В этом плане употребление понятий социального порядка в узком и широком смысле слова, на наш взгляд, методологически малопродуктивно, так как социальный порядок, в каком бы отношении его ни рассматривали, всегда обусловлен культурно-цивилизационными скрепами, определяющими особое понимание взаимоотношения народа и власти, свободы и несвободы, правды и истины, добра и зла, счастья, долга и ответственности и др. Пронизывая все сферы общества, данные скрепы задают конфигурацию желаемого порядка и образы будущего. В этом смысле, например, такой показатель порядка или же «качества социума», как «свобода», в разных обществах имеет разный смысл и может определять совершенно разнообразные векторы в наведении порядка в той или иной стране (безграничная свобода СМИ в общественном мнении населения и власти многих стран рассматривается как фактор нестабильности и хаоса; индивидуальная свобода — как источник социальной неустойчивости и столкновений; свобода в обществе, где все строго выполняют свои функции соответственно месту в обществе, сводит существо человека к винтику в сложном социальном организме, где любая инновация приводит к сбою этого механизма, и т. п.).
Именно учет сложности и многослойности феномена порядка в обществе позволяет подходить к ответам респондентов в социологических исследованиях не как к «противоречивым» и «амбивалентным» по поводу, например, роли государства в соблюдении распределительной справедливости, а, учитывая факт принадлежности социума к определенной культурно-цивилизационной системе, фиксировать непротиворечивость и единство полярных, с точки зрения западной социологии, показателей порядка. Данное утверждение претендует на методологическое требование относиться к изучению порядка в обществе исключительно конкретно-исторически, предметно, где каждый из анализируемых показателей порядка может выполнять стабилизирующую или же раскалывающую общество функцию в зависимости от того культурно-цивилизационного способа жизнедеятельности и сознания, к которому принадлежит общество.
Поэтому при анализе порядка в российском или белорусском обществе, как и во всех странах постсоветского пространства, необходимо отказаться от одномерности понятий социологии (а она у нас по существу написана на языке западной культуры) и интерпретировать порядок на социологическом языке, отражающем культурно-цивилизационные смыслы, присущие конкретному обществу. По крайней мере, его надо начинать создавать.
В этом плане поучителен анализ влияния фактора мобильности на социальный порядок, осуществленный П. Сорокиным. Он показывает, что многие факторы, и, в частности, социальная мобильность, кажутся самоочевидными показателями порядка и способствующими социальной стабильности общества: удовлетворенность выбранной работой не способствует антиправительственным настроениям; высокая эффективность работы правильно размещенных людей обеспечивает больше возможностей для обеспечения всех нужд населения, устраняя глубинные причины социальных беспорядков и бунтов; мобильное общество предоставляет потенциальным лидерам и амбициозным личностям возможности роста, отвращая их от роли вождей революции; рост знания помогает поднять уровень всего населения; отсутствие наследственных привилегий и надуманных льгот уменьшает число недовольных; переход людей из одного слоя в другой и опыт, который они приобретают, ослабляет ненависть и вражду между различными социальными группами и др. Благодаря этим факторам социальная мобильность способствует поддержанию социального порядка [228, с. 491].
Но П. Сорокин как гениальный социолог не останавливается на однозначной интерпретации социальной мобильности как фактора, определяющего порядок. Он рисует обратную сторону их взаимодействия: мобильность способствует деморализации и ослабляет действенность многих социально-необходимых традиций, что разрушает социальный порядок; к такому же результату ведет ослабление тесных и прочных социальных уз, связывающих людей; отсутствие задушевных контактов и тяготы повседневной работы порождают желание нарушить монотонность и избавиться от нее; в отличие от незыблемости установлений иммобильного общества серьезным дестабилизирующим фактором мобильного общества является безудержное стремление преодолеть все препятствия ради достижения успеха и возвышения, независимо от того, насколько законны и легитимны методы достижения высоко — го статуса, что ведет к тому же к непрекращающейся борьбе между индивидами, группами и фракциями мобильного общества [228, с. 492]. П. Сорокин обращает внимание еще на одну негативную сторону мобильного общества, касающегося природы власти. В мобильном обществе полномочия власти опираются на «волю народа». Власть не содержит ничего мистического, сверхъестественного. Массы ее поддерживают, когда они ею довольны. Но когда они начинают испытывать неудовлетворенность, они низвергают эту власть законными и незаконными способами. Власть и ее представители теряют свой престиж, усиливается нестабильность, и в результате начинаются хаос, социальные потрясения. Социолог показывает, что в противоположность этой нестабильности история, например, Индии знает лишь несколько крупных социальных потрясений.
Столь длинный пересказ мыслей П. Сорокина предложен не только потому, что в них заложен серьезный содержательный анализ. В них заключен глубокий методологический смысл, не позволяющий безапелляционно гипостазировать то или иное положение, мысль, идею о предполагаемых факторах, влияющих на порядок в обществе, выработанных в одной культуре (западной) в качестве абсолютной и единственно верной для всех остальных.
В этом плане задача социолога — не только указать на факторы, но и показать неоднозначный характер их влияния на порядок и стабильность в обществе.
Проанализируем такой показатель социального порядка, как управляемость в обществе. Мы утверждаем, что управляемость в обществе в одной культуре может выступать в качестве основы порядка, а в другой — беспорядка. И это касается всех остальных так называемых факторов (или показателей) порядка в обществе: согласованности ожиданий народа и власти, отсутствия социальной напряженности, повышения уровня благосостояния и др.
Для пояснения данной мысли зададимся вопросом: «Всегда ли управляемость обществом со стороны властей является благом для общества?» Оказывается, что не всегда. Возьмем США XIX в., где действия властей и народа отличались рассогласованностью, а общество с точки зрения федеральных властей было абсолютно неуправляемым. Власть, как отмечает З. Бауман, именно противоположную сторону хочет видеть более «упорядоченной» и предсказуемой, лишить ее элементов случайности и неожиданности, оставляя за собой право действовать по собственному разумению [18, с. 43]. Власти Соединенных Штатов, как любые другие, были заинтересованы в четких правилах общежития, в простых формах взаимодействия, в установлении строгих государственных границ, в отсутствии конфликтов и войн. А американское общество, находящееся в тот период в пике социальной активности, напротив, объективно было настроено на экспансию, расширение территорий, войны, конфликты, на то, что с точки зрения власти являлось хаосом и беспорядком. Молодой американский социум сам втягивал правительство в так называемый беспорядок: в мексиканскую войну, которая правительству была не нужна, в войну с индейцами и всеми, кто стоял на пути американцев в создании нового мощного государства. И какие только преграды законодательно ни ставило правительство США, социум делал то, что объективно было ему на пользу. Только когда американский народ «успокоился», создав сильную Америку, а правительство навело «порядок», по существу пришел конец инициативной Америке, успокоенной и ограниченной порядком. Америка как социальная система стала функционировать четче, в соответствии с порядком, но как целое, социум она стала намного слабее, чем в XIX в.
События со стихийным бедствием в Новом Орлеане показали, что «хорошо управляемый» штат по существу оказался совершенно беспомощным социальным организмом, легко впадающим в хаос в любой нестандартной ситуации. Из этого можно сделать вывод, что управляемость обществом не есть всегда «хорошо», а если хорошо, то лишь в определенные периоды развития социума.
Не менее показательна история первых столетий Московского государства. Несмотря на то что в первой половине XVII в. внешнеполитическая обстановка не благоприятствовала войне с Турцией, русские казаки в 1637 г. самочинно берут Азов и тем самым ставят московский двор в ситуацию, когда Москве приходится либо воевать, либо объявлять казаков разбойниками. Дело с трудом удалось замять, не ввязываясь в полномасштабную конфронтацию с Диваном Великой Порты. Подобная ситуация сложилась во второй половине XVII в., когда у российской власти появилась возможность для присоединения к России прибалтийских земель и выхода к Балтике. Войну со Швецией можно было вести в союзе или, как минимум, при благоприятном нейтралитете Речи Посполитой. Однако в связи с обращением Б. Хмельницкого в 1654 г. о принятии Украины в московское подданство Москва вынуждена была дать положительный ответ, что, в свою очередь, вызвало войну с Польшей. Как результат, силы России на балтийском направлении оказались недостаточными, и выйти к Балтике не удалось.
Такое развитие событий прекрасно осознавалось в Москве, и хотя правительство без энтузиазма шло на присоединение Украины, тем не менее было вынуждено прислушаться к общественному мнению населения, выразившемуся в решении Земского собора. Не менее доказательным примером служит завоевание Сибири Ермаком. Царское правительство вовсе не предполагало такого деяния казаков и лишь постфактум занялось оформлением новых реалий.
Вообще в истории Московского государства можно найти много примеров, когда народ в лице казачества, самодеятельных служивых или иных людей совершал внешнеполитические действия и тем самым принуждал государственную власть к реализации народной воли.
4.2. Власть и порядок
Власть и порядок, власть и народ… Насколько правитель независим от управляемых, от норм, ценностей и идеалов легитимных и тех, которые существуют лишь постольку, поскольку принимаются и признаются управляемыми? Насколько власть самостоятельна в своих действиях? Возьмем, к примеру, властвование царя Иоанна (IV) Васильевича Грозного — личности в истории России значимой и знаковой. Для современников и потомков имя этого царя стало символом самовластия и волюнтаризма. Поэтому в контексте рассмотрения вопроса о самостоятельности власти будет полезен краткий исторический экскурс в эпоху его правления.
Обыденная и зачастую художественная трактовка событий данного периода, а особенно взаимоотношений власти в лице царя и общества, свидетельствует о крайней степени антиисторизма в понимании социального порядка и правил общежития той эпохи. Так, настойчиво распространяется интерпретация русской истории как череды постоянной смены власти и установления очередного этапа безвластия, хаоса и беспорядка, ведущего к тирании и развалу страны. При этом забывается, что в реальной жизни власть — это фокус устремлений множества людей. Поэтому, чтобы говорить о власти Ивана Грозного, необходимо понять, фокусом интересов каких социальных групп он являлся, какую историческую задачу выполнял. А понять это можно, только рассматривая фигуру царя на фоне широкого историкокультурного полотна. И только в таком контексте уместен внимательный взгляд на личность самого Ивана, поскольку именно так он может быть хоть в какой-то степени понятен.
К сожалению, отечественные обществоведы (а за ними и политики, и люди искусства, в частности из области кинематографа) ограничены рамками устойчивой традиции, объявляющей Грозного иррациональным злодеем, психопатом по душевным свойствам, не более. Можно было бы назвать эту традицию западнической, но ее в полной мере поддерживала и русская историческая наука XIX в. Узловым моментом ее является иррациональность злодейства всех русских властителей, в том числе и Грозного царя. И хотя у нас сейчас серьезные историки часто и справедливо пишут, что террор Грозного ни в какое сравнение не шел с террором его западных коронованных современников ни по численности жертв, ни по жестокости, почему-то именно Грозный выставлен чудищем всех времен и народов, а вовсе не Карл IX или Генрих VIII. При этом такое поведение объясняется именно бессмысленностью царского поведения. Де и Карл, и Генрих, и испанский король, все они, конечно, подданных душили, душили… но ради прогресса, а Грозный был попросту психопатом и душил без всякой разумной цели.
Откуда эта традиция идет и чем она поддерживается? Во-первых, по мнению западных ученых (и всей западной традиции, в рамках которой в основном и трудилась русская дореволюционная историческая школа), только западные народы есть народы исторические, или иначе можно сказать, только западные народы «двигают прогресс». Как следствие, жертвы во имя прогресса могут быть оправданы, а жертвы исторического пути иных народов — нет, потому как у этих народов нет никакого осмысленного пути.
Кроме того, под прогрессом понимается именно определенный, западный путь (пускай в различных формах, присущих западным народам). Но если, как известно, сам Запад интересуется только собой, то отечественные историки, действующие в русле той же традиции, пытаются изыскать в событиях русской истории западные траектории, объявляя эти события прогрессивными там, где это им удается (или кажется, что удалось). А там где не удается, — называют просто бессмысленными проявлениями рабской русской ментальности, террором, беспорядком, регрессом, хаосом или чем-то в этом роде. Оно и понятно, что если царь без всякого смысла психически блажит, кровушку льет, потому как у него пятка зачесалась, а подданные ему безропотно подчиняются, значит, без сомнения, тут мы наблюдаем проявление рабской натуры народа и отсутствие социального порядка. И как следствие, желание порассуждать о рабской натуре русского народа блокирует любые попытки глубокого рассмотрения исторических мотивов деятельности власти в лице царя во взаимоотношениях с народом.
Попробуем разобраться в истоках так называемого беспорядка русской истории того периода. «Длинный» XVI век был переломным как для Запада, так и для России, но «параметры» этого перелома, его суть на западе и на востоке Европы были отличными. На Западе ковался новый человек, со всей его порочной силою, а на Востоке Московское княжество превращалось в Царство, в русскую империю. Кстати, нужно вспомнить о царстве и о Москве как Третьем Риме. Известно, что Иван Грозный венчался на царство, однако царский титул признавался и за его дедом, Иваном III. В чем же отличие? А отличие серьезное, даже принципиальное.
Так, если Иван III называл себя царем в дипломатических отношениях с мелкими державами, вроде Ливонии, то Иоанна IV признавал царем, православным императором сам Патриарх Константинопольский и вся (не только русская) православная церковь. «Царское имя его поминается в Церкви Соборной по всем воскресным дням, как имена прежде бывших Византийских Царей; это повелено делать во всех епархиях, где только есть митрополиты и архиереи», — читаем мы в послании из Царьграда 1558 г. «Яви нам, — писал патриарх Иоаким Александрийский, — в нынешние времена нового кормителя и промыслителя о нас, доброго поборника, избранного и Богом наставляемого Ктитора святой обители сей, каков был некогда боговенчан-ный и равноапостольный Константин. Память твоя пребудет у нас непрестанно не только на церковном правиле, но и на трапезах с древними, бывшими прежде Царями» [104]. И это учитывая, что «.Святой царь занимает высокое положение в Церкви, но не то, что другие поместные князья и государи. Цари вначале упрочили и утвердили благочестие во Вселенной; цари собирали Вселенские Соборы, они же подтвердили своими законами соблюдение того, что говорят Божественные и священные каноны о правых догматах и благоустройстве христианской жизни, и много подвизались против ересей. На всяком месте, где только имеются христиане, имя царя поминается всеми патриархами и епископами, и этого преимущества не имеет никто из прочих князей и властителей. Невозможно христианам иметь Церковь и не иметь царя. Ибо царство и Церковь находятся в тесном союзе и общении. и невозможно отделить их друг от друга. один только царь во Вселенной, и если некоторые другие из христиан присвоили себе имя царя, то все эти примеры суть нечто противоестественное и противозаконное» (послание патриарха Антония Великому Князю Василию Дмитриевичу) [189, с. 272].
Без понимания смысла данных высказываний трудно понять значение принятия царского титула Иваном Грозным и признания этого титула всей православной церковью. Мы сейчас анахронизируем, выставляя на первое место английское или какое другое признание западными дворами царского титула русской власти, но нужно понимать, что для русского человека эти признания, эти дворы схизматиков недорого стоили, чего нельзя сказать о признании его со стороны православных церквей и в первую очередь Константинополя. Царь обоснованно ощутил себя прямым, непосредственным наследником басилевсов византийских, императоров римских. И нам сейчас трудно представить, какой груз лег на его плечи — забота о спасении мира, не менее. Московский князь стал вселенским царем, единственным законным царем в мире перед ликом Господа, а русские люди в определенном, сверхъестественном смысле стали ромеями, римлянами (о «волшебном» восприятии пространства и себя самих в средние века замечательно пишет С. С. Аверинцев [3]). Кстати, в этом отношении интересна дискуссия Грозного и Курбского [12]. Если Курбский обращался к Великому князю московскому, то отвечал ему вселенский император, автократор (самодержец), ровня по значению равноапостольному Константину. Откуда тут взаимопониманию взяться?
Но насколько состояние русского царства было адекватно той вселенской претензии, которую предъявлял царский титул? Русское государство в XVI в. представляло собой небогатые, крайне недонаселенные территории. Говоря об относительном богатстве населения страны по сравнению с населением стран Западной Европы, необходимо иметь в виду тот факт, что русский человек питался в целом лучше европейца, однако нужно понимать, что этот относительно высокий уровень жизни (в те эпохи почти исключительно определявшийся типом питания) обеспечивался все той же недонаселенностью. То есть русский человек имел возможность дополнять свой рацион охотой и архаичным собирательством тогда, когда в Европе уже давно леса были частично сведены, а частично перешли под жесткий контроль высших классов и охота стала исключительно развлечением элиты.
Кроме того, именно недонаселенность русских территорий определила тот факт, что многочисленные войны с поляками и Литвой для помещиков имели главной целью «не золото и парчи всякие с иною добычею, а мужичков пригнать». Ибо земли было немало, и службу служили с земли, только что есть земля без мужика? Пригнал мужиков в закупы лет на 10–15, а там обживется мужик, будет тягло тянуть и уже и не уйдет никуда. Впрочем, другая сторона вела себе точно так же. Нужно подчеркнуть, что именно эта самая недонаселенность определяла также и относительную военную слабость русского государства. Чтобы обеспечить достаточную оборону по всем направлениям, русским приходилось постоянно поддерживать чрезвычайно высокий уровень мобилизационного напряжения по сравнению с соседними странами. Если в той же Европе любой военный поход был особым, весьма дорогостоящим предприятием, к которому страна готовилась, влезала в долги, а часто и заканчивала войну безрезультатно за отсутствием средств (о стоимости военных действий в те времена в Европе смотрите у П. Шоню «Цивилизация классической Европы» [271]), при сравнительно невысокой численности армий, то русским каждый год (!!!) приходилось на все лето, с весны до осени, выставлять полноценную армию на степные границы [44]. Несмотря на эти предосторожности, в первую треть XVI в. татарам, в первую очередь казанским, удалось осуществить почти полсотни набегов на русские земли. А ведь это, не считая перманентной войны с Речью Посполитой на западе, войны, периодически затихавшей в результате перемирий, но скоро разгоравшейся вновь. При этом, когда идет речь об относительной слабости России в военном смысле, имеется в виду слабость, так сказать, потенциальная. Россия практически не имела резервов, используя почти все наличные ресурсы, и тем самым попадала в замкнутый круг. Чрезмерное мобилизационное напряжение не давало возможности обратить внимание на внутренние реформы, которые уже назрели с превращением Московского княжества в русское царство, но и во внешних отношениях ситуация была не менее сложной. Татарская война на юге не давала возможности сконцентрироваться на западном направлении, а в свою очередь постоянные войны на западе не позволяли отвлечься на кардинальное решение татарской проблемы.
Кстати, нужно заметить, что сама византийская доктрина императорской власти как бы и не требовала фактического внешнеполитического могущества от империи: «И если, по Божию попущению, язычники окружили владения и земли царя, все же до настоящего дня царь получает то же самое поставление от Церкви, по тому же чину и с теми же молитвами помазуется великим миром и поставляется царем и самодержцем.», — цитата из вышеуказанного письма князю Василию. Но это было вынужденное положение, и не зря кричали византийцы повенчанному на царство императору «Ты побеждаешь!» [86, с. 66].
Таким образом, перед новоявленным императором ойкумены встал целый ряд задач как по реорганизации внутреннего управления, так и чисто военного плана. И поначалу казалось, что царь чудесным образом все задачи разрешил. Как тут не увериться, что сам Бог благословил царские начинания.
Нет смысла здесь и сейчас описывать содержание внутренних реформ Ивана Грозного, историю завоевания Казани и присоединения Астрахани, легкие, поразительные успехи начала Ливонской войны. Результаты правления налицо. Царь Иван Грозный властителен, популярен в народе. Один из образованнейших людей своего времени, он светел, щедр и милостив к политической оппозиции в осознании своего высокого призвания и божественного покровительства. Бельский бежал на Литву дважды. пойман. прощен, бежал князь Шереметьев. прощен, князь Фуников пойман на измене. помилован. Такой список можно долго продолжать. В стране порядок, общество управляемо. Но возникает вопрос, откуда бралась эта политическая оппозиция при таких успехах царствования Иоанна? Чтобы ответить на него, следует углубиться в историю поземельных отношении на Руси, начиная с древнерусских времен.
С давних, еще дорюриковых времен на Руси утвердился слой вотчинной земельной аристократии, земского боярства, к которому добавились и князья-княжата, бывшие удельники, подручники Великого князя московского. Вотчинный принцип землевладения издревле противостоял принципу дач, или, если называть (не совсем корректно, но понятно) более поздним термином, поместному принципу. Если поместный принцип строился на служилой основе, и земля давалась за службу и даже скорее для службы, то вотчинный — это родовая безусловная собственность, где вотчина не налагает никаких служилых обязательств на вотчинника. Любопытно, что вот это вотчинное боярство никак не было связано с центральной властью, кроме как крестоцелованием и словом, которое по «старине», т. е. господствующему в старые времена праву на отъезд, можно было еще и отменить. Но с укреплением русского государства, с воцарением Иоанна IV, когда для решения внешне — политических и внутриполитических задач потребовалась предельная мобилизация всех сил и средств, конфликт вотчинной и поместной идей обострился до крайности. В рамках внутренних реформ в 1562 г. был издан закон, ограничивающий «самодержавие» вотчинников и во многом приравнивающий их к поместному дворянству. Вот это и вызвало серьезную боярскую оппозицию. Нужно заметить, что у нас сегодня появилась мода рассуждать о «невинных» жертвах режима, а затем их реабилитировать. Удивительно, как это еще нет комиссии по реабилитации жертв репрессий Ивана Грозного? Но дело то в том, что в массе своей оппозиционеры того времени были виновны… с точки зрения царя и… прогресса. Хотя со своей точки зрения, с точки зрения «старины», правы были и они.
Вообще, если сегодня мы все так увлечены всякими модернизациями, инновациями, новым, прогрессивным и т. д., то в те времена основным принципом мировоззрения был принцип действовать «по старине». И центральной власти приходилось серьезно изворачиваться, чтобы любые реформы и изменения представить как возвращение к этой самой «старине». Во многом с этой проблемой был связан и конфликт Грозного с патриархом, ибо церковь тоже требовала от царя поступать «по старине», несмотря на то что обычно была на стороне центральной, великокняжеской, а затем и царской власти. Например, при отце Ивана Грозного Василии III митрополит Варлаам выступил на стороне Василия Шемячеча, одного из последних удельных властителей, в том числе и потому, что так оно должно быть «по старине». За что и был сослан. Не стоит забывать и о насущном для России того времени вопросе секуляризации. Церковь владела громадным земельным фондом, в котором остро нуждалась центральная власть. Но в русской традиции этот вопрос был отягощен еще византийской памятью, памятью об иконоборческой эпохе, когда претензии власти на имущество церкви закономерно приравнивались к злодейской ереси, не меньше. Нельзя игнорировать и гипотезу И. Я. Фроянова [255], утверждающего, что существовала серьезнейшая идеологическая угроза со стороны ереси жидовствующих, превратившаяся впоследствии в движение нестяжателей. Так что Ивану Грозному удалось только ограничить дальнейшее расширение монастырского землевладения по решению земского собора 1580 г., не более. Но причины для оппозиции и конфликта были.
Однако вернемся к успехам царствования Ивана Васильевича Грозного. В период 1563–1565 гг. успехи неожиданно заканчиваются. Начинаются неудачи, и со стороны эти неудачи кажутся столь же сверхъестественными, сколь чудесны успехи начала царствования. Тут можно удивляться идеям тех, кто изобретает свои особые объяснения истории и заявляет, что на самом деле царствование Грозного — это царствование двух разных людей, или что Иван Васильевич тяжело заболел (был отравлен) и вследствие того повредился в уме. Но эти гипотезы не отвечают на вопрос о причинах внешних поражений, которыми сменились победы на Западе. На наш взгляд, этому есть другое объяснение, напрямую связанное с основной темой и идеей данной монографии. Оно касается проблем исторической субъектности, социальной самоорганизации населения, социального порядка и управляемости в обществе. Суть его в следующем.
Ко времени царствования Ивана Грозного сложилась социальная организация Московского государства, вполне адекватная существовавшим условиям: есть сословия тягловые, а есть служилые; земля вся в пределе царская (только статус вотчинных земель специфичен); крестьяне (главное тягловое сословие) работают на ней, а царь помещает на этой земле дворян, которые на доходы от крестьянского труда несут военную службу. Но вот приключается большой государственный успех, а именно присоединение в результате завоеваний громадных и богатых земель в Поволжье. Как известно, в эпоху Грозного крепостного права в позднейшем смысле не было, т. е. крестьяне, отработав и заплатив тягло, могли свободно отъехать от помещика. В условиях же присоединившихся земель крестьянин, не будь дурак, так и делает, только отъезжает не к другому помещику, а на тучные поволжские земли. Мы, люди городские, оторванные от земли, с трудом понимаем, насколько нехороши для земледелия нечерноземные почвы центральной России, насколько трудна обработка и сколь мало отдачи можно получить от них в сравнении с черноземами юга (об этом стоит почитать исследователя истории русского крестьянства Л. В. Милова [164]). А тут — земля без границ, без бар и дворян, черная, жирная. И ведь не далеко, не за тридевять земель, а совсем рядом, посмотрите на карту. И Россия. ушла.
В результате присоединения Поволжья мужик потянулся на новые земли, и этим была подорвана экономическая база и казны, и, что еще важнее, поместного дворянства. В. О. Ключевский замечает: «С половины XVI в. обнаруживается усиленный отлив сельского населения с центрального суглинка на южный донской, верхнедонецкий и средневолжский чернозем» [115]. Помещики потеряли возможность сами полноценно выходить на войну и выставлять вооруженный отряд. Армия ослабела, что тут же сказалось на ходе Ливонской войны. Известно, что в довольно больших по численности армиях, собираемых Иваном против Батория, существенно выросла доля неслужилых людей, крестьян от сохи, так называемой посошной рати, имевшей намного более низкую боеспособность, чем поместное ополчение. И последовали поражения. Ключевский заключает: «Так образовалась значительная масса бедных провинциальных дворян, беспоместных или малопоместных. Десятые уездного дворянства XVI в. с отмеченными в них отзывами окладчиков дают много выразительных указаний на успех, с каким развивался этот дворянский пролетариат. Многие помещики в своих поместьях не имели ни одного крестьянского двора, жили одними своими дворами, «однодворками»; отсюда позднее произошли класс и звание однодворцев. В десятнях встречаем такие заявления окладчиков: такой-то сын боярский «худ (малогоден, худо вооружен), не служит, от службы отбыл, на службу ходит пеш»; другой «худ, не служит, службы отбыл и вперед служити нечем, и поместья за ним нет»; третий «худ, не служит, и по — местья за ним нет, и служити нечем, живет в городе у церкви, стоит дьячком на клиросе»; четвертый «не служит, от службы отбыл, служба худа, служити ему вперед нечем, и поруки по нем нет, поместья сказал 15 четей»; пятый «обнищал, волочится меж двор»; шестой «жил во крестьянех за Протасовым, поместья за собою сказал 40 четей»; седьмой — «мужик, жил у Фролова в дворниках, портной масте-ришко; бояре осматривали и приговорили из службы выкинуть вон» [115]. Существуют вполне корректные данные о запустении земель к 1570 г., например у С. А. Нефедова [172]. В Московском уезде в этих вотчинах было заброшено 90 % пашни, в Суздальском уезде — 60 %, в Муромском уезде — 36 %, новгородские земли опустели от половины, до 3/5, показательны данные о росте реальной заработной платы более чем в 2 раза, что говорит о недостатке рабочих рук.
Сегодня это сокращение численности населения списывают на мор, тогда как летописи всегда упоминают как мор, так и уход крестьян. Тот же Нефедов предлагает аргумент, заключающийся в том, что де крестьянам некуда было уходить, ибо на среднем Поволжье как раз в это время развернулись восстания местного населения. Но в том то и дело, что эти восстания как раз и были ответом на конфликты с переселенцами, русскими земледельцами, что приводило к разрушению привычного, архаичного образа жизни местных аборигенов. Русское население концентрировалось вокруг новых городков: Чебоксар, Цивильска, Козьмодемьянска, Кокшайска, Санчурска, Лаишева, Тетюшей, Алатыря и др.
Итак, очевидно, что благое для государства дело — завоевание Казани и присоединение Астрахани привело к результатам, обратным желаемым. Запустели тягловые земли и опустела казна государева. Поместное дворянство обнищало, вплоть до невозможности нести службу. Более того, именно поместное дворянство было той социальной базой, на которой держалось царство, и его относительное ослабление привело к росту силы и влияния вотчинного боярства, что предстало прямой угрозой царскому престолу.
Вот в таком контексте и стоило бы рассмотреть внутренний, душевный надлом царя и, соответственно, его действия по управлению царством. Когда дело его жизни, его царское служение (не зря мы столько времени посвятили значению венчания на царство для самого Ивана и для русских людей того времени), его литургия рассыпается как замок из песка. Именно в контексте такого громадного отчаяния стоило бы взглянуть на отказ Иоанна IV от царства и возвращение к великокняжескому званию. Тут видится попытка карнавализации, осмеяния своего исполнения служения, попытка отказаться от своего императорского долга, таким, как он его понимал: Ну что такое царь? Вон видали царь, Бекбулатка.
Попытка явно неудачная и ввергшая царя в еще большее отчаяние. Желанием хоть что-то удержать, получить противовес вотчинной аристократии было и создание опричнины. Еще раз хочется обратить внимание на работу И. Я. Фроянова «Драма русской истории: На путях к опричнине» [255]. Предложена весьма спорная концепция, но даже оспаривая некоторые выводы автора, трудно усомниться, сколь серьезная идеологическая борьба накаляла атмосферу в русской духовной среде того времени. Очевидно, далеко не всех, особенно в кругах княжат и земского боярства, устраивала мессианская идея утверждения нового Рима на Москве-реке. Ведь эта идея несла вполне конкретные, ощутимые последствия в форме строительства жесткой имперской организации, совершенно меняла иерархическую структуру русского общества! Венчание на царство нового цезаря звучало одновременно похоронным колоколом по старому, вотчинному боярству. Естественно, подобный идеологический конфликт нашел религиозные, обычные для того времени средства выражения. И в этом смысле стоит внимательнее присмотреться к позиции Фроянова, видевшего в опричнине религиозный орден, в некотором смысле царскую инквизицию, направленную против враждебной идеологии и еретических движений, посредством которых эта идеология выражалась. Нам сейчас трудно говорить, насколько удачной была эта попытка. Видимо все же нет, поскольку сам царь после отмены опричнины запретил говорить о ней.
Стоит вспомнить и новгородский поход Иоанна IV. Ему придают какое-то исключительное значение, предлагая как образец иррациональной злобы царя. Конфликт Москвы и Новгорода уже для Иоанна был древней традицией. Еще Александр Невский ходил на Новгород. С новгородцами воевали и дед Иоанна, и отец. Более того, аналогичную ситуацию мы может наблюдать и в истории других народов. Тот же литературный (и реальный) Д’Артаньян, помнится, участвовал в осаде Ла-Рошели. В результате осады и взятия Ла-Рошели в 1627–1628 гг. население города сократилось с 27 000 до 5000 человек. Тут было все, и поддержка со стороны иноземцев (англичан и голландцев), и участие в заговорах по свержению короля. Забавно, что во французском случае никто не сомневается, что были и заговоры, и иноземцы, а в русском, например, В. Б. Кобрин говорит об обвинениях против новгородской верхушки как о напраслине, воздвигнутой на невинных новгородских бояр [121]. Впрочем, если брать ту же Францию, то можно говорить не только о Ла-Рошели. Есть превосходное исследование О. Тьерри, посвященное истории становления городских коммун во Франции. Эта мрачная история массовых насилий и убийств со стороны как феодалов, так и королевской власти попросту немыслима в России. Немыслимо в России, чтобы царь взял и продал на смерть своих подданных, как это сделал французский король по отношению к жителям города Комбре [240].
Напоследок хочется заметить, что история странная штука, и заранее никогда не скажешь, где найдешь, где потеряешь. Царь Иван Грозный мог бы воспрепятствовать оттоку населения с тягловых земель введением полного крепостного права. Он этого не сделал. А если бы сделал, благом бы это было или нет для судьбы Русского государства? Возможно, Ливонская война была бы выиграна, и Смутного времени не случилось бы. Но с другой стороны, если смотреть по большому счету, массовое заселение Поволжья, движение на Дон и далее существенно увеличили географию расселения русского народа, и эти земли остались русскими при всех тяжелейших перипетиях русской истории. Кто знает? Но обойдемся без сослагательного наклонения.
В завершение можно сказать, что история Ивана Грозного как личности, властителя, реформатора — это не история мелкого психа и фигляра на троне. Это история великих замыслов и не менее великих свершений. Но в то же время и история громадной личной трагедии, мучительных метаний великой личности в условиях железной исторической предопределенности. Да, возможно, духовно царь надломился, не выдержав того груза ответственности перед Богом и миром, которую он сам возложил на себя. Что не удивительно в столь обескураживающих исторических обстоятельствах. В любом случае история царя Ивана Грозного — это не история упоения властью, как это кажется современным интерпретаторам русской истории и социального порядка России, а история переживания долга, библейский вопрос: каждому ли дается крест по силам его?
При этом нельзя забывать, что «ни один отдельный человек, каким бы ни был масштаб его личности, сколь бы могущественной ни была его сила воли, сколь бы проницательным ни был его ум, не может вырваться из специфической закономерности человеческого переплетения, исходя из которой и в которой он действует. Ни одна, даже очень сильная, личность не может, будучи, например, императором в огромной феодальной державе с чисто натуральным хозяйством, преодолеть силы центробежных тенденций, соответственно возникающих в стране такого большого размера; он не может одним махом превратить свое общество в абсолютистское или тем более в индустриальное; он не способен неким актом своей воли разом подчинить себе растущее распределение труда и военные сословия, моне-таризацию и тотальную трансформацию имущественных отношений, которые необходимы для того, чтобы образовались прочные центральные институты. Он был и останется связанным закономерностями конфликтов между крепостными и феодалами на стороне вторых, между конкурирующими мелкими и крупными феодалами — на стороне первых» [274, с. 80].
И в этом отношении необходимо еще раз подчеркнуть высказанную выше мысль: нельзя изучать порядок в обществе без учета социального, культурно-цивилизационного и исторического контекста. Все современные обществоведы здраво и с пониманием взирают на мировую историю и историю отдельных народов как на реальный процесс подъема, взлета, упадка и гибели, видя в этом закономерные этапы прогрессивного развития общественной системы. Но как только начинают изучать свое общество, его историю и перспективы развития, им начинает казаться, что оно либо будет существовать вечно, так как у него особые, только ему присущие законы и траектория развития, либо будет продолжать топтаться на месте без всяких перспектив на будущее. То есть понимание необходимости учета влияния существенных и повторяющихся исторических и социальных связей у них пропадает. Создается впечатление, что пришел «конец истории» (по выражению Ф. Фукуямы). Но история не завершается, а как всегда — повторяется, вновь и вновь воссоздавая основные свои закономерности.
Во-первых, везде, у всех народов и во все времена, молодой, перспективный и развивающийся социум характеризуется слабой управляемостью и отсутствием того порядка в обществе, о котором мечтают нынешние политики. Даже такое государство, как молодое Московское княжество, возникшее с изначально определенной функцией наведения жесткого порядка, долго не могло подавить инициативу народа (русские «банды» ушкуйников трижды грабили Золотую Орду, задолго до окончательного освобождения Руси от татаро-монгольского ига).
Во-вторых, история стран и народов показывает, что, когда социум прекращает свое усложнение и рост, наступает этап упрощения его структуры, создается порядок, ведущий в конечном счете к ослаблению и упадку целостности и жизнеспособности общества.
И в-третьих, важным источником порядка в обществе является согласованность ожиданий народа и власти. В растущем, хаотично и интенсивно развивающемся обществе ожидания народа всегда выше, чем у власти. Власть пытается его ограничивать, но, как говорится, именно «народ ведет на войну королей», а не наоборот.
Таким образом, можно сделать вывод, что понимание управляемости и социального порядка в рамках иных культурно-цивилизационных парадигм, чуждых национальной культуре и способам жизнедеятельности, является малопродуктивным методологическим приемом, не способствующим осмыслению реальной действительности. Не существует единых для всех культур и народов факторов, условий, причин, а также показателей и критериев социального порядка; в каждом обществе они своеобразны и специфичны и обусловлены культурно-историческим способом жизнедеятельности. Тем не менее проблема управляемости и наведения порядка в любом обществе нуждается в конкретном изучении реальной социокультурной ситуации и выработке адекватных ей средств для гармонизации человеческих и институциональных взаимоотношений.
4.3. Социальные и социально-психологические основания гражданственности
Для анализа структуры взаимоотношений общества и власти на личностном уровне стоит обратиться к понятию «первичных групп», которое ввел американский социолог Ч. Кули. По его мнению, первичная группа, это определенная малая группа, которая оказывает основополагающее влияние на социализацию человека. Эта группа «характеризуются интимным, лицом к лицу, контактом и сотрудничеством» [137, с. 330]. Такой группой может быть и семья, и детское и отроческое товарищество, соседство и т. д. К функциям первичных групп Кули отнес: 1) быть источником моральных норм, которые человек получает в детстве и которыми руководствуется в течение всей своей жизни; 2) быть средством поддержки и стабилизации взрослого человека. Естественно, подобные первичные группы существуют в любых обществах, как и другие малые группы: «большая семья» в Китае, иерархически построенные вертикально интегрированные группы, основанные на принципе взаимных обязательств вышестоящих и нижестоящих членов в Японии и т. п.
Однако роль этих групп в различных культурах существенно разнится. В западном мире влияние подобных групп на индивида постепенно снижается в процессе взросления, не исключая, конечно, вариаций в зависимости от конкретного региона. Конечно, и в западных обществах, например в США (чаще в американской провинции), можно встретить довольно тесно связанные группы, состоящие из людей, находящихся в родственных отношениях, в которых присутствуют несколько поколений родственников, несколько линий. Такую группу можно определить как «большую семью», однако роль такой малой группы в американском обществе существенно уступает тому значению «большой семьи» в Китае, где она во многом определяет структуру всего китайского социума.
Кроме того, в западном мире, особенно в криминальной среде, можно также встретить вертикально интегрированные, иерархически организованные сообщества, основанные на принципе взаимных безусловных обязательств. Но в отличие от них в Японии подобные институты, так же как и в Китае, определяют всю систему социальных связей и тем самым приобретают качественно иное значение. То есть, несмотря на то что подобные малые группы существуют во всех обществах, их влияние и роль в социальной структуре различна, зависит от культурно-исторических особенностей страны, определяющих их институциональный и структурообразующий статус.
Подобные особенности присущи и нашей культуре. Так, в структуре российского и белорусского общества первичные группы не ослабляют свое влияние на человека в процессе его взросления, а остаются с ним на всю жизнь. Дело не в том, что именно детское товарищество продолжает оказывать неизменное влияние на всю человеческую жизнь (хотя и это не редкость), но в том, что человек, теряя связь с друзьями детства, ищет и находит себе новое товарищество, новую группу, уровень взаимной открытости и взаимного влияния в которой существенно превышает влияние таких же малых групп на индивида в западной культуре. Эти группы можно условно определить как «домены» [217]. У нас именно домены определяют специфику социальной структуры общества, так же как и «большие семьи» в Китае и безусловно обязательственные иерархии в Японии.
Для определения онтологического статуса понятия «домен» и особенностей взаимоотношений людей в нем обратимся к Т. Парсонсу [187]. Парсонс, анализируя различные типы культуры, определил два возможных в них способа общения людей. Он назвал их общением конкретным и диффузным. Конкретное общение по сути является утилитарным, где человек подбирает себе круг общения на основании тех или иных конкретных интересов. Например, с неким Васей он общается потому, что Вася интересуется футболом и с ним можно посещать футбольные матчи, а с Федей, потому что Федя занимается ремонтом автомобилей и с ним можно поговорить об автомобилях, узнать что-то полезное и т. д.
Диффузное же общение построено на иных принципах. В соответствии с ним человек выбирает себе партнеров для общения не в соответствии с теми или иными утилитарными потребностями, а по общим признакам, характеризующим человека как личность. Все частные характеристики (любовь к футболу или автомобилям) понимаются как вторичные и временные. По сравнению с глубинными личностными характеристиками даже материальное положение и социальный статус в таком общении не особо важны.
Если западные культуры в большей степени ориентируются на общение конкретное (речь идет о тенденциях), то отечественная культура ставит акцент на общении диффузном. И дело не в том, что у нашего человека нет «утилитарно» подобранного окружения. Конечно, есть, но такие «знакомые» четко и однозначно отделяются от «друзей» и близких по большому счету. Принцип выбора здесь таков: «в каждом человеке значение имеют только твердые и неизменные характеристики его «я», все же остальное — сфера его деятельности на данный момент, социальное положение, материальное благополучие и даже его конкретные интересы — не столь важны» [116]. В обществе, в котором социальные связи выстраиваются на принципах диффузного общения, человек тщательно «отбирает» круг, входящий в ближнее социальное окружение. «Завоевать его расположение трудно: он долго и придирчиво «проверяет» нового знакомого, ведь ему нужно установить не просто отдельные поступки и интересы будущего приятеля или друга, но самое главное — тенденцию этих поступков и интересов, чтобы «добраться» до его «я», до неизменных принципов, до ценностей» [116]. В результате этого долгого процесса устанавливается тесная связь, которую сложно разорвать, и если такое происходит, то только в экстраординарных обстоятельствах и является весьма болезненным переживанием для связанных такой связью людей. Сложившаяся на основании диффузных принципов группа «близких» людей относительно замкнута, и такой круг диффузного общения можно определить как «домен». Однако каждый человек включен не в один домен, а в несколько, образуя сеть взаимоотношений, основанных на взаимном доверии. Чем в большее число доменов входит человек, тем значительнее его социальный капитал, тем больше его значение в социальной структуре общества.
Факт включенности каждого человека в подобный домен оказывает чрезвычайное влияние на его стереотипы поведения. Например, известное презрение к формальному закону В. В. Вейдле объяснял следующим образом: «В России, по крайней мере в старой России, было нечто, чего может быть уже нигде на свете нет: ощущение очень большой свободы, не политической, конечно, не охраняемой законом, государством, а совсем иной, происходящей от тайной уверенности в том, что каждый твой поступок твои ближние будут судить «по человечеству», исходя из общего ощущения тебя как человека, а не из соответствия или несоответствия твоего поступка закону, приличию, категорическому императиву, тому или иному формально установленному правилу» [41, с. 127]. С этим можно согласиться, потому что и по сей день большинство из нас живет в том же мире, в котором жил Вейдле. Позиция закона ничтожна по отношению к мнению круга близких людей, судящих именно «по человечеству». В этом отношении наша культура почти не изменилась.
Тот факт, что человек нашей культуры после разрушения традиционной общины не стал человеком-атомом, свидетельствует о том, что представление о человеке и мире у него в корне отлично от западного, более того, оно еще больше разошлось с западным, нежели это было в эпохи традиционного бытия для обеих культур.
Зададимся вопросом, почему в нашем отечестве и на Западе один и тот же процесс разрушения отношений традиционного, сословного общества привел к столь различным результатам. По нашему мнению, тут сыграли роль, как минимум, два фактора. Во-первых, тот факт, что общинные отношения удержали свои позиции в народной жизни вплоть до индустриализации XX в., и, во-вторых, специфика религиозной, православной традиции, оказавшей определяющее воздействие на русскую культуру.
Скорее всего человек нашей культуры, лишившись в результате индустриализации и социального переустройства традиционной сельской общины, создавая доменные связи, создал как бы новую, современную общину для себя, не желая представать в мире одиноким, атомарным человеком. Конечно, отличия старой общины и новой — домена — велики. Если к сельской, традиционной общине человек принадлежит безусловно, по факту рождения и строит свои отношения в соответствии с детства полученными стереотипами и ролями, то домен — это постоянная духовная работа и духовный выбор. Человек устанавливает, определяет свой «ближний круг» по собственному выбору, на основе самостоятельно выработанных принципов. В этом плане под социализацией в нашей культуре можно было бы назвать выработку личностью тех принципов, которые и определяют выбор «ближнего круга» и соответственно оснований, на которых построен домен. Повторим, домен строится не на основе совместного проживания и труда, а на основе некой духовной общности и состоит именно в необыкновенной духовной близости, открытости и взаимовлиянии.
Рассмотрим теперь роль религии в создании доменных связей, в частности сравним протестантизм, сыгравший громадную роль в рождении того типа, который называют «человеком Запада», и православие, католицизм. Несмотря на то что в первой части книги роль протестантизма в формировании социальной антропологии западного общества уже рассматривалась, проиллюстрируем ее в ином контексте.
Как уже отмечалось, на Западе протестантизм определил особую форму индивидуализма: человек, не уверенный в себе (поскольку не уверен в своем спасении), тем более не уверенный в окружающих, способный лишь надеяться и эту надежду подтверждающий неустанной деятельностью, стал совершенно одинок. Это не просто отчуждение от других, это и трансцендентное отчуждение от непостижимого Бога, что, в свою очередь, делает отчуждение людей друг от друга глубочайшим. Подобное мировоззрение и стало одним из краеугольных камней западного индивидуализма.
Иначе дело обстояло в православии, которое, напротив, продолжает древнюю традицию, понимая любовь к Богу и любовь друг к другу как максимальное преодоление отчуждения, как взаимопроникновение. Как говорит Иоанн Златоуст, «имеющий друга имеет другого себя». Фактически, замеченное Парсонсом диффузное и конкретное общение вполне осознавалось в православной традиции, и именно тип общения, определяемый как диффузный, признавался за христианскую добродетель. «Всякий внешний ищет моего, а не меня. Друг же хочет не моего, но меня. И апостол пишет: «Ищу не вашего, но вас» (2 Кор. 12, 14). Внешний домогается «дела», а друг — «самого» меня. Внешний желает твоего, получает из тебя, от полноты, т. е. часть, и часть эта тает в руках как пена. Только друг, желая тебя, каков бы ты ни был, получает в тебе всю полноту и богатеет ею. Получать от полноты — легко: это значит жить на чужой счет. И давать от полноты нетрудно. Получать же полноту трудно, ибо нужно сперва принять самого друга и в нем найти полноту, а друга нельзя принять, не отдав себя; давать же себя трудно», — читаем мы у Павла Флоренского [254].
Неудивительно, что столь кардинальное отличие в сфере религиозного мировоззрения привело по мере развития обществ к отличным формам их социальной организации. Доменная структура общества определяет чрезвычайную его стойкость перед лицом любых внешних культурных влияний. Специфическая черта современности заключается в том, что социальное одобрение и осуждение превратились в технологии, которыми успешно владеют те или иные элитарные группировки, воспитывая у людей нужные им стереотипы поведения. Индивидуум, атомарный, одинокий человек практически бессилен перед технологической мощью современных СМИ и иных инструментов технологического воздействия. Но наш соотечественник, член своего домена, более-менее защищен, ибо социальное одобрение он воспринимает в первую очередь как одобрение близких (членов домена). Именно их мнение, их одобрение и осуждение для него наиболее важно. К счастью, СМИ пока не научились проникать в ближний круг. И тут можно заметить необычайное явление, проявляющееся в нашей культуре, а именно разделение мнения, осознанной позиции и поступка, действия. Дело в том, что мнение по тому или иному вопросу часто вполне успешно формируется СМИ, а вот действие, поступок определяются социальными ожиданиями первичной группы, действующими обычно на бессознательном уровне, и эти социальные ожидания преимущественно исходят от членов домена. Такой человек, имея вполне определенные осознанные мнения, зачастую будет действовать наперекор им, в соответствии с социальными ожиданиями близких. Необходимо обратить внимание еще и на то, что сегодня социальные ожидания и мнения зачастую противоречат друг другу.
Дело в том, что основания, на которых складывается домен, обусловливаются культурно-историческими особенностями и коренным образом противоречит навязываемой культуре индивидуализма. И чем более во «внешнем» мире отношения людей становятся «нечеловеческими», жестокими, несправедливыми, чем более усиливается отчуждение в обществе, тем более домен консолидируется «крепостью духа» и крепостью культуры. В нашем обществе сегодня солидарность и справедливость в большей степени поддерживаются на уровне этой первичной группы — домена, который становится транслятором архетипов национальной культуры. Поэтому наш соотечественник не атомизиро-вался, не стал элементарным телом в пространстве (space), а остался частью организмически организованного космоса (по-гречески и мир, и порядок). В определенном смысле внешний, мировой космос-порядок отражает космос описываемой квазиобщины — домена.
Каковы же структура и порядок домена? Во-первых, домен организован. Это именно организмический (а не механический) порядок, в котором каждый его член «движется» по своей орбите, в сложном взаимодействии согласованной с орбитами других. Во-вторых, общность людей, включенных в домен, не может быть описана, как, например, сообщество равных (или неравных), структура частиц, подчиненных правилу (норме). Каждый в домене осознается и признается как самостоятельная, особая индивидуальность (не индивидуум). Но именно потому, что домен построен на основаниях диффузного, а не конкретного общения, его члены не могут быть уравнены и описываться терминами равенства (и неравенства соответственно), ибо говорить о равенстве (или неравенстве) можно по тому или иному определенному качеству. Если в сообществе любителей шахмат (собранному по принципам конкретного общения) можно ранжировать членов по уровню игрового мастерства, то в домене подобный подход не применим в принципе, как нельзя сравнивать белое и горячее, длинное и мягкое.
В-третьих, несмотря на вышесказанное, домен иерар-хичен, правда, по-особенному. Иерархия в домене устанавливается по принципу: «кто тянет, на том и едут». Но если в современном повседневном мире названная поговорка носит иронический оттенок, то в структуре домена подобные отношения вполне обоснованы, и их имеет смысл оценивать, учитывая вышеприведенные слова Флоренского: «Получать от полноты — легко: это значит жить на чужой счет. И давать от полноты нетрудно. Получать же полноту трудно, ибо нужно сперва принять самого друга и в нем найти полноту, а друга нельзя принять, не отдав себя; давать же себя трудно» [254]. Тот, кто больше дает, кто более в состоянии отдавать себя, тот и в состоянии больше получить, и он же в иерархии группы — домена занимает даже не высокое, а скорее центральное место, является ядром домена. Нормы подобного, диффузного общения напоминают нормы общения «духовный учитель — ученик» в православной монашеской традиции.
Необходимо отметить, что отношения в домене построены по принципам дара (отдаривания), а не эквивалентного обмена, и имеют, соответственно, те специфические черты, что присущи дару. Даримое в отличие от продаваемого всегда индивидуально, ибо не уравнено и тем не унифицировано меновой стоимостью. Даримое всегда непосредственно связано с дарителем, неотъемлемо от личности последнего. И даримое всегда связывает того, кто дарит, и того, кто принимает дар, ибо в отношении дара нет места этике «я оплатил и ничего никому не должен» (см. подробнее Панарин А. С. [186]). Так внутренний эрос домена противостоит танатосу навязываемой рыночной, меновой идеологии.
Таким образом, можно сказать, что в любом обществе социальные связи людей имеют как диффузный, так и конкретный характер. В западном обществе исторически сложилось так, что превалировал именно конкретный тип общения в ущерб диффузному. Именно его формы развивались, получали подкрепление в культуре, оговаривались системой норм. В то же время у нас сложилась обратная ситуация. Социально одобряемые, культурно поддерживаемые и воспроизводимые нормы делали именно диффузное общение нравственно оправданным, а конкретный тип связей хотя и признавался, но понимался в контексте нравственной ущербности, вульгарного потребительства, «иного». Если «свой», т. е. входящий в ближний круг, в домен, — более «свой», чем возможно в западной культуре, то «иной», тот с кем связывают лишь утилитарные интересы, — гораздо более «иной».
Акцент именно на конкретном общении на Западе стал одним из краеугольных камней, заложивших саму возможность феномена «гражданского общества», ибо гражданское общество по сути своей построено на принципах конкретного, утилитарного общения. Индивиды в нем объединяются согласно своим тем или иным частным интересам. В отечественной культуре диффузный тип общения стал основанием для формирования гражданственности как особого социального института, регулирующего отношения общества и власти.
Однако надо заметить, что неприятие утилитарного подхода в межчеловеческих отношениях в отечественном социуме определило неразвитость форм (ритуалов) конкретного общения, в том числе их слабость в установлении доверия между людьми. Организация же гражданской ассоциации западного типа, по определению основанная на утилитарном взаимном интересе, на принципах утилитарного, конкретного общения, требует отточенных, выверенных форм и нормативов и, как следствие, доверия между людьми. А его-то в утилитарных отношениях своего отечества мы как раз и не наблюдаем, что ставит преграду самой возможности развития гражданского общества западного типа в России, Беларуси и других странах постсоветского пространства. В то же время гражданские ассоциации, построенные на доменных основаниях с иерархической структурой, способны стать основой возрождения и развития института гражданственности как формы взаимоотношения общества и власти, выполнять функцию социального ресурса управляемости в обществе.
Гражданственность же как личное качество выступает базовой ролевой моделью этого института и как таковая представляет собой способность личности, вне зависимости от своего социального положения, взять на себя ответственность за проблемную ситуацию в обществе в сфере своего социального влияния.
4.4. Поведенческие стереотипы гражданственности
Возможность существования упорядоченного сообщества людей обусловлена тем, что люди отчуждают часть своей свободы в пользу институтов власти, организующих совместные действия и жизнь людей. Сегодня, говоря о необходимости гражданского общества, некоторые социологи и политологи считают, что подобное отчуждение есть тоталитаризм, подразумевая под властными институтами государственную власть. При этом они заявляют, что гражданское общество в лице ассоциаций (гражданских институтов), минимизируя государство, автоматически освобождает индивида из-под его власти, возвращает отчужденную у него свободу и тем самым обеспечивает всевозрастающую свободу граждан. Подобное утверждение несет в себе дух демократического романтизма 90-х годов ХХ в. и обычно используется в рамках идеологических компаний.
Вместе с тем мы видим, что на Западе существует (или как минимум существовало) «минимальное» государство и в то же время их общества не распадаются, а живут в системе налаженного социального порядка. Видимо, функции властвования, организации общества взяли на себя какие-то другие структуры. Согласно теории гражданского общества — это гражданские ассоциации и другие структуры гражданского общества. Тот факт, что эти структуры взяли на себя функции властвования, свидетельствует, что сам индивид отдает (отчуждает) свою свободу в их пользу. По существу оказалось, что гражданское общество вступает в отношения с государственной властью не ради самого индивида, а по поводу перераспределения власти (отчужденной свободы индивида), претендуя на его свободу.
Это не означает, что основой для претензий гражданского общества на власть является корыстный умысел. В массе своей инициативы гражданского общества имеют под собой убеждение, что гражданские ассоциации лучше распорядятся делегированной им свободой граждан, чем государство, и что социальный порядок, выстроенный на этой основе, будет более эффективным и гуманным. Но необходимо четко осознавать, что речь при этом идет не об освобождении индивида, а о перераспределении отчужденной свободы и, соответственно, о перераспределении власти.
Рассматривая в данном контексте возможность гражданского общества на отечественной почве, стоит обратиться к историческим основаниям генезиса как отечественного социума, так и западного, где, как считается, идеал триады «государство — гражданское общество — индивидуум» практически достигнут. Анализ глубоких исторических корней — это, по мнению Роберта Патнэма, «угнетающая находка для тех, кто считает переделку конституций и институтов реформы главным направлением политических изменений» [цит. по: 252, с. 68].
Проследим, как традиции феодальной иерархии на Западе в Новое время воплотились в систему иерархии самоуправления. Если раньше индивидуум отчуждал свою свободу в пользу феодала, сеньора, то сейчас этот сеньор сменился избранным органом, гражданской ассоциацией. Поскольку социальная иерархия на Западе складывалась через приватизацию власти, исторически сложившаяся система вассалитета привела к способности современного гражданина безболезненно делегировать часть своей свободы той ближайшей по иерархии гражданской ассоциации, к которой он принадлежит (кварталу, цеху, клубу, профсоюзу и т. д.).
В нашей истории традиции отношений индивидуума и государства складывались совершенно иным образом, а поэтому главной проблемой для становления гражданского общества в нашем отечестве является не перераспределение власти в пользу гражданского общества, а вопрос готовности нашего гражданина отдать часть своей свободы гражданской ассоциации. Стереотипы поведения западного гражданина допускают вмешательство местных общественных ассоциаций в личную жизнь гражданина, но отказывают в этом государству. Насколько приемлемо и желаемо подобно положение для нас? Именно неготовность граждан делегировать личную свободу общественным ассоциациям, на наш взгляд, и становится одной из преград в становлении гражданского общества в нашей стране.
Действительно, готов ли каждый из нас жить в общественной ассоциации типа домкома под руководством Швондера из известной булгаковской пьесы, постановлениями которого так называемое «гражданское общество» на уровне кондоминимума может наложить на вас штраф за курение на лестничной площадке; запретить посещение вашей квартиры «подозрительными», с точки зрения домкома, гостями; объявить ваш подъезд зоной трезвости и т. п.? Думается, что на это готов не каждый гражданин.
На наш взгляд, отношения индивида и власти (государство это или гражданская ассоциация), в чью пользу индивид отчуждает часть своей свободы, регламентируются во многом не столько законом, сколько культурной традицией. Отечественная традиция отношений индивидуума и государства за многие века сбалансировала их. Не зря замечено, что жестокость российских законов смягчается необязательностью их исполнения (фраза, приписываемая то Карамзину, то Салтыкову-Щедрину). Существует множество легитимных в общественном сознании способов ограничить поползновения власти на индивидуальную свободу, вплоть до прямого саботажа распоряжений власти. Более того, и само государство признает подобные действия как естественные и неизбежные. Понятно, что в отличие от государства контроль со стороны «гражданского сообщества», как правило, неизмеримо более тотален, что неоднократно подтверждалось в мировой истории. На Западе о подобных регулятивах, присущих нашему обществу, неизвестно, и как результат появляются литературные произведения западных авторов о тоталитаризме, вроде оруэл-ловского «1984» и мифы, в которых работник КГБ проживает на каждой лестничной клетке. К сожалению, мы сегодня мучаемся чужими страхами, опасаясь всевластия государства, которое как раз у нас, как говорят в народе, «где сядет, там и слезет», в то время как игнорируем реальные проблемы и трудности, связанные с возможностью функционирования гражданского общества в нашем отечестве.
Дело в том, что в культурной традиции западного мира выработаны свои формы и стереотипы отношений гражданина и гражданских ассоциаций, защищающие индивидуума от чрезмерного контроля и диктата гражданского общества (в частности, индивидуализм). Мы таких традиций не имеем и поэтому диктат гражданской ассоциации может у нас принять самые причудливые формы.
Поэтому, ратуя за «малое» государство в нашем отечестве, нельзя забывать, что, если при такой «минимальной» власти гражданин не захочет (что весьма вероятно) передать свою свободу различным формам гражданского общества, мы получим не стабильный социальный порядок по западному образцу, а анархию и хаос, которые мы наблюдали в недавнем прошлом у наших соседей в России и Украине, а сейчас — в Африке и на Ближнем Востоке. Ослабление государства в таком случае оборачивается не свободой в либеральном понимании, а волей и господством «гунна».
Усиленное тиражирование различных ассоциаций создает не гражданское общество, а его эрзацы, неспособные к принятию на себя реальной власти и ответственности. Потому количественный рост ассоциаций не является показателем укрепления и усиления гражданского общества в стране. Требование «минимального государства» в нашем обществе чревато хаосом и анархией. Ибо нет никаких гарантий, что освободившуюся область, требующую организации и управления, займут структуры гражданского общества.
В целях адекватного рассмотрения института гражданского общества необходимо прежде всего избавиться от взгляда на него как на совершенное благо, рай земной и величайшее достижение человечества. Необходимо рассматривать гражданское общество как исторически сформированные в рамках западной цивилизации нормы, регулирующие отношения человека и государства со всеми их плюсами и минусами.
В этом плане вполне понятно толкование западными учеными, и в частности Й. Хейзингой, этих отношений как gentlemen’s agreement (джентльменское соглашение). Й. Хейзинга, обратив внимание на игровой принцип человеческой деятельности, вывел из игры основания всей человеческой культуры. Игру он определил как «добровольное поведение или занятие, которое происходит внутри некоторых установленных границ места и времени согласно добровольно взятым на себя, но безусловно обязательным правилам с целью, заключающейся в нем самом; сопровождаемое чувствами напряжения и радости, а также ощущением «инобытия» в сравнении с «обыденной жизнью» [261, с. 45]. Чем больше в жизни и деятельности народа (общества) элементов игры, тем он более развит и имеет более высокий уровень культуры. «Культура все еще хочет, чтобы ее в некотором смысле играли — по взаимному соглашению относительно определенных правил. Подлинная культура требует всегда и в любом отношении fair play (честной игры. — В. С.), а fair play есть не что иное, как выраженный в терминах игры эквивалент добропорядочности» [261, с. 200].
В связи с этим Й. Хейзинга обращает внимание на способность игры устанавливать порядок, упорядочивать свое время и место. Он пишет, что внутри игрового пространства господствует присущий только ему совершенный порядок: «В этом несовершенном мире, в этой сумятице жизни она (игра. — В. С.) воплощает временное, ограниченное совершенство. Порядок, устанавливаемый игрой, непреложен» [261, с. 29].
Но в любой культуре есть не только игра и порядок, но и серьезность, нарушающая правила игры, создающая беспорядок. Хейзинга считает, что дихотомия «игра — серьезность» подвижна, не абсолютна. Игра ограничивает рамки серьезности, а серьезность налагает пределы игре. Но что значит «серьезность»? Нужно сказать, что взгляд Хейзинги на значимость игры и серьезности в культуре неоднозначен. Он сам признавался, что анализ игрового содержания современного общества изменил его точку зрения. Если в начале работы, анализируя средневековье и традиционные культуры, он считал, что игра может быть серьезной, а серьезность является своеобразной игрой, то в конце он сделал вывод, что «тот, у кого голова пойдет кругом от вечного обращения понятий игра — серьезное, найдет точку опоры, взамен ускользнувшей в логическое, если вернется в этическое» [261, с. 202], т. е. что серьезное, нравственное, есть нечто внешнее, недоступное и ограничивающее игру.
Так в чем же проблема дихотомии «игра — серьезное» (порядок — нарушение порядка)? Дело в том, что, по Хейзинге, игра лежит вне сферы нравственного. Нравственное, этическое — это уже не игра, это серьезное. Но если быть последовательным и сводить сущность культуры к игре, то логично прийти к выводу, что культура как игра лежит вне нравственного, вне добра и зла.
Думается, что это противоречие у Хейзинги не случайно. Акцентируя внимание на игровых аспектах культуры, он мыслит ее в рамках именно западной цивилизации, и в рамках логики европоцентризма приписывает это видение культуры человечеству в целом. Тот факт, что именно Запад довел самоощущение культуры как игры до своего крайнего, экстремального предела, и обусловил, на наш взгляд, мировоззренческое ядро теории Хейзинги.
Но почему он вывел нравственное за пределы культуры? Что такое нравственное в данном случае? Воплощение нравственного в культуре — это святыни, священные символы, со всей серьезностью вторгающиеся в сферу правил и норм и подминающие под себя правила игры. Когда на ту или иную сферу человеческих отношений падает свет священного, серьезного, нравственного, правила игры и устанавливаемый ими порядок теряют всякий смысл. Но сегодня Запад уже не может себе позволить вмешательства священного и серьезного, поэтому кроме правил игры во всех сферах деятельности никаких других опор у него вовсе и не осталось.
Серьезность в западной культуре разрушалась постепенно. Особую роль в этом процессе сыграла эпоха Просвещения. Вольтер, Руссо и другие просветители упорно и эффективно разрушали наличные священные символы, заменяя их другими. Достаточно вспомнить «религию разума». Но вскоре и эти символы разрушились и сменились новыми. В данном случае дурную услугу оказало Западу то, чем он всегда гордился. А именно высокий темп технологических и социальных изменений, бесконечный цивилизационный прогресс. По причине быстрой смены святыни ветшали, истончались, их воздействие ослабевало, пока они и вовсе не превратились в тени. На смену бывшей серьезности пришло «правовое общество» как высший общественный идеал, основанный на абсолютных, священных правилах игры в политике, экономике, науке и др.
Но универсализация правил игры есть результат абсолютизации рационального, что в конечном счете приводит к абсолютной несвободе. Только дух человеческий, постоянно утруждающий себя свободным выбором между добром и злом под сенью нравственных маяков и святынь, позволяет человеку утверждать свою свободу.
Можно ли жить только по правилам игры, рационально? И в этом ли заключается сущность и предназначение человека? Человек есть существо нравственное. А это значит, что источником нравственного в человеке являются высшие ценности, святыни, священные символы, и в пределе своем — Бог. Не всем Бог доступен, но для каждого он доходит через священные символы: канонизированных святых, героев, понятие Родины, «отеческих гробов» и др. Так каждое поколение видит Бога. Даже когда, при господствующем в нашей стране атеистическом мировоззрении, Бога как бы не признавали, священные символы оставались. Если пропадают в культуре священные символы, то истощается человеческое Я, и тем больше появляется места для внешних правил и условий игры, для манипуляции этим Я. Вообще, надо заметить, что все попытки рациональной парадигмы объяснить человека «снизу», с элементарных естественных оснований (биологических, игровых или экономических) в конечном счете терпят неудачу, поскольку человеческая сущность всегда оставалась за пределом самых утонченных рациональных конструкций. По большому счету сущностное в человеке, самое сокровенное всегда оставалось вне рационального объяснения и понимания.
Человека можно объяснить и оправдать только «сверху». Свет священного и есть свет его души. Только благодаря высшим священным символам человек имеет основания для различения добра и зла и потому способен иногда быть серьезным в мире игры. Как сказал Платон: «Взирая на Бога и взволнованный этим, сказал я эти слова. Если тебе угодно, не будем считать наш род ничтожным, но достойным некоторой серьезности» [цит. по: 261, с. 201]. Истончая и оскопляя священное, человек оскопляет и собственный дух. Так человек западной культуры, уничтожив священное в мире горнем, «убив Бога», убил и свой дух. Ему остались только правила игры и сама игра.
Вернемся к социальному порядку, идеально воплощенному в «правовом обществе» или «правовом государстве» как политической системе. Надо помнить, что основным «атомом» современной системы права является договор. Договор понимается как простейшая правовая норма. Западная общественная система, сводя многообразие человеческих отношений к отношениям договора, по существу сводит их к игре, ибо что есть игра как не совокупность правил, норм и договоров. Gentlemen’s agreement (джентльменское соглашение) есть «атом» игры и одновременно «атом» системы права. Однако повторимся: абсолютизация права, абсолютизация игры есть изгнание серьезного, нравственного, священного, т. е. того, что собственно и может быть единственным оправданием существования человека. Не зря человек западной культуры с таким иррациональным предубеждением выступает против любой возможности вмешательства священной целесообразности в правила игры. Эту игровую сущность западной цивилизации и подметил Хейзинга. А европоцентризм заставил его распространить свой подход на все человечество.
Конечно, трудно возразить тому факту, что во всех человеческих обществах присутствуют игровые элементы. Но их значение в разных культурах принципиально отлично. И тут стоит поговорить о цивилизации, к которой принадлежим мы — россияне, белорусы, украинцы и все те, кто живет на постсоветском пространстве. По словам Хейзенги о том, что «подлинная культура требует всегда и в любом отношении «fair play» (честной игры)», становится понятно, почему Запад всегда отказывал нашим народам в подлинной культуре, цивилизованности, обвиняя в варварстве и невежестве. В отличие от западной игровой культуры правила игры в нашей восточнославянской культуре всегда готовы уступить место авторитету священного, и потому каждое действие протекает в ситуации конфликта правил игры и нравственного настояния.
Эта вечная дихотомия и определяет специфику восточнославянской культуры в отличие от западной. Когда священное, серьезное в крайних обстоятельствах с особой силой поднимается в народном сознании, отказ от игровых правил, устоявшегося порядка, а также того, что называется гражданскими правами, или правами человека, достигает особенной остроты. Стоит вспомнить монолог князя Андрея Болконского из романа «Война и мир». «… Не брать пленных, — продолжал князь Андрей. — Это одно изменило бы всю войну и сделало бы ее менее жестокой. А то мы играли в войну — вот что скверно, мы великодушничаем и тому подобное. Это великодушничанье и чувствительность — вроде великодушия и чувствительности барыни, с которой делается дурнота, когда она видит убиваемого теленка; она так добра, что не может видеть кровь, но она с аппетитом кушает этого теленка под соусом. Нам толкуют о правах войны, о рыцарстве, о парламентерстве, щадить несчастных и так далее. Все вздор. Я видел в 1805 году рыцарство, парламентерство: нас надули, мы надули. Грабят чужие дома, пускают фальшивые ассигнации, да хуже всего — убивают моих детей, моего отца и говорят о правилах войны и великодушии к врагам. Не брать пленных, а убивать и идти на смерть! Кто дошел до этого так, как я, теми же страданиями. Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни, и надо понимать это и не играть в войну. Надо принимать строго и серьезно эту страшную необходимость» [238, с. 220].
В словах толстовского героя с полной ясностью обнажается стремление к отказу от любых правил игры, от любого gentlemen’s agreement в присутствии серьезного под сенью священных символов — Родина, отечество, долг, память предков и др. Потому бессмысленны вздохи современных гуманистов, пытающихся судить наших предков за деяния жестокие, нарушающие законы и «права человека». Людям, не ощущающим, не чувствующим, не переживающим эту высокую серьезность, невозможно понять относительность и ничтожность всяких игр и правил. В подчиненности любых правил нравственным и священным символам и есть особая, ни на что не похожая свобода человека нашей культуры. Это и есть свобода, которая позволяет ему преступать любые границы, преодолевать невозможное, нарушая установленный порядок, проявлять свое истинное величие.
Вне света священного эта свобода была бы свободой зверя, а под сенью его она есть тяжелый труд и ответственность. Примеряя образцы западной культуры к нашей жизни, преклоняясь перед простым миром Запада, где любой шаг понятен, поскольку он определяется четкими правилами и нормами, где дорожки расчерчены, а праведность определяется соблюдением соглашений, некоторые отечественные гуманитарии обращают свой научный интерес преимущественно на правила и порядок в соблюдении «честной игры». На наш взгляд, порядок в обществе — лишь часть, притом незначительная, тех социальных преобразований, которые должны осуществляться в социуме. Главное для людей нашей культуры в ситуации незавершенного социального порядка — не потерять в душе царство священного, серьезного. Ибо в пространстве духа, не огороженном заборами и перильцами, не расчлененном дорожками правил и указаний, единственным ориентиром становятся святыни, и духовный путь возможен только посредством постоянной сверки каждого своего шага со священными маяками души.
Сам факт наведения порядка и подчинения правилам честной игры вне священных символов и душевной работы равносилен отпущению на свободу зверя. Ибо если наш соотечественник с огнем высокого в душе велик, то он же, презирающий правила и не имеющий ориентиров свыше, страшен. Свобода в данном случае есть свобода от святынь (от Бога, Родины, отчизны, долга и т. п.).
Все это позволяет сделать вывод, что проблема «игра — серьезное», поставленная Й. Хейзингой, оказалась чрезвычайно актуальной и требующей серьезного аналитического пересмотра для любого общества, народа, культуры, и в частности для россиян и белорусов. Как осуществлять социальные реформы, наводить порядок, улучшать жизнь людей, не превратив их в простые шахматные фигурки на игровом поле, теряющие координаты при первой же внезапной ломке правил игры, а сохранить их способность к духовной и социальной жизнестойкости? Единственный выход — ориентируясь на духовные святыни, священные символы, традиции и память предков, используя при этом политические, технологические, эстетические и прочие игры, оставаться самими собой, способными к истине и состраданию. Й. Хейзинга, в конце своего труда соглашаясь с этой идеей, по существу отходит от универсализации игровой теории культуры. Он пишет: «Если, однако, человеку предстоит решить, предписано ли ему действие, к которому влечет его воля, как нечто серьезное — или же разрешено как игра, тогда его нравственное чувство, его совесть незамедлительно предоставит ему должный критерий. Как только в решении действовать заговорят чувства истины и справедливости, жалости и прощения, вопрос лишается смысла. Капли сострадания довольно, чтобы возвысить наши поступки над различениями мыслящего ума. Во всяком нравственном сознании, основывающемся на признании справедливости и милосердия, вопрос «игра — или серьезное», так и оставшийся нерешенным, окончательно умолкает» [261, с. 202].
Заключение
В монографии мы хотели подчеркнуть специфику форм гражданской самоорганизации как необходимого ресурса управляемости и поддержания социального порядка. Государственная власть в принципе не способна осуществлять адекватное управление при отсутствии гражданской самоорганизации. Однако она может осуществляться в разных формах, и гражданское общество — лишь одна из возможных.
В западной цивилизации государственные институты и общественные ассоциации складывались в условиях господства конкурентной этики, индивидуализма (обусловленного историческими условиями), войны всех против всех, постепенно упорядочивающейся нормами римского права, относительной слабости центральной власти. В Новое время с появлением автономной рациональной бюрократии возникает проблема управляемости обществом. Поскольку возможности строительства управленческой вертикали ограничены, на Западе эта проблема была решена в рамках институтов «гражданского общества», выросших из коммунальных движений феодальной эпохи. Гражданское общество дополнило бюрократическую вертикаль, гарантируя управляемость общественного организма, осуществляя периферическое управление, организуя и легитимизируя автономию общества от власти.
В рамках восточнославянской цивилизации, частью которой является и Беларусь, вычленение власти из общества, появление автономной бюрократии произошло гораздо позже, чем на Западе. Достаточно массовая бюрократия в Российской империи появляется только в середине XIX в. Более того, относительная бедность государства не позволила ему сравниться с западным миром ни по численности бюрократии, ни по уровню ее обеспечения. Тем более острой стала проблема социального порядка и управляемости обществом. Ее решением стал неформальный социальный институт и определенный тип индивидуального поведения в условиях типического отношения личности, общества и государства, определяемый как «гражданственность».
В отличие от общепринятой точки зрения в монографии гражданственность рассматривается двояким образом: и как способность человека выполнять определенную роль в рамках институциализированных отношений (в этом смысле можно говорить о гражданственности как качестве личности), и как социальный институт. С помощью норм, правил, нормативных ролей и статусов институт гражданственности, по нашему мнению, упорядочивает отношения между властными институтами и обществом и согласовывает интересы власти (автономной управленческой иерархии) с общественным благом. В этом смысле гражданственность есть социальный институт, также обеспечивающий управляемость обществом на уровне самоорганизации, но, в отличие от гражданского общества, за счет преодоления взаимной автономии общества и власти. Гражданственность в данном случае выступает в виде социального ресурса управляемости обществом и сохранения порядка в обществе.
В монографии доказывается, что если в основе института гражданского общества классического образца лежит субсидиарная идеология, основанная на примате частных интересов, то условием существования института гражданственности является господство в обществе коммунитарных принципов жизнеустройства. Согласно им, частные интересы граждан легитимны постольку, поскольку они не идут вразрез с общим интересом, выражающимся в определенной системе общепринятых ценностей, норм и идеалов. И в том, и в другом случае источником власти является народ, однако в рамках субсидиарной идеологии он делегирует определенные права вышестоящим органам по иерархии от низших к высшему, в коммунитарной же модели — народ принимает или, наоборот, отказывает в доверии целостному комплексу представлений, ценностей, идеалов и норм, придающему, в свою очередь, легитимность всей властной иерархии.
Следствием таких представлений, по нашему мнению, являются унитарные отношения власти, где верховная власть получает легитимность сверху — системой общепринятых ценностей и идеалов, позволяющей ей легитимизировать низшие уровни власти, делегируя им права, необходимые для выполнения соответствующих обязанностей.
Социологические исследования показали, что отношения общества и власти в Беларуси не могут быть описаны в рамках понятийного аппарата классического (западного) гражданского обществ. Несмотря на то что отношения общества и власти иногда принимают формы, внешне подобные гражданским движениям Запада, их социальнокультурные основания различны. Гражданское общество и гражданственность как формы взаимоотношения общества и власти, выступая носителями различных институциональных матриц, определяют природу и характер самодеятельных организаций, присущих либо западному, либо восточнославянскому обществам. В обществе, построенном на субсидиарной основе (в котором только и возможно гражданское общество классического образца), субъекты, выступающие в сфере публичной политики от лица тех или иных социальных групп (партии, движения, ассоциации, инициативные группы и т. п.), не только могут, но и должны провозглашать свою приверженность частному (групповому как слагаемому частных) интересу этих групп. На этом зиждется их легитимность в политической сфере. В обществе же коммунитарного типа субъекты публичнополитического пространства (те же партии и др.), наоборот, утверждают свою легитимность через апелляцию к общему благу, и, более того, подозрение в преследовании частных и групповых интересов становится серьезным обвинением в глазах общественного мнения.
На постсоветском пространстве ассоциации, общественные организации, будучи, с одной стороны, важнейшими институциями в плане проявления гражданского чувства, гражданской активности и гражданской позиции, с другой, совершенно отличны по своим сущности и содержанию от классических гражданских ассоциаций Запада. Как и самоуправляющиеся земские и губные органы средневековой Московии, земские органы Российской империи, общественные организации советского периода представляли не частный интерес граждан, а интерес общий, выступая либо как общественное, гражданское продолжение властных иерархических цепочек, либо, в определенных случаях («общественность» XIX в., неформальные «кухонные» ассоциации интеллигенции советского времени), как решительная оппозиция к ним, защищающая опять же не частный интерес той или иной группировки, а выступающая с альтернативным проектом общего блага.
Предложенная концепция позволяет, на наш взгляд, обозначить конфигурацию тех институциональных преобразований, которые способны обеспечить создание ценностно-организационной системы внедрения провозглашенных и законодательно обозначенных норм и правил института гражданского общества в практику гражданской самодеятельности на периферийном уровне.
Данные преобразования, с одной стороны, позволяют выявить и легитимизировать исторически сложившиеся в социуме нормы, роли, ценности и предпочтения самоорганизующихся субъектов, с другой, через сознательно проектируемые ролевые структуры, выполняемые ими функции обеспечить возможность внедрения некоторых норм и правил института гражданского общества в повседневную, социально-организованную деятельность гражданских ассоциаций, складывающихся по культурно-исторически сформированным традиционным образцам.
Литература
1. Абашидзе, А. Х. Неправительственные организации: международно-правовые аспекты: учеб. пособие / А. Х. Абашидзе, Д. А. Урсин; под ред. А. Х. Абашидзе. — М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2002. — 159 с.
2. Августин Блаженный. Творения: в 4 т. / Августин Блаженный. — СПб.: Алетейя, 1998. — Т. 3: О граде Божием (книги I–XIII). — 596 с.
3. Аверинцев, С. С. Другой Рим: Избранные статьи / С. С. Аверинцев. — СПб.: Амфора, 2005. — 366 с.
4. Авинери, Ш. Партии, социально-культурная медиация и роль гражданского общества / Ш. Авинери // Полис. — 1994. — № 1. — С. 141–147.
5. Авцинова, Г. И. Гражданское общество в России: проблемы и перспективы / Г. И. Авцинова // Власть. — 2001. — № 2. — С. 25–28.
6. Авцинова, Г. И. Социально-правовое государство: сущность, особенности становления / Г. И. Авцинова // Соц. — гуманитар. знания. — 2000. — № 3. — С. 90–104.
7. Адриянов, В. М. Гражданское общество: от европейской модели к русской ментальной традиции / В. М. Адриянов // Социокультурные проблемы политической власти в России: тез. докл. и выступлений участников Рос. науч. — теорет. конф. «Россия на пути к свободе: общество — государство — демократия», Челябинск, 27–28 апр. 1993 г. / Челяб. гос. пед. ин-т; ред. И. Б. Остаркова. — Екатеринбург, 1993. — Ч. 3. — С. 32–35.
8. Алмонд, Г. Гражданская культура и стабильность демократии / Г. Алмонд, С. Верба // Полис. — 1992. — № 4. — С. 122–134.
9. Антоний VI. Грамота к Великому князю Василию Дмитриевичу с известием о мерах, принятых против непокорных Митрополиту новгородцев и с укоризною за неуважение к Патриарху и Царю / Антоний VI // Восточная литература: средневековые исторические источники Востока и Запада [Электронный ресурс]. — 2001–2010. — Режим доступа: -1400/ Antonij_IV/1393.htm. — Дата доступа: 20.05.2010.
10. Арато, Э. Концепция гражданского общества: восхождение, упадок и воссоздание — и направления для дальнейших исследований / Э. Арато // Полис. — 1995. — № 3. — С. 48–57.
11. Аристотель. Политика / Аристотель // Антология мировой философии: в 4 т. / Акад. наук СССР, Ин-т философии. — М., 1969. — Т. 1, 4. 1. — С. 465–475.
12. Археографический обзор // Переписка Ивана Г розного с Андреем Курбским. — Л., 1979. — С. 250–351.
13. Бабосов, Е. М. Гражданское общество: концептуализация понятия / Е. М. Бабосов // Проблемы и перспективы становления гражданского общества: материалы Междунар. науч. — практ. конф., Могилев, 20–21 мая 2010 г.: в 2 ч. / Могилев. гос. ун-т продовольствия; редкол.: Ю. М. Бубнов (отв. ред.) [и др.]. — Могилев, 2010. — Ч. 1. — С. 9–13.
14. Бабосов, Е. М. Основы идеологии современного государства / Е. М. Бабосов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Минск: Амалфея, 2007. — 480 с.
15. Бабосов, Е. М. Социально-стратификационная панорама современной Беларуси / Е. М. Бабосов; НАН Беларуси, Ин-т социологии и соц. технологий. — Минск: ФУАинформ, 2002. — 360 с.
16. Байбаков, Н. К. Сорок лет в правительстве / Н. К. Байбаков. — М.: Республика, 1993. — 317 с.
17. Батяев, В. Ф. Развитие белорусских общественных объединений в XIX — 20-е годы XX века. Этнологическое исследование / В. Ф. Батяев; под науч. ред. А. И. Локотко; Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора НАН Беларуси. — Минск: Право и экономика, 2007. — 381 с.
18. Бауман З. Индивидуализированное общество / З. Бауман — М.: Логос, 2002. — 390 с.
19. Беларусь: выбор пути. Национальный отчет о человеческом развитии, 2000 / А. В. Богданович [и др.]. — Минск: Представительство ООН/ПРООН в Респ. Беларусь, 2000. — 121 с.
20. Белик, А. А. Культурология. Антропологические теории культур / А. А. Белик; Рос. гос. гуманитар. ун-т. — М.: Изд. Центр РГГУ, 1999. — 238 с.
21. Белинский, В. Г. Письмо В. П. Боткину, 1 марта 1841 г. / В. Г. Белинский // Полн. собр. соч.: в 13 т. / В. Г. Белинский; Акад. наук СССР. — М., 1953–1959. — Т. 12. — 1956. — С. 22–29.
22. Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования: пер с англ. / Д. Белл. — М.: Academia, 1999. — 788 с.
23. Бергер, П. Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман; пер. Е. Руткевич. — М.: Медиум [и др.], 1995. — 323 с.
24. Бердяев, Н. Философская истина и интеллигентская правда / Н. Бердяев // Philosophy.ru: филос. портал [Электронный ресурс]. — 2007. — Режим доступа: . — Дата доступа: 20.05.2010.
25. Библер, В. С. На гранях логики культуры: кн. избр. очерков / В. С. Библер. — М.: Рус. феноменол. о-во, 1997. — 440 с.
26. Бляхман, Б. Я. Гражданское общество: теоретическая конструкция или практическая реальность / Б. Я. Бляхман // Вестн. Моск. гос. унта. Сер. 18, Социология и политология. — 2005. — № 4. — С. 32–49.
27. Бовш, В. И. Предпосылки и условия развития гражданского общества в Беларуси / В. И. Бовш // К 10-летию образования Содружества Независимых Государств: итоги и перспективы: материалы круглого стола, Минск, 18 дек. 2001 г. / Ин-т соц. — полит. исслед. при Администрации Президента Респ. Беларусь; под ред. Е. В. Матусевича. — Минск, 2002. — С. 129–145.
28. Болл, Т. Власть / Т. Болл // Полис. — 1993. — № 5. — С. 36–42.
29. Брагина, Е. Фукуяма и другие о проблемах экономического отставания и институтах / Е. Брагина // Мировая экономика и между-нар. отношения. — 2010. — № 3. — С. 122–128. — Рец. на кн.: Falling behind. Explaining the development gap between Latin America and the United States / F. Fukuyama [et al.]. — Oxford [et al.]: Oxford Univ. Press, 2008. — XIV, 312 p.
30. Бредли, Д. Общественные организации и развитие гражданского общества в дореволюционной России / Д. Бредли // Обществ. науки и современность. — 1994. — № 5. — С. 77–89.
31. Будон, Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения / Р. Будон; пер. с фр. М. М. Кириченко. — М.: Аспект Пресс, 1998. — 283 c.
32. Бурдье, П. Социология политики: пер. с фр. / П. Бурдье; сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко. — М.: Socio-Logos, 1993. — 336 с.
33. Бущик, В. В. Человек и общество в условиях социально-политических преобразований / В. В. Бущик. — Минск, 1999. — 263 с. — (Прил. к журн. «Право и экономика»).
34. Бэттлер, А. Диалектика силы: онтобия / А. Бэттлер. — М.: Едиториал УРСС, 2005. — 316 с.
35. Валла, Л. Об истинном и ложном благе. О свободе воли / Л. Валла; пер. с лат.: В. А. Андрушко [и др.]. — М.: Наука, 1989. — 476 с.
36. Варывдин, В. А. Гражданское общество / В. А. Варывдин // Соц. — полит. журн. — 1992. — № 8. — С. 22–31.
37. Васильчук, Ю. А. Гражданское общество эпохи НТР // Полис. — 1991. — № 4. — С. 4–20.
38. Вебер, М. Избранное. Образ общества: пер. с нем. / М. Вебер. — М.: Юрист, 1994. — 704 с.
39. Вебер, М. Избранные произведения / М. Вебер // Библиотека Гумер — гумманитарные науки [Электронный ресурс]. — Режим доступа: . — Дата доступа: 20.05.2010.
40. Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер // Избранные произведения / М. Вебер. — М.: Прогресс, 1990. — С. 44–344.
41. Вейдле, В. Задача России: место России в истории европейской культуры / В. Вейдле. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. — 238 с.
42. Виленский, А. В. Российские объединения малых предпринимателей как институт гражданского общества / А. В. Виленский // Обществ. науки и современность. — 2005. — № 1. — С. 59–68.
43. Витюк, В. В. Становление идеи гражданского общества и ее историческая эволюция / В. В. Витюк; Рос. акад. наук, Ин-т социологии. — М.: ИС РАН, 1995. — 92 с.
44. Волков, В. А. Войны и войска Московского государства (конец XV — первая половина XVII вв.) / В. А. Волков. — М.: Эксмо, 2004. — 572 с.
45. Волков, В. В. Общественность: забытая практика гражданского общества / В. В. Волков // Pro et Contra. — 1997. — Т. 2, № 4. — С. 77–91.
46. Волков, В. В. Политэкономия насилия, экономический рост, консолидация государства / В. В. Волков // Вопр. экономики. — 1999. — № 10. — С. 44–59.
47. Володин, А. Г. Гражданское общество и модернизация в России (Истоки и современная проблематика) / А. Г. Володин // Полис. — 2000. — № 3. — С. 104–116.
48. Володин, А. Г. Смена парадигмы: гражданское общество и политика в России / А. Г. Володин // Полис. — 1998. — № 6. — С. 92–102.
49. Володихин, Д. М. [Рецензия] / Д. М. Володихин // Вопр. истории. — 1995. — № 8. — С. 165–167. — Рец. на кн.: Дворниченко, А. Ю. Русские земли Великого княжества Литовского. Очерки истории общины, сословий, государственности (до начала XVI в.) / А. Ю. Дворниченко. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 1993. — 240 с.
50. Вопросы демократии. Некоммерческий сектор: партнер в условиях гражданского общества // ЮСИА. — 2003. — № 2. — 37 с.
51. Воробьев, А. М. Средства массовой информации как фактор формирования гражданского общества: процесс, тенденции, противоречия / А. М. Воробьев. — Екатеринбург: Изд-во Урал. юрид. ин-та МВД России, 1998. — 183 с.
52. Ворожейкина, Т. Е. Государство и общество в России: исчерпание государствоцентричной матрицы развития / Т. Е. Ворожейкина // Полис. — 2002. — № 4. — С. 60–65.
53. Гаджиев, К. С. Концепция гражданского общества: идейные истоки и основные вехи формирования / К. С. Гаджиев // Вопр. философии. — 1991. — № 7. — С. 19–35.
54. Гайденко, П. П. Эволюция понятия науки: становление и развитие первых научных программ / П. П. Гайденко. — М.: Наука, 1980. — 568 с.
55. Гаман-Голутвина, О. В. Политические элиты России: вехи исторической эволюции / О. В. Гаман-Голутвина. — М.: Интеллект, 1998. — 415 с.
56. Гараджа В. И. Протестантизм / В. И. Гараджа. — М.: Политиздат, 1971. — 200 с.
57. Гегель, Г. В. Философия права: пер. с нем. / Г. В. Гегель; ред. и сост. Д. А. Керимов и B. C. Нерсесянц. — М.: Мысль, 1990. — 524 с.
58. Геллнер, Э. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники / Э. Геллнер. — М.: Ad Marginem, 2004. — 240 с.
59. Гидденс, Э. Социально ориентированное государство в современном европейском обществе / Э. Гидденс // Социология. — 2007. — № 3. — С. 14–23.
60. Гидденс, Э. Устроение общества: очерк теории структурации / Э. Гидденс; пер с англ. И. Тюриной. — М.: Акад. проект, 2003. — 525 с.
61. Глинка, Я. В. Одиннадцать лет в Государственной думе. 19061917: дневник воспоминаний / Я. В. Глинка; вступ. ст., подгот. текста, биогр. слов. и коммент. Б. М. Витенберга. — М.: Новое лит. обозрение, 2001. — 393 с.
62. Гоббс, Т. Избранные произведения: в 2 т. / Т. Гоббс. — М.: Мысль, 1964. — Т. 1. — 583 с.
63. Голенкова, З. Т. Гражданское общество в России / З. Т. Голенкова // Социс. — 1997. — № 3. — С. 25–36.
64. Гончаров, Д. В. По ту сторону «негражданственности» / Д. В. Гончаров // Полис. — 2002. — № 5. — С. 34–42.
65. Готье Ю. Замосковный край в XVII в. / Ю. Готье. — М.: Типография Г. Лисснера и Д. Собко, 1906. — 595 с.
66. Гражданские инициативы и будущее России: науч. — метод. изд. / под общ. ред. М. И. Либоракиной, В. Н. Якимца. — М.: Шк. культур. политики, 1997. — 152 с.
67. Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г.: одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г.: с изм. и доп. по состоянию на 10 февр. 2003 г. — 3-е изд., изм. и доп. — Минск: Нац. центр правовой информации Беларуси, 2003. — 620 с.
68. Гражданское общество в России: западная парадигма и российская реальность: сб. ст. / Ин-т мировой экономики и междунар. отношений Рос. акад. наук; отв. ред. К. Г. Холодковский. — М.: ИМЭМО РАН, 1996. — 139 с.
69. Гражданское общество в России: проблемы самоопределения и развития: материалы науч. конф., Москва, 7 дек. 2000 г. / Ин-т федерализма и гражд. о-ва; редкол.: Б. И. Коваль (отв. ред.) [и др.]. — М.: Соверо-Принт, 2001. — 143 с.
70. Гражданское общество в России: структуры и сознание / отв. ред. К. Г. Холодковский. — М.: Наука, 1998. — 254 с.
71. Гражданское общество: истоки и современность / И. И. Кальной [и др.]; науч. ред.: И. И. Кальной, И. Н. Лопушанский. — 2-е изд., доп. — СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. — 301 с.
72. Гражданское общество: истоки и современность / И. И. Кальной [и др.]. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Изд-во Р. Асланова: Юрид. центр Пресс, 2006. — 490 с.
73. Гражданское общество: мировой опыт и проблемы России / А. Г. Володин [и др.]; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений Рос. акад. наук. — М.: Эдиториал УРСС, 1998. — 311 с.
74. Грамши, А. Избранные произведения: в 3 т. / А. Грамши. — М.: Изд-во иностр. лит., 1959. — Т. 3: Тюремные тетради. — 565 с.
75. Грачев, А. Кремлевская хроника / А. Грачев. — М.: Эксмо, 1994. — 416 с.
76. Гроций, Г. О праве войны и мира / Г. Гроций; пер. с лат. А. Л. Саккетти. — М.: Госюриздат, 1960. — 734 с.
77. Грушин, Б. А. Массовое сознание / Б. А. Грушин. — М.: Изд-во политической литературы, 1987. — 368 с.
78. Гуревич, П. С. Философия человека / П. С. Гуревич // PSYLIB: самопознание и саморазвитие: психол. б-ка Киев. фонда содействия развитию психол. культуры [Электронный ресурс]. — 2000–2010. — Режим доступа: . — Дата доступа: 20.05.2010.
79. Гурко, В. И. Царь и царица / В. И. Гурко; сост., вступ. ст., ком-мент. В. М. Хрусталева. — М.: Вече, 2008. — 344 с.
80. Даль, Р. А. Проблемы гражданской компетентности / Р. А. Даль // Век XX и мир. — 1994. — № 7/8. — С. 164–182.
81. Данилевский, Н. Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому / Н. Я. Данилевский. — М.: Эксмо: Алгоритм, 2003. — 638 с.
82. Данилов, А. Н. Социология власти: теория и практика глобализма / А. Н. Данилов. — Минск: Университетское, 2001. — 447 с.
83. Данилова, Л. В. Место общины в системе социальных институтов / Л. В. Данилова // Тез. докл. и сообщ. XIV сессии межреспубл. симпозиума по аграрной истории Восточной Европы, Минск-Гродно, 2529 сент. 1972 г.: в 2 вып. / Отд-ние истории Акад. наук СССР, Ин-т истории СССР, Ин-т истории Акад. наук БССР. — М., 1972. — Вып. 2. — С. 173–177.
84. Дарендорф, Р. Дорога к свободе: демократизация и ее проблемы в Восточной Европе / Р. Дарендорф // Вопр. философии. — 1990. — № 1. — С. 74–88.
85. Дарендорф, Р. От социального государства к цивилизованному обществу / Р. Дарендорф // Полис. — 1993. — № 5. — С. 31–35.
86. Дашков, С. Б. Императоры Византии / С. Б. Дашков. — М.: Издательский дом «Красная площадь»; «АПС-книги», 1996. — 370 с.
87. Дилигенский, Г. Г. Что мы знаем о демократии и гражданском обществе? / Г. Г. Дилигенский // Pro et Contra. — 1997. — Т. 2, № 4. — С. 5–21.
88. Дильтей, В. Воззрение на мир и исследование человека со времен Возрождения и Реформации. Постижение и исследование человека в XV и XVI веках / В. Дильтей // Библиотека РОСТ-ФОНД [Электронный ресурс]. — Режим доступа: . htm. — Дата доступа: 20.05.2010.
89. Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии / Дионисий Арео-пагит // Исихазм — сердце церкви [Электронный ресурс]. — Режим доступа: . — Дата доступа: 20.05.2010.
90. Дубенецкий, С. Ф. Гражданское общество / С. Ф. Дубенецкий // Социологическая энциклопедия / под общ. ред. А. Н. Данилова. — Минск, 2003. — С. 71.
91. Дугин, А. Г. Трансформация политических структур и институтов в процессе модернизации традиционных обществ: дис… д-ра полит. наук: 23.00.02 / А. Г. Дугин. — Ростов н/Д, 2004 // Диссертационные исследования и научные труды доктора политических наук, кандидата философских наук Дугина А. Г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: -2.html. — Дата доступа: 20.05.2010.
92. д’Эйхталь, Е. Алексис Токвиль и либеральная демократия / Е. д’Эйхталь; пер. с фр. М. Г. Василевского; под ред. и с предисл. Н. И. Кареева. — 2-е изд. — М.: КомКнига, 2006. — 141 с.
93. Дюркгейм, Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Э. Дюркгейм; пер. с фр., сост., послесл. и примеч. А. Б. Гофмана. — М.: Канон, 1995. — 400 с.
94. Дякин, В. С. Русская буржуазия и царизм в годы первой мировой войны (1914–1917) / В. С. Дякин. — Л.: Наука, 1967. — 372 с.
95. Ефимов, О. И. К вопросу о структуре гражданского общества: анализ некоторых подходов / О. И. Ефимов // Личность. Культура. Общество. — 2008. — Т. 10, вып. 2. — С. 197–204.
96. Житие Федора Васильевича Ушакова // Учен. зап. / Ряз. пед. ин-т. — Рязань, 1949. — № 8. — С. 147.
97. Загуменнов, Ю. Исследование гражданского общества Беларуси: методология и результаты / Ю. Загуменнов // Аналит. бюл. Белорус. ассоц. фабрик мысли. — 2003. — № 3. — С. 20–27.
98. Зайончковский, П. А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX веке / П. А. Зайончковский. — М.: Мысль, 1978. — 288 с.
99. Замбровский, Б. Я. К вопросам о формировании гражданского общества и правового государства / Б. Я. Замбровский // Соц. — полит. науки. — 1991. — № 6. — С. 31–56.
100. Заславская, Т. И. Социетальная трансформация российского общества. Деятельностно-структурная концепция / Т. И. Заславская. — М.: Дело, 2002. — 568 с.
101. Зеньковский, В. В., протоиерей. История русской философии / B. В. Зеньковский, протоиерей. — 2-е изд. — Париж: ИМКА-ПРЕСС, 1989. — Т. 1. — 469 с.
102. Зиновьев, А. Коммунизм как реальность / А. Зиновьев. — М.: Центрполиграф, 1994. — 495 с.
103. Зубов, А. Б. Современное русское общество и dvil sodety: границы наложения / А. Б. Зубов // Pro et Contra. — 1997. — Т. 2, № 4. — С. 22–37.
104. Зызыкин, М. В. Царская власть и Закон о престолонаследии в России (София, 1924): Учебник русской истории [Электронный ресурс]. — Режим доступа -zavtra.narod2.ru/uchebnik_russkoi_istorii/zyzykin.htm:. — Дата доступа: 28.05.2011.
105. Иванов, Д. В. Виртуализация общества / Д. В. Иванов. — СПб.: Петерб. востоковедение, 2000. — 95 с.
106. Ильин, М. И. Две стороны одной медали: гражданское общество и государство / М. И. Ильин, Б. И. Коваль // Полис. — 1992. — № 1. — C. 193–201.
107. Кавелин, К. Наш умственный строй: ст. по философии рус. истории и культуры / К. Кавелин. — М.: Правда, 1989. — 653 с.
108. Кальной, И. И. Гражданское общество: истоки и современность / И. И. Кальной [и др.]. — СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. — 256 с.
109. Кант, И. Сочинения: в 6 т. / И. Кант. — М.: Мысль, 1963–1966. — Т. 6. — 1966. — 743 с.
110. Капустина, З. Я. Гражданственность как явление культуры / З. Я. Капустина // Культура & общество: Интернет-журн. МГУКИ [Электронный ресурс] / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. — 20032008. — Режим доступа: -culture.ra/Artides/2006/Kapusti-na.pdf. — Дата доступа: 20.05.2010.
111. Карамзин, Н. М. Письма русского путешественника / Н. М. Карамзин; отв. ред. Д. С. Лихачев. — Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1984. — 717 с.
112. Кара-Мурза, С. Г. Манипуляция сознанием / С. Г. Кара-Мурза // Интернет портал С. Г. Кара-Мурзы [Электронный ресурс]. — Режим доступа: -murza.rU/books/manipul/manipul48.htm#hdr_70. — Дата доступа: 20.05.2010.
113. Каротерс, Т. Гражданское общество — ключ к политическому и экономическому успеху? / Т. Каротерс // De^^hland = Германия: политика, культура, экономика, наука. — 2000. — № 5. — С. 12–17.
114. Карташев, А. Св. Великий князь Владимир — отец русской культуры / А. Карташев // Древнерусская литература: антология [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://old-rus.narod.ru/artides/ art_14.htm. — Дата доступа: 20.05.2010.
115. Ключевский, В. О. Русская история / В. О. Ключевский // Библиотекарь. Ру: электрон. б-ка [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://Ъibliotekar.ru/rusKluch/33.htm. — Дата доступа: 20.05.2010.
116. Касьянова, К. Особенности русского национального характера / К. Касьянова [Электронный ресурс]. — Режим доступа :. — Дата доступа: 28.05.2011.
117. Кирдина, С. Г. Институциональные матрицы и развитие России / С. Г. Кирдина // Kirdina.ru: персон. сайт [Электронный ресурс]. — 2002–2007. — Режим доступа: ;ontent shtml. — Дата доступа: 20.05.2010.
118. Ключевский, В. О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах / В. О. Ключевский. — М.: Мысль, 1993. — 592 с.
119. Ключевский, В. О. Русская история / В. О. Ключевский // Библиотекарь. Ру: электрон. б-ка [Электронный ресурс]. — Режим доступа: . — Дата доступа: 20.05.2010.
120. Гражданское общество в России: проблемы самоопределения и развития: материалы науч. конф. / отв. ред. Б. И. Коваль / Ин-т федерализма и гражданского общества. — М.: Соверо-Принт, 2001. — 143 с.
121. Кобрин, В. Б. Иван Грозный / В. Б. Кобрин. — М.: Изд-во «Московский рабочий», 1989. — 175 с.
122. Констан, Б. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у современных людей / Б. Констан // Российское Образование: единое окно доступа к образоват. ресурсам [Электронный ресурс]. — Режим доступа: . — Дата доступа: 20.05.2010.
123. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). — Минск: Амалфея, 2007. — 48 с.
124. Коркунов, Н. М. Русское государственное право / Н. М. Коркунов. — СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1893. — Т. 1. — 508 с.
125. Котляров, И. В. Гражданское общество в социологическом измерении / И. В. Котляров // Проблемы и перспективы становления гражданского общества: материалы Междунар. науч. — практ. конф., Могилев, 20–21 мая 2010 г.: в 2 ч. / Могилев. гос. ун-т продовольствия; редкол.: Ю. М. Бубнов (отв. ред.) [и др.]. — Могилев, 2010. — Ч. 1. — С. 13–17.
126. Котляров, И. В. Феномен многопартийности в современном белорусском обществе / И. В. Котляров. — М.: ФУАинформ, 2009. — 320 с.
127. Коэн, Дж. Л. Гражданское общество и политическая теория: пер. с англ. / Дж. Л. Коэн, Э. Арато; общ. ред. И. И. Мюрберг. — М.: Весь мир, 2003. — 784 с.
128. Кравченко, И. И. Концепция гражданского общества в философском развитии / И. И. Кравченко // Полис. — 1991. — № 5. — С. 128–138.
129. Кравченко, С. А. Социологический энциклопедический русско-английский словарь / С. А. Кравченко. — М.: Транзиткнига, 2004. — 526 с.
130. Красин, Ю. А. Гражданское общество: путь к стабильности / Ю. А. Красин, А. А. Галкин // Диалог. — 1992. — № 3. — С. 73–76.
131. Красин, Ю. А. Долгий путь к демократии и гражданскому обществу // Полис. — 1992. — № 5/6. — С. 97–105.
132. Кризис самодержавия в России. 1895–1917 / под ред. Б. В. Ананьича, В. С. Дякина. — Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1984. — 663 с.
133. Крозье, М. Современное государство — скромное государство. Другая стратегия изменения / М. Крозье // Свобод. мысль. — 1993. — № 2. — С. 35–43.
134. Крупкин, П. Коллективные идентичности / П. Крупкин // Интернет-портал АПН [Электронный ресурс]. — Режим доступа: . — Дата доступа: 27.01.2010.
135. Крупкин, П. Принцип народа и западная политика периода Модерна / П. Крупкин // Интернет-портал АПН [Электронный ресурс]. — Режим доступа: . — Дата доступа: 19.01.2011.
136. Кузьмичев, В. Организация общественного мнения: печатная агитация / В. Кузьмичев. — Ленинград; Москва: Гос. изд-во, 1929. — 176 с.
137. Кули, Ч. Первичные группы / Ч. Кули // Американская социологическая мысль: тексты: хрестоматия / сост. Е. И. Кравченко; под ред.
B. И. Добренькова. — М.: Междунар. ун-т бизнеса и управления, 1996. — C. 328–332.
138. Левашов, В. К. Мера гражданственности в социоизмерении / В. К. Левашов // Социс. — 2007. — № 1. — С. 55–62.
139. Левин, И. Б. Гражданское общество на Западе и в России / И. Б. Левин // Полис. — 1996. — № 5. — С. 106–119.
140. Леденева, А. В. Неформальная сфера и блат: гражданское общество или (пост) советская корпоративность? / А. В. Леденева // Pro et Contra. — 1997. — Т. 2, № 4. — С. 113–124.
141. Локк, Дж. Сочинения: в 3 т.: пер. с англ. и лат. / Дж. Локк. — М.: Мысль, 1988. — Т. 3: Два трактата о правлении. Кн. 2 / ред. и сост., авт. примеч. А. Л. Субботин. — 668 с.
142. Лукашенко, А. Г. Ежегодное послание Президента Республики Беларусь белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь, 2008 / А. Г. Лукашенко // Официальный Интернет-портал Президента Республики Беларусь [Электронный ресурс]. — 2001–2010. — Режим доступа: #doc. — Дата доступа: 20.05.2010.
143. Лукашенко, А. Г. Край, сердцем хранимый: выступление Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями БГУ / А. Г. Лукашенко // Совет. Белоруссия. — 2008. — 14 февр. — С. 2–3.
144. Лукашенко, А. Г. Полная стенограмма Послания Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь, 23 апреля 2009 г. / А. Г. Лукашенко // Комсомол. правда [Электронный ресурс]. — 2009. — Режим доступа: /. — Дата доступа: 20.05.2010.
145. Лукашенко, А. Г. Послание Президента Республики Беларусь A. Г. Лукашенко Национальному собранию Республики Беларусь, 23 апреля 2002 г. / А. Г. Лукашенко // Официальный сайт Президента Республики Беларусь [Электронный ресурс]. — Режим доступа: . — Дата доступа: 20.05.2010.
146. Луман, Н. Формы помощи в процессе изменения общественных условий / Н. Луман // Социол. журн. — 2000. — № 1/2. — С. 16–35.
147. Лунеев, В. В. Преступность в СССР: основные тенденции и закономерности / В. В. Лунеев // Совет. государство и право. — 1991. — № 8. — С. 90–97.
148. Магомедов, К. О. Гражданское общество / К. О. Магомедов, B. Г. Смольков; Рос. акад. упр., Моск. ин-т приборостроения. — М., 1993. — 141 с.
149. Майхрович, А. С. Идеология: сущность, назначение, возможности / А. С. Майхрович. — Минск: Право и экономика, 2001. — 76 с.
150. Маленков, В. В. Динамика гражданственности в России в постсоветский период: структурно-деятельностный подход: дис… канд. со — циол. наук: 22.00.04 / В. В. Маленков. — Тюмень, 2006. — 203 с.
151. Малофеева, Н. В. Эволюция земского либерализма и развитие системы местного самоуправления в России во второй половине XIX в.: дис. канд. ист. наук: 07.00.02 / Н. В. Малофеева. — М., 2004. — 158 с.
152. Мальцев, А. Н. Россия и Белоруссия в середине XVII в. / А. Н. Мальцев. — М.: Изд-во МГУ, 1974. — 255 с.
153. Мальцев, А. Н. К истории крестьянского движения и политики крестьянского движения в Белоруссии в середине XVII в. / А. Н. Мальцев // Исторический архив. — 1956. — № 4. — С. 217–218.
154. Маркс К. К еврейскому вопросу / К. Маркс, Ф. Энгельс // Соч.: в 50 т. — 2-е изд. — М., 1955–1981. — Т. 1. — 1955. — С. 383–413.
155. Маркс К. К критике гегелевской философии права / К. Маркс, Ф. Энгельс // Соч.: в 50 т. — 2-е изд. — М., 1955–1981. — Т. 1. — 1955. — C. 219–368.
156. Маркс, К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. — М.: Гос. изд-во, 1929. — Т. 3: Исследования. Статьи 1844–1845. — 708 с.
157. Маркс, К. Святое семейство / К. Маркс, Ф. Энгельс // Соч.: в 50 т. — 2-е изд. — М., 1955–1981. — Т. 2. — 1955. — С. 102.
158. Маркс, К. Фейербах. Противоположность материалистического и идеалистического понимания истории / К. Маркс, Ф. Энгельс // Избранные произведения в трех томах. — М.: Изд-во политической литературы, 1970. — Т. 1. — С. 2–43.
159. Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 14–15 июня 1983 г. — М.: Политиздат, 1983. — 80 с.
160. Мельник, В. А. Государственная идеология Республики Беларусь: концептуальные основы / В. А. Мельник; науч. ред. П. Г. Никитенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Минск: Тесей, 2003. — 239 с.
161. Меньшагин, Б. Г. Воспоминания: Смоленск. Катынь. Владимирская тюрьма. / Б. Г. Меньшагин. — Paris: YMCA-Press, 1988. — 247 с.
162. Мердок, Дж. П. Фундаментальные характеристики культуры / Дж. П. Мердок // Антология исследований культуры / С.-Петерб. гос. ун-т; отв. ред. и сост. Л. А. Мостова. — СПб., 2006. — Т. 1: Интерпретации культуры. — С. 49–56.
163. Мессинг, М. Общественные организации Беларуси: обзор / М. Мессинг; пер. с англ. И. В. Савельевой. — М.: CAF. Рос. представительство, 1995. — 32 с.
164. Милов, Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса / Л. В. Милов. — М.: РОСПЭН, 1998. — 573 с.
165. Милютин, Н. А. Соображения по проекту о земских учреждениях / Н. А. Милютин // РО РНБ. — Ф. 379 (Ф. П. Корнилов). — Ед. хр. 269.
166. Миронов, Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.): генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства / Б. Н. Миронов. — СПб.: Дм. Буланин, 1999. — Т. 1. — 547 с.; Т. 2. — 566 с.
167. Михайловский, Н. К. Герои и толпа: избр. тр. по социологии: в 2 т. / Н. К. Михайловский. — СПб., 1998. — Т. 2. — 405 с.
168. Молодежь и гражданское общество: белорусский вариант / под ред. О. Манаева. — Минск: Изд. В. М. Скакун, 1999. — 284 с.
169. Моммзен. Т. История Рима: в 5 т. / Т. Моммзен. — М.: ООО «Изд-во АСТ»; Харьков: Фолио, 2001. — Т. 1, кн. 1,2: До битвы при Пидне: пер. с нем. — 523 с.
170. Монтескье, Ш. Л. О духе законов / Ш. Л. Монтескье. — М.: Мысль, 1999. — 672 с.
171. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис. по устойчивому развитию Респ. Беларусь; редкол.: Я. М. Александрович [и др.]. — Минск: Юнипак, 2005. — 200 с.
172. Нефедов, С. А. О демографических циклах в средневековой истории Руси / С. А. Нефедов // Клио. — 2002. — № 3. — С. 193–203.
173. Ноэль-Нойман, Э. Общественное мнение: открытие спирали молчания / Э. Ноэль-Нойман; пер. с нем. Л. Н. Рыбаковой. — М.: Прогресс-Академия, 1996. — 351 с.
174. О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 20 февр. 1991 г., № 617-XII // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2003–2010. — Режим доступа: = 1&RN=H11000108. — Дата доступа: 20.05.2010.
175. О некоторых мерах по упорядочению деятельности политических партий, профессиональных союзов, общественных объединений: Декрет Президента Респ. Беларусь, 26 янв. 1999 г., № 2 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2003–2010. — Режим доступа: -PD9900002. — Дата доступа: 20.05.2010.
176. О проекте Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об общественных объединениях»: постановление Палаты представителей Нац. собр. Респ. Беларусь, 30 июня 2004 г., № 1010-П2/УШ // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2004. — № 104. — 4/3815.
177. Об общественных объединениях: Закон Респ. Беларусь, 4 окт. 1994 г., № 3254-XII // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой ин-форм. Респ. Беларусь. — Минск, 2003–2010. — Режим доступа: . — Дата доступа: 20.05.2010.
178. Об участии граждан в охране правопорядка: Закон Респ. Беларусь, 26 июня 2003 г., № 214-З // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2003–2010. — Режим доступа: . — Дата доступа: 20.05.2010.
179. Орлова, И. В. Современное гражданское общество / И. В. Орлова // Философия и о-во. — 2007. — № 4. — С. 83–97.
180. Орлова, И. В. Теория гражданского общества: к истории вопроса / И. В. Орлова // Философия и о-во. — 2006. — № 2. — С. 32–43.
181. Ортега-и-Гассет, Х. Избранные труды / Х. Ортега-и-Гассет. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 704 с.
182. Основополагающие принципы статуса неправительственных организаций в Европе: решение Ком. Министров Совета Европы, 837-е заседание, 16 апр. 2003 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: . — Дата доступа: 20.05.2010.
183. Оффердал, О. Политика и проблемы организационного дизайна в местном самоуправлении / О. Оффердал // Полис. — 1998. — № 3. — С. 59–76.
184. Пайпс, Р. Россия при старом режиме / Р. Пайпс; пер. с англ. В. Козловского. — M.: Независимая газ., 1993. — 423 с.
185. Пайпс, Р. Русская революция: в 2 т. / Р. Пайпс. — М.: Росспэн, 1994. — Т. 1. — 398 с.
186. Панарин, А. С. Православная цивилизация в глобальном мире / A. С. Панарин. — М.: Алгоритм-Книга, 2002. — 492 с.
187. Парсонс, Т. О социальных системах: [сборник; перевод] / Т. Парсонс. — М.: Акад. проект, 2002. — 830 с.
188. Парсонс, Т. Система современных обществ / Т. Парсонс. — М.: Аспект Пресс, 1997. — 270 с.
189. Памятники древнерусского канонического права // Русская историческая библиотека. — СПБ., 1880 (Изд. 2. СПб., 1908). — Т. 6. — 683 с.
190. Писарькова, Л. Ф. Российский чиновник на службе в конце XVIII — первой половине XIX века / Л. Ф. Писарькова // Человек. — 1995. — № 3. — С. 121–139; № 4. — С. 147–158.
191. Платон. Собрание сочинений: в 4 т. / Платон; Акад. наук СССР. Ин-т философии. — М.: Мысль, 1990–1994. — Т. 3. — 1994. — 831 с.
192. Подрезенок, Г. Новые подходы к созданию и деятельности общественных объединений в Республике Беларусь / Г. Подрезенок // Юстыцыя Беларусь — 2005. — № 8. — С. 22–23.
193. Поппер, К. Открытое общество и его враги: в 2 т. / К. Поппер. — М.: Междунар. фонд «Культурная инициатива», 1992. — Т. 2: Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы / пер. с англ. под общ. ред. B. Н. Садовского. — 525 с.
194. Пресняков, А. Российские самодержцы / А. Пресняков. — М.: Книга, 1990. — 329 с.
195. Проблемы и перспективы становления гражданского общества: материалы Междунар. науч. — практ. конф., Могилев, 20–21 мая 2010 г.: в 2 ч. / Могилев. гос. ун-т продовольствия; редкол.: Ю. М. Бубнов (отв. ред.) [и др.]. — Могилев, 2010. — 2 ч.
196. Проблемы отечественной истории: сб. ст. аспирантов и соискателей: в 2 ч. / Акад. наук СССР, Ин-т истории СССР, Ленингр. отд-ние. — Москва; Ленинград, 1976. — Ч. 1. — 224 с.
197. Путнэм, Р. Д. Игра в гольф в одиночку: размывание общественного капитала Америки / Р. Д. Путнэм // Рус. журн. [Электронный ресурс]. — 1997. — 17 сент. — Режим доступа: / peresmot/97-09-17/putnam.htm. — Дата доступа: 20.05.2010.
198. Резник, Ю. М. Гражданское общество как объект социологического познания / Ю. М. Резник // Вестн. Моск. гос. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. — 1995. — № 2. — С. 30–46.
199. Резник, Ю. М. Гражданское общество как феномен цивилизации: в 2 ч. / Ю. М. Резник; Рос. гос. соц. ин-т. — М.: Союз, 1998. — Ч. 2: Теоретико-методологические аспекты исследования. — 560 с.
200. Резник, Ю. М. Формирование институтов гражданского общества (социоинженерный подход) / Ю. М. Резник // Социс. — 1994. — № 10. — С. 21–30.
201. Решетников, С. В. Методологические проблемы анализа политических процессов / С. В. Решетников // Беларусь и Россия: цивилизационные приоритеты: сб. науч. тр. / Ин-т соц. — полит. исслед. при Администрации Президента Респ. Беларусь; редкол.: Е. В. Матусевич [и др.]. — Минск: ИСПИ, 1999. — С. 56–62.
202. Решетников, С. В. Политология в Республике Беларусь: теоретико-методологические и прикладные аспекты / С. В. Решетников; Ин-т соц. — полит. исслед. при Администрации Президента Респ. Беларусь. — Минск: ИСПИ, 1999. — 172 с.
203. Ровдо, В. В. «Третий сектор»: становление негосударственных организаций в посткоммунистических странах Центральной и Восточной Европы / В. В. Ровдо // Гражданское общество: сб. ст. / Белорус. респ. фонд поддержки демократ. реформ; науч. ред. В. В. Ровдо. — Минск, 1996. — Вып. 2. — С. 45–67.
204. Романович, Н. А. Принцип иерархии в представлениях россиян о власти / Н. А. Романович // Социол. журн. — 2009. — № 2. — С. 56–68.
205. Рубцова, М. В. Институциональная поддержка управляемости сакральными, инструментальными и коммуникативными институтами / М. В. Рубцова // Изв. Урал. гос. ун-та. — 2009. — № 4. — С. 12–23.
206. Руссо, Ж. Ж. Об Общественном договоре / Ж. Ж. Руссо // Трактаты / Ж. Ж. Руссо. — М.: Наука, 1969. — С. 160–162.
207. Сахлинс, М. Горечь сладости, или нативная антропология Запада / М. Сахлинс // Всероссийская библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: . — Дата доступа: 20.05.2010.
208. Сивуха, С. В. Социальная сеть общественных организаций как форма социального капитала / С. В. Сивуха // Социология. — 2003. — № 4. — С. 52–63.
209. Слесарева, Г. Ф. Гражданское общество в истории политической мысли Европы / Г. Ф. Слесарева // Междунар. ист. журн. [Электронный ресурс]. — 2000. — № 10. — Режим доступа: / number_10/method/sodety/part2/p3/index.html. — Дата доступа: 20.05.2010.
210. Смелзер, Н. Социология / Н. Смелзер // Скепсис: науч. — просвет. журн. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: / id_585.html. — Дата доступа: 20.05.2010.
211. Смирнов, В. Э. Возможности и перспективы развития гражданского общества в Беларуси / В. Э. Смирнов // Проблемы и перспективы становления гражданского общества: материалы Междунар. науч. — практ. конф., Могилев, 20–21 мая 2010 г.: в 2 ч. / Могилев. гос. ун-т продовольствия; редкол.: Ю. М. Бубнов (отв. ред.) [и др.]. — Могилев, 2010. — Ч. 1. — С. 329–333.
212. Смирнов, В. Э. Гражданское общество: порядок или хаос? / B. Э. Смирнов // Социальный порядок и жизнеспособность общества / C. А. Шавель [и др.]; НАН Беларуси, Ин-т социологии. — Минск, 2007. — С. 232–239.
213. Смирнов, В. Э. Гражданское общество — сущность и социальные проявления / В. Э. Смирнов // Взаимодействие устойчивости и инновационности в развитии белорусского общества: сб. науч. тр. / НАН Беларуси, Ин-т социологии; редкол.: Е. М. Бабосов (науч. ред.) [и др.]. — Минск, 2009. — С. 39–48.
214. Смирнов, В. Э. Гражданское общество в культурно-цивилизационном контексте / В. Э. Смирнов // Социология. — 2007. — № 4. — С. 86–91.
215. Смирнов, В. Э. Инновационная экономика в условиях информационного общества / В. Э. Смирнов // Наука и инновации. — 2008. — № 1. — С. 51–54.
216. Смирнов, В. Э. Институционально-ролевой подход к пониманию феномена гражданственности / В. Э. Смирнов // Социологический альманах. — Минск: Белорус. наука, 2011. — Вып. 2. — С. 246–255.
217. Смирнов, В. Э. К вопросу о социальной структуре постсоветских обществ: классы, страты или домены? / В. Э. Смирнов // Социальные проблемы развития белорусского общества в условиях глобализации: материалы Междунар. науч. — практ. конф., Минск, 5–6 июня 2006 г. / Ин-т социологии НАН Беларуси. — Минск, 2006. — С. 388–391.
218. Смирнов, В. Э. К вопросу об операционализации понятия «гражданское общество» / В. Э. Смирнов // Личность. Культура. Общество. — 2009. — Т. 11, № 1. — С. 176–185.
219. Смирнов, В. Э. Социальная база гражданского общества Беларуси / В. Э. Смирнов // Гуманитар. — экон. вестн. — 2010. — № 3. — С. 75–82.
220. Смирнов, В. Э. Социальный порядок как gentlemen’s agreement / B. Э. Смирнов // Социальный порядок и жизнеспособность общества / C. А. Шавель [и др.]; НАН Беларуси, Ин-т социологии. — Минск, 2007. — С. 94–101.
221. Смирнов, В. Э. Культурно-цивилизационные основания социального порядка и способов его изучения / В. Э. Смирнов, Р. А. Смирнова // Проблемы упр. — 2007. — № 3. — С. 198–205.
222. Смирнов, В. Э. Проблема периферического управления в процессе взаимоотношения общества и власти в культурно-историческом контексте / В. Э. Смирнов // Ars est philosophia vitae. Wydawnictwo naukowe Wuzszej Szkoly Stosunkow Miedzynarodowych i Komunikaoji Spo^znej w Chelmie. — ^elm, 2011. — С. 567–576.
223. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. — М.: Эксмо, 2007. — 960 с.
224. Смит, А. Теория нравственных чувств / А. Смит. — М.: Республика, 1997. — 349 с.
225. Соловьев, А. И. Три облика государства — три стратегии гражданского общества / А. И. Соловьев // Полис. — 1996. — № 6. — С. 29–38.
226. Солоневич, И. Л. Народная монархия / И. Л. Солоневич. — Репринт. воспр. изд. 1973 г. — М.: Феникс, 1991. — 511 с.
227. Сорокин, П. А. Социальная и культурная динамика: исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений / П. А. Сорокин; пер с англ. В. В. Сапова. — СПб.: Изд-во рус. христиан. гуманитар. ин-та, 2000. — 1054 с.
228. Сорокин, П. А. Человек. Цивилизация. Общество / П. А. Сорокин; общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонова. — М.: Политиздат, 1992. — 543 с.
229. Социальный порядок и жизнеспособность общества / С. А. Шавель [и др.]; Ин-т социологии НАН Беларуси. — Минск: Белорус. наука, 2007. — 333 с.
230. Становление гражданского общества в России (информация о тематической конференции в Барнауле) // Полис. — 1998. — № 5. — С. 185–188.
231. Становление гражданского общества и социальная стратификация / В. B. Витюк [и др.] // Социс. — 1995. — № 4. — С. 27–36.
232. Степин, В. С. Марксистская концепция общества и проблема построения современной картины социальной реальности // Философия и история философии: Актуальные проблемы: сб. ст.: к 90-летию Т. И. Ойзермана / Ин-т философии РАН. — М.: Канон+, 2004. — 576 с.
233. Стратегия устойчивого развития Беларуси: преемственность и обновление: аналит. отчет / А. В. Неверов [и др.]. — Минск: Юнипак, 2003. — 205 с.
234. Сунгуров, А. Организации-посредники как звено в становлении гражданского общества / А. Сунгуров // Центр «Стратегия» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: -spb.ru/Koi-8/Pablik/Other/st_3.html. — Дата доступа: 20.05.2010.
235. Теннис, Ф. Общность и общество: основные понятия чистой социологии / Ф. Теннис; пер. с нем. Д. В. Скляднева; Фонд «Ун-т». — СПб.: Даль, 2002. — 450 с.
236. Тойнби, А. Дж. Постижение истории: избранное / А. Дж. Тойнби; пер. с англ. Е. Д. Жаркова; под ред. В. И. Уколовой, Д. Э. Харитоновича. — М.: Айрис-пресс Рольф, 2001. — 637 с.
237. Токвиль, А. Демократия в Америке / А. Токвиль. — М.: Весь мир, 2000. — 560 с.
238. Толстой, Л. Н. Собр. соч.: в 12 т. / Л. Н. Толстой. — М.: Изд-во «Правда», 1984. — Т. 5: Война и мир. — 430 с.
239. Тощенко, Ж. Т. Парадоксальный человек / Ж. Т. Тощенко. — М.: Гардарики, 2001. — 398 с.
240. Тьерри, О. Городские коммуны во Франции в Средние века / О. Тьерри. — М.: Либроком, 2011. — 248 с.
241. Успенский, Ф. И. История Византийской Империи: в 5 т. / Ф. И. Успенский. — М.: АСТ: Астрель, 2001–2002. — Т. 1. — 623 с.
242. Уэллинг Холл, Б. Труд души и гражданское взросление / Б. Уэллинг Холл // Полис. — 1992. — № 3. — С. 46–51.
243. Федоркин, Н. С. Гражданское общество в России: проблемы и трудности формирования / Н. С. Федоркин // Вестн. Моск. гос. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. — 2005. — № 4. — С. 3–13.
244. Федотов, Г. Судьба и грехи России: избр. ст. по философии рус. истории и культуры: в 2 т. / Г. Федотов. — Санкт-Петербург; София, 1992. — Т. 1. — 350 с.
245. Федотова, В. Г. Глобальный капитализм. Три великие трансформации / В. Г. Федотова, В. А. Колпаков, Н. Н. Федотова. — М.: Изд-во «Культурная революция», 2008. — 608 с.
246. Фергюссон, А. Опыт истории гражданского общества. — М.: РОССПЭН, 2000. — 391 с.
247. Фергюссон, А. Опыт истории гражданского общества / А. Фергюссон. — СПб.: Тип. Гвард. штаба, 1817. — Ч. 1. — 168 с.
248. Фергюссон, А. Опыт истории гражданского общества / А. Фергюссон. — СПб.: Тип. Гвард. штаба, 1818. — Ч. 2. — 252 с.
249. Фергюссон, А. Опыт истории гражданского общества / А. Фергюссон. — СПб.: Тип. Гвард. штаба, 1818. — Ч. 3. — 238 с.
250. Филонов, Г. Н. Гражданское воспитание: основные категории и понятия / Г. Н. Филонов // Основы методики гражданского воспитания в семье и школе / Гос. науч. — исслед. ин-т семьи и воспитания; под ред. Г. Н. Филонова. — М., 2001. — С. 20–21.
251. Филонов, Г. Н. Феномен гражданственности в структуре личностного развития / Г. Н. Филонов // Педагогика. — 2002. — № 10. — С. 24–29.
252. Фливберг, Б. Рациональность и власть: еще раз о кейс-стади // Социс. — 2007. — № 1. — С. 62–70.
253. Фливберг, Б. Хабермас и Фуко — теоретики гражданского общества / Б. Флиберг // Социс. — 2000. — № 2. — С. 127–136.
254. Флоренский, П. Столп и утверждение истины. Письмо одиннадцатое: дружба / П. Флоренский // Гнозис [Электронный ресурс]. — Режим доступа: /3012. — Дата доступа: 20.05.2010.
255. Фроянов, И. Я. Драма русской истории: На путях к Опричнине / И. Я. Фроянов // СПбГУ; отв. ред. Ю.Г. Алексеев. — М.: Парад, 2007. — 952 с.
256. Франк, Л. С. Духовные основы общества / Л. С. Франк. — М.: Республика, 1992. — 511 с.
257. Фромм, Э. Бегство от свободы. Человек для себя: пер. с англ. / Э. Фромм. — М.: АСТ: АСТ Москва, 2006. — 571 с.
258. Фукуяма, Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: пер. с англ. / Ф. Фукуяма. — М.: ACT; Ермак, 2004. — 730 с.
259. Фукуяма, Ф. Конец истории / Ф. Фукуяма // Вопр. философии. — 1990. — № 3. — С. 134–148.
260. Фукуяма, Ф. Рискованный союз / Ф. Фукуяма // Век XX и мир. — 1994. — № 7/8. — С. 108–113.
261. Хейзинга, Й. Homo ludens. Статьи по истории культуры / Й. Хейзинга. — М.: Прогресс, 1997. — 416 с.
262. Хайек, Ф. А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма: пер. с англ. / Ф. А. Хайек. — М.: Новости, 1992. — 302 с.
263. Цыпин, В. Очерк историософских идей от Платона до С.-Ф. Хантингтона в интерпретации церковного историка / В. Цыпин // Русская линия [Электронный ресурс]. — Режим доступа: -f_hantingtona_v_interpretacii_cerkovnogo_istorika_chast_1/. — Дата доступа: 20.05.2010.
264. Чаянов, А. В. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии / А. В. Чаянов // Классика. ру [Электронный ресурс]. — Режим доступа: ;hayanov/utopia. txt&page=7. — Дата доступа: 20.05.2010.
265. Шавель, С. А. Мотивация просоциальной активности как предмет социологического исследования / С. А. Шавель // Социология. — 2005. — № 1. — С. 6–27.
266. Шавель, С. А. Общественная миссия социологии / С. А. Ша-вель. — Минск: Беларус. навука, 2010. — 404 с.
267. Шанин, Т. Обычное право в крестьянском сообществе / Т. Шанин // Куда идет Россия? Формальные институты и реальные практики: материалы Междунар. симп., Москва, 18–19 янв. 2002 г. / Моск. высш. шк. соц. и экон. наук; под общ. ред. Т. И. Заславской. — М., 2002. — С. 267–274.
268. Шацкий, Е. Протолиберализм: автономия личности и гражданское общество / Е. Шацкий // Полис. — 1997. — № 5. — С. 68–87.
269. Шацкий, Е. Протолиберализм: автономия личности и гражданское общество / Е. Шацкий // Полис. — 1997. — № 6. — С. 15–33.
270. Шмиттер, Ф. Размышления о гражданском обществе и консолидация демократии / Ф. Шмиттер // Полис. — 1996. — № 5. — С. 16–27.
271. Шоню, П. Цивилизация классической Европы. — Екатеринбург: У-Фактория, 2005. — 608 с.
272. Шпенглер, О. Закат Европы. Очерки мифологии мировой истории / О. Шпенглер; пер. с нем., вступ. ст. К. А. Свасьяна. — М.: Мысль, 1993. — 667 с.
273. Шумпетер, И. Капитализм, социализм и демократия / И. Шумпетер. — М.: Экономика, 1995. — 540 с.
274. Элиас, Н. Общество индивидов / Н. Элиас. — М.: Праксис, 2001. — 330 с.
275. Яковлев Н. Н. 1 августа 1914 / Н. Н. Яковлев. — М.: Эксмо, 2003. — 318 с.
276. Янссон Г. Треугольная драма: взаимоотношения между государством, местным самоуправлением и добровольными организациями // Гражданское общество на европейском Севере. — СПб.: ЦНСИ, 1996.
277. Denton, Sally. Amerkan Massage: The Tragedy at Mountain Meadows, September 11, 1857. — New York: Alfred A. Knopf, 2003. — 306 p.
278. Rieber, A. J. Merchants and entrepreneurs in imperial Russia / A. J. Rieber. — Chapel Hill: Univ. of North Carolina Press, 1982. — XXVI, 464 p.
279. Sahlins, M. D. Uso y abuso de la biología: una crítica antropológica de la sociobiología / M. D. Sahlins. — Mexko: Siglo XXI, 1990. — 150 p.
280. Ямпольская, Ц. А. Общественные организации и развитие советской социалистической государственности. — М.: Изд-во «Юридическая литература», 1965. — 195 с.
Примечания
1
Данные социологического исследования «Роль СМИ в развитии гражданственности», проведенного Институтом социологии НАН Беларуси в июне 2010 г. в рамках сектора социологии СМИ под руководством В. И. Русецкой. Всего опрошено 2107 человек по республиканской выборке.
(обратно)2
Мониторинг изучения общественного мнения населения Беларуси «Состояние и тенденции изменения белорусского общества», проведенный Институтом социологии НАН Беларуси в апреле 2010 г. (всего опрошено по республиканской выборке 2237 чел.).
(обратно)3
Данные мониторинга, проведенного Институтом социологии НАН Беларуси в 2012 г. Всего опрошено 1492 респондента по республиканской выборке.
(обратно)
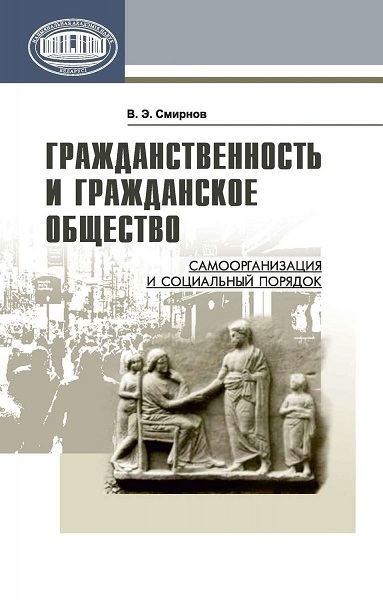



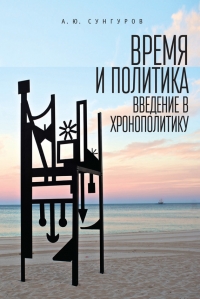
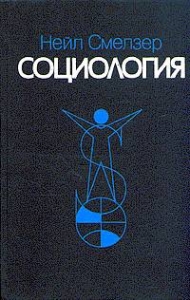

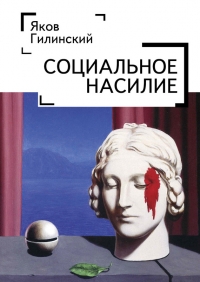
Комментарии к книге «Гражданственность и гражданское общество», Виктор Эдуардович Смирнов
Всего 0 комментариев