Зигмунт Бауман МЫСЛИТЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ Перевод с английского под редакцией канд. философ. наук А. Ф. Филиппова
Учебная литература по гуманитарным и социальным дисциплинам для высшей школы России готовится и издается при содействии Института «Открытое общество» в рамках программы «Высшее образование».
Редакционный совет:
В. И. Бахмин, Я. М. Бергер, Е. Ю. Гениева, Г. Г. Дилигенский, В. Д. Шадриков
Перевод с английского:
С. П. Баньковской, А. Ф. Филиппова
К русскому читателю
У социологии славная история. Немногие другие дисциплины могут гордиться такой историей. И далеко не везде эта история славнее польской и российской истории социологии. В темную годину социология всегда была желанным лучом света…
Действительность, которую иные представляют как ниспосланную нам с небес или предписанную сверхчеловеческим разумом истории, социология видела как на самом деле временное, неоконченное творение вполне земных сил — человеческого ума и рук, иногда искусных, иногда не очень, а иногда и вовсе ни на что не способных. Как и сами люди, эта действительность не свободна от ошибок и отнюдь не безгрешна, но прелесть ее заключается в том, что именно люди, подумав да поднапрягшись, могут переделать ее, заменив чем-то лучшим или хотя бы более сносным.
В годы подавляющего единомыслия, когда слаженный газетный хор заглушал любой самостоятельный голос, социология стала своеобразным убежищем для общественного мнения — этого рассадника инакомыслия. Для официальных же блюстителей порядка она казалась властью власть неимущих, даже если кто-то из социологов и клялся им в своем верноподданничестве.
Во мраке и спичка ярко светит. В тот период полезность социологических исследований была, так сказать, гарантирована заранее, слава этой науке давалась легко, хотя и не всегда потому, что она априори обладает огромным гуманистическим потенциалом. Услуги социологии представлялись чем-то само собой разумеющимся в ситуации, когда, как говорят, все перекрестки ярко освещены. А вот об истинной пользе, которую могут принести людям, блуждающим в потемках, социологи (и только они), ослепленные множеством прожекторов, в те времена узнать так и не пришлось.
В России, как и в Польше, наступили новые времена, и другие проблемы стоят сегодня перед людьми. Не всегда они легче прежних, но всегда новые, требующие нового осмысления и новых навыков их решения. Свобода самоопределения дается нелегко и не всегда оказывается приятнее принуждения, но страдания свободных людей — это нечто совсем иное, нежели терпение рабов или крепостных. Может ли социология помочь в свободной жизни? Я убежден, что может. Кстати, эта книга и написана с той целью, чтобы показать: социологическое мышление способно стать силой свободного человека, о чем мы прежде даже не подозревали.
Если читатель найдет в книге отголоски собственных размышлений, терзаний, поисков, не вполне осознанных переживаний, встретит те же настойчиво повторяемые вопросы, то я могу считать, что задача, которую я ставил перед собой, выполнена. И себе, и вам, дорогие читатели, я искренне желаю, чтобы так оно и случилось.
Зигмунт Бауман, 14 сентября 1996 г.
Введение. Зачем нужна социология?
По-разному можно представлять себе социологию. Самый простой способ — вообразить длинный ряд библиотечных полок, до отказа забитых книгами. В названии либо в подзаголовке, или хотя бы в оглавлении всех книг встречается слово «социология» (именно поэтому библиотекарь поместил их в один ряд). На книгах — имена авторов, которые называют себя социологами, т. е. являются социологами по своей официальной должности как преподаватели или исследователи. Воображая себе эти книги и их авторов, можно представить определенную совокупность знаний, накопленных за долгие годы исследований и преподавания социологии. Таким образом, можно думать о социологии как о связующей традиции — определенной совокупности информации, которую каждый новообращенный в эту науку должен вобрать в себя, переварить и усвоить независимо от того, хочет он стать социологом-практиком или просто желает познакомиться с тем, что предлагает социология. А еще лучше можно представить себе социологию как нескончаемое число новообращенных — полки все время пополняются новыми книгами. Тогда социология — это непрерывная активность: пытливый интерес, постоянная проверка полученных знаний в новом опыте, непрекращающееся пополнение накопленного знания и его видоизменение в этом процессе.
Такое представление о социологии кажется вполне естественным и очевидным. В конце концов, именно так мы склонны отвечать на любой вопрос типа: «Что такое X?» Если, например, нас спросят: «Что такое лев?», то мы сразу покажем пальцем на клетку с определенным животным в зоопарке или на изображение льва на картинке в книжке. Или, когда иностранец спрашивает: «Что такое карандаш?», мы достаем из кармана определенный предмет и показываем его. В том и другом случае мы обнаруживаем связь между определенным словом и столь же определенным предметом и указываем на нее. Мы используем слова, соотносящиеся с предметами, как замену этих предметов: каждое слово отсылает нас к специфическому предмету, будь то животное или пишущее орудие. Нахождение предмета, «представляемого» нам с помощью слова, о котором спрашивают (т. е. нахождение референта слова), и является правильным и точным ответом на поставленный вопрос. Как только я нашел такой ответ, я знаю, как пользоваться до сих пор не знакомым мне словом: в соотношении с чем, в какой связи и при каких условиях. Ответ такого рода, о котором идет речь, учит меня только одному — как использовать данное слово.
Но вот чего мне не дает ответ на такого рода вопрос, так это знаний о самом предмете — о том предмете, на который мне указали как на референт интересующего меня слова. Я знаю только, как выглядит предмет, так что впоследствии я узнаю его в качестве предмета, вместо которого выступает теперь слово. Следовательно, существуют пределы — и довольно жесткие — знания, которому меня может научить метод «указывания пальцем». Если я обнаружу, какой именно предмет соотносится с названным словом, то мне, вероятно, сразу же захочется задать и следующие вопросы: «В чем особенность данного предмета?», «Чем он отличается от других предметов и насколько, почему требует специального названия?» — Это лев, а не тигр. Это карандаш, а не авторучка. Если называть данное животное львом правильно, а тигром — неправильно, то должно быть нечто такое, что есть у львов и чего нет у тигров (это нечто и делает львов тем, чем тигры не являются). Должно быть какое-то различие, отделяющее львов от тигров. И только исследовав это различие, мы сможем узнать, кто такие на самом деле львы, а такое знание отлично от простого знания о предмете, заменяемом словом «лев». Вот почему мы не можем быть полностью удовлетворены нашим первоначальным ответом на вопрос: «Что такое социология?»
Продолжим наши рассуждения. Удовлетворившись тем, что за словом «социология» стоит определенная совокупность знания и определенного рода практика, использующая и пополняющая это знание, мы должны теперь задаться вопросами о самих этих знаниях и практике: «Что в них есть такого, что позволяет считать их именно «социологическими»?», «Что отличает эту совокупность знаний от других его совокупностей и, соответственно, практику, продуцирующую это знание, от других ее видов?».
В самом деле, первое, что бросается в глаза при виде библиотечных полок с книгами по социологии, это масса других полок с книгами вокруг них не по социологии. Наверное, в каждой университетской библиотеке можно обнаружить, что ближайшими соседями книг по социологии являются книги, объединенные рубриками: «история», «политическая наука», «право», «социальная политика», «экономика». И, наверное, библиотекари, расположившие эти полки рядом, имели в виду прежде всего удобство и доступность книг для читателей. Судя по всему, они полагали, что читатель, просматривая книги по социологии, может случайно обнаружить необходимые ему сведения в книге, скажем, по истории или политической науке. Во всяком случае это гораздо более вероятно, чем если бы ему попались на глаза книги, например, по физике или по инженерному делу. Другими словами, библиотекари предполагают, что предмет социологии несколько ближе к области знаний, обозначаемых словами «политическая наука» или «экономика»; и, вероятно, они еще думают, что различие между книгами по социологии и теми, что расположены в непосредственной близости от них, несколько менее выражено, не так четко обозначено и не столь существенно, как различие между социологией и, к примеру, химией или медициной.
Независимо от того, посещали подобные мысли головы библиотекарей или нет, они поступили правильно. Совокупности знаний, помещенные ими по соседству, и в самом деле имеют много общего: все они касаются рукотворного мира, т. е. части мира, или его аспекта, несущего на себе отпечаток человеческой деятельности, которой не существовало бы вообще, не будь действий человека. История, право, экономика, политическая наука, социология — все они рассматривают человеческие действия и их последствия. Это то, что присуще им всем, и потому они действительно могут рассматриваться вместе. Однако если все перечисленные совокупности знания исследуют одну и ту же «территорию», то что их разделяет, если вообще разделяет что-то? В чем заключается специфика, которая «делает их разными», определяет отличия и разделяет названия? На каком основании мы утверждаем, что, несмотря на все сходства и общность исследуемого поля, история — это не социология и не политическая наука?
Любой из нас может сходу дать простой ответ на эти вопросы: разделение между совокупностями знаний должно отражать различные стороны изучаемого ими мира. Человеческие действия или аспекты человеческих действий различаются между собой, и при разделении всей суммы знаний на отдельные совокупности мы лишь принимаем во внимание этот факт. Так, мы сказали бы, что история занимается действиями, происходившими в прошлом и не имеющими места теперь, а социология сосредоточена на настоящих событиях и действиях или на таких общих свойствах действий, которые не меняются со временем; антропология говорит о человеческих действиях, происходящих в обществах, пространственно удаленных и отличных от нашего, а социология обращает внимание на действия, происходящие в нашем обществе (чем бы оно ни было), или на такие аспекты этих действий, которые остаются неизменными в различных обществах. В случае с другими ближайшими родственниками социологии «само собой разумеющийся» ответ уже будет менее «само собой разумеющимся». Однако, если все-таки попробовать ответить на наш вопрос подробным же образом, то окажется, что политическая наука изучает в основном такие действия, как захват власти и правление; экономика занимается действиями, относящимися к использованию ресурсов, а также к производству и распределению товаров; правоведение исследует нормы, регулирующие человеческое поведение, а также то, как эти нормы формулируются, делаются обязательными и принудительными… Как видим, если продолжать в том же духе, то придется сделать вывод: социология является остаточной дисциплиной, пробавляющейся тем, что остается вне поля зрения других дисциплин. Чем больше материала помещают под свои микроскопы другие дисциплины, тем меньше остается проблем для обсуждения у социологии; словно «где-то там», в человеческом мире существует ограниченное количество фактов, ждущих, когда их соберут и расчленят в соответствии с присущими им свойствами специальные отрасли науки. Незадача с таким «очевидным» ответом на наш вопрос заключается в том, что, как и большинство других убеждений, представляющихся нам самоочевидными и безоговорочно верными, он остается очевидным лишь до тех пор, пока мы воздерживаемся от более пристального взгляда на все предположения, заставляющие нас принять такой ответ. Поэтому давайте попытаемся проследить все стадии, через которые мы пришли к столь очевидному ответу.
Прежде всего откуда мы узнаем, что человеческие действия подразделяются на определенное число различных типов? — Из того факта, что они именно так были классифицированы и что каждая единица в этой классификации получила свое собственное название (например, мы знаем, когда речь идет о политике, когда — об экономике, когда — о законах, и знаем, что где искать), а также благодаря тому, что есть группы надежных экспертов, знающих и достойных людей, которые претендуют на обладание особым правом исследовать, высказывать компетентное мнение, руководить или советовать по поводу каких-либо определенных типов действия, а не иных. Но давайте продвинемся в нашем исследовании еще на один шаг вперед: каким образом мы вообще узнаем, каков человеческий мир «сам по себе», т. е. до того, как он подразделен на экономику, политику или социальную сферу, и независимо от такого подразделения? Вполне очевидно, что мы узнали это не из нашего собственного жизненного опыта. Человек не живет сначала в экономике, потом в политике; человек не перемещается из социологии в антропологию, когда путешествует из Англии в Южную Америку, или из истории в социологию, становясь на год старше. Если мы и можем подразделять данные области в нашем опыте и можем сказать, что это действие здесь и сейчас относится к политике, тогда как другое имеет экономический характер, то только потому, что нас уже заранее научили делать такие различия. Следовательно, то, что мы на самом деле знаем, — это не мир сам по себе, а то, что мы с ним делаем; мы претворяем в практику, так сказать, наш образ мира, модель, аккуратно собранную из кирпичиков, приобретенных в процессе обучения и освоения языка.
Итак, можно сказать, что различия между научными дисциплинами не являются отражением естественных различий в человеческом мире. Наоборот, именно разделение труда между учеными, изучающими действия людей (разделение, которое поддерживается и усиливается взаимным разделением сфер компетенции и особых прав решать, что относится к сфере компетенции каждой группы), и проецируется на карту человеческого мира, которую мы храним в своем сознании и затем используем в нашей деятельности. То есть разделение труда между учеными соответственно структурирует мир, в котором мы живем. Значит, если мы хотим рассеять это наваждение и найти сокрытое место того «истинного различия», то нам лучше взглянуть на практику существования самоценных дисциплин, которые, как нам казалось вначале, отражают естественную структуру мира. Теперь мы можем предположить, что как раз эта практика различных дисциплин и составляет различия прежде всего; что если и существует какое-либо отражение, то оно направлено в сторону, противоположную той, о которой мы думали вначале.
Как отличить друг от друга разные виды практики или практические сферы разных научных дисциплин? Видимо, следует начать с их отношения к тому, что они выбрали в качестве предмета своего исследования, а это отношение мало чем различается или не различается вовсе. Все они заявляют о том, что подчиняются одним и тем же правилам поведения, когда занимаются своим предметом. Все они прилагают максимум усилий, чтобы собрать все соответствующие факты. Все они стараются доказать, что факты получены правильно, что они проверены и перепроверены и что информация о них достоверна. Все они пытаются придать своим утверждениям о фактах ту форму, в которой они могут быть ясно и недвусмысленно поняты и проверены на соответствующем им опыте, а также на опыте, который станет доступным в будущем. Все они стараются предвосхитить или устранить противоречия между утверждениями, которые они выдвигают или опровергают, с тем, чтобы не было двух утверждений, которые не могут быть истинными одновременно. Короче говоря, все они пытаются выполнять свои обещания; получать и представлять свои открытия обоснованно, с помощью надежного метода (т. е. предполагается, что используемый метод ведет к истине). Наконец, они готовы принять критику и даже переосмыслить свои утверждения, если они не сделали этого. По сути дела, никаких различий в том, как понимается и реализуется практически задача экспертов и их «торговая марка» — научная ответственность, — не существует. Вряд ли нам удастся обнаружить какое-нибудь различие и в большинстве других аспектов научной практики. Все, кто претендует быть научным экспертом, используют, как очевидно, похожие стратегии сбора и обработки своих фактов: они наблюдают изучаемые объекты в их естественной среде (к примеру, людей в их «нормальной» повседневной жизни дома, в общественных местах, на работе, на досуге) или в специально сконструированных и тщательно контролируемых экспериментальных условиях (когда, например, человеческие реакции просматриваются в целенаправленно организованной среде или когда людей просят отвечать на вопросы, сформулированные так, чтобы предотвратить нежелательное вмешательство); либо используют в качестве фактов данные подобных наблюдений, полученные ранее (скажем, данные переписей населения, архивы полиции, церковные записи). Все ученые разделяют общие логические правила вывода и обоснования (или опровержения) заключений, сделанных из собранных и проверенных ими фактов.
Однако, как нам кажется, наша последняя надежда найти искомое «значимое отличие» заключается в вопросах, характерных для любой отрасли исследования, т. е. вопросах, определяющих точки зрения (когнитивные перспективы), с которых рассматриваются, исследуются и описываются человеческие действия учеными, принадлежащими к различным дисциплинам; а также в принципах, упорядочивающих полученную по этим вопросам информацию и преобразовывающих ее в модель данной сферы или данного аспекта человеческой жизни.
В самом первом приближении, экономику, например, интересует прежде всего соотношение издержек и эффективности человеческого действия. По всей вероятности она рассматривает это действие с точки зрения распоряжения ограниченными ресурсами, к которым стремятся участники действия и хотят использовать их к наибольшей своей выгоде. Следовательно, в экономической науке отношения между действующими индивидами (акторами) выступают как аспекты производства и обмена товарами и услугами, регулируемые спросом и предложением. Очевидно, что эта наука суммирует свои выводы и открытия, составляя из них модель процесса, посредством которого ресурсы образуются, добываются и распределяются в зависимости от спроса.
Со своей стороны политическая наука чаще всего интересуется иным аспектом человеческого действия, а именно тем, который изменяет (или изменяется сам) реальное или предполагаемое поведение других действующих лиц (это воздействие обычно называют властью или влиянием). Политическая наука будет рассматривать человеческие действия с точки зрения асимметрии власти и влияния: поведение одних действующих лиц в ходе такого взаимодействия изменяется гораздо существеннее, нежели поведение других — их партнеров. Она, видимо, организует свои знания вокруг таких понятий, как «власть», «господство», «авторитет» и т. п., относящихся к классу понятий, с помощью которых исследуется дифференциация шансов получить то, по поводу чего стороны вступают в определенные отношения и за обладание чем они борются.
Однако предмет интереса экономики и политической науки (как и других гуманитарных наук) никоим образом не чужд социологии. Вы обнаружите это, как только взглянете на любой список рекомендуемой литературы для студентов-социологов: в нем наверняка найдется хотя бы несколько работ ученых, именующих себя историками, политологами, антропологами. И все же социология, как и другие отрасли социального исследования, имеет собственную познавательную перспективу, т. е. свой угол зрения и набор вопросов для изучения человеческих действий, а также собственную совокупность принципов интерпретации фактов.
Подводя первые и приблизительные итоги, можно сказать: то, что отличает социологию и придает ей особый характер, — это привычка рассматривать человеческие действия как элементы более широких структур, т. е. отнюдь не случайных совокупностей действующих лиц, замкнутых в сети взаимной зависимости (зависимость же есть состояние, при котором вероятность того, что действие будет предпринято, как и вероятность успеха этого действия, меняются в соответствии с тем, что представляют собой другие действующие лица, что они делают или могут сделать). Социологи спросили бы, каковы могут быть последствия этой замкнутости, ограниченности людей рамками отношений взаимной зависимости для их реальных и возможных действий. Такого рода вопросы и формируют объекты изучения социологии, которую более всего интересуют структуры, сети взаимосвязей, взаимообусловленность действия и увеличение или сокращение степеней свободы действующих лиц. Единичные действующие лица, вроде меня или вас, оказываются в поле зрения социологического исследования в качестве единиц, членов или партнеров в сети взаимозависимостей. Можно сказать, что основными вопросами социологии являются следующие: в каком смысле значима эта зависимость одних людей от других, что бы они ни делали; в каком смысле значимо то, что они всегда живут (и не могут иначе) сообществом, во взаимосвязи, обмениваясь, конкурируя и кооперируясь с другими людьми? Все это, охватываемое такого рода вопросами (а не некая отдельная совокупность людей или событий, отобранных для целей исследования, и не определенный набор человеческих действий, отвергнутый другими направлениями исследований), составляет особую область социологического анализа и позволяет определить социологию как относительно самостоятельную отрасль гуманитарных и социальных наук. Итак мы можем заключить, что социология является первым и основным способом осмысления человеческого мира; в принципе его можно осмысливать и другими способами.
Среди этих других способов, от которых мы отделили социологию, особое место занимает так называемый здравый смысл. Вероятно, социология более, чем другие отрасли науки, обнаруживает свою связь со здравым смыслом (с этим богатым, хотя и неорганизованным, несистематическим, зачастую не передаваемым словами знанием, которым мы пользуемся в нашей обыденной жизни), чреватую существенными для ее существования и практики проблемами.
В самом деле, лишь немногие науки озабочены тем, чтобы выразить свое отношение к здравому смыслу; многие даже не замечают его существования, не говоря уже о том, чтобы видеть в нем проблему. Большинство наук определяется в понятиях границ, отделяющих их от других наук, или «мостов», соединяющих с ними, — посредством надежных и систематических, как и они сами, направлений исследований. Они не чувствуют достаточной общности со здравым смыслом, чтобы утруждать себя проведением границ или наведением мостов с ним. И их безразличие, следует признать, вполне обоснованно: здравому смыслу нечего сказать о предметах, которые занимают физику, химию, астрономию или геологию (а если он берется судить о них, то только с любезного позволения самих этих наук и лишь в той мере, в какой им удается сделать свои замысловатые открытия понятными для простых людей). Предмет изучения физики или астрономии вряд ли когда-либо окажется в поле зрения обычных людей — внутри, так сказать, вашего и моего повседневного опыта. И потому мы, будучи не экспертами, а простыми людьми, не можем составить своего мнения об этих предметах без подсказки ученых. Объекты, исследуемые упомянутыми науками, обнаруживают себя лишь при весьма специфических обстоятельствах, которые обычным людям недоступны: на экране ускорителя стоимостью в миллионы долларов, сквозь линзы гигантского телескопа, на дне шахты глубиной в несколько тысяч метров, — только ученые могут их наблюдать и экспериментировать с ними. Эти объекты и события — монополия конкретной отрасли науки (или даже нескольких избранных ее экспериментаторов), собственность, не разделяемая ни с кем, кто не принадлежит к данной профессии. Будучи полновластными собственниками опыта, доставляющего данные для исследований, ученые полностью контролируют обработку, анализ и интерпретацию этих данных. Результаты такой обработки должны подвергаться тщательному критическому рассмотрению со стороны других ученых — но только ученых. Они не должны состязаться с общественным мнением, здравым смыслом или какой-то другой формой проявления мнения неспециалистов по одной простой причине: общественного мнения или точки зрения здравого смысла по изучаемым ими вопросам не существует.
Другое дело — социология. В социологическом исследовании не используются гигантские ускорители или радиотелескопы. Опыт, поставляющий данные для социологических открытий, которые затем ложатся в основу социологического знания, — это опыт обычных людей в их обычной, повседневной жизни; опыт, доступный в принципе (хотя на практике и не всегда) каждому; опыт, который до того, как попасть в магический кристалл социолога, был уже пережит кем-то — несоциологом, человеком, не обученным социологическому языку и не умеющим смотреть на вещи с социологической точки зрения. В конце концов, мы все живем в окружении других людей и взаимодействуем друг с другом. Все мы хорошо усвоили, что наши выгоды зависят и от деяний других людей. Все мы, и не однажды, прошли через страшный опыт разрыва отношений с друзьями и чужими. О чем бы ни толковала социология, все это уже было в нашей жизни. Так и должно быть, иначе мы не смогли бы управлять ходом нашей жизни. Для того чтобы жить в сообществе с другими людьми, нам нужно многое знать; «здравый смысл» и есть название этому знанию.
Глубоко погруженные в повседневную обыденность, мы едва ли когда-нибудь останавливаемся, чтобы осмыслить пройденное нами; еще реже бывает у нас возможность сравнить наш личный опыт с судьбой других людей, увидеть социальное в индивидуальном, общее в частном; именно это и делают для нас социологи. Нам нужно, чтобы они показали, как наши индивидуальные биографии переплетаются с историей, которую мы разделяем с другими людьми. И неважно, удается социологам продвинуться столь далеко или нет, у них все равно нет другой точки отсчета, кроме повседневного опыта, который они разделяют с вами и со мной, т. е. кроме того «сырого материала», который насыщает повседневную жизнь каждого из нас. Уже по одной этой причине социологи, как бы они ни старались следовать примеру физиков или биологов и отстраняться от изучаемых ими объектов (т. е. смотреть на ваш и мой жизненный опыт как на «внешний объект», с точки зрения беспристрастного и отдаленного наблюдателя), не могут полностью уйти от того внутреннего знания об опыте, который они пытаются понять. И как бы они ни старались, им суждено находиться по обе стороны того опыта, который они стремятся интерпретировать, т. е. быть вне и внутри него одновременно. (Заметьте, как часто социологи употребляют личное местоимение «мы», когда сообщают о своих открытиях и формулируют свои общие положения. Они говорят «мы» вместо того, чтобы назвать «объект», включающий в себя и тех, кто исследует, и тех, кого исследуют. Можете ли вы представить себе физика, который говорит о себе и о молекулах «мы»? Или астронома, называющего себя и звезды одним словом — «мы»?)
Но отношения социологии и здравого смысла еще более специфичны. Явления, которые наблюдают и обобщают физики и астрономы, открываются им в невинном, первозданном виде, не обработанными, свободными от ярлыков, готовых определений и предварительных интерпретаций (за исключением тех случаев, когда физики, первыми проводя некоторые эксперименты, вызывают своими интерпретациями само появление этих феноменов). Они ждут, пока физик или астроном не даст им названия, не определит их место среди других явлений и не разместит в упорядоченном целом; короче говоря, пока он не обозначит их, не придаст им значение. Но крайне мало, если существуют вообще, социологических эквивалентов (аналогов), подобных чистым и неизвестным феноменам, которые еще раньше не получили бы какого-нибудь значения. Изучаемые социологами человеческие действия и взаимодействия уже были названы и обдуманы, пусть недостаточно связно и внятно, самими действующими лицами: еще до того, как социолог приступил к их изучению, они были объектами обыденного знания и здравого смысла. Семья, организация, родственные связи, соседские общины, города и деревни, нации и церкви, любые другие совокупности людей, основанные на регулярном взаимодействии, уже давно были наделены значением и смыслом другими действующими лицами, так что теперь действующие лица сознательно обращаются к ним в своих действиях как к носителям данных им значений. Простые люди и профессиональные социологи, описывая эти объекты, могут пользоваться одними и теми же названиями, одним и тем же языком. Какое бы социологическое понятие мы ни взяли, оно всегда будет отягощено значениями (смыслами), данными ему обыденным знанием и здравым смыслом «простых» людей, вроде нас с вами.
Понятно, что социология слишком тесными узами связана со здравым смыслом, чтобы позволить себе так же беспристрастно и высокомерно обращаться с ним, как делают это, например, химия или геология. И нам, простым людям, тоже позволено размышлять о взаимозависимости людей, об их взаимодействиях, и рассуждать со знанием дела. Разве мы сами не испытываем эту взаимозависимость и взаимодействие? К социологическому обсуждению открыт широкий доступ, и пусть не каждый из нас получает приглашение присоединиться к нему, зато нет и четко обозначенных барьеров или запретов. Здесь всегда можно оспорить едва намеченные границы, надежность которых не гарантирована заранее (в отличие от наук, исследующих объекты, недоступные обыденному опыту), как, впрочем, и самостоятельность социологии в пределах социального знания, ее право делать авторитетные заключения о предмете. Именно поэтому для социологии (если она хочет ощущать себя наукой) как упорядоченной совокупности знаний так важно провести границу между собственно социологическим знанием и здравым смыслом, всегда содержащим социологические идеи. Вот почему социологи уделяют этому гораздо больше внимания, чем другие ученые.
Мы можем отметить по меньшей мере четыре изначальных отличия социологии от здравого смысла (нашего с вами «сырого» знания жизни) по их отношению к общей для них сфере — человеческому опыту.
Начнем с того, что в отличие от здравого смысла социология пытается подчиняться строгим правилам ответственных высказываний, которые считаются атрибутом науки (в отличие от других, по общему мнению, более свободных и менее бдительно контролирующих себя форм знания). Это значит, что к социологам предъявляется требование очень четко различать высказывания, проверяемые доступным опытом, и высказывания, которые могут претендовать только на статус условного и непроверенного мнения, причем делать это различие так, чтобы оно было понятно каждому. Социологи, скорее воздерживаются от неверного представления идей, основанных только на их собственных убеждениях (пусть даже самых страстных и глубоких), в качестве проверенных открытий, несущих на себе печать широкого признания и авторитета в науке. Правила ответственных высказываний требуют, чтобы «кухня» исследователя, т. е. вся совокупность процедур, приведших к завершающим выводам и выступающих гарантом их достоверности, была широко открыта для неограниченного общественного обозрения; приглашение повторить испытание, воспроизвести эксперимент и даже, возможно, опровергнуть выводы должно быть обращено к каждому желающему. Такие ответственные высказывания должны соотноситься с другими суждениями по данной теме; они не могут просто отвергнуть другие, уже высказанные точки зрения или умолчать о них, как бы эти точки зрения ни противоречили им и, следовательно, сколь бы неудобными они ни были. Предполагается, что, коль скоро правила ответственных высказываний честно и скрупулезно соблюдены, то тем самым резко повышается (или почти полностью гарантируется) надежность, обоснованность и, в конечном счете, практическая значимость утверждений. Наша общая уверенность в надежности убеждений, удостоверенных наукой, по большей части основывается на ожидании, что ученые и в самом деле следуют правилам ответственных высказываний и что наука как профессия побуждает каждого ученого следовать этим правилам во всех случаях. Что до самих ученых, то они указывают на достоинства ответственных высказываний как на аргумент в пользу превосходства предлагаемого ими знания.
Второе отличие касается размеров поля, на котором собирается материал для суждений. Для большинства из нас, непрофессионалов, такое поле ограничено нашим собственным жизненным миром: тем, что мы делаем; людьми, с которыми мы общаемся; целями, которые мы перед собой ставим и которые, как мы полагаем, другие люди также ставят перед собой. Мы очень редко пытаемся (если вообще пытаемся) подняться над уровнем наших повседневных интересов, расширить горизонт своего опыта, поскольку это требует времени и ресурсов, которые большинство из нас не может позволить себе затратить на такую попытку. И несмотря на невероятное разнообразие жизненных условий, каждый опыт, почерпнутый только из индивидуального жизненного мира, всегда фрагментарен и по большей части односторонен. Эти изъяны можно устранить лишь одним способом: объединить вместе и затем сопоставить друг с другом опыты из бесчисленного множества жизненных миров. И вот тогда раскрывается неполнота любого индивидуального опыта, равно как и сложная совокупность взаимосвязей и взаимозависимостей, в которой он существует, — совокупность, простирающаяся далеко за пределы, обозримые с удобных позиций индивидуальной биографии. В результате такого расширения горизонтов оказывается возможным раскрыть тесную связь между индивидуальной биографией и более общими социальными процессами, которые не всегда осознаются индивидом и которые отдельный индивид наверняка не способен контролировать. Именно поэтому стремление социологов к более широкой, чем индивидуальный жизненный мир, перспективе имеет особое — и не только количественное (больше данных, больше фактов и статистики вместо отдельных случаев), но и качественное — значение в плане использования знаний. Для людей, вроде нас с вами, преследующих свои частные цели в жизни и стремящихся приобрести больший контроль над своим положением, социологическое знание может дать нечто большее, чем простой здравый смысл.
В-третьих, социология и здравый смысл различаются тем, каким способом они придают смысл человеческой реальности; какими удовлетворяются объяснениями по поводу того, почему все устроено так, а не иначе. Думаю, вы гораздо больше меня знаете по собственному опыту, что именно вы являетесь автором своих действий; вы знаете: все, что вы делаете (хотя не всегда это относится к результатам действий), проистекает из ваших намерений, ожиданий или целеполагания. Обычно вы знаете, как поступать, чтобы добиться желаемого положения вещей, будь то стремление обладать предметом, завоевать расположение учителя или прекратить насмешки друзей. Вполне естественно, что точно так же, как вы представляете себе свои действия, вы представляете и действия других. Вы объясняете себе их действия, приписывая их исполнителям намерения, которые известны вам из вашего опыта. И это наверняка единственный способ, каким мы можем придать смысл окружающему нас человеческому миру, — но лишь до тех пор, пока черпаем средства объяснения исключительно из нашего внутреннего жизненного мира. Мы склонны воспринимать все происходящее в мире в целом как результат чьего-то преднамеренного действия: всегда ищем виновников происшествия и, найдя их, думаем, что наше расследование закончено. Мы полагаем, что за каждым событием, которое нам нравится, скрывается чья-то добрая воля, а за тем, которое нам не нравится, — чьи-то недобрые намерения. Нам трудно понять, что ситуация не является результатом преднамеренного действия некоего определенного «субъекта»; и мы так просто не откажемся от нашего убеждения в том, что любая неблагоприятная ситуация может быть исправлена, если только кто-то где-то захочет предпринять правильное действие. Те, кто больше остальных объясняет нам мир — политики, журналисты, рекламные агенты, — подыгрывают этому нашему стремлению, говоря о «нуждах государства», «требованиях экономики» так, как если бы государство или экономика были сделаны по мерке отдельных людей, наподобие нас с вами, и могли иметь нужды и заявлять требования. Вместе с тем они изображают сложные проблемы народов, государств и экономических систем (имеющие глубокие корни в самой структуре этих образований) как результат помыслов и деяний нескольких индивидов, которых можно назвать по имени, поставить перед камерой или взять у них интервью. Социология противостоит такой персонифицированной точке зрения на мир: начиная свои исследования скорее с подобных образований (совокупности зависимостей), чем с индивидуальных действующих лиц и простых действий, она тем самым показывает, что общепринятая метафора преднамеренно действующего индивида не годится для объяснения человеческого мира, включая и наш собственный мир, всецело личный и частный от помыслов до деяний. Рассуждая социологически, мы предпринимаем попытку понять смысл человеческого существования посредством анализа многообразных взаимозависимостей человека — самой непреложной реальности, объясняющей и наши мотивы, и результаты их активизации.
Наконец, давайте вспомним и то, что сила воздействия здравого смысла на способ нашего понимания мира и себя самих (иммунитет здравого смысла к сомнениям, его способность к самоутверждению) зависит от кажущейся самоочевидности его предписаний. Они «покоятся» на рутинной, монотонной природе повседневной жизни, которая «информирует» наш здравый смысл и, в свою очередь, «информируется» им. Пока мы делаем обычные, привычные ходы, заполняющие большую часть нашей повседневной жизни, нам нет нужды заниматься самопроверкой и самоанализом. Если что-то повторяется довольно часто, то оно становится знакомым, а знакомое обладает свойством самообъяснения; оно не создает затруднений и не вызывает любопытства и, таким образом, остается невидимым, неразличимым. Вопросов никто не задает, поскольку все удовлетворены тем, что «вещи таковы, каковы они есть», «люди таковы, каковы они есть», и с этим вряд ли можно что-то поделать. Узнаваемость, привычность — злейший враг любознательности и критичности, а стало быть и всего нового, готовности к переменам. В столкновении с этим знакомым миром, в котором правят привычки и подтверждающие друг друга верования, социология действует как назойливый и раздражающий чужак. Она нарушает уютную и спокойную жизнь своими вопросами, никто из «местных» не припомнит, чтобы их когда-нибудь задавали, не говоря уже об ответах на эти вопросы. Такие вопросы превращают очевидные вещи в головоломки: они «очуждают» знакомое. Вдруг повседневная жизнь становится предметом внимательнейшего изучения. И тогда оказывается, что она — всего лишь один из возможных способов жизни, а не единственный и не «естественный» ее способ.
Подобные вопросы и вторжения в обыденность не каждому могут понравиться; многие предпочли бы отвергнуть такое превращение известного в неизвестное, поскольку оно предполагает рациональный анализ вещей, которые до сих пор просто «шли своим чередом». (Можно вспомнить киплинговскую многоножку, без труда переставлявшую все свои сто ножек, пока коварный льстец не начал превозносить ее исключительную память, благодаря которой она никогда не поставит тридцать седьмую ножку раньше тридцать пятой, пятьдесят вторую — до девятнадцатой… Поверив в это, несчастная многоножка не могла больше ступить и шагу…) Кто-то может почувствовать себя шокированным и даже униженным: то, что было таким знакомым и чем гордился, теперь обесценено, выставлено никчемным и смешным, и сопротивление его вполне понятно. И все же превращение, о котором идет речь, имеет свои преимущества, а самое важное в нем то, что оно может открыть новые, до сих пор неведомые возможности для жизни с большим самосознанием и пониманием и даже с большей свободой и самоконтролем.
Для тех, кто считает, что осознанная жизнь стоит усилий, социология будет желанным подспорьем. Оставаясь в непрерывном и тесном взаимодействии со здравым смыслом, она стремится преодолеть его ограниченность и раскрыть возможности, которые здравый смысл, естественно, старается скрыть. Обращаясь к нашему обыденному знанию и ставя его под сомнение, социология может подтолкнуть нас к переоценке нашего опыта, обнаружить еще очень много способов его интерпретации и в результате поможет нам стать более критичными, менее довольными таким положением вещей, каким оно сложилось сегодня или каким мы его себе представляем (или, скорее, поможет нам никогда не считать эти проблемы несуществующими).
Искусство мыслить социологически может оказать каждому из нас самую важную услугу, а именно: сделать нас более чуткими; обострить наши чувства, шире раскрыть нам глаза, и тогда мы сможем исследовать человеческие ситуации, остававшиеся для нас до сих пор не заметными. Раз мы стали лучше понимать, как посредством использования власти и человеческих ресурсов осуществляются, реализуются кажущиеся на первый взгляд естественными, неизбежными, неустранимыми, вечными аспекты нашей жизни, то уже вряд ли сможем согласиться с тем, что они недосягаемы для человеческого действия, в том числе и нашего собственного. Социологическое мышление само по себе, можно сказать, по праву обладает собственной силой, именно антизакрепляющей силой. Оно возвращает гибкость миру, до сих пор подавляющему своей жесткостью, и представляет его отличным от того, каким он есть сейчас. Можно утверждать, что искусство социологического мышления ведет к увеличению объема и практической эффективности нашей с вами свободы. Индивидом, освоившим и применяющим это искусство, уже нельзя просто манипулировать; он сопротивляется насилию и регулированию извне, тем силам, с которыми, как до сих пор считалось, бесполезно бороться.
Мыслить социологически — значит несколько больше понимать всех людей, окружающих нас, их пристрастия и мечты, их опасения и несчастья. Более того, мы сможем не только лучше понимать людей, но даже, возможно, и больше уважать их право делать то, что делаем и чем дорожим мы, — их право самим выбирать тот образ жизни, какой им больше нравится, строить свои жизненные планы, самоопределяться и, наконец (но не в последнюю очередь), всеми средствами защищать свое достоинство. Мы сможем тогда понять, что, делая все это, другие люди наталкиваются на препятствия того же рода, что и мы сами, и так же, как и мы, узнают горечь неудач. Фактически социологическое мышление может сильно способствовать нашей общей солидарности, основанной на взаимопонимании и уважении, солидарности нашего совместного противостояния страданиям и общей обреченности. Если такой результат будет достигнут, то дело свободы укрепится и будет возведено в ранг общего дела.
Социологическое мышление может также помочь нам понять другие формы жизни, недоступные нашему непосредственному опыту и зачастую внедренные в наше обыденное знание в качестве стереотипов — односторонних, тенденциозных карикатур на образ жизни людей, отличных от нас (удаленных пространственно или в силу нашего к ним презрения и подозрительности). Проникновение во внутреннюю логику и смысл форм жизни, отличных от нашей собственной, может заставить нас вновь задуматься над мнимой непроницаемостью границы между нашим «Я» и «другими», между «нами» и «ними». Наконец, это заставит нас усомниться в естественности и предустановленности подобной границы. Новое понимание поможет облегчить наши связи с «другим» и скорее прийти к взаимному соглашению. Оно заменит страх и противостояние терпимостью, что также будет способствовать нашей свободе, поскольку нет более надежной гарантии индивидуальной свободы, чем свобода для всех, т. е. и для тех людей, которые предпочтут использовать свою свободу, чтобы начать жизнь, отличную от моей. Только при таких условиях может осуществиться наша собственная свобода выбора.
В силу вышеуказанных причин укрепление индивидуальной свободы посредством подведения под нее прочного основания коллективной свободы может иметь и дестабилизирующий эффект для существующих отношений власти (которые ее охранители обычно представляют как социальный порядок). Потому-то так часто социологию и обвиняют в «политической неблагонадежности» правительства и другие власть предержащие ревнители социального порядка (особенно правительства, закосневшие в своем стремлении ограничивать свободу подданных и всячески подавлять их сопротивление такому правлению, которому они должны подчиняться и которое должно быть представлено общественности как «необходимое», «неизбежное» или «единственно разумное»). Когда возобновляются выступления против «подрывного влияния» социологии, тогда можно уверенно предположить, что уже готовится атака на способность подданных сопротивляться насильственному регулированию их жизни. Такие выступления зачастую совпадают с крутыми мерами против существующих форм самоуправления и самозащиты коллективных прав, или, другими словами, против коллективных основ индивидуальной свободы.
Говорят, что социология — это сила власть неимущих. Хотя так бывает не всегда. Нет гарантии, что, обретя социологическое понимание, можно устранить и освободиться от противодействия «грубых реалий» жизни; сила понимания не подходит для насильственного давления, соединенного с безропотным и покорным здравым смыслом. И все же, если бы не это понимание, шансы на успех индивида в управлении собственной жизнью и в коллективном управлении общими условиями жизни были бы еще меньше.
Эта книга написана с одной целью: помочь обычному человеку, вроде нас с вами, заглянуть за горизонты собственного опыта и показать, как можно по-новому интерпретировать, казалось бы, знакомые стороны жизни, увидеть их в ином свете. Все главы посвящены какому-либо аспекту повседневной жизни, дилеммам и ситуациям выбора, с которыми мы постоянно сталкиваемся в обыденной жизни, однако глубоко поразмыслить над которыми обычно не имеем достаточно ни времени, ни возможности. Каждая глава — это попытка побудить к таким размышлениям; но не для того, чтобы «исправить» ваши знания, а с тем, чтобы расширить их; не для того, чтобы заменить заблуждение непререкаемой истиной, а чтобы подтолкнуть к критическому осмыслению тех верований, которые до сих пор были вне всякой критики, чтобы привить вкус к самоанализу и привычке подвергать сомнению взгляды, претендующие быть само собой разумеющимися.
Таким образом, эта книга предназначена для личного пользования — быть подспорьем в истолковании проблем, возникающих в повседневной человеческой жизни. И потому от многих других книг по социологии она отличается тем, что составлена согласно логике повседневной жизни, а не логике научной дисциплины, изучающей эту жизнь. Здесь коротко упомянуты лишь несколько вопросов, занимающих и профессиональных социологов в силу того, что они сталкиваются с ними в своей собственной жизни (т. е. в жизни профессиональных социологов); многие же профессиональные темы опущены полностью. Вместе с тем многому, что находится сегодня на острие социологического знания, мы уделили внимание, соответствующее его значению в обыденной жизни. Следовательно, никакой всеохватывающей картины социологического знания, каким мы его находим в академических заведениях, где оно используется и преподается, здесь нет. Для того чтобы получить такую всестороннюю картину, читателю придется обратиться к другим текстам; в конце книги даны некоторые советы по этому поводу.
Книга, задуманная как комментарий к нашему повседневному опыту, не может быть систематизирована более, чем сам опыт. Поэтому изложение идет, скорее, кругами, нежели по прямой линии. Некоторые темы появляются повторно с целью еще раз взглянуть на них в свете того, что обсуждается в данный момент. Именно так и возможны попытки понять что-либо: каждый шаг вперед на пути осмысления с необходимостью предполагает возврат к предшествующим этапам нашего продвижения. И то, что, как казалось, мы уже поняли, ставит новые знаки вопросов, которые мы раньше не замечали. Этот процесс может продолжаться бесконечно, но в нем многое можно обрести.
Глава 1 Свобода и зависимость
Возможно, наиболее общим в нашем опыте является то, что мы одновременно и свободны, и несвободны, что, понятно, более всего нас смущает. Это, несомненно, — одна из наиболее сложных загадок человеческого существования, которую пытается разрешить социология.
Я свободен: я могу выбирать и делаю свой собственный выбор. Я могу продолжать читать эту книгу, а могу прекратить чтение и выпить чашку кофе. Или вообще забыть об этой книге и пойти прогуляться. Более того, я могу вообще отказаться от своего плана — изучать социологию и получить диплом, а вместо этого начать искать работу. Коль скоро я могу выбрать все это, то мое намерение прочитать данную книгу, изучить социологию и получить диплом в колледже есть результат моего выбора; это те направления действия, которые я выбрал из доступных мне альтернатив. Принятие решений свидетельствует о моей свободе. В самом деле, свобода означает способность решать и выбирать.
Даже если я особенно и не задумываюсь над своими выборами и принимаю решения, не размышляя глубоко над всеми другими возможностями действия, то другие люди напомнят мне о моей свободе. Мне скажут: «Ты сам так решил, и никто, кроме тебя, не отвечает за последствия» или «Никто не заставлял тебя делать это, поэтому винить можешь только себя!» Если же я сделаю что-то, чего другие мне не позволяли делать или от чего обычно воздерживаются (если я, так сказать, нарушу правило), то я могу быть наказан. Наказание подтвердит мою ответственность за то, что я сделал; оно подтвердит, что я мог, если бы захотел, воздержаться от нарушения правила. Я мог бы, например, явиться на занятие, а не отсутствовать без уважительной причины. Иногда мне говорят о моей свободе (и о моей ответственности) в более сложной для моего восприятия форме, чем в приведенных примерах. Например, мне могут сказать, что я сам полностью виноват в том, что остаюсь безработным, а если бы как следует постарался, то смог бы наладить жизнь. Или что я мог бы стать совсем другим человеком, если бы разбился в лепешку ради достижения своей цели.
Если этих последних примеров недостаточно для того, чтобы заставить меня остановиться и задуматься, действительно ли я свободен и сам контролирую свою жизнь (я мог старательно искать работу, но не найти, поскольку не было ни одного предложения; или я мог изо всех сил пытаться начать другую карьеру, однако путь туда, куда я хотел, был для меня закрыт), то в моем жизненном опыте было достаточно много и других ситуаций, которые вполне ясно показали мне, что моя свобода фактически ограничена. Подобные ситуации научили меня: одно дело — выбирать, что решать самому, какой цели следовать и стремиться всеми силами добиться ее; и совсем другое дело — иметь возможность действовать в соответствии с намеченной целью и достичь ее.
Во-первых, я прежде всего узнал, что и другие люди могут стремиться к тем же целям, что и я, но не все могут достичь их, поскольку количество того, что мы все желаем, ограничено, т. е. меньше, чем людей, претендующих на него. Если же это тот случай, когда я оказываюсь вовлеченным в конкуренцию, то исход моего участия в ней зависит не только от моих усилий. Например, я могу претендовать на место в колледже, зная, что на каждое место претендуют двадцать абитуриентов, что большинство из них обладают необходимой подготовкой и тоже пользуются своей свободой разумно, т. е. делают именно то, что и должны делать люди, собирающиеся стать студентами. И тут окажется, что результаты моих и их усилий зависят от других людей — тех, кто решает, сколько мест предоставлять, кто оценивает навыки и усилия абитуриентов. Именно они устанавливают правила игры, в то же время являясь и судьями, поскольку за ними остается последнее слово в отборе победителей. У них есть право отказать, и на этот раз их свобода выбора и принятия решений касается моей судьбы и судьбы моих соперников, т. е. именно их свобода, как оказывается, устанавливает пределы моей свободы. Мое положение зависит от того, какие они принимают решения относительно своих действий, что означает: их свобода выбора привносит элемент неопределенности в мою ситуацию. Данный фактор я не могу контролировать, он оказывает огромное влияние на результаты моих стараний. Я зависим от этих людей, потому что они контролируют ту самую неопределенность. В конце экзаменационного дня именно они огласят вердикт о том, были ли мои усилия достаточными, чтобы быть принятым.
Во-вторых, я узнал, что моего решения и доброй воли еще недостаточно, если у меня нет средств для того, чтобы обеспечить осуществление своего решения. Например, в поисках работы я могу решить поехать на юг страны, где ее много, но потом обнаружить, что квартплата и налоги на юге непомерные и превышают мои средства. Или у меня может возникнуть желание убежать от мерзости запустения городских жилищ и обосноваться в зеленом, чистом пригороде, однако я вновь пойму, что не могу себе этого позволить, поскольку дома в лучших и вожделенных местах стоят больше, чем я могу себе позволить. Опять же, меня может не удовлетворять образование, которое получают мои дети в школе, и я могу пожелать, чтобы их обучали лучше. Но там, где я живу, может не оказаться другой школы, и мне скажут, что, если я хочу лучшего образования для своих детей, то мне следует послать их в более богатую, лучше оборудованную частную школу и заплатить взносы, которые зачастую бывают выше, чем весь мой доход. Эти примеры (как и многие другие, которых вы тоже сможете привести немало) говорят о том, что сама по себе свобода выбора еще не гарантирует свободу эффективно действовать по собственному выбору; еще меньше она обеспечивает свободу достижения желаемого результата. Для того чтобы действовать свободно, кроме свободной воли мне нужны еще и ресурсы.
Обычно такими ресурсами являются деньги, хотя они — не единственный ресурс, от которого зависит свобода действий. Может оказаться, что свобода действий в соответствии с моими желаниями зависит не от того, что я делаю, и даже не от того, что я имею, а от того, что я есть. Например, мне могут запретить войти в какой-нибудь клуб, не принять на работу из-за каких-то моих качеств, скажем, расы, пола, возраста или национальности. Ни одно из этих качеств не зависит ни от моей воли, ни от моих действий, и никакая свобода не позволит мне изменить их. Иначе говоря, доступ в клуб для меня, принятие на работу или в школу может зависеть от моих прежних заслуг (или от отсутствия таковых) — приобретенных навыков, диплома, стажа предшествующей работы, накопленного опыта или местного акцента, усвоенного в детстве и до сих пор не исправленного. В таких случаях я могу убедиться, что такие требования не совпадают с принципом моей свободы воли и ответственности за мои действия, поскольку отсутствие навыка или послужного списка — это длящиеся по сей день последствия того, что я выбрал в прошлом. Теперь я ничего не могу поделать, чтобы изменить свой прежний выбор. Моя свобода сегодня ограничена прошлой свободой; я «предопределен», т. е. связан в настоящей своей свободе своими прошлыми действиями.
В-третьих, может оказаться (рано или поздно, но наверняка), что, если я, скажем, британец и мой родной язык — английский, то уютнее всего я чувствую себя дома, среди людей, говорящих по-английски. И я не уверен, что в другом месте мои действия имели бы тот же эффект, как не уверен и в своих действиях, и потому чувствую себя несвободным. Я не могу свободно общаться, не понимаю смысла того, что делают другие люди, и я не знаю, что мне самому делать, чтобы выразить свои намерения и достичь желаемого результата. Я чувствую себя растерянным и во многих других ситуациях, не только при посещении других стран. Подобно этому, выходец из рабочей семьи может чувствовать себя неловко среди богатых соседей из среднего класса, или, например, будучи католиком, я могу обнаружить, что не могу жить, как тот, кто разделяет идею о свободе воли и обычаи, согласно которым разводы и аборты признаются как вполне ординарные факты жизни. Если бы у меня было время поразмыслить над такого рода опытом, я, вероятно, пришел бы к выводу, что и та группа, в которой я чувствую себя как дома, тоже налагает ограничения на мою свободу. Именно в этой группе я наиболее полно могу осуществить свою свободу (что означает: только в ней я могу правильно оценить ситуацию и выбрать способ действия, приемлемый для других и вполне соответствующий ситуации). Однако уже сам факт, что я так хорошо приспособился к действиям в группе, к которой принадлежу, ограничивает мою свободу действий в огромном, плохо размеченном, зачастую отталкивающем и пугающем пространстве за пределами группы. Научив меня своим способам и приемам, моя группа позволяет мне на практике действовать свободно. Но тем самым она ограничивает эту практику своей территорией.
Таким образом, в том, что касается моей свободы, группа, к которой я принадлежу, играет неоднозначную роль. С одной стороны, она позволяет мне быть свободным; а с другой — ограничивает, очерчивая пределы моей свободы. Она позволяет мне быть свободным постольку, поскольку наделяет меня желаниями, которые приемлемы и «реалистичны» внутри моей группы, учит выбирать способы действия, помогающие достичь желаемого, формирует у меня способность правильно понимать ситуацию и, следовательно, точно ориентироваться относительно действий и намерений других людей, влияющих на результаты моих усилий. В то же время эта группа фиксирует территорию, в пределах которой я могу правильно пользоваться своей свободой. И все то наследие, которым я ей обязан, все бесценные навыки, приобретенные в группе, превращаются из достоинств в препятствия в тот момент, когда я осмеливаюсь переступить границы своей группы и попадаю в иную среду, где поощряются другие желания, признается правильной другая тактика поведения, а связь между поведением людей и их намерениями не похожа на ту, к которой я привык.
Это, однако, не единственный вывод, который я мог бы сделать, если бы имел возможность и желание подумать над своим опытом. В частности, я мог бы обнаружить и нечто более обескураживающее, а именно: та самая группа, которая играет столь неоднозначную и все же важную роль в моей свободе, не является предметом моего свободного выбора. Я — член этой группы уже в силу своего рождения в ней. Территория моего свободного действия как таковая тоже не есть предмет моего свободного выбора. Группа, сделавшая меня свободным человеком и продолжающая охранять область моей свободы, взяла на себя и контроль над моей жизнью (над моими желаниями, целями, а также действиями, которые мне следует предпринимать, и действиями, от которых следует воздержаться, и т. п.). То, что я стал членом этой группы, не было актом моей свободы. Наоборот, это было проявлением моей зависимости. Я не могу решить, быть ли мне французом, или быть черным или принадлежать, к среднему классу. Я могу лишь принять это как свою судьбу — невозмутимо или смиренно; могу признать как неизбежность, предназначенье: смаковать и всячески превозносить его, решив извлечь из него все возможное — афишировать свое французское происхождение, гордиться красотой своего черного тела или вести себя в жизни осторожно и добропорядочно, как и подобает приличному представителю среднего класса. Однако если я захочу изменить свое состояние, предписанное группой, и стать каким-то иным, то мне придется стараться изо всех сил. Такое изменение потребует гораздо больше усилий, самопожертвования, решительности и выносливости, чем нормальная, спокойная и уютная жизнь соответственно воспитанию, полученному в той группе, в которой я был рожден. И тогда может оказаться, что моя собственная группа — это мой самый страшный противник в моей борьбе. Контраст между легкостью плавания по течению и трудностью плавания против него и составляет секрет той власти, которую имеет надо мной моя группа, — секрет моей зависимости от нее.
Если я присмотрюсь внимательнее и составлю список всего, чем я обязан группе, к которой (к счастью или к несчастью) принадлежу, то он получится довольно длинным. Для краткости я могу разделить все, перечисленное в списке, на четыре большие категории. Во-первых, я разделю цели на те, осуществления которых стоит добиваться, и те, которые не стоят моих хлопот. Если бы мне довелось родиться в семье из среднего класса, то, скорее всего, я бы постарался получить высшее образование, потому что это казалось бы мне обязательным условием правильной, успешной, хорошей жизни; если бы мне случилось родиться в рабочей семье, то вполне вероятно, я бы рано бросил школу и занялся работой, которая не требует длительного обучения, но позволяет непосредственно «наслаждаться жизнью» и в дальнейшем, возможно, поддерживать семью. Таким образом, я беру у моей группы цель, ради достижения которой я должен приложить свою способность «свободного выбора». Во-вторых, средства, которые я использую, добиваясь какой-либо цели, внушенной мне группой, я тоже получаю от группы; они составляют мой «частный капитал», который я могу использовать для осуществления своих планов. Эти средства — речь и «язык тела», с помощью которых я сообщаю о своих намерениях другим, та энергия, с которой я посвящаю себя согласно каким-либо устремлениям, в отличие от других, и вообще это формы поведения, соответствующие, как считается, той задаче, которую я ставлю перед собой в жизни. В-третьих, критерий соответствия, т. е. искусство различать вещи и людей, соответствующих и не соответствующих поставленной мною задаче. Моя группа учит меня отличать моих союзников от врагов или соперников, равно как и от тех, кто ни тем, ни другим не является и кого я могу не принимать в расчет, пренебрегать и обращаться презрительно. И наконец, но не в последнюю очередь, это моя «карта мира», и то, что обозначено на ней, по сравнению с тем, что можно увидеть на картах других, на моей выглядит белыми пятнами. И все-таки эта карта помогает мне выбирать понятные жизненные маршруты — набор вполне реальных жизненных планов, подходящих для «людей вроде меня». В общем, я очень многим обязан моей группе, а главное — теми огромными знаниями, которые помогают мне каждый день и без которых я просто не смог бы жить.
В большинстве случаев я, фактически, не осознаю, что владею всеми этими богатыми знаниями. Если бы меня спросили, например, каким кодом я пользуюсь в общении с другими людьми и расшифровываю значение их действий по отношению ко мне, то, по всей вероятности, ничего вразумительного я бы не смог ответить. Я бы, наверное, просто не понял, о чем меня спрашивают, а если бы и понял, то не смог бы объяснить этот код (как не могу объяснить простейшие грамматические правила, хотя употребляю их точно, не задумываясь и без особого труда). Вот так и знания, которые нужны мне, чтобы справляться с повседневными жизненными проблемами, обитают где-то внутри меня. Они каким-то образом даны в мое распоряжение если не в виде правил, поддающихся формулировке, то как набор практических навыков, которыми я свободно пользуюсь изо дня в день всю мою жизнь.
Именно благодаря этим знаниям я чувствую себя уверенно, и мне не надо каждый раз искать правильные ходы. И если я свободно владею этими знаниями, даже не осознавая того, то только потому, что большую часть их основных понятий я усвоил еще в раннем детстве, из которого мы мало что помним. Вот почему, даже углубляясь в свой жизненный опыт или личные воспоминания, я почти ничего не могу сказать о том, как я приобрел эти знания. И именно из-за такой моей забывчивости относительно их происхождения они закрепились так основательно и возымели власть надо мной, что я воспринимаю их как само собой разумеющееся, как нечто «естественное» и никогда не сомневаюсь в них. Для того чтобы выяснить, как знания повседневной жизни формируются реально и затем «вручаются» мне группой, я должен обратиться к результатам исследований, проведенных профессиональными психологами и социологами. А обратившись к ним, я начинаю ощущать, что эти результаты настораживают: то, что казалось мне самоочевидным, само собой разумеющимся и естественным, теперь оказывается набором верований, в основе которых лежит лишь авторитет группы, одной из многих.
Пожалуй, никто так не содействовал осмыслению процесса интернализации, освоения групповых норм и стандартов, как американский социальный психолог Джордж Герберт Мид. Прежде всего он ввел основные понятия для описания процесса получения важнейших навыков социальной жизни, и с тех пор эти понятия широко используются в социологии. Самыми известными среди них являются понятия «I» («Я») и «Ме» («Меня», «Мне»), отражающие двойственность личности, как бы разделенность ее на две части: внешнюю (точнее, ту, которая, как кажется человеку, привносится извне, из общества, его окружающего, в виде требований и образцов поведения) часть личности, т. е. «Ме»; другая же часть, «I» — это внутренний стержень личности, с позиций которого рассматриваются, оцениваются, накапливаются и окончательно оформляются внешние социальные требования и ожидания. Роль, которую играет группа в формировании личности, проявляется посредством «Ме». Дети знают, что за ними наблюдают, их оценивают, наказывают, заставляют вести себя определенным образом, наставляют на путь истинный, если они выбиваются из колеи. Этот опыт откладывается в личности растущего ребенка, концентрируясь в образе тех ожиданий, которые предъявляют к нему (или к ней) другие. Они — другие — видимо, имеют какое-то средство для того, чтобы различать правильное и неправильное поведение. Они поощряют правильное поведение и наказывают неправильное как отклонение от нормы. Воспоминания о поощряемых и наказуемых действиях постепенно смешиваются в неосознанное понимание правила — что ожидают и чего не ждут — внутри «Ме», которое является не чем иным, как образом личности, сложившимся об этом человеке как личности у других. Более того, «другие» — это не любые и не случайно попавшие в его окружение. Из множества людей, с которыми ребенок вступает в контакты, он как личность выбирает лишь некоторых, значимых других, а именно тех, чьи оценки и реакции значат для него гораздо больше, чем оценки кого бы то ни было, их оценки более устойчивы, постоянны и воспринимаются острее, а потому они и более эффективны.
Из сказанного можно было бы сделать неверное заключение, будто развитие личности путем обучения и воспитания — это пассивный процесс и будто эту работу делают другие, и только они, напичкивая ребенка всякими предписаниями и — с помощью кнута или пряника — уговаривая и заставляя послушно следовать им. На самом деле все обстоит иначе. Ребенок как личность формируется во взаимодействии со средой. Активность и инициатива характерны для обеих сторон этого взаимодействия. И едва ли может быть иначе. Одно из первых открытий, которые должен сделать для себя ребенок, это то, что «другие» различаются между собой. Они редко видят друг друга в глаза и отдают команды, не согласующиеся между собой, а потому и не выполнимые одновременно. Во многих случаях выполнение одной команды невозможно без отмены другой. В числе первых навыков, которые должен усвоить ребенок, следует назвать навыки отбора и отсева; такие навыки нельзя усвоить, не развив способности отвергать и выдерживать нажим, занимать позицию, сопротивляться действию хотя бы части внешних сил. Другими словами, ребенок учится выбирать и принимать ответственность за свои действия. Как раз эту способность и представляет собой та часть личности, которую именуют «I». Зная о противоречивости и непоследовательности содержания «Me» (в силу противоречивости сигналов об ожиданиях, поступающих мне от различных значимых других) «I» должен отстраниться, дистанцироваться и взглянуть на внешние принуждения, воспринятые моим «Ме», как бы со стороны; проверить их, классифицировать и оценить. В конечном счете именно «I» делает выбор и тем самым становится истинным, полноправным «автором» предпринимаемого действия. Чем сильнее «I», тем более автономна личность ребенка. Сила «I» проявляется в способности и готовности личности подвергать социальное давление, которое усваивает, интернализует ее «Ме», сомнениям, проверять его истинную силу и пределы, испытывать и принимать последствия.
Важнейшая задача различения «Ме» и «I» (т. е. возникающей у ребенка как личности способности наблюдать, отслеживать, осмыслять требования значимых других) решается благодаря активности ребенка в процессе исполнения им своей роли. Играя роли других, например матери или отца, воспроизводя их поведение (включая их поступки по отношению к самому ребенку), он учится искусству смотреть на действие как на воспринятую роль, т. е. нечто такое, которое можно делать, а можно и не делать; действие означает поступок, соответствующий ситуации, и в зависимости от ситуации оно может меняться. Но тот, кто действует подобным образом, еще не настоящий я — не «I». По мере того, как дети подрастают и накапливают знание о различных ролях, они все увереннее участвуют в играх, в которых есть не только простое исполнение роли, но и элементы кооперации и координации с другими исполнителями ролей. Ребенок все чаще пробует себя в искусстве, самом главном для истинно независимой личности, — в выборе соответствующего характера действия в ответ на действия других, в побуждении или принуждении других действовать так, как нужно ему.
Благодаря исполнению ролей игры, ребенок приобретает привычки и навыки, навязываемые ему извне социальным миром, и вместе с тем способность действовать в этом мире как свободная — независимая и ответственная — личность. В этот период ребенок вызывает особое, двойственное отношение к себе, которое мы все хорошо знаем: он — ставшая личность (смотрит на свое собственное поведение как бы со стороны, одобряя или осуждая его, пытаясь контролировать и, если необходимо, исправлять) и одновременно он — становящаяся личность (спрашивает себя: «Что я представляю собой на самом деле?», «Кто я такой?», время от времени восставая против навязываемой ему другими людьми модели поведения, стремясь вместо нее к тому, что он называет «настоящей жизнью», соответствующей его истинной индивидуальности). Я ощущаю противоречие между свободой и зависимостью как внутренний конфликт между тем, что я хочу делать, и тем, что я обязан делать, следуя тому, что значимые другие сделали из меня (или намеревались сделать).
Значимые другие не лепят личность ребенка из ничего; они, скорее, запечатлевают свой образ мира на «естественных» (досоциальных, или, точнее, довоспитательных) предрасположенностях ребенка. И хотя в целом такие предрасположенности — инстинкты и влечения — играют в человеческой жизни меньшую роль, чем в жизни животных, тем не менее они присутствуют в биологическом наследии каждого новорожденного человеческого существа. Что это за инстинкты — вопрос спорный. Ученые расходятся во мнениях, причем их точки зрения разнятся достаточно сильно: от попыток объяснить большую часть якобы социально навязанного поведения только причинами биологического характера (биологическими детерминантами) до веры в почти безграничные возможности социального преобразования человеческого поведения. И все же большинство ученых, скорее, поддерживает притязания общества на его право устанавливать и навязывать стандарты приемлемого поведения, равно как и сам аргумент, поддерживающий эти притязания: социальное обучение необходимо, поскольку естественные предрасположенности людей делают их совместное существование либо невозможным, либо чреватым насилием и опасностями. Большинство ученых согласны с тем, что воздействие некоторых естественных влечений особенно сильно, и потому определенная группа людей должна тем или иным способом сдерживать их. Чаще всего в качестве таких влечений, которые весьма рискованно оставлять без контроля, называют сексуальные и агрессивные влечения. Ученые отмечают, что если бы им дали полную свободу, то в результате они привели бы к конфликтам такой силы, которую не смогла бы сдержать ни одна группа, и социальная жизнь вряд ли была бы возможна.
Все выжившие группы должны были сформировать, как нам говорят, эффективные способы приручения, сдерживания и подавления, которые позволяют контролировать проявления этих влечений. Зигмунд Фрейд — основатель психоанализа — предположил, что весь процесс саморазвития и социальной организации групп людей можно объяснить, исходя из необходимости и потребности практических усилий для контроля за проявлениями социально опасных влечений, особенно сексуальных и агрессивных инстинктов. Фрейд полагал, что инстинкты неуничтожимы, их нельзя разрушить, а можно только «подавить», вытеснить в подсознание. В этом чистилище их удерживает «суперэго»[1], усвоенное, интернализованное индивидом знание требований и принуждающих воздействий со стороны группы. Фрейд метафорически назвал «суперэго» «гарнизоном, оставленным в завоеванном городе» победоносной армией общества, чтобы держать в постоянном подчинении подавленные инстинкты — подсознательное. Само «эго», таким образом, оказывается между двумя силами: инстинктами, вытесненными в подсознание, но все еще могущественными и мятежными, с одной стороны, и «суперэго» (родственное мидовскому «Ме»), вынуждающего «эго» (родственное мидовскому «I») держать влечения в подсознании и предотвращать их побег из заточения. Норберт Элиас, германско-британский социолог, который проанализировал гипотезы Фрейда в обширном историческом исследовании, предположил, что личностный, индивидуальный опыт, имеющийся у каждого из нас, происходит именно из этого двойного давления. Уже упомянутое двойственное отношение к нашей собственной личности проистекает из двойственности (амбивалентности) того положения, в которое нас загоняют два побуждения, действующие в противоположных направлениях. Живя в группе, я должен контролировать себя. Личность есть нечто, которое необходимо контролировать, и я — один из тех, кто должен это делать…
Несомненно, все общества контролируют естественные наклонности своих членов и делают все, чтобы сохранить определенный уровень допустимых взаимодействий. Однако менее определенны наши знания относительно другого вопроса, а именно: только ли нездоровые, антисоциальные стороны естественных задатков подавляются в этом процессе (хотя именно это и заявляют власти, выступающие от имени всего общества). Насколько нам известно, нет достаточно определенных свидетельств того, что человек по природе своей агрессивен и потому его надо укрощать и приручать. То, что пытаются представить как вспышку естественной агрессивности, зачастую оказывается лишь стремлением выплеснуть бессердечие и ненависть — качества, имеющие скорее социальное, нежели генетическое, происхождение. Другими словами, если верно утверждение, что группы обучают своих членов определенным навыкам поведения и контролируют его, то из него отнюдь не следует, что они тем самым делают их поведение более человечным и нравственным. Это означает только, что в результате такого «натаскивания», надзора и корректировок поведение члена группы лучше приспосабливается к образцам, которые в данной социальной группе признаются правильными и поощряются.
Процесс формирования «Ме» и «I», подавления инстинктов и выработки «суперэго» часто называют социализацией. Я социализирован (т. е. преобразован в существо, способное жить в обществе), поскольку могу, благодаря интернализации социального принуждения, жить и действовать в группе; поскольку я приобрел навыки поведения, разрешенного обществом, и, соответственно, навык быть «свободным», нести ответственность за свои действия. А те значимые другие, которые сыграли такую важную роль в приобретении этих навыков, могут рассматриваться как агенты социализации. Но кто они? Как мы видели, реальной силой, непосредственно участвующей в развитии личности, являются представления ребенка о намерениях и ожиданиях других людей (причем не обязательно тех намерениях и ожиданиях, которые на деле разделяют эти другие); ребенок сам осуществляет отбор значимых других из множества людей, попадающих в его поле зрения. По существу свобода выбора у ребенка неполная; одни «другие» могут проникнуть в мир ребенка и повлиять на его выбор быстрее, чем иные «другие». Тем не менее, вырастая в мире, населенном группами, которые движутся к разным целям и у которых разные стили жизни, ребенок едва ли избежит выбора; если требования «других» противоречивы и не могут быть удовлетворены в одно и то же время, то некоторым из них должно быть уделено больше внимания, чем другим, и соответственно они должны быть более значимыми.
Необходимость дифференцированно определять значение (соответствие) требований не связана с положением ребенка. И вы, и я ежедневно испытываем эту необходимость. Изо дня в день я должен выбирать между требованиями семьи, друзей, начальников, каждый из которых одновременно чего-то хочет от меня. Я вынужден рисковать утратить расположение любимых и уважаемых мною друзей, чтобы умиротворить кого-то еще, которого я люблю не меньше. Когда бы я ни высказывал свои политические взгляды, я могу быть уверен, что некоторым людям из тех, кого я знаю и уважаю, эти взгляды не понравятся, и они затаят на меня обиду за такие высказывания. Я мало что могу сделать для предотвращения подобных неприятных последствий собственного выбора. Приписывание соответствия с неизбежностью означает и приписывание несоответствия; выбор одних людей как значимых означает, с необходимостью, признание кого-то другого незначимым или, по крайней мере, менее значимым. Зачастую это предполагает риск вызвать чье-то возмущение, и он возрастет в зависимости от степени гетерогенности (неоднородности) среды, в которой я живу, — от степени ее конфликтности, разорванности на группы с противоположными идеалами и образом жизни.
Отобрать значимых других из этого окружения — значит сделать выбор из многих групп одной, которая становится референтной группой; по ней я сверяю свое поведение, ее я принимаю за образец для всей своей жизни или для определенного ее периода. Исходя из того, что я знаю о группе, выбранной мною в качестве референтной, я буду оценивать свое поведение и делать выводы о его качестве и соответствии. Обладая этим знанием, я буду испытывать приятное ощущение, если сделанное мною будет правильным, или почувствую неприятное предостережение о том, что мои действия должны быть иными. Я буду стараться во всем следовать своей референтной группе: в манерах говорить, одеваться, подбирать выражения и т. п. Я постараюсь научиться у референтной группы, когда, при каких обстоятельствах быть дерзким и непочтительным, а когда послушно следовать общим предписаниям, нормам. Из образа моей референтной группы, который я нарисовал себе, я буду черпать, например, советы относительно того, что заслуживает моего внимания, а что — ниже моего достоинства. Я все буду делать так, как если бы я искал одобрения у моей референтной группы; как если бы я хотел быть принятым в число ее членов в качестве «одного из них», получить от нее одобрение моего образа жизни; как если бы я старался избежать крутых мер, которые референтная группа может применить по отношению ко мне, чтобы выправить мое поведение или отплатить мне тем же за нарушение правил.
И все же в основном именно мой отбор и анализ, выводы и действия делают референтную группу столь мощным агентом, формирующим мое поведение. Зачастую сами группы находятся в счастливом неведении относительно моего внимания к ним и моих усилий подражать тому, что я считаю их стилем жизни, и следовать тому, что я рассматриваю как его стандарты. Некоторые группы можно с уверенностью и по праву назвать нормативными референтными группами, поскольку они и в самом деле, по крайней мере иногда, устанавливают нормы моего поведения, наблюдают за моим поведением и тем самым оказываются в состоянии «нормативно влиять» на мои действия, вознаграждая или наказывая, поддерживая или исправляя их. Особенно значимыми среди таких групп являются семья, друзья, с которыми я провожу большую часть своего времени, учителя, начальники на работе, соседи, с которыми я не могу не встречаться часто и от которых мне трудно утаиться. Однако если они вынуждены отвечать на мои действия, то это еще не значит, что они автоматически становятся моей референтной группой. Они могут ею стать, если я их выберу, т. е. когда я отвечу на их внимание тем, что придам им, их ожиданиям относительно меня какое-то значение. Но я могу и проигнорировать их воздействие (даже с риском для себя) и выбрать образцы, осуждаемые ими. Я могу, например, нарочито пренебрегать идеями моих соседей относительно того, как разбить палисадник или каких людей следует принимать дома и в какое время. Я могу, скажем, вызвать неудовольствие своих друзей слишком усердными занятиями и неприятием их небрежности в выполнении долга. Я могу оставаться невозмутимым, когда группа требует живого участия и рвения. Для осуществления своего нормативного воздействия даже нормативные референтные группы нуждаются в моем согласии на то, чтобы я считал их таковыми для себя и по той или иной причине воздерживался от сопротивления их влиянию, приспособился к их требованиям.
Мое решение быть зависимым еще более проявляется в случае со сравнительными референтными группами, членом которых я не являюсь, поскольку остаюсь, так сказать, за пределами их влияния. Я наблюдаю за этими группами, будучи не замечен ими. Присвоение соответствия (значения) в данном случае одностороннее: я считаю их действия и стандарты значимыми, хотя они едва ли придают какое-то значение моему существованию. Из-за дистанции, существующей между нами, они зачастую физически неспособны проследить за моими действиями и оценить их; поэтому они не могут ни наказать меня за отклонения, ни вознаградить меня за послушание. Сегодня все мы, благодаря средствам массовой информации, особенно телевидению, вовлекаемся в постоянно расширяющийся поток информации о самых разных стилях жизни, поэтому роль сравнительных референтных групп в формировании современной личности возрастает. Средства массовой информации сообщают нам сведения о господствующей моде и новейших стилях одежды с невероятной скоростью, и эти сведения достигают даже самых отдаленных уголков мира. Точно так же они придают авторитет тем образцам, которые могут представить визуально: это, конечно же, те стили жизни, которые заслуживают быть показанными в средствах массовой информации и увиденными миллионами людей во всем мире, которые стоит обсуждать и которым, если это возможно, стоит следовать.
Полагаю, наше обсуждение до сих пор создавало верное впечатление о том, что процесс социализации не ограничивается детским опытом. Фактически он никогда не прекращается, длится всю жизнь, постоянно приводя в сложное взаимодействие свободу и зависимость. Социологи иногда говорят о вторичной социализации с тем, чтобы отличать трансформацию личности в более поздний период от процесса усвоения ею элементарных социальных навыков в детстве. Они сосредоточивают внимание на ситуациях, когда вдруг отчетливо обнаруживаются и тяжело переживаются недостаточность или неадекватность первичной социализации в изменившихся условиях: когда, например, человек эмигрирует в далекую страну с непривычными обычаями и чужим языком и когда он, таким образом, должен не только приобрести новые навыки, но и забыть старые, которые теперь превращаются в препятствие; или когда человек, выросший в сельской глубинке, переезжает в большой город и чувствует себя там потерянным и беспомощным в напряженных потоках уличного движения, вечно куда-то спешащих толпах народа, среди безразличия прохожих и соседей. Предполагается, что подобного рода радикальные изменения могут служить причиной сильного беспокойства, частых нервных срывов и даже психических заболеваний. Отмечается также, что ситуация вторичной социализации с не менее существенными последствиями может наступить скорее в результате изменения внешних социальных условий, чем индивидуальной мобильности. Внезапная экономическая депрессия, рост массовой безработицы, развязывание войны, полное обесценение накапливающихся в течение всей жизни сбережений в результате резкого роста инфляции, потеря безопасности вследствие лишения права на прибыль или, наоборот, резкий рост благосостояния и перспектив продвижения, раскрытие новых, доселе немыслимых возможностей — все это примеры именно таких случаев. Они «обесценивают» то, что было усвоено в процессе предшествующей социализации, и требуют радикальной перестройки индивидуального поведения, для которого необходимы новые навыки и новые знания.
Приведенные примеры помогают нам в наиболее острой и резкой форме представить проблемы, обусловленные вторичной социализацией. С менее очевидными проблемами каждый из нас сталкивается практически ежедневно; вероятнее всего, мы испытаем нечто подобное, когда нам придется срочно поменять школу; если мы, поступив в университет, вынуждены будем оставить его; если перейдем на новую работу, вступим в брак, приобретем собственный дом, переедем на новое место жительства, станем родителями, превратимся в пенсионеров и т. д. Вероятно, точнее представлять социализацию как непрерывный процесс, а не делить ее на две отдельные стадии. Диалектика свободы и зависимости начинается для человека с рождения и заканчивается только с его смертью.
Соотношение между обеими частями, или сторонами, этого непрерывного диалектического взаимодействия подвижно. В раннем детстве у ребенка очень мало свободы (если она вообще есть) в выборе группы, от которой он зависит. Каждый рождается в определенной семье, в определенном месте, в конкретном соседском окружении, представителем определенного класса или страны. Предполагается, что каждый, независимо от его желания, является представителем определенного народа и одного из двух социально приемлемых полов. С возрастом (т. е. с увеличением накопленных навыков и ресурсов действия) выбор расширяется; некоторые зависимости могут быть поставлены под сомнение и отвергнуты, другие — приняты добровольно. И все же свобода никогда не бывает полной. Вспомним такой факт: все мы зависим от наших прошлых действий, из-за них мы каждый раз оказываемся в положении, когда некоторый выбор, несмотря на всю его привлекательность, оказывается для нас невозможным, а издержки в случае изменений непомерны и неприемлемы. От слишком многого приходится «отучаться», от слишком многих привычек приходится отказываться. И если какими-то навыками и ресурсами, которые можно было приобрести только на ранней стадии, мы тогда пренебрегли, то теперь уже очень поздно восстанавливать упущенные возможности. Достигнув определенного возраста, мы чаще всего обнаруживаем, что вероятность и возможность «нового прорыва» неизмеримо далеки и ничтожны.
Соотношение свободы и зависимости неодинаково у всех людей. Вспомним, например, о той роли, которую играют доступные ресурсы в преобразовании выбора в ясное, реалистическое утверждение. Вспомним также о роли очерченных изначальным социальным местоположением «горизонтов», которую они играют в формировании дальнейших жизненных планов и выборе наиболее привлекательных целей. Достаточно иметь в виду роль этих двух факторов, чтобы понять: хотя все люди свободны и не могут не быть свободными (т. е. они вынуждены брать ответственность за все, что бы они ни делали), тем не менее некоторые из них свободны больше, чем другие; их «горизонты» (спектр выбора) шире, и, приняв однажды решение относительно своих жизненных целей, они получают максимум ресурсов (денег, связей, образования, утонченных манер и т. п.) для их достижения; они более свободны, чем другие, в своих желаниях, в действиях, направленных на исполнение желаний, и в достижении желаемых результатов.
Можно сказать, что соотношение свободы и зависимости служит показателем относительного положения в обществе личности или целой категории людей. То, что мы называем привилегией, при более тщательном рассмотрении оказывается большей степенью свободы и меньшей степенью зависимости. Обратное верно для тех, кого называют лишенными привилегий.
Глава 2 Мы и Они
Адам Смит, чуткий наблюдатель парадоксов социальной жизни, заметил однажды, что в цивилизованном обществе человек во все времена нуждается в сотрудничестве и помощи огромного количества людей, тогда как всей его жизни едва хватает на то, чтобы приобрести дружбу лишь нескольких из них.
Представьте себе неисчислимое множество не известных вам людей, чья деятельность необходима, чтобы сделать вашу жизнь такой, какова она есть (и тех, благодаря труду которых вы ежедневно имеете тарелку каши; и тех, кто следит за состоянием шоссе, чтобы вы могли развить скорость 70 миль в час, не опасаясь попасть в яму за углом; и тех, кто, подчиняясь правилам общежития, дает вам возможность гулять по улицам, не опасаясь нападений, или вдыхать воздух, не боясь быть отравленным токсичным дымом). Представьте себе все множество людей, не знакомых вам, но тем не менее налагающих ограничения на вашу свободу выбора предпочтительного для вас образа жизни (тех, кто хочет иметь те же вещи, что и вы, но тем самым позволяет торговым компаниям поддерживать высокие цены; тех, кто считает роботов более выгодными, чем живые работники, но тем самым уменьшает ваши шансы найти подходящую вам работу; те, кто, будучи занят своими собственными делами, загрязняет воздух, производит шум, забивает дороги, отравляет воду, и вы не можете избежать этого). Сравните эти огромные массы людей с кругом ваших знакомых, которых вы можете узнать в лицо и чьи имена помните. Вы, конечно же, обнаружите, что среди всех, кто оказывает влияние на вашу жизнь, люди, которых вы знаете или о которых вы слышали, составляют лишь малую часть тех, кого вы никогда не встречали и о ком никогда не слышали. Насколько мала эта часть, вы никогда не узнаете…
Когда я думаю о них, представители человеческого рода (в прошлом, настоящем или будущем) являются предо мной в самых разных качествах. Некоторых я встречаю довольно часто и потому, как мне кажется, знаю близко; мне думается, я знаю, чего от них можно ожидать, а чего нельзя; знаю, как мне удостовериться в том, что я получаю от них именно то, чего жду и хочу; знаю, как мне убедиться в том, что они реагируют на мои действия так, как я того хочу. С этими людьми я взаимодействую; я вступаю с ними в общение, коммуникацию: мы говорим друг с другом, делимся знаниями и обсуждаем интересные для нас вещи в надежде на взаимопонимание. Некоторых других я встречаю лишь изредка; мы видимся главным образом при особых обстоятельствах, когда я или этот другой человек хочет получить или обменяться особыми, специфическими услугами (например, я редко встречаю своего учителя помимо лекций и семинаров; я вижу определенного продавца, только когда покупаю соответствующие продукты; я встречаюсь со своим дантистом, по счастью, очень редко, когда мои зубы нуждаются в лечении). Мои отношения с этими людьми можно назвать функциональными. В моей жизни эти люди исполняют какую-либо функцию; наше взаимодействие сводится к определенным аспектам моих (и, как мне кажется, их) интересов и деятельности. В большинстве случаев меня вовсе не интересуют стороны личности другого, не связанные с выполнением функции, которую я от него ожидаю. Поэтому я не спрашиваю, например, о семейной жизни продавца, об увлечениях дантиста и о художественном вкусе моего преподавателя политологии. Но и сам, в свою очередь, рассчитываю на подобное отношение с их стороны. Любые расспросы на посторонние темы я буду расценивать как бесцеремонное вмешательство в мои личные дела, которые их не касаются. А если бы такое вмешательство и произошло, то я счел бы себя вправе сопротивляться ему, поскольку это было бы оскорблением и нарушением неписаных правил наших взаимоотношений, которые являются не более чем обменом особыми услугами. Наконец, некоторых людей я вообще едва ли встречаю. Я знаю о них, об их существовании, но поскольку они не имеют прямого отношения к моим повседневным делам, я не воспринимаю всерьез возможность непосредственного общения с ними. Фактически, я крайне редко вспоминаю о них.
Альфред Шутц, немецко-американский социолог, основатель так называемой феноменологической школы в социологии, предположил, что с точки зрения любого индивида всех других людей можно представить в виде некоего непрерывного (связанного) множества — континуума, измеряемого социальной дистанцией, которая возрастает по мере того, как социальное взаимодействие сокращается по содержанию и интенсивности. Принимая себя («эго») за отправную точку в этом континууме, я могу сказать, что те, кто расположен ко мне ближе всех, — это мои сотоварищи (сообщники) — люди, с которыми я действительно нахожусь в непосредственном взаимодействии, что называется, лицом к лицу. Они — лишь небольшая частичка огромного сектора, который занимают мои современники — люди, живущие в то же время, что и я, и с кем я, по крайней мере, потенциально могу устанавливать непосредственные отношения. Конечно, мой практический опыт общения с современниками может меняться. Он все время варьирует от персонализированного (персонифицированного) знания отдельных людей до знания, ограниченного моей способностью относить людей к определенным типам, самое большее — к некоторым категориям людей (пожилым, черным, евреям, латиноамериканцам, богатым, футбольным фанатам, солдатам, бюрократам и т. п.). Чем дальше отстоит от меня данная точка континуума, тем более обобщенным, типизированным является мое представление о людях, обозначенных ею, равно как и моя реакция на них, т. е. мое мысленное отношение к ним, если мы не встречаемся непосредственно, или мое практическое поведение, если я с ними общаюсь. Кроме моих современников, однако, есть еще (по крайней мере на моей мысленной карте человечества) мои предки и мои потомки. Они отличаются от современников тем, что мое общение с ними неполно, односторонне, и ему суждено остаться таким, возможно, навсегда. Предки могут передать мне послания (мы склонны называть такие послания традицией, сохраненной исторической памятью), но я не могу на них ответить. С потомками, напротив, все обстоит иначе: вместе с моими современниками я оставляю им послания, содержащиеся во всем, что мы совместно или индивидуально построили или написали, но я не жду ответа от них. Заметим, что ни одна из названных категорий людей не закрепляется раз и навсегда. Они имеют «пористые» (как губка) границы: отдельные люди могут менять и меняют свое местоположение, перемещаясь из одной категории в другую, двигаясь ближе к моей точке континуума или дальше от нее, превращаясь из современников в предков или из потомков в современников.
Два типа близости — духовная и физическая — не обязательно пересекаются. В густо населенных районах, подобных городским центрам, мы на какое-то время оказываемся физически близкими к огромному количеству людей, с которыми, однако, не чувствуем почти никакой духовной связи; как мы увидим в главе 3, в спрессованном пространстве города физическая близость существует одновременно с духовной отдаленностью (действительно, жизнь в городе требует владения сложным искусством «нейтрализации» влияния физической близости, иначе она повлечет за собой духовную перегрузку и навяжет нам моральные обязательства, слишком обременительные для нас; все городские обитатели прекрасно владеют этим искусством). Духовная или нравственная близость заключается в нашей способности (и готовности) испытывать чувство товарищества: воспринимать других людей как субъектов наравне с собой, с их собственными целями и правом добиваться этих целей, с их эмоциями, подобными нашим, и такой же способностью испытывать наслаждение и страдать от боли. Чувство товарищества обычно предполагает эмпатию, т. е. способность и готовность поставить себя на место другого человека, посмотреть на вещи глазами другого. Она также сопровождается способностью к сочувствию — умению радоваться удачам других и печалиться их бедами. Этот тип чувства товарищества является наивернейшим признаком (а фактически — смыслом) духовной и моральной близости, которая угасает, иссякает по мере отдаления.
Из всех различий и разделений, позволяющих мне наблюдать «перерывы постепенности», воспринимать различия там, где иначе мог быть плавный переход, подразделять людей на категории в зависимости от их отношения и поведения, одно различие проявляется сильнее и больше влияет на мои отношения с другими, чем все остальные, которые я представляю себе и воспроизвожу в своем поведении, — различие между «мы» и «они». «Мы» и «они» — это не определения двух отдельных групп людей, а названия различия между двумя совершенно разными отношениями: эмоциональной привязанностью и антипатией, доверием и подозрительностью, безопасностью и страхом, общительностью и неуживчивостью. «Мы» — группа, к которой я принадлежу. Я хорошо понимаю, что происходит внутри группы, и поскольку я это понимаю, я знаю, как мне действовать дальше, чувствую себя уверенно, как дома. Группа является, так сказать, моим естественным окружением, местом, где мне нравится бывать и куда я возвращаюсь с чувством облегчения. «Они», напротив, — это та группа, к которой я не могу или не хочу принадлежать. Мое представление о происходящем в ней весьма смутно и отрывочно, я плохо понимаю ее поведение, поэтому ее действия для меня большей частью непредсказуемы и отпугивают. Я склонен думать, что «они» отплатят мне за мое недоверие и опаску той же монетой, ответят на мою подозрительность тем, что затаят на меня не меньше обиды, чем я могу затаить на них. Поэтому я ожидаю, что они будут действовать вопреки моим интересам, будут стараться причинить мне вред и содействовать моей неудаче, что они порадуются моему несчастью.
Различие между «мы» и «они» в социологии часто представляется как различие между внутригрупповыми и межгрупповыми отношениями. Эта пара противоположных отношений неразделима: не может быть внутригрупповых чувств без межгрупповых отношений, и наоборот. Две стороны, два участника данной концептуально-поведенческой противоположности дополняют и обусловливают друг друга: только благодаря ей они вообще имеют какой-либо смысл. «Они» — это не «мы», и «мы» — это не «они»; что такое «мы» и «они», можно понять, только рассматривая их вместе, во взаимном конфликте. Я рассматриваю мою группу как «мы» только потому, что некоторую другую группу рассматриваю как «они». Две противоположные группы размещаются на моей мысленной карте мира на разных полюсах антагонистических отношений; этот антагонизм делает обе группы «реальными» для меня, а также удостоверяет их внутреннюю согласованность, которую я у них предполагаю.
Противостояние (оппозиция) — прежде всего орудие, используемое мною для того, чтобы очертить мой мир (мой принцип классификации, схему, приписывающую другим их места на моей карте разделенной вселенной). Я использую его для того, чтобы отличить мою школу от соседней; «мою» футбольную команду от команды соперников; зажиточных и, следовательно, почтенных налогоплательщиков, вроде меня, от «паразитов», которые норовят жить за чужой счет; моих миролюбивых друзей, которые не хотят ничего, кроме развлечений, от полиции, которая всячески препятствует этому; нас, законопослушных, уважаемых граждан от «всякого сброда», отвергающего все правила и пренебрегающего порядком; нас, надежных, работящих взрослых от диких, несуразных подростков; нас, молодежь, которая хочет найти свое место в жизни и сделать этот мир лучше, от стариков, хватающихся за свои устаревшие принципы; моего великодушного и доброжелательного народа от его агрессивных, злых и коварных соседей.
Из этой взаимной неприязни мы и они, наша группа и другая группа каждый раз получаем соответствующие характеристики и особую эмоциональную окраску. Можно сказать, что противостояние определяет обоих его участников. Можно также сказать, что каждая его сторона устанавливает свою тождественность на основании того факта, что мы рассматриваем ее как участника антагонизма. Из этих наблюдений мы можем сделать весьма любопытный вывод: другая группа является той самой воображаемой противостоящей стороной, тем противовесом, который необходим нашей группе для самоидентификации, для ее согласованности, внутренней сплоченности и эмоциональной безопасности. Готовность к сотрудничеству внутри группы требует как бы подтверждения в форме отказа от сотрудничества с кем бы то ни было другим. Можно даже сказать, что действительное присутствие группы, поведение которой предположительно было бы таким же, как и у другой группы, нигде не обнаруживается; если бы такой группы не существовало, ее следовало бы придумать ради сплоченности и целостности данной группы, которая должна определить врага, чтобы обозначить и охранять свои границы, а также обеспечивать лояльность и сотрудничество внутри. Это все равно, что мне надо испытать страх перед дикими зверями, чтобы почувствовать себя в безопасности где-то дома. Для того чтобы на самом деле ощутить, что такое «внутри», должно быть нечто «вне».
Чаще всего образцом взаимной симпатии и взаимопомощи, которые мы приписываем, требуем или ожидаем получить от своей группы, служит семья (не обязательно та, которую мы знаем по собственному, не всегда счастливому опыту, но и та, которую мы представляем себе как «идеальную семью», как желаемое). Идеалы, идеальные чувства, окрашивающие отношение к большинству своих групп, — это солидарность, взаимное доверие и «общая связь» (т. е. обязательство помогать сотоварищу, даже в ущерб себе, всегда, когда эта помощь требуется). Так предположительно должны вести себя по отношению друг к другу члены одной семьи. Идеальные отношения между родителями и детьми представляют собой идеальную модель отношений любви и заботы, согласно которой верховная власть или сила употребляются только в интересах слабой стороны. Идеальные отношения между мужем и женой показывают пример взаимодополняемости: только вместе, делая то, что каждый из них делает лучше другого, они могут достичь цели, которой оба желают и добиваются. Идеальные отношения между родными братьями и сестрами являются прототипом бескорыстного сотрудничества, соединения усилий для общего дела, солидарного поведения типа «один за всех, все за одного». Вы, наверное, замечали, что люди, желающие сформировать чувство взаимной преданности у своих слушателей или собеседников, любят использовать метафору братства и обращаться к ним как к «братьям и сестрам». Чувства национальной солидарности и готовность пожертвовать собой ради народа побуждаются обращениями к родине как к «матери» или «отечеству».
Взаимопомощь, защита и дружба представляют собой, таким образом, воображаемые правила внутригрупповой жизни. Когда мы думаем о тех, кого причисляем к своей группе, то надеемся, что если бы между ними и существовали разногласия, то они старались бы вести себя так, словно взаимоприемлемое решение этих разногласий и всеобщее согласие в принципе являются желательными и достижимыми. Мы надеемся, что они начали бы обсуждать решение в дружественной, миролюбивой манере, помня об общности их интересов. Расхождения во мнениях между ними рассматривались бы, напротив, как временный казус, который будет устранен, как только стороны «ознакомятся со всеми фактами по данному вопросу» и смогут высказать свои истинные суждения, не позволяя всякого рода путаникам (наиболее вероятно — агентам «другой стороны», «внедрившимся» и только прикидывающимся «своими») вводить себя в заблуждение. Все это заставляет нас воспринимать отношения внутри группы как теплые, эмоционально насыщенные, проникнутые взаимной симпатией и благодаря этому возбуждающие в каждом преданность и верность, необходимые для сплоченной защиты группы от всех и каждого.
Само собой разумеется, мы не пропустили бы неблагожелательного мнения о тех, с кем мы отождествляем себя как с членами одной группы. Когда мы слышим подобные мнения, то скорее всего стремимся опровергнуть их и защитить доброе имя «незаслуженно оскорбленных». Сталкиваясь с утверждениями, будто люди, принадлежащие к нашей группе, ведут себя не столь уж безупречно, мы изо всех сил стараемся объяснить их поведение стечением обстоятельств либо просто отвергаем их как злобную клевету, сплетни, происки недоброжелателей или измышления враждебной пропаганды. И наоборот, если такого рода обвинения выдвигаются против «них», то мы признаем их справедливыми. Они должны быть справедливы. Лучше, чтобы они были справедливы…
Все это в конечном счете означает, что существует чувство, предшествующее всякому размышлению и аргументации, — это чувство общности, или общей группы, которая является чем-то родным, настоящим домом, и дом следует защищать любой ценой. Здесь, внутри, иногда может быть трудно, но в конце концов всегда можно найти решение. Люди могут казаться грубыми и эгоистичными, но в случае необходимости можно всегда рассчитывать на их помощь. Наконец, их можно понять и можно быть уверенным, что и они тебя поймут. Недопонимание маловероятно. Кроме всего прочего, можно наслаждаться приятным чувством безопасности; а если опасность и появится, то наверняка она будет вовремя замечена и «мы» объединим усилия, чтобы отразить ее.
Вот что мы чувствуем (даже если не очень распространяемся об этом и никогда не формулируем для себя самих), когда говорим «мы». Мы чувствуем это, и именно данное чувство что-то значит для нас, а не то, что делают все эти люди, которых называют «мы». Иногда мы мало знаем об их опыте, особенно если духовная близость не совпадает с пространственной, не сопровождается и не поддерживается частыми встречами, постоянным общением, личными контактами.
Хотя наши представления обо всех своих группах, больших и малых, обладают некоторыми общими существенными чертами, сами группы — объекты наших представлений — сильно разнятся между собой. Некоторые из них малы по числу входящих в них людей, причем настолько малы, что фактически все их члены могут близко видеть друг друга в течение дня, наблюдать за действиями друг друга, их контакты в таком случае часты и тесны. Это группы личного контакта. Семья (особенно живущая под одной крышей) — наиболее очевидный, самый наглядный пример такой группы. Можно также представить себе группу близких и преданных друзей, проводящих вместе все время и постоянно стремящихся составить компанию друг другу. И хотя состав семьи лишь отчасти является результатом нашего выбора, тогда как друзей мы можем выбирать и покидать по собственному усмотрению, отношения в обеих группах благодаря их обозримым размерам настолько интимны, насколько это позволяют личные контакты. В таких группах мы можем проверить свои ожидания и идеальные представления, сравнив их с тем, что и как чувствуют и делают другие. Мы можем даже попытаться привести в соответствие со своим идеалом поведение других, если нам кажется, что оно не совсем отвечает нашим стандартам. Мы можем упрекать и наказывать их за то, что нам не нравится в их поведении, и хвалить и вознаграждать за то, что нравится. В таких случаях наше идеальное представление приобретает ощутимую, «материальную» силу. Посредством наших поправок она постоянно оказывает давление на действия членов мы-группы. Наконец, она может удерживать реальность в соответствии с признаваемыми нами нормами, делать ее такой, какой мы ее себе представляем. Однако этого не происходит, если своя группа настолько велика и рассеяна, что лично можно встретиться лишь с немногими ее членами.
Класс, пол, нация — типичные примеры своей группы второй категории. И хотя мы зачастую представляем их себе наподобие малых, тесных групп, хорошо известных нам, они, будучи большими по масштабам, «в увеличенном виде», не воспроизводят интимность малых групп; их целостность хранится главным образом в головах тех, кто воспринимает такие группы как «мы». Это целиком и полностью воображаемые сообщества (или, точнее, мы воображаем как сообщества; черты общности, присущие им, сами по себе еще не гарантируют, что солидарное действие и взаимопонимание, которое мы справедливо ассоциируем с истинной мы-группой, действительно присутствуют в них). В жизни совокупности людей с одинаковым доходом и профессиональным статусом, одинакового пола, с едиными традициями и языком могут раздираться, как это зачастую и случается, жестокими конфликтами интересов, разделяться на враждующие фракции с различными убеждениями, верованиями и стремлениями, которые не так-то легко примирить. Все эти трещины, рассекающие их единство, лишь на поверхности прикрываются образом «мы». Если я, говоря о каком-либо классе, поле или нации, использую слово «мы», то это значит только одно: я отдаю предпочтение тому, что нас объединяет (или что я считаю и желаю, чтобы нас объединяло), а не тому, что нас разъединяет. Это аналогично тому, как если бы я взывал к другим членам воображаемого сообщества (подобным образом поступают националистические лидеры в своих патриотических речах) забыть наши различия, прекратить споры, вспомнить, что у нас много общего и что это общее гораздо важнее того, что разделяет нас, и потому сомкнуть ряды и соединиться ради достижения общей цели.
Не располагая в качестве скрепы личными контактами, классы, полы и нации не становятся сами по себе «своими группами». Они должны быть сделаны такими, зачастую вопреки могущественным силам, разрывающим их на части. Образ класса, пола, нации как сообщества, как единого, слаженного и гармоничного образования единомышленников, одинаково чувствующих и мыслящих, должен быть навязан реальности, с которой он идет вразрез. Такое навязывание предполагает, что противоречащий данному образу опыт подавляется или опровергается как ложный или не соответствующий действительности. Оно предполагает также постоянное, упорное восхваление единства. Для того чтобы быть эффективным, оно нуждается в постоянном, дисциплинированном и обеспеченном ресурсами корпусе активистов (своего рода профессиональных ораторов для сообщества), чья деятельность облекает плотью воображаемое единство интересов и верований. Такой корпус (например, политическая партия, профсоюз, феминистская ассоциация, комитет национального освобождения, правительства национальных государств) формулирует смысл того, что означает «принадлежать к сообществу». Он создает возможность единства, отмечая реальные или воображаемые черты, якобы характерные для всех членов сообщества (общая историческая традиция, общее угнетенное положение или общий язык и обычаи) и являющиеся достаточным основанием для сотрудничества. Этот корпус может использовать все свои ресурсы для того, чтобы помочь приобщиться к исповедуемому ими образу и в случае необходимости наказать или подвергнуть обструкции инакомыслящих и отклоняющихся. Короче говоря, формированию крупных «своих групп» предшествуют действия такого рода образований (корпусов). Вот почему идея классовой борьбы и ее активные пропагандисты появляются раньше, чем формируются классовая солидарность и солидарное действие, которые основываются на представлении о классе как о «своей группе». Точно так же национализм (идея о том, что верность нации превыше всякой другой привязанности) предшествует появлению единых национальных образований.
Какими бы внушительными ни были образования, развивающие идею сообщества, и как бы настойчиво они это ни делали, их реальная опора остается очень хрупкой и уязвимой. Крупному сообществу всегда недостает той основы, которую составляет плотная сеть личных взаимодействий, поэтому оно постоянно нуждается в том, чтобы взывать к верованиям и чувствам. Этим объясняется и огромное значение границ, которые им приходится проводить и поддерживать. Никакие усилия, направленные на то, чтобы сформировать чувство преданности большой группе, не будут иметь шансов на успех, если побуждение к солидарности в «своей группе» не сопровождается разжиганием враждебности к «другой группе». Призыв сомкнуть ряды всегда является призывом ополчиться на врага.
Образ врага выглядит столь же мрачным и пугающим, сколь приятным, в теплых тонах, рисуется образ собственной группы. Враги — это сборище коварных недоброжелателей. Они неумолимо враждебны, даже если маскируются под дружественно настроенных соседей, или им просто не дают совершать такие поступки, к которым у них, как говорится, лежит душа. Если бы им было позволено действовать, как заблагорассудится, то они нападали бы, завоевывали, порабощали, эксплуатировали: открыто, будь они достаточно сильны, или исподтишка, скрывая свои истинные намерения. Следовательно, всегда нужно оставаться бдительными, что называется, держать порох сухим, вооружаться и модернизировать оружие, чтобы враг видел все это, смирялся со своей слабостью и не мог осуществлять свои недобрые замыслы.
Враждебность, подозрительность и агрессивность по отношению к «чужой группе» (обычно выступающие как необходимый ответ на враждебность и недоброжелательство противной стороны) являются следствием и только потом становятся причиной предубеждения. Предубеждение означает полное неприятие каких бы то ни было достоинств врага, а также предрасположенность к преувеличению его реальных и воображаемых, мнимых пороков. Все действия провозглашенных врагов истолковываются таким образом, чтобы еще больше очернить их образ, им приписывают самые неблаговидные мотивы, следуя принципу «Все, что бы вы ни сказали и ни сделали, будет обращено против вас». Предубеждение не позволяет поверить в возможность того, что намерения «чужой группы» могут быть вполне честными, что враги и в самом деле имеют в виду то, что говорят, и их предложение мира может быть искренним и свободным от каких-то скрытых намерений. В борьбе против «империи зла» каждый шаг врага, каким бы очевидно миролюбивым или невинным он ни был, рассматривается в увеличительное стекло с тем, чтобы обнаружить в нем любой недружественный подвох.
Предубеждение проявляется и в существовании двойного стандарта морали. То, что члены «своей группы» заслуживают по праву, будет считаться актом милости и великодушия для людей из «чужой группы»; и наоборот, то, что в действиях членов «своей группы» превозносится как акт примерного бескорыстия, в действиях членов «чужой группы» принижается и низводится до «обычных правил приличия». И что важнее всего, собственная жестокость по отношению к членам «чужой группы» не кажется противоречащей моральным нормам, тогда как за подобные действия и даже в более безобидных случаях со стороны врага требуют сурового осуждения. Предубеждение заставляет людей оправдывать такие средства для достижения своих целей, которые они никогда не согласились бы оправдать для достижения целей «чужой группы». Одни и те же действия называются по-разному и соответственно заслуживают похвалы или осуждения в зависимости от того, какая сторона их совершила. Возьмем, к примеру, такие пары понятий, как «борцы за свободу» и «террористы», «протестующие» и «виновники беспорядков», «революция» и «бунт». Подобного рода уловки позволяют нам настойчиво, упрямо и с полным сознанием утверждать, что справедливость целиком и полностью на нашей стороне.
Предрасположенность к предубеждению распределяется не одинаково. Замечено, что некоторые люди особенно склонны воспринимать мир в резких, непримиримых противопоставлениях (оппозициях) и с ожесточением отвергать всякого, кто действительно или как им кажется отличается от них. Такая установка проявляется в расистских отношениях и действиях, или — более обобщенно — в ксенофобии — ненависти ко всему «чужому». Обычно люди, проявляющие наибольшую склонность к предрассудкам, оказываются и убежденными, горячими сторонниками единообразия во всем. Они болезненно переживают любое отклонение от строгих правил поведения и посему предпочитают сильную власть, позволяющую держать народ в узде. Люди, характеризующиеся таким набором установок, считаются авторитарными личностями. Однако до сих пор остается загадкой, почему некоторые люди являются (или становятся) такими личностями, тогда как другие могут чувствовать себя счастливыми среди множества разных стилей жизни и оставаться терпимыми к невероятному количеству различий. Возможно, то, что мы описываем как проявления авторитарности, есть просто следствие социальной ситуации, в которой оказался человек, якобы обладающий качествами авторитарной личности. Хотя, с другой стороны, если хорошо подумать, то так ли уж сильны различия в уровне и интенсивности предубеждений и так ли они зависят от социального окружения, в котором живут и действуют приверженные им люди
Таким образом, предрасположенность к тому, чтобы «купиться» на идею о резких границах между «своей группой» и «чужой группой», а также к тому, чтобы ревностно оберегать целостность первой от угрозы, якобы исходящей от второй, как представляется, тесно связана с чувством уязвимости, порождаемым кардинальным изменением привычного и знакомого жизненного окружения. Такое изменение, естественно, осложняет жизнь. По мере того, как ситуация становится все более неопределенной и менее предсказуемой, человек начинает переживать ее как опасную и пугающую. То, что человек усвоил как эффективный и плодотворный образ жизни, вдруг оказывается менее надежным; он чувствует, что перестает контролировать ситуацию, которую до сих пор считал вполне подвластной себе. И он отвергает изменение. В таких случаях люди остро чувствуют необходимость защищать «старые порядки» (т. е. знакомые и удобные порядки), и в результате агрессия направляется против новичков — тех, кого еще не было, когда старые порядки считались незыблемыми, и кто появился сейчас, когда старый порядок подвергается нападкам или стремительно теряет свою целесообразность. Кроме того, сами новички — уже другие люди: у них свой стиль жизни, и они наглядно олицетворяют собой изменения. Это кажется просто, как дважды два: новички виновны в переменах, в исчезновении прочности, обесценивании старых привычек, в неопределенности настоящей ситуации и в будущих несчастьях.
Норберт Элиас всесторонне проанализировал ситуацию, порождающую предубеждение, в своей теории признанных и посторонних. Приток посторонних всегда представляет угрозу образу жизни коренного населения, сколь бы малым ни было объективное отличие вновь прибывших от старых обитателей. Напряжение, возникающее в связи с необходимостью потесниться ради вновь прибывших и потребностью посторонних искать для себя места, заставляет обе стороны преувеличивать различия. Зачастую даже самые незначительные черточки, которые при других обстоятельствах остались бы незамеченными, теперь выпячиваются и расцениваются как препятствия для совместного проживания. Они становятся объектом неприязни и используются в качестве доказательства неизбежности строгого разделения и немыслимости смешения. Беспокойство и враждебные чувства достигают точки кипения с обеих сторон, однако старожилы в целом обладают лучшими ресурсами, чтобы действовать в соответствии с предубеждением. Они могут апеллировать к правам, приобретенным на данное место самой длительностью проживания («это земля наших предков»); посторонние — это не просто чужие и другие, но и «завоеватели», внедрившиеся сюда, не имея на то никаких прав.
Сложные взаимоотношения старожилов и аутсайдеров так или иначе требуют объяснения огромного количества разнообразных конфликтов между «своей группой» и «чужой группой», а вместе с тем и наиболее распространенных, устойчивых предрассудков. Появление современного антисемитизма в Европе XIX в. и его широкое распространение можно понять как результат совпадения двух процессов: во-первых, набиравших скорость перемен в индустриальном обществе и, во-вторых, эмансипации евреев, вышедших из гетто или отгороженных еврейских кварталов и закрытых сообществ, что позволило им смешаться с нееврейским населением городов и заняться «обычными» профессиями. Множество лавочников и ремесленников, привычному существованию которых угрожали фабрики и торговые компании, с готовностью восприняли в качестве убедительного объяснения причин бедствий, сотрясавших основы их жизни, появление на их улицах этих доселе не известных им чужаков. Точно так же утрата традиционной основы безопасности, обусловленная постепенным развалом Британской империи, разрушение привычного городского ландшафта в ходе реконструкции городов в послевоенной Англии, а затем и исчезновение из них промышленности, с которой были связаны навыки и жизненные ожидания многих людей, породили широкое недовольство, направленное против пришельцев из Вест-Индии или Пакистана; отсюда и волна гнева против предвестников будущих потрясений, гнева, который иногда выражался в чисто расистских формах, а чаще стыдливо маскировался сопротивлением «чуждой культуре». Приведем еще один характерный пример: во второй половине XIX в. в течение нескольких десятилетий беспокойство и тревога квалифицированных рабочих, столкнувшихся с угрозой сокращения рабочих мест вследствие стремительной механизации трудовых процессов на фабриках и последующей их (рабочих) «деквалификацией», направлялись против притока рабочих, называвших себя «разнорабочими», но официальные профсоюзы сразу же окрестили их «неквалифицированными» рабочими. Их не принимали в профсоюзы и отказывали в защите со стороны профсоюзов до тех пор, пока они не завоевали права на создание собственных профсоюзов вопреки сопротивлению квалифицированных рабочих.
Аналогичные процессы можно наблюдать и в наше время всюду, где происходят изменения и резко сокращаются возможности сохранять и продлевать старый образ жизни. Мы читаем об отчаянном сопротивлении одних профсоюзов рабочих, не желающих делить работу с каким-либо другим профсоюзом; а в последнее время наиболее частой причиной забастовок стали споры по разграничению трудовых прав. Но, наверное, самым наглядным примером устоявшейся предрасположенности к изображению новичков опасными чужаками является ставшее притчей во языцех сопротивление мужчин требованиям равных с ними прав для женщин в сфере занятости и конкуренция со стороны последних за занятие высоких постов. Вторжение женщины на территорию некогда надежного «мужского заповедника» поставило под сомнение считавшиеся доселе непререкаемыми правила, тем самым привнеся в ранее однозначно воспринимавшуюся ситуацию элементы замешательства и негодования. Феминистские требования равных прав вызывают у мужчин чувство опасности, высвобождающее злобу и агрессию.
Острота антагонизма между признанными и посторонними, как и тяжесть его возможных последствий, еще больше усугубляется тем, что неуживчивость признанных вызывает симметричный ответ со стороны тех, кто загнан в положение посторонних, и это уменьшает вероятность примирения. Американский антрополог Грегори Бейтсон предложил назвать цепь действий и реакций на них (враждебное отношение, так сказать, оправдывает себя, вызывая враждебное поведение) схизмогенезисом. В подобных ситуациях любое новое действие влечет за собой еще более сильную реакцию, и обе стороны волей-неволей вовлекаются в глубокий затяжной раскол. И если до этого момента у каждой стороны был какой-то контроль и возможность влияния на взаимоотношения, то теперь они утрачиваются полностью. «Логика ситуации» берет верх.
Бейтсон различал два типа схизмогенезиса. В случае симметричного схизмогенезиса каждая из сторон реагирует на любые проявления силы противника. Всякий раз, когда противник демонстрирует свою силу и решимость, в ответ он получает еще более убедительную манифестацию силы и решимости. Больше всего обе стороны боятся показаться слабыми и нерешительными. Вспомним лозунги «устрашение должно быть убедительным» или «агрессору надо показать, что агрессия будет наказана»; некоторые стратеги даже предлагали сделать автоматическими пусковые механизмы ядерных ракет и тем самым убедить врага, что никакие угрызения совести не остановят в последний момент ядерного возмездия в случае нападения. Симметричный схизмогенезис подпитывает самоуверенность обеих сторон конфликта и фактически разрушает всякую возможность рационального поиска его причин и условий соглашения. Представьте себе углубляющийся конфликт супругов: поскольку каждая сторона хочет добиться своего, а не компромисса, и полагает, что только демонстрация сильной воли и решительности, а не проявление слабости, способствует достижению этой цели, то первоначально незначительные расхождения во мнениях разрастаются и ведут к расколу, причем настолько глубокому, что ни одна из сторон уже не может его преодолеть. Теперь вряд ли кто помнит об изначальной причине конфликта; обе стороны разъяряются настолько, что ведут настоящую борьбу. Взаимные упреки и демонстрации превосходства выходят из-под контроля, брак заканчивается разводом — цепочка дальнейших взаимоотношений прерывается.
Взаимодополняющий схизмогенезис исходит из прямо противоположных предпосылок, но ведет к тем же результатам, а именно — к разрыву взаимоотношений. Схизмогенетическая последовательность действий взаимодополнительна, т. е. решимость одной стороны укрепляется при виде слабости другой, в то время как другая сторона ослабляет свое противодействие, сталкиваясь с проявлениями растущей силы противника. Это типичная тенденция взаимодействий господствующих и подчиняющихся партнеров. Один из них, самодовольный и самоуверенный, упивается проявлениями робости и приниженности другой стороны. В свою очередь, смирение последней усиливается с ростом самодовольства и заносчивости первой. Случаи взаимодополнительного схизмогенезиса столь же многообразны по содержанию, сколь и многочисленны. В качестве примера одной такой крайности можно представить себе банду, затерроризировавшую всю округу и полностью подчинившую ее себе, а затем, будучи уверенной в своем всемогуществе, ввиду отсутствия всякого сопротивления, предъявившую своим жертвам требования, превосходящие их возможности. Безысходность ситуации может заставить жертвы либо взбунтоваться, либо просто покинуть территорию, шантажируемую бандой. В качестве другой крайности можно представить себе взаимоотношения «начальник — подчиненный». Господствующее большинство (национальное, расовое, культурное, религиозное) может принять существование меньшинства при условии, если то будет прилежно демонстрировать ему одобрение господствующих ценностей и готовность жить по господствующим правилам. Меньшинство же будет стараться ублажать господствующее большинство и заискивать перед ним, обнаруживая, однако, что количество уступок, требуемых господствующей группой, все увеличивается по мере роста ее уверенности в том, что ее ценности и правила переданы и вряд ли будут оспариваться. Меньшинство усваивает и то, что стратегия стирания своих собственных отличий как средство достижения цели быть принятым на равных непродуктивна. И оно будет вынуждено либо бежать в гетто, либо изменить стратегию по типу симметричного схизмогенезиса. Но каким бы ни был его выбор, наиболее вероятный исход — разрыв их взаимоотношений.
К счастью, напоминает нам Бейтсон, есть еще и третий тип взаимодействия — обмен. В некотором смысле обмен совмещает качества двух предыдущих моделей, но таким образом, что нейтрализует саморазрушающие тенденции. В отношениях обмена каждый отдельный случай взаимодействия асимметричен, но на достаточно длительном отрезке времени действия обеих сторон уравновешиваются, и таким образом взаимодействие становится «сбалансированным», т. е. оно может долго сохранять свои характеристики, не рискуя при этом оказаться в опасном положении. Проще говоря, обмен означает взаимодействие, в котором каждая сторона должна предложить нечто такое, в чем нуждается другая сторона (например, только среди оскорбленного и униженного меньшинства можно найти людей, готовых выполнять насущно необходимую, но неблагодарную работу, от которой отказываются представители большинства). Зависимость от услуг другой стороны останавливает обоих партнеров обмена от требования завышенного вознаграждения за свои услуги. Является ли обмен (в любой его форме) характеристикой большинства взаимодействий — спорный вопрос. Но так или иначе он присутствует, по определению, в любой сбалансированной и стабильной системе взаимодействий. Обмен может способствовать выживанию и воспроизводству этой системы во времени, особенно когда он принимает форму запоздалого обмена (когда, например, дети «оплачивают» заботу о них своих родителей тем, что заботятся о своих собственных детях). Однако следует отметить, что никакой обмен не застрахован полностью от опасности скатиться к симметричному или комплиментарному схизмогенезису.
Глава 3 Чужаки
Из предыдущих глав мы знаем, что «мы» и «они» имеют смысл только в паре — в противопоставлении (оппозиции) друг другу. Мы — это «мы» лишь постольку, поскольку есть люди, отличные от нас, т. е. «они»; и они сплочены, образуют группу, единое целое только потому, что каждый из них обладает общей характеристикой: никто из них не является «одним из нас». Оба понятия получают свое значение от разделяющей их и сформированной ими границы. Без этого различия, не имея возможности противопоставить себя «им», мы не смогли бы придать смысл своей собственной идентичности.
«Чужаки» же, наоборот, отвергают подобное разделение, они, если можно так сказать, противостоят противопоставлению как таковому, т. е. разного рода различиям, границам, устанавливающим их, и тем самым — определенности социального мира, проистекающей из этих различий. Но именно в том и заключаются их значение, смысл и роль в социальной жизни. Одним лишь своим существованием, не вписывающимся ни в одну из установленных категорий, чужаки отрицают всякую обоснованность общепринятых противопоставлений. Они отвергают «естественный» характер противопоставления, раскрывают его произвольность и ненадежность. Они показывают истинный смысл разделений, которые есть не что иное, как воображаемые линии — их можно зачеркнуть и провести заново.
Во избежание путаницы с самого начала заметим, что «чужак» — не просто незнакомец, т. е. человек, которого мы плохо знаем или не знаем вообще. Скорее всего, справедливо обратное: отличительной чертой чужаков является как раз то, что мы по большей мере их знаем; чтобы распознать в человеке чужака, я должен уже хоть что-то о нем знать. Более того, они вынуждены время от времени непрошено появляться в поле моего зрения, чтобы я мог рассмотреть их вблизи; хочу я того или нет, они прочно обосновываются в обитаемом мною мире и не собираются покидать его. Если бы не это обстоятельство, то они были бы не «чужаками», а просто «никем»: они растворились бы среди множества безликих, взаимозаменяемых фигур, движущихся на фоне моей повседневной жизни (как правило, не навязчиво, не привлекая к себе и не задерживая моего внимания). Я смотрю на них и не вижу их; слушаю и не слышу, что они говорят. Другое дело «чужаки» — их я вижу и слышу. Именно потому, что я замечаю их присутствие, я не могу их игнорировать, не могу отмахнуться от их присутствия, просто не обращая на них внимания, мне трудно осмыслить их существо. Они, как водится, не близки мне и не далеки от меня; не принадлежат ни к «ним», ни к «нам»; это и не друзья, и не враги. Поэтому они становятся причиной путаницы и беспокойства. Я не знаю точно, как я должен вести себя с ними, чего ждать от них, как с ними поступать.
Проводить границы как можно точнее и четче, так, чтобы их без труда можно было заметить, а заметив, усвоить однозначно, — вот дело первостепенной важности для людей, живущих и обжившихся в обитаемом мире. Все приобретенные навыки социальной жизни оказались бы бесполезными и даже вредными, а то и просто самоубийственными, если бы четко обозначенные границы не подавали нам безошибочный сигнал о том, чего можно ожидать и какую модель поведения выбирать для достижения какой бы то ни было цели. И все же эти границы всегда конвенциональны (условны). Люди по обе ее стороны не столь резко отличаются друг от друга, чтобы предотвратить возможность ошибочных классификаций. Поэтому требуется постоянное усилие для поддержания деления на «черное» и «белое» в реальности, где нет никаких резких, безукоризненных линий-разделителей. Например, установление разграничения между ситуациями, когда следует руководствоваться законами человеческого общежития, а когда призывать к войне, всегда будет попыткой придать надуманную (а потому и ненадежную) ясность ситуации, которая не так уж четко обозначилась. Вряд ли когда-нибудь люди бывают «прямо и полностью противоположны» друг другу. Если они различаются в чем-то одном, то непременно сходятся в другом. Сами по себе их различия редко бывают настолько очевидными и безусловными, чтобы их можно было отнести к противоположным категориям. Можно представить, как большинство человеческих свойств изменяется постепенно, гладко и почти незаметно. (Достаточно вспомнить предложенный Шутцем образ не имеющей естественных делений непрерывной линии (континуума), на которой расстояние между двумя людьми, обозначенными рядом, может быть бесконечно малым; очевидно, что любая граница, или точка прерывания, предполагающая распределение всех людей на линии по разные стороны от этой границы и обозначение их резко отличающимися, противоположными категориями, будет сколь произвольной, столь и сомнительной.) Человеческие качества пересекаются и постепенно меняются, поэтому любой водораздел неизбежно предполагает нечто вроде нейтральной «серой» полосы, оставляя на ней тех, относительно кого трудно сразу решить, в какую из противоположных групп их зачислить, учитывая проведенный водораздел. Эта нежелательная, но неизбежная двусмысленность воспринимается и как опасная, поскольку она запутывает ситуацию и чрезвычайно затрудняет надежный выбор отношений, соответствующих как внутригрупповому, так и внегрупповому контексту: выбрать установки на товарищескую кооперацию или на враждебную и настороженную сдержанность. С врагами мы воюем, друзей любим и привечаем, а что делать с теми, кто и не враг, и не друг? Или с теми, кто может быть и тем, и другим одновременно?
Социальный антрополог Мери Дуглас отмечает, что среди нескончаемых человеческих забот решающую роль играет задача вечно «скреплять» сотворенный человеком порядок. Ведь большинство различий, жизненно необходимых человеку, не возникают естественным образом, сами по себе, их нужно вводить и бдительно охранять. (Рассказывают, что в средние века подпольно распространялся рисунок, изображавший четыре черепа и сопровождавшийся надписью: «Угадай, какой из них принадлежал папе, какой — государю, какой — крестьянину, а какой — нищему». Черепа, конечно же, были совершенно одинаковые; их полное сходство намекало на то, что все эти немыслимые и непреодолимые различия, скажем, между принцем и нищим, заключаются лишь в том, что один носил на голове, а другой не носил, но отнюдь не в форме или размерах самой головы. Не удивительно, что рисунок ходил по рукам подпольно). Ради этой цели надо уменьшить или уничтожить вовсе ту двусмысленность, которая размывает границы и тем самым разрушает замысел, вожделенный порядок, вносит путаницу туда, где должна быть ясность. Именно мое представление о желаемом порядке, мое понимание того, что ладно и прекрасно, побуждает меня противостоять этим двусмысленным явлениям реальности, не укладывающимся в существующие разграничения. Этот «мусор», который я старательно пытаюсь вымести вон, есть просто нечто «неуместное», нечто, не имеющее своего четко определенного места в моем видении мира. И дело даже не в том, что это явление «неправильно» само по себе, а в том, что оно обнаруживается там, где его не должно быть, что и делает его нежелательным и отталкивающим.
Вот несколько примеров. Некоторые растения мы считаем «сорняками», безжалостно вытравляем и выкорчевываем их именно потому, что они угрожают стереть границу между нашим садом и дикой природой. Зачастую «сорняки» хороши на вид, благоуханны и привлекательны; мы, наверное, восхищались бы ими как прекрасными дикорастущими экземплярами, увидев их в лесу или в поле.
Вся «вина» их заключается в том, что они непрошеными гостями являются туда, где все должно быть аккуратно подстрижено и убрано, — на лужайку, в сад, на грядку или на цветочную клумбу. Они нарушают предустановленную нами гармонию, разрушают наш замысел. Нам нравится тарелка с едой на обеденном столе, но ее появление «не на месте» — на простыне или на подушке — вызвало бы отвращение по одной простой причине: это разрушает все устройство нашего дома, предполагающего, что два одинаковых пространства содержатся строго раздельно и предназначены для не совмещаемых нами функций: одно служит как спальня, а другое — как столовая. Даже самые элегантные, начищенные до блеска туфли, с гордостью надеваемые на ноги, покажутся «грязными», если их водрузить на стол. То же можно сказать и о прядях волос или обрезках ногтей, хотя и волосы, и ногти обычно являются предметом нашей нежной заботы и гордости, пока они остаются принадлежностями нашего тела. Оказалось, что некоторые химические компании вынуждены были наклеивать совершенно разные этикетки на упаковки с одинаковыми моющими средствами, так как в ходе проведенных исследований было установлено, что наиболее щепетильным домохозяйкам и в голову не приходит пользоваться одним и тем же средством и в ванной комнате, и на кухне. Во всех подобных случаях то непомерное внимание, которое мы уделяем «борьбе за чистоту», расставляя вещи по своим местам (где они «должны быть»), вызвано необходимостью блюсти чистоту и ясность границ между различиями, делающими наш мир упорядоченным, а тем самым пригодным и удобным для жизни.
Водораздел между внутригрупповыми и межгрупповыми различиями, между «нами» и «ними», принадлежит к числу наиболее горячо отстаиваемых и требует к себе самого большого внимания. Можно сказать, что существование внешней группы не только полезно, но и неизбежно, необходимо для внутригрупповых отношений, поскольку подчеркивает тождественность группы, укрепляет ее сплоченность и совместимость. Но то же самое нельзя сказать о той бесформенной «серой» массе, расположенной между двумя группами. Считается, что она едва ли может приносить какую-нибудь пользу; в ней видят только вред без каких бы то ни было определений. Отсюда и излюбленный политиками, добивающимися популярности и поддержки путем мобилизации патриотических чувств или партийной сплоченности по принципу «Кто не с нами, тот против нас». В столь категоричном разделении нет места промежуточной, нерешительной или просто естественной позиции. Если же допустить существование таких позиций, то это означало бы признать разделение между «правыми» и «неправыми» не настолько абсолютным, как предполагалось.
Многие политические партии, церковные, националистические, сектантские и т. п. организации тратят гораздо больше времени и сил на борьбу с собственными инакомыслящими, нежели с провозглашенными врагами. Вообще же предателей и отступников ненавидят гораздо сильнее, чем признанных, открытых врагов. Для националиста или воинствующего члена партии ни один враг не может быть столь презираем и ненавистен, как «один из нас» — перебежчик или тот, кто недостаточно громко осуждает врага; примиренчество осуждается гораздо сильнее, чем открытая враждебность. Все религии ненавидят своих еретиков больше, чем неверных, и преследуют их с большим рвением. «Раскалывание рядов», «раскачивание лодки» и «перебегание от одной баррикады к другой» считаются самыми тяжкими из всех преступлений, в которых лидеры могут обвинить своих приверженцев. Такие обвинения обычно выдвигаются против людей, которые думают (или хуже того — говорят, а еще хуже — доказывают своими поступками), что разделение между их нацией, партией, церковью, движением и теми, кого называют врагом, не является абсолютным; против людей, которые считают, что взаимное понимание и даже соглашение возможно, или утверждают, что их собственная группа не так уж непорочна и сама по себе не может быть вне подозрений и всегда правой.
Опасность угрожает границе с двух сторон. Ее могут разлагать изнутри двуличные люди, заклейменные как дезертиры, подрывающие групповые ценности, нарушающие единство рядов, перевертыши. На границу могут покушаться и в конце концов разорвать ее извне те, кто, будучи «не такими, как мы», требуют, чтобы с ними обращались так же, как с нами; те, кто покинул место, где они безошибочно определялись как чужаки, «не мы», и теперь пребывают там, где их по ошибке можно принять за тех, кем они не являются. Совершая подобный «переход», они тем самым демонстрируют, что граница, считавшаяся надежной и непроницаемой, далеко не герметична. Одного только этого греха было бы достаточно, чтобы возбудить негодование и желание возвратить их туда, откуда они явились: один их вид вызывает чувство незащищенности, в них есть что-то, смутно ощущаемое как опасность. Нам кажется, что, снявшись с насиженного места и придя к нам, они совершили подвиг, но именно это заставляет нас подозревать, что они обладают какой-то ужасной, мистической силой, которую мы не можем отразить, хитростью, которую мы не в силах разгадать; мы вынуждены предполагать, что они замышляют что-то недоброе и могут использовать свое страшное превосходство в ущерб нам. В их присутствии мы чувствуем себя неуверенно; мы полусознательно ждем от них поступков опасных и отвратительных. Не случайно понятия «неофит» (недавно обращенный в нашу веру), «нувориш» (вчерашний бедняк, которому вдруг повезло, и сегодня он присоединился к богатым и могущественным), «выскочка» (занимавший низкую социальную позицию и быстро пробившийся к власти) отягощены бременем порицания, отвращения и презрения. Такими понятиями обозначают людей, которые еще вчера были «там», а сегодня уже находятся «здесь». Им нельзя доверять уже из-за самой их мобильности и необыкновенной способности быть и здесь и там по собственной воле: ведь они нарушили то, что должно оставаться незыблемым и непроницаемым. Этот первородный грех им нельзя ни забыть, ни отпустить; он никуда не денется.
Такие люди вызывают беспокойство и по другой причине. Они и в самом деле «новички», не знакомые ни с нашим образом жизни, ни с нашими манерами и привычками. То, что нормально и естественно для нас, с рождения усвоивших этот образ жизни, для них странно и непостижимо. Для них смысл наших обычаев не является само собой разумеющимся, поэтому они задают вопросы, на которые мы не знаем, как отвечать, поскольку не видим в них смысла, и у нас никогда не возникало потребности задаваться вопросами типа: «Почему вы это делаете так?», «Какой в этом смысл?», «Не пробовали ли вы делать это иначе?» Сам образ нашей жизни, делающий ее для нас такой безопасной и уютной, ставится под сомнение, превращается в предмет для обсуждения, мы должны его обосновывать, объяснять, доказывать. Он уже не представляется столь самоочевидным, а потому и безопасным. Но утрата безопасности не так-то легко прощается. И вообще мы не склонны это прощать. Вот почему подобные вопросы мы расцениваем как нанесение обиды, споры — как ниспровержение самих основ нашего существования, а сравнения — как заносчивость и желание плюнуть нам в лицо. Мы сразу же стремимся сомкнуть ряды для «защиты нашей жизни» от наплыва чужаков, виновных во внезапно обнаружившемся кризисе уверенности. Наша неуверенность превращается в озлобленность против нарушителей спокойствия.
Даже если новички хранят молчание, что называется, держат язык за зубами и почтительно воздерживаются от нелепых вопросов, то и тогда сам стиль их повседневной жизни не может не поставить те же вопросы и с тем же обескураживающим результатом. Те, кто пришел оттуда сюда и решил остаться, захотят усвоить наш стиль жизни, подражать ему, стать «как мы». Если не все, то большинство из них постараются обустроить свои жилища так, как мы, станут одеваться, как мы, будут копировать наш стиль работы и досуга. Они будут не только говорить на нашем языке, но и отчаянно копировать нашу манеру речи и обращения друг к другу. Но как бы они ни старались (или как раз из-за чрезмерного усердия), они не смогут избежать ошибок, по крайней мере вначале. Их усилия неубедительны. Их поведение выглядит неуклюжим, нелепым и смешным; оно скорее подобно карикатуре на наше собственное поведение и потому заставляет нас задаваться вопросом: что, собственно, оно представляет собой в действительности. В их поведении чувствуется что-то ироничное. Мы стараемся откреститься от такого неумелого подражания, высмеивая их, издеваясь над ними, рассказываем про них анекдоты — «карикатуры на карикатуру». Однако к этому смеху примешивается горечь, под маской веселости скрывается обеспокоенность. И как бы мы ни старались ограничить это зло, ущерб — налицо. Наши, обычно не осознаваемые нами, обычаи и привычки показаны нам в кривом зеркале. Мы были вынуждены посмотреть на них с иронией, отстраниться от своей собственной жизни. И уже не требуется никаких дополнительных вопросов — наш комфорт нарушен.
Как видим, есть достаточно причин, чтобы относиться к чужакам с подозрением, как к потенциально опасным. Они были бы относительно безобидными для нас, если бы вполне четко отличали себя от нас и оставались бы посторонними, согласившись с тем, что наша жизнь — для нас, а их жизнь — это их жизнь, и «вместе нам не сойтись»; если бы, другими словами, мы могли не обращать на них внимания, даже когда они появляются в поле нашего зрения. Но беспокойство катастрофически нарастает по мере того, как различия перестают быть такими четкими, как раньше, и теряют все больше ясность. То, что вначале, возможно, рассматривалось как объект для шуток и насмешек, теперь возбуждает враждебность и даже агрессивность.
Первая реакция — восстановить утраченную ясность различий, отправив чужаков обратно — туда, «откуда они явились» (т. е. если существует такая естественная обитель, которую они когда-то покинули; это относится прежде всего к этническим иммигрантам, приехавшим в надежде поселиться в новой стране). Порой предпринимаются попытки заставить их эмигрировать или сделать их существование настолько жалким, чтобы они сами предпочли исход как меньшее из зол. Но если эти попытки наталкиваются на сопротивление или массовое выселение не представляется по той или иной причине возможным, то может последовать геноцид; жестокая физическая расправа имеет целью сделать то, что не удалось сделать путем физического перемещения. Геноцид — самый крайний и отвратительный метод «восстановления порядка», и все же недавняя история показывает с ужасающей очевидностью, что угроза геноцида не надуманна, что нельзя исключить его новые рецидивы, несмотря на его всеобщее осуждение и неприятие.
Как правило, избираются все же менее одиозные и радикальные решения рассматриваемой проблемы. Чаще всего используется разделение. Разделение может быть территориальным, духовным либо и тем и другим одновременно. Территориальное разделение нашло свое наиболее яркое воплощение в гетто и этнических резервациях, т. е. районах в городе или областях в стране, отведенных для заселения людьми, с которыми коренное население не желает смешиваться, рассматривая их как чуждый элемент и желая навсегда сохранить за ними этот статус. Было время, когда такое отведенное для чужаков место огораживалось стенами и более мощными перегородками в виде всевозможных запретительных законов (необходимость иметь специальный пропуск для того, чтобы выйти за пределы «обитания черных», или запрет на приобретение недвижимости в районах, предназначенных для белых, — вот лишь два недавних, но, тем не менее, беспрецедентных примера из южноафриканского опыта), и чужакам запрещалось покидать пределы своей территории. Иногда перемещение внутри и вне пространства резервации по закону ненаказуемо и de jure свободно, но на практике жители резервации не могут или не хотят покидать свое заточение либо потому, что за его пределами созданы невыносимые для них условия (их оскорбляют физически, над ними смеются и издеваются), либо потому, что тот жалкий уровень жизни, который им доступен в их допотопных кварталах, — единственное, что они могут себе позволить. Если же внешним обликом и манерами чужаки мало чем отличаются от коренных жителей, то им предписывается носить особое одеяние или какие-то другие бесчестящие их знаки, чтобы сделать различие видимым и исключить опасность случайной путаницы. Вместе с такими знаками, которые должны носить чужаки, они тем самым как бы носят с собой свое пространство обитания, куда бы ни пошли, если им разрешено перемещаться. А перемещаться им вынуждены были позволить, поскольку они зачастую выполняли пусть низкую и презираемую, но все же жизненно необходимую для коренного населения работу (как, например, евреи в средневековой Европе, предоставлявшие большую часть банковских кредитов и наличных займов).
В тех случаях, когда территориальное разделение оказывается неполным или в целом неосуществимым, возрастает значение духовного разделения. Взаимоотношения с чужаками ограничиваются рамками строго деловых связей; социальные контакты исключаются из желания предотвратить перерастание неизбежного физического сближения в духовное. Среди таких превентивных (предохранительных) мер самыми очевидными являются недоброжелательность или открытая враждебность. Барьер, воздвигаемый из предрассудков и злобы, зачастую оказывается гораздо более эффективным, чем самые толстые каменные стены. Стремление предотвратить всякие контакты с чужаками постоянно подогревается страхом подхватить какую-нибудь заразу в буквальном или переносном смысле: считается, что чужаки кишат паразитами — разносчиками заразных болезней, пренебрегают правилами гигиены и потому представляют опасность для здоровья; или их изображают распространителями вредных идей и привычек, которые обычно характерны для чернокнижников, или зловещих и кровавых культов, пропагандирующих моральную нечистоплотность и разнузданность. Озлобленность переносится на все, что только может ассоциироваться с чужаками: на их манеру говорить, одеваться, на их религиозные обряды, образ их семейной жизни и даже запахи, которые, как кажется, источает их тело.
Рассматриваемая до сих пор практика разделения предполагала простую ситуацию, когда есть «мы», и нам надо защищаться от «них», от тех, кто пришел, чтобы остаться среди «нас», и не уйдет, даже если мы их попросим. Мы не обсуждали до сих пор то, как определяется принадлежность к каждой из групп, будто существуют единые стандарты для «нас» и для «них», т. е. твердо установленные и самоочевидные для нас стандарты, которыми мы пользуемся постоянно. Однако легко заметить, что такого рода простые ситуации и предельно четкие задачи, порождаемые ими, вряд ли можно обнаружить в современном обществе. Общество, в котором мы живем, — городское: люди живут вплотную друг к другу, много передвигаются; выполняя свои повседневные дела, они вступают в самые различные пространства, населенные самыми разными людьми, переезжают из одного города в другой или из одной части города в другую. В течение дня мы встречаем так много людей, что не можем узнать их всех. И в большинстве случаев мы не можем быть уверены — разделяют они наши стандарты или нет. На каждом шагу нас поражают новые картины и звуки, которые мы не вполне понимаем; хуже того, у нас едва хватает времени остановиться, подумать, постараться что-то как следует понять. Мир, в котором мы живем, представляется нам в основном населенным чужаками; это мир универсальной отчужденности. Мы живем среди чужаков, для которых сами мы — чужаки. В таком мире нельзя чужаков запирать или держать в страхе, с ними надо уживаться.
Это не значит, что описанная выше практика разделения совсем не используется в новых условиях. Если взаимно отчужденные группы не могут быть полностью эффективно разделены, т. е. четко прочертить свои границы, то их взаимодействие все еще может быть ограничено (осуществляться нерегулярно и потому быть безобидным) практикой сегрегации, которая, однако, теперь должна быть изменена.
Для примера возьмем один из методов сегрегации, упоминавшийся ранее, — ношение четких, легко распознаваемых знаков групповой принадлежности. Такой указующий на принадлежность к группе внешний вид может быть предписан законом, и попытка «сойти за кого-нибудь другого» будет наказуема. Но этого можно добиться и без помощи закона. На протяжение почти всей истории городов, как известно, только богатые и привилегированные люди могли позволить себе роскошное, хорошо сшитое платье; приобрести его можно было, как правило, лишь там, где оно было сшито (всегда согласно местным обычаям), а нездешних людей всегда можно было легко отличить по наряду, нищете или нелепости их внешнего вида. Теперь же сделать это не так просто. Относительно дешевые копии превосходных платьев производятся в огромных количествах, их могут приобрести и носить люди относительно небольшого достатка (и, что еще важнее, может носить чуть ли не каждый). Более того, эти копии настолько искусно сделаны, что их трудно отличить от оригинала, особенно на расстоянии.
Из-за широкой доступности любой моды одежда практически утратила свою традиционную функцию сегрегации, что, в свою очередь, изменило «социальный адрес» портняжных новшеств. Большинство из них теперь не связано с каким-либо определенным классом или группой: вскоре после своего появления они становятся доступными широкой публике. Мода также утратила свой локальный характер и стала поистине «экстерриториальной», или космополитичной. Одни и те же или почти неразличимые платья можно приобрести в местах, отдаленных друг от друга. Теперь одежда скорее скрывает, нежели демонстрирует, территориальное происхождение и мобильность своих владельцев. Это не значит, что внешний облик и одежда не разделяют людей; наоборот, одежда играет роль одного из первичных символических средств, используемых для публичного заявления человеком о своей референтной группе и о том качестве, в котором он хотел бы быть воспринят другими. Это равносильно тому, как если бы я, выбирая одеяние, заявил всему миру: «Вот к какому сорту людей я принадлежу, и будьте любезны воспринимать меня таким и обращаться со мной соответствующим образом». Следовательно, выбирая одежду, я могу давать любую информацию о себе, в том числе ложную; замаскировавшись, я могу выдать себя за кого-то другого, что мне не позволили бы сделать в другом случае; я могу, таким образом, не показывать (или, по крайней мере, скрыть до поры до времени) социально навязанный мне статус. Нельзя считать мое одеяние надежным показателем моей идентификации, как и я не могу верить в информативную ценность внешнего облика других людей. Они могут по своему желанию ввести меня в заблуждение: то надеть, то снять отделяемые от них символы, по которым я их различаю.
По мере того, как разделение по внешнему виду утрачивало свое практическое значение, возрастала роль разделения по пространственному признаку. Территория общего городского обитания постепенно подразделялась на районы, где вероятность встретить людей одного типа становилась гораздо выше, чем людей другого типа, или где маловероятно столкнуться с людьми определенного типа, и, таким образом, вероятность ошибиться в идентификации людей значительно уменьшается. Даже в специфических районах, куда доступ весьма ограничен, вы, находясь среди чужаков, можете с уверенностью утверждать, что все эти чужаки принадлежат примерно к одной категории людей (или, точнее, что большинство других категорий исключается). Разделение по районам приобретает свою ценность для ориентации по методу исключения, или выборочного и поэтому ограниченного доступа.
Ложа в театре, швейцар, телохранитель — все это явные символы и средства, применяемые в таких случаях. Их наличие предполагает, что только избранным доступно то место, которое они охраняют и контролируют. Критерии отбора бывают разные. В случае с ложей в театре самым важным критерием являются деньги, хотя билет на входе могут и не принять, если человек не удовлетворяет некоторым другим требованиям, например, приличный костюм или «тот» цвет кожи. Швейцар и телохранитель определяют, «имеет ли право» данный человек войти туда, куда он захочет. Любой, кому разрешается войти, должен доказать свое право находиться внутри; причем весь груз доказательства ложится на того, кто хочет войти, а право решать, является ли это доказательство удовлетворительным, сосредоточено всецело в руках тех, кто контролирует вход. В результате установления права на вход создается ситуация, когда вход бывает заказан людям до тех пор, пока они остаются совершенными чужаками, т. е. до тех пор, пока они никак конкретно себя «не определяют». Сам акт идентификации превращает безликого члена «серой», беспорядочной массы чужаков в «конкретного человека», в «человека со своим лицом». Тем самым раздражающе непроницаемая завеса отчужденности хотя бы частично, но приподнимается, тогда как запретная территория, отгороженная охраняемыми воротами, совершенно свободна от чужаков. Каждый, вступающий на такую охраняемую территорию, может быть уверен, что все, кто на ней находится, до известной степени избавлены от присущей чужакам неопределенности и что кто-то позаботился, чтобы все «вхожие» были хотя бы в некоторых отношениях подобны друг другу и благодаря этому причислены к одной категории. Тем самым неопределенность, сопряженная с пребыванием в обществе людей, «которые могут быть кем угодно», существенно уменьшается, хотя лишь на ограниченное время и в ограниченном пространстве.
Власть запрета на вход реализуется с той целью, чтобы обеспечить относительную однородность, недвусмысленность некоторых избранных пространств внутри плотно населенного урбанизированного и безличного мира. Мы все используем эту власть, правда, в несравнимо меньших масштабах, когда, например, печемся о том, чтобы в контролируемое пространство, называемое нашим домом, допускались только те, кого мы каким бы то ни было образом можем опознать; когда отказываем в этом «совершенно чужим». И мы верим, что другие тоже используют свою власть в отношении нас и даже в большем масштабе. Таким образом, мы чувствуем себя относительно безопасно, в какие бы охраняемые пространства мы ни вступали. Как правило, день нашей жизни в городе делится на отрезки времени, проводимые в такого рода охраняемых пространствах и затрачиваемые на перемещения между ними (мы едем из дома на работу, в институт, в клуб, в ресторан или в концертный зал, а потом назад — домой). Между замкнутыми пространствами, обладающими способностью исключать «чужих», простирается обширная область свободного входа, где каждый, или почти каждый, — чужак. В целом мы стараемся сократить время, проводимое в таких промежуточных областях, до минимума, если не удается исключить его совсем (например, переезжая из одного строго охраняемого места в другое, мы полностью изолируемся от них в наглухо захлопнутой ракушке своей машины).
Таким образом можно отчасти сгладить наиболее неприятные стороны жизни среди чужаков или хотя бы сделать их на время менее раздражающими, но вряд ли можно избавиться от них вовсе. Несмотря на самые искусные методы различения, мы не можем полностью избежать тех людей, кто близок к нам физически, но далек духовно, кто живет среди нас, как непрошенный гость, и чей приход и уход мы не можем контролировать. В социальном же пространстве (которого мы никак не можем избежать) мы ни на минуту не можем перестать замечать их. Эта бдительность обременительна для нас: она словно путы, сковывающие нашу свободу. Даже если мы уверены, что присутствие чужаков не таит в себе никакой опасности (хотя в этом мы никогда не можем быть твердо уверены), то все равно мы постоянно чувствуем на себе их пристальный, придирчивый, оценивающий взгляд, — в нашу «частную жизнь» вторгаются, нарушают ее обособленность. И если не наше тело, то наши достоинство, самооценка и даже самоидентификация становятся заложниками неких безликих людей, чьи суждения едва ли поддаются нашему влиянию. Что бы мы ни делали, мы постоянно должны заботиться о том, как наши действия скажутся на нашем образе, который складывается у наблюдателей. Пока мы находимся в поле их зрения, мы должны быть начеку. Все, что мы можем сделать, это не вызывать подозрения или, во всяком случае, не привлекать внимания.
Американский социолог Ирвинг Гофман считал общественное невнимание постоянно используемым приемом, делающим возможной нашу жизнь в городе среди чужаков. Общественное невнимание заключается в том, чтобы притвориться не видящим и не слышащим; или в том, чтобы по крайней мере принять позу не видящего и не слышащего и, что важнее всего, не интересующегося тем, что делают вокруг другие. Наиболее интригующе общественное невнимание проявляется в стремлении избежать контакта «с глазу на глаз». (Встретиться глазами всегда означает пригласить к разговору более интимному, чем между чужими; это означает отказ от своего неотъемлемого права на анонимность, отступление или по крайней мере ограничение его и решимости оставаться невидимым для глаз другого). Старательное недопущение встречи глазами — это публичное заявление о том, что мы ничего особенного для себя не отмечаем, даже если случайно, нечаянно наш взгляд «скользнет» по другому человеку (в самом деле, нашему глазу позволено лишь «скользить», но не останавливаться и тем более не сосредотачиваться, если собеседник не готов к этому). Вообще не смотреть невозможно. Улицы любого города всегда запружены людьми, и для того чтобы просто перейти «отсюда» «туда», нужно, во избежание столкновения, внимательно смотреть впереди себя, на все, что движется или стоит на вашем пути. И хотя такое наблюдение неизбежно, оно должно быть ненавязчивым, не вызывающим беспокойства и настороженности у тех, на кого падает наш взгляд. Нужно смотреть, делая при этом вид, что вы не смотрите, — в этом суть общественного невнимания. Возьмем случаи из вашего повседневного опыта, когда вы заходите в переполненный магазин, проходите через зал ожидания на вокзале или просто идете по улице. Представьте себе все те мельчайшие движения, которые вы, не задумываясь, совершаете, чтобы благополучно пройти по тротуару или пересечь островки, разделяющие витрины в магазине или на выставке; подумайте, как мало лиц вы запомнили из бесконечной вереницы встретившихся вам людей, как мало из них вы можете описать. И вы поразитесь, насколько хорошо вы освоили это трудное искусство «невнимания» — восприятия чужих как безликого фона, на котором происходят значительные для вас события. Осмотрительное, старательно поддерживаемое невнимание, с каким чужаки относятся друг к другу, очевидно, имеет непреходящую ценность для выживания в городских условиях. Но его последствия менее привлекательны. Приезжего из деревни или из малого городка зачастую поражает то, что он расценивает как бессердечие и холодное безразличие большого города. Кажется, что людям ни до кого нет дела. Они быстро проходят мимо, не обращая внимания на других. Можно биться об заклад, что им точно так же не будет дела, даже если что-то ужасное произойдет с вами. Стена сдержанности, возможно, даже враждебности невидимо встает между вами и ними — стена, которую нет надежды преодолеть, дистанция, которую нет шансов сократить. Люди предельно близки физически, но духовно, умственно, морально им удается оставаться бесконечно далекими. Однако молчание, разделяющее их, дистанцирование, которое они используют как хитроумное и необходимое средство, способное уберечь их от опасности, ощущаемой в присутствии чужаков, похоже на угрозу. Затерявшись в толпе, человек чувствует себя бессильным, незначительным, одиноким и незащищенным. Безопасность, предполагающая охрану частной жизни от вторжений, оборачивается одиночеством. Или, скорее, наоборот: одиночество есть плата за обособленность. Существование среди чужаков — это искусство, имеющее столь же двусмысленную ценность, как и сами чужаки.
С одной стороны, «универсальная отчужденность» большого города означает свободу от пагубного и досадного надзора и вмешательства других, которые в более узком и персонифицированном пространстве посчитали бы себя вправе любопытствовать и вмешиваться. Здесь можно оставаться в общественном месте, сохраняя в неприкосновенности свою обособленность. «Моральная неразличимость», достигаемая благодаря всеобщему распространению общественного невнимания, предоставляет немыслимые при других обстоятельствах степени свободы. До тех пор, пока повсеместно соблюдается неписаный закон общественного невнимания, по городу можно перемещаться относительно беспрепятственно. Таким образом накапливаются впечатления — новые, захватывающие, интригующие. Городская среда — благодатная почва для интеллекта. Как заметил великий немецкий социолог Георг Зиммель, городская жизнь и абстрактное мышление созвучны и развиваются вместе: движение абстрактной мысли побуждается невероятным богатством опыта городской жизни, который невозможно охватить в его качественном многообразии, а способность оперировать общими понятиями и категориями — навык, без которого немыслимо выжить в городском окружении.
Это, так сказать, положительная сторона дела. Однако за нее приходится расплачиваться: никакая выгода не бывает без потерь. Вместе с обременительным любопытством со стороны других исчезают и их сочувствие, готовность помочь. В опьяняющей толчее городской жизни обнаруживается холодное человеческое безразличие. Социальные отношения по большей части ограничиваются обменом, который, как мы видели, оставляет его участников безразличными и безучастными друг к другу. Денежные отношения, оценка взаимных услуг исключительно в денежном эквиваленте тесно связаны с рассудочными, бесстрастными отношениями в городе.
В этом процессе утрачивается этический (моральный) аспект человеческих отношений и обретает реальность самый широкий спектр человеческих отношений, лишенных моральной значимости; правилом становится поведение, свободное от моральных оценок.
Моральными человеческие отношения можно назвать в том случае, если они возникают, рождаются из чувства ответственности за благосостояние и благополучие другого человека. Во-первых, моральную ответственность отличает незаинтересованность. Она не навязывается мне ни страхом наказания, ни подсчетами личной выгоды, не проистекает из обязательств подписанного мною договора, которые я по закону должен выполнять, или из моих предположений о том, что данное лицо может предложить мне нечто ценное взамен моих усилий, что и делает его расположение «стоящим» для меня. Эта ответственность не зависит и от того, что делает другой человек, как и от того, что это за человек. Ответственность моральна, пока она полностью бескорыстна и безусловна: я несу ответственность за другого человека просто потому, что он есть и тем самым может рассчитывать на мою ответственность. Во-вторых, ответственность моральна постольку, поскольку я воспринимаю ее как мою и только мою ответственность; ее невозможно обсуждать или передать другому человеку. Я не могу уговорить себя отказаться от этой ответственности, и никакая сила на земле не может освободить меня от нее. Ответственность за другого, причем за любого другого, человека просто потому, что это человек, и проистекающий из нее моральный порыв, заставляющий нас оказывать помощь и приходить на выручку, не требуют ни оправданий, ни подтверждений, ни легитимации.
Моральная близость в отличие от физической — простой и незамысловатой — основывается именно на такого рода ответственности. Но в ситуации «универсальной отчужденности» физическая близость «очищается» от морального аспекта. Это означает, что теперь люди могут жить и действовать вблизи, рядом друг с другом, влиять на жизненные условия и благосостояние друг друга, не испытывая при этом никакой моральной близости, оставаясь невосприимчивыми к моральному значению своих поступков. Практическим следствием подобной ситуации является то, что они могут воздерживаться от поступков, диктуемых моральной ответственностью, и предпринимать действия, ею не поощряемые или отвергаемые. Благодаря правилам общественного невнимания чужаков не воспринимают как врагов, и они, как правило, избегают участи врага — не становятся мишенью враждебности и агрессии. И все же подобно врагам чужаки (а это относится и к нам самим, поскольку все мы являемся частью «универсальной отчужденности») лишены той защиты, которую может обеспечить только моральная близость. Лишь один маленький шаг отделяет общественное невнимание от морального безразличия, бессердечия и пренебрежения нуждами других.
Глава 4 Вместе и врозь
Наверное, вам не раз случалось начинать свою речь фразой: «Мы все согласны, что…». Наверняка, вы слышали, как и другие люди говорят то же самое. Может быть, вам приходилось читать подобные фразы в газетных статьях, особенно в передовицах, которые являются своего рода обращением редактора газеты к читателям. Но задавались ли вы когда-нибудь вопросом, кто такие эти «мы все», которые «согласны»?
Когда я употребляю фразы вроде «Все мы знаем, что…» или «Все мы согласны, что…», я имею в виду неопределенную совокупность людей, думающих, как я. На самом же деле я подразумеваю нечто большее: во-первых, что именно я избрал этих людей и отделил от тех, кто может думать иначе; во-вторых, что именно эта избранная совокупность имеет значение (во всяком случае для меня); в-третьих, что именно эта, а не какая-нибудь другая группа имеет значение; и, наконец, в-четвертых, что именно мнение, разделяемое членами этой группы, наделяет правомочностью — достаточной и достоверной — все, что последует дальше в моей речи или статье. Употребляя такое выражение, я устанавливаю невидимую связь взаимопонимания между мною и моими слушателями или читателями. Я предполагаю, что нас объединяют общие взгляды, одинаковое видение проблемы, о которой я говорю, пишу. Все эти подразумеваемые значения подспудно сопровождают используемое мною выражение, не требуя особо акцентировать внимание на них. Это как если бы единство «всех нас», согласных, и наше общее игнорирование тех, кто не согласен, казались мне (а также, как я надеюсь и считаю само собой разумеющимся, и моей аудитории) слишком «естественными», чтобы спорить о них или искать доказательства в их подтверждение.
Именно такую совокупность людей (очень неясно определенную или обозначенную), которые согласны с чем-то, что другие люди, вероятно, отвергают, и именно такую правомочность, присваиваемую их согласию вопреки всему, мы и имеем в виду, когда говорим о сообществе. Как бы мы ни пытались обосновать или объяснить «общность» сообщества, его единство, настоящую или только желаемую устойчивость, оно всегда есть духовное единство, представляющее общую духовную правомочность, которую мы и имеем в виду прежде всего. Без нее нет сообщества.
Но есть одно общее убеждение, которое обусловливает и поддерживает общность всех остальных убеждений; оно заключается во всеобщем согласии относительно того, что данная совокупность людей действительно представляет собой сообщество, т. е. что в ее пределах все разделяют (или должны разделять) общие убеждения и отношения и что такое согласие может и должно быть достигнуто, если какое-либо из убеждений (хотя бы временно) расходится с общим мнением. Согласие, или по крайней мере готовность к согласию, считается основной, естественной характеристикой членов сообщества. Сообщество — это группа, в которой факторы, объединяющие людей, гораздо сильнее и важнее того, что может их разъединять; различия между ее членами второстепенны по сравнению с их сущностным — можно сказать всепоглощающим — сходством. Сообщество мыслится как естественное единство.
И даже если нам удается обходиться без объяснений того, кто такие «все мы», без доказательств истинности и правильности якобы разделяемых всеми убеждений, тем самым заслуживающих соответствующего уважительного отношения и доверия, то это происходит именно в силу «естественности» подразумеваемой связи. Принадлежность к сообществу возникает как бы сама собой, подобно другим «явлениям природы»; ее не нужно старательно вырабатывать, поддерживать и обслуживать. Принадлежность к сообществу будет наиболее сильной и надежной, если мы будем думать о нем примерно следующим образом: мы не выбирали целенаправленно данное сообщество, ничего не делали для его существования и ничего не можем сделать, чтобы разрушить его. Ради того, чтобы представления и постулаты, подразумеваемые фразой «мы все согласны, что…», были действенными и брали верх над реальностью, они никогда не должны конкретизироваться, находиться в центре внимания, формализовываться в писаном законе, наконец, никогда не должны становиться предметом сознательного обсуждения. Их узы тем сильнее, чем меньше мы говорим о них и даже замечаем их. Лишь до тех пор, пока они безмолвствуют, сообщество остается тем, чем оно нам представляется, — «естественным» единством. Общность взглядов поддерживается естественным образом до тех пор, пока она не обсуждается и, следовательно, не подвергается сомнению.
В идеальном случае такая общность наиболее полно проявилась бы в изолированной группе людей, которые проводят всю свою жизнь от рождения до смерти в одном и том же окружении, которые не путешествуют в другие места и которых не посещают люди из групп с другим стилем жизни. У людей этой общности не было бы возможности взглянуть на свои способы и средства жизни как бы «извне», со стороны, увидеть в них нечто странное и обескураживающее, требующее объяснений и доказательств. Членам подобной общности не пришлось бы ни объяснять, ни оправдывать, почему они живут так, а не иначе, придерживаются такого стиля жизни, а не другого. (Заметим, что мы разбираем здесь идеальный случай. В реальных ситуациях такие идеальные условия вряд ли возможны. Иногда полагают, что старые изолированные деревни или отдаленные острова близки к таким условиям, но подобные предположения редко выдерживают более тщательный анализ. В большинстве случаев сообщество — это постулат, констатация желаемого, боевой клич, призывающий сомкнуть ряды, а не реальность. Как говорил великий британский ученый Рэймонд Вильямс, «в сообществе примечательно то, что оно всегда было».) То сообщество, если оно и существовало в прошлом, сегодня, т. е. в момент, когда о нем говорят, а не в идеализированном представлении о нем, безусловно больше не существует. Люди, сталкивающиеся с практической задачей создать единство искусственно или спасти сознательными усилиями от разрушения прошлое единство, более всего склонны прибегать к несокрушимой силе «естественного» единства.
Когда мы используем такую фразу, как «Мы все согласны с тем, что…», то пытаемся тем самым вызвать к жизни, поддержать или воскресить сообщество значений и верований, которое реально («естественным» образом) никогда не существовало, или уже готово распасться, или должно вновь восстать из пепла. Мы делаем это в условиях, конечно же, неблагоприятных для существования и выживания «естественных» сообществ, — в мире, где сосуществуют противоречивые верования, соревнуются различные картины мира, и любое мнение должно отбивать аргументы противоположной стороны. На практике идея сообщества как «духовного единства» служит орудием для проведения не существовавших до сих пор границ между «нами» и «ними»; она — средство мобилизации, убеждения той группы, к которой оно обращено, в том, что у нее есть общая судьба и общие интересы, и используется это орудие для того, чтобы побудить к согласованным действиям.
Давайте повторим: сама по себе ссылка на «естественность» сообщества является фактором, способствующим эффективности обращения к единству. Самые невероятные усилия (и как правило, самые эффективные) по построению сообщества парадоксальным образом всегда подразумевают некие факторы «за пределами человеческих возможностей», которые не выбирают по собственной воле и не отвергают; наиболее характерными из таких факторов являются: «одна кровь», т. е. унаследованные черты одного характера и идущая с незапамятных времен связь с землей, которые якобы определяют судьбу и миссию расы, общее историческое прошлое, общие воспоминания о победах и поражениях, «наше общее историческое наследие», которое превращает нацию в единое целое, сплоченное навеки; общая религия, которая в далеком прошлом родилась из откровения, снизошедшего на праотцев, затем подверглась гонениям, в результате чего верования предков стали священными и особо почитаемыми, а сохранение этого наследия — священным долгом и обязанностью потомков. Обращение к такого рода якобы объективным «фактам» оказывается особенно действенным при построении сообщества, поскольку привлекаемые факты никоим образом недоступны контролю тех, кому они адресованы. Ссылки на подобные факты удачно скрывают элемент выбора и произвольность этого выбора. Для того чтобы склонить к нужному выбору тех, на кого рассчитаны призывы к сплочению сообщества, им говорят, что они находятся в ситуации, когда выбирать не приходится: решение уже принято за них их предками или провидением. В такой ситуации нежелание присоединиться к общим усилиям не может расцениваться иначе, как измена. Те, кто так поступает, предают свою собственную природу, память предков, их наказы и т. п.; они либо отступники, либо заносчивые дураки, что бросают вызов истории.
Но не всегда усилия по консолидации сообщества могут обращаться к внешним, не поддающимся контролю силам и таким образом скрывать свой произвольный характер. Многие политические и религиозные движения открыто заявляют о своем намерении создать сообщество единомышленников или единоверцев, обращая людей (прозелитов) в новую веру, о существовании которой те до сих пор не подозревали или которую вообще отвергали на свой страх и риск. Эти движения стремятся создать сообщества уверовавших — людей, объединенных общей приверженностью идее, открытой им святым-основателем религиозной секты или проницательным и дальновидным политическим лидером. В такого рода попытках построения сообщества речь идет не о священных традициях, исторической судьбе или классовом предназначении, а о благой вести, прозрении, «рождении заново» и прежде всего об истине. Они обращаются не к ситуации безысходности, когда якобы нет возможности выбора, но, наоборот, они призывают к благородному акту выбора истины, а не заблуждения, к приверженности истинной вере и отвержению суеверия, иллюзии или идеологического искажения реальности. Людям предлагают присоединиться к новому сообществу, а не оставаться в том «естественном» сообществе, к которому они уже принадлежат. Само присоединение расценивается как акт освобождения и начала новой жизни; его называют актом свободной воли — первым истинным проявлением свободы человека. В подобных случаях скрывается то давление, которое теперь будет оказываться на новообращенных с тем, чтобы они оставались послушными новой вере и пожертвовали бы своей свободой, если этого потребуют от них обстоятельства. Такие требования могут быть не менее значительными, чем те, которые обосновываются с помощью обращения к исторической традиции для их легитимации.
Сообщества, основанные на вере, не могут ограничиваться пропагандой — проповедью нового символа веры для объединения будущих ее приверженцев. Приверженность вере не может быть вполне надежной без ритуала, т. е. некоторых систематически повторяющихся событий (патриотических праздников, партийных собраний, церковных служб), в которых уверовавшие должны участвовать явно, чтобы их общая принадлежность и общность судьбы подтверждались и их приверженность укреплялась. Сообщества, основанные на вере, различаются по строгости и объему требований, которые они предъявляют своим членам.
Например, большинство политических партий (за исключением самых радикальных — революционных или реакционных, левых или правых, — которые считают своих членов борцами и потому требуют от них тотального подчинения и верности) стремятся к единству мысли, но не более того, что требуют интересы солидарности в предвыборных кампаниях и минимум добровольной «миссионерской» деятельности в соответствии с партийной программой. Вся остальная жизнь членов партии остается на их ответственности, партия воздерживается от предписаний относительно, скажем, их семейной жизни или рода занятий.
Религиозные секты в целом более требовательны к своим адептам. Они не довольствуются лишь участием в периодически совершающихся культовых ритуалах, для них представляет интерес вся жизнь их членов. Секты по определению являются меньшинствами, подвергающимися внешнему давлению и постоянно находящимися в осаде, поэтому они требуют от своих членов не просто согласия во взглядах, но единообразия всего образа жизни. Они стремятся к полному и всестороннему преобразованию повседневной жизни своих верующих, требуют повиновения даже в том, что предположительно не имеет отношения к вопросам веры. Превращая всю жизнь своих участников в дело служения вере и проявления верности, сектантские сообщества стараются оградить своих членов от скептицизма и открытой враждебности окружения. В крайних своих проявлениях такие секты стремятся отрезать все сообщество от «обычного» хода общественной жизни; не только поглотить все их существование, заполнить все их время, удовлетворить все их потребности (или отрицать правомерность этих потребностей, если они не могут их удовлетворить), но и изолировать своих членов от всех неподнадзорных контактов. Одним из основных догматов символа веры, которому должны быть привержены члены секты, является осуждение и отвержение способов и средств существования «обычного» общества. Нормальное общество порицается за его бездуховность или греховность, за господство в нем эгоизма и корысти, за подмену духовных интересов материальными, за превознесение свободы индивида, за разрушение близости и сочувствия людей друг другу, за сотворение неравенства между людьми и вопиющую несправедливость, за поощрение соперничества и конкуренции и т. п.
Какое из подобных многочисленных обвинений «обычного» общества будет пущено в ход, зависит от того, какие нормы жизни это сообщество собирается внедрять. Его членам могут предложить бежать от мерзостей мирской жизни в сообщество отшельников и посвятить себя молитве и созерцанию. Им может быть предписано оставить «крысиные бега» и войти в группу, где все равны и никто не хочет встать над другими, где отношения между членами группы основываются единственно на взаимной близости, откровенности и доверии. Обычно от членов такой группы также требуют отказаться от соблазнов потребительства и примириться с жизнью скромной и аскетичной. Сообщества данного типа (нередко их описывают как коммуны) ставят перед своими членами грандиозную задачу: поддерживать совместную жизнь во всех ее проявлениях единственно лишь силой чувства. Если взаимная вражда или просто отсутствие согласия раздирают сообщество, то ни привычка, ни договорные обязательства не станут ему опорой. Его связует взаимная любовь, она есть единственное и, следовательно, необходимое условие выживания сообщества. Разногласия в таком случае представляют собой смертельную угрозу; терпимость — это роскошь, которую коммуна не может себе позволить. Поэтому чем обширнее сообщество, тем более оно репрессивно. Репрессии же не могут не порождать напряженности, которая делает коммуны самыми хрупкими и уязвимыми сообществами.
Сообщества сильно различаются по степени требуемого единообразия (т. е. по относительной величине той части жизни их членов, которая должна быть подчинена общему учению). В большинстве случаев, однако, эти условия и ограничения оказываются неясными и не поддаются определению, предсказанию. Даже если проповедники коммунального единства и заявляют о нейтральном отношении к недуховным сторонам жизни членов коммуны, они тем не менее утверждают приоритет и высшую ценность проповедуемой ими веры. Потенциально это может спровоцировать вмешательство в объявленные ранее нейтральными дела, если они вдруг столкнутся или перестанут согласовываться с общим символом веры.
В данном смысле от всех сообществ (и якобы «естественных», и предположительно «искусственных») резко отличаются такие группы, члены которых собираются вместе исключительно для выполнения одной-единственной, но четко обозначенной задачи. Поскольку цели таких групп ограниченны, то ограниченны и их претензии на время, внимание и дисциплину своих членов. По большей части они признают, что созданы с определенной целью. Здесь цель играет ту же роль, что и традиция, общая судьба или истина в других сообществах. Именно с точки зрения целей или стоящих перед членами группы задач выдвигаются требования дисциплины. В этом случае можно говорить о целевых группах, или организациях. Вероятно, самой яркой и определяющей отличительной чертой организаций является добровольное и открыто провозглашаемое ими самоограничение. В большинстве организаций есть писаные законы, уточняющие те сферы, в которых их члены должны следовать правилам организации (подразумевается, что другие, неназванные сферы жизни их членов свободны от организационного вмешательства). Заметим, что если в качестве основного различия между сообществами и организациями берется наличие или отсутствие в них самоограничения, а не общность верований, то некоторые из приведенных выше сообществ все-таки должны быть признаны организациями, вопреки их собственным заявлениям.
Частичная включенность членов организации в ее деятельность может быть выражена по-разному: они не представляют собой в организации «цельной личности», а просто исполняют роли. «Роль» — термин, заимствованный из театрального языка. Театральное действо с заранее известным сюжетом и написанным сценарием, где каждому актеру отводится своя сюжетная линия, представляет модель деятельности организации. Театр можно считать прототипом деятельности организации и в другом смысле: театральные актеры не исчерпывают себя самих полностью в предписанных им ролях; они входят в роль только на время представления, после чего освобождаются от нее.
Как организации специализируются в зависимости от выполняемых ими задач, так специализируются и их члены в зависимости от ожидаемого от них вклада в ее выполнение. Роль каждого члена организации отличается от ролей других ее членов, равно как и от ролей, которые данный человек может выполнять в других организациях. Какую-то часть дня я — преподаватель социологии; в школе, где я преподаю, моя роль отличается от роли преподавателя физкультуры или какого-нибудь другого преподавателя, а также от роли директора, библиотекаря или повара. Но моя роль учителя также требует от меня навыков, отличных от тех, которые мне необходимы при исполнении других ролей, — тех, в которых я занят на протяжении другой половины дня или в другие дни недели. Например, я участвую в заседаниях совета местного клуба фотолюбителей; являюсь членом совета квартиросъемщиков в доме, где я живу; специального комитета, созданного соседской общиной, чтобы протестовать против проекта автодороги; местного отделения политической партии. Я исполняю множество ролей в разных местах и в разное время; каждая роль исполняется в различных группах. Ни в одной из этих групп меня не знают достаточно хорошо как исполнителя других ролей. В большинстве случаев никого и не интересуют мои другие роли; каждый хочет, чтобы я полностью отождествлял себя с той ролью, которую я должен играть, участвуя в выполнении определенной специфической задачи, стоящей перед данной группой. Я рискую вызвать недовольство, быть высмеянным или получить выговор, если, например, перенесу мои увлечения фотографией в комитет по борьбе против строительства шоссе или спутаю свои преподавательские обязанности с деятельностью в качестве активиста политической партии.
Итак, в отличие от сообщества, представляющегося нам как группа, члены которой принадлежат (или должны принадлежать) ей «душой и телом», организация поглощает только часть личности человека, входящего в нее. В самом деле, мы лучше поймем принцип действия организации, если представим ее как состоящую из ролей, а не из людей. Предполагается, что члены организации принимают свои роли (т. е. полностью посвящают себя выполнению своей задачи, пока они действуют в организации, полностью отождествляют себя с ролью, которую они исполняют в данный момент) и в то же время дистанцируются от них (т. е. постоянно помнят, что это всего-навсего роль, и не путают права и обязанности, связанные с данной ролью, с правами и обязанностями в рамках другой деятельности или другого места). Фактически специфическое согласование ролей является единственной характеристикой организации, которая остается относительно стабильной на протяжение какого-то времени и определяет организацию как таковую. Исполнители ролей могут меняться, но роли остаются. Люди вступают в организацию и покидают ее, нанимаются и увольняются, принимаются и изгоняются, но организация продолжает существовать. И хотя со временем могут изменяться некоторые нюансы, придаваемые исполнению роли конкретными людьми, в целом организация остается все той же. Люди взаимозаменяемы и преходящи; значение имеют не их личностные характеристики, а навыки, необходимые для исполнения конкретной работы, и воля к ее исполнению.
Один из основоположников социологии Макс Вебер видел в распространении организаций в современном обществе признак нарастающей рационализации социальной жизни. Рациональное действие (в отличие от традиционного, т. е. неосмысленного, основанного на привычке и обычае, и от аффективного, т. е. неконтролируемого, направляемого сиюминутным настроением и предпринимаемого без учета последствий) — это действие по достижению ясно осознаваемой цели, и действующие сосредоточивают свои мысли и усилия на выборе наиболее эффективных и экономичных средств к достижению цели. По Веберу, организация (сам он использовал термин «бюрократия» — «правление чиновников») в высшей степени приспособлена к требованиям рационального действия; фактически она является наиболее подходящим рациональным способом достижения целей, т. е. способом наиболее эффективным и в то же время наименее затратным. В своем знаменитом описании идеального типа бюрократии (бюрократии, какой она могла бы быть, если бы полностью соответствовала своему предназначению, без каких бы то ни было отклонений) Вебер перечислил те принципы, которые должны соблюдаться в поведении и во взаимоотношениях членов организации, чтобы она действительно могла быть признана инструментом рациональности. Вот некоторые из этих принципов.
Прежде всего внутри организации люди должны действовать единственно в силу своих «официальных полномочий», которые определяются правилами, касающимися исполняемых ими ролей (так, чтобы другие стороны их социального Я, например семейные связи, деловые интересы, личные симпатии и антипатии, не смешивались с тем, что они делают в организации, как они это делают и с тем, как другие люди оценивают эти действия). Роли должны быть логически разделены и осуществляться по отдельности. Это означает, во-первых, что в действительно рациональной организации основная задача должна подразделяться на простые и элементарные действия, с тем чтобы каждый участник общего дела мог стать экспертом, специалистом в своей области; во-вторых, что кто-то должен отвечать за каждую часть общей задачи, чтобы ни одна из них не осталась без внимания; и в-третьих, что должно быть абсолютно ясно, кто отвечает за каждую часть общего дела, чтобы компетенции не пересекались и чтобы была предотвращена опасность замешательства, проистекающая из противоречивых решений. Исполняя соответствующие роли, чиновники должны руководствоваться абстрактными правилами, не принимающими в расчет личные особенности (см. главу 5 о принципах безличностных отношений). Чиновники должны назначаться на свои должности, продвигаться или понижаться в должности только в зависимости от соответствия их навыков требованиям должности; все остальные соображения (благородное или плебейское происхождение, политические и религиозные пристрастия, национальность, пол и т. д.) должны быть однозначно исключены и не должны приниматься во внимание в кадровой политике. Должна существовать преемственность как в жизни организации в целом, так и в организационной деятельности отдельных ее членов; чиновник должен рассматривать свою работу в организации как часть своей карьеры, как возможность усовершенствовать свои навыки и приобрести опыт; организацию должна скреплять цепь прецедентов, т. е. решений, принятых от ее имени в прошлом, даже если чиновники, принявшие эти решения, уже ушли из организации или выполняют другие задачи. История организации складывается из ее дел независимо от личных воспоминаний и предпочтений отдельных чиновников.
И это еще не все требования к организации рационального действия. Роли не только должны разделяться и никогда не совмещаться, но и должны быть еще выстроены в иерархию, соответствующую внутреннему разделению выполняемой задачи. Чем ниже положение в иерархии, тем более специализированны, фрагментарны, ограниченны и минимальны задачи и действия по их выполнению; чем выше положение в иерархии — тем шире становится кругозор и тем большая часть конечной цели попадает в поле зрения. Для этого важно обеспечить два потока: информация должна передаваться с низших ступеней иерархической лестницы на высшие, становясь все более объемной и обобщающей, а команды должны подаваться сверху вниз, становясь все более определенными и однозначными. Контроль сверху в качестве обратной связи имеет дисциплину снизу.
Все основные принципы идеальной модели организации объединены постулатом о том, что решения и поведенческий выбор каждого человека должны быть подчинены той задаче, которую призвана выполнять организация. Все другие соображения должны расцениваться как неуместные и не должны влиять на решения; лучше всего их исключить или уж во всяком случае нейтрализовать или игнорировать. Чиновники должны, как говорится, оставить свои частные интересы и посторонние дела в прихожей и явиться в учреждение лишь в облачении их официальных ролей. Организация должна окружить себя толстыми непроницаемыми стенами и оставить открытыми лишь двое «ворот»: «вход», через который поступает задача, выполняемая организацией, и «выход», пропускающий результаты выполнения этой задачи (действия, направленные на выполнение задачи). Между получением задания и производством результата все внешние влияния и вмешательства должны быть устранены (отсюда строгое требование организационной секретности); ничто не должно мешать строгому соблюдению организационных правил и выбору наиболее эффективных и экономных средств к достижению провозглашенной цели.
Однако вряд ли найдется такая организация, которая удовлетворяет всем этим требованиям. Основной постулат веберовской идеальной модели рационального поведения остается по большей мере невыполнимым; вопрос в том, выполним ли он вообще. Человек, сведенный к одной-единственной своей роли, как и отдельное действие, без примеси посторонних интересов и связей, есть фикция, не соответствующая реальности. Члены организации вполне естественно заинтересованы в собственном благополучии, которому может угрожать риск, связанный с принятием решения. Отсюда и распространенная тенденция избегать принятия решений по сомнительным и противоречивым делам — пресловутый феномен «горячей картошки», т. е. тенденции размывания ответственности, перекладывания насущных дел со стола на стол. Заинтересованность в собственном благополучии (самосохранении, выживании в понятиях, определяемых организацией) включает также стремление подорвать позиции потенциального соперника, помешать его продвижению, создавая препоны в его работе или дискредитируя его решения. Кроме того, член организации может обнаружить, что команды начальников никак не совместимы с его собственными моральными убеждениями; тогда создается ситуация выбора между повиновением организации и верностью моральным принципам. Или он может предположить, что выполнение требований секретности, навязываемых сверху, способно причинить ущерб общественному благополучию или другим соображениям, равно и даже более ценным, чем организационная эффективность. Вместе с тем члены организации могут привнести в работу свои обыденные предрассудки. Мужчине, например, может быть трудно подчиниться приказаниям, исходящим от женщины; или кто-то может воспротивиться приказам, полученным от человека другой расы.
Более того, никакие непроницаемые стены не ограждают организацию от давления и влияния, оказываемого извне, из мест, казалось бы, не имеющих никакого отношения к ее задачам и, следовательно, не обладающих для организации никаким авторитетом по принимаемым ею решениям. Большинство организаций заинтересованы в поддержании своего имиджа в обществе; такая заинтересованность удерживает их от действий, которые хотя и удовлетворяют требованиям рациональности, но, будучи рассчитаны лишь в технических понятиях, могут вызвать общественное негодование, особенно в кругах, обладающих достаточным влиянием для того, чтобы разрушить устои организации. Воздействия могут исходить и от других организаций, которые относятся к, казалось бы, далеким и не связанным с данной организацией областям и которые, тем не менее, могут расценить определенные ее действия как неугодные или вредные для собственной сферы деятельности; противостояние таких организаций также устанавливает ограничения на приоритет «чистой рациональности» ее действий.
Давайте, однако, предположим на секунду, что постулаты идеальной модели чудесным образом выполнены: люди, вовлеченные в разделение труда в рамках организации, действительно заняты строго предписанными им ролями; организацию удалось отгородить от каких бы то ни было интересов и влияний, не относящихся к заявленной ею цели. Даже при столь невероятных условиях трудно предположить, что удалось бы обеспечить рациональность деятельности организации на практике. Будет ли организация, полностью соответствующая идеальной модели, на самом деле функционировать по-веберовски рационально? Есть достаточно оснований полагать, что этого не произойдет; что, напротив, идеальное предписание рационального действия породит множество препятствий на пути к рациональности.
Начать хотя бы с того, что в рамках командной иерархии идеальная модель предполагает равный вес (значение) административной компетенции и компетенции, требующей определенного технического навыка, но при этом не указывает, почему два совершенно разных типа компетенции должны быть одинаковыми и находиться в гармонии. На самом же деле более вероятно, что эти два типа придут в противоречие. Например, установленное право на труд может быть поставлено под сомнение техническими новшествами, которые реальные обладатели рабочих мест не освоили, а административные, т. е. формальные, позиции могут быть использованы для того, чтобы не допустить или хотя бы задержать формирование у работников новых навыков, необходимых с точки зрения рациональности действия. Принцип скрупулезного разделения труда также не безупречен. Обычно оцениваемый как фактор, стимулирующий эффективность и компетенцию (знания и навыки работников), на самом деле он каждый раз порождает феномен так называемой неспособности к обучению. Научившись быстро и эффективно решать узко очерченные задачи, люди постепенно утрачивают видение перспективы своей работы и не замечают неблагоприятных последствий деятельности, которая все больше превращается в механическую рутину. Вследствие узости своих навыков они оказываются не готовыми менять эту рутину в соответствии с меняющимися обстоятельствами и реагировать на незнакомые ситуации с необходимой скоростью и гибкостью. Иначе говоря, организация становится жертвой собственного стремления к совершенной рациональности. Она закосневает, теряет гибкость, ее методы работы не успевают достаточно быстро приспосабливаться к изменяющейся обстановке. Рано или поздно она может превратиться в производителя иррациональных решений.
И последнее (но не менее значимое) замечание касается того, что идеальная модель деятельности, подчиненной рациональности как наипервейшему критерию действия, содержит в себе другую скрытую опасность отклонения от поставленной цели — опасность так называемого смещения цели. Ради эффективности все организации должны постоянно воспроизводить свою способность к действию: организация должна быть постоянно готова принимать решения и предпринимать соответствующие действия. Такое воспроизводство требует надежного и эффективного механизма самоподдержки, неуязвимого для внешних воздействий. Но беда в том, что в конечном счете сама цель деятельности организации попадает в число этих внешних воздействий. В идеальной модели организации ничто не препятствует механизму ее самовоспроизводства выталкивать изначальную цель, ради которой она создавалась. Наоборот, все указывает на то, что, вероятнее всего (и желательнее всего), интерес самосохранения будет способствовать бесконечному расширению деятельности организации, ее ресурсов и сфер влияния. В результате может получиться так, что задача, для выполнения которой организация создавалась, будет отодвинута на второй план всемогущим интересом самосохранения и самовозвышения. Выживание организации, каким бы бесполезным оно ни казалось с точки зрения изначальной цели, само по себе становится целью — новой целью, на которую ориентируется рациональность деятельности организации.
Итак, обе рассмотренные модели группировки людей оказались неполноценными: ни образ сообщества как тотального объединения личностей, ни модель организации как координации ролей с целью рационального выполнения поставленной задачи не могут адекватно описать процесс человеческого взаимодействия. Обе модели лишь поверхностно намечают различные, полярные способы действия с различными и зачастую противоположными мотивами и ожиданиями. Реальные человеческие действия при реальных обстоятельствах не приемлют столь радикального разделения.
Это расхождение, «напряженность» между «концептуальными схемами» наших действий и нашей практической деятельностью постоянны и неискоренимы. Сама структура схемы-образца, представляя действие так, «как если бы» оно служило одной упорядоченной потребности или цели, задает единственно возможное направление действий, которое на практике, однако, оказывается гораздо более сложным и извилистым; в этих схемах есть тенденция упрощать действие, тогда как на практике оно всегда подразумевает множество целей и мотивов.
В качестве «чистых типов» модели сообщества и организации можно рассматривать как крайние точки континуума, на котором расположено все многообразие действительных взаимодействий людей. Реальные взаимодействия вращаются между двумя гравитационными силами, каждая из которых подталкивает их в противоположном направлении. Взаимодействия же в обыденной жизни, в отличие от полярных моделей, являются смешанными: они гетерогенны, т. е. одновременно подчиняются логически противоположным принципам. Например, семья, этот образец, олицетворяющий собой взаимоотношения в сообществе, вряд ли когда-нибудь действительно станет тем образцом благости межличностных отношений, каким ее представляют; есть задачи, которые в семье выполняются так же, как в любой другой группе кооперированных индивидов, и вряд ли чистота ее «всецело личностных» отношений с характерными для них партикулярностью и диффузностью может оставаться нетронутой хотя бы малой толикой отношений явно безличных, сродни отношениям в организации. Да и в любой организации ее члены едва ли могут избежать того, чтобы завязать личные отношения с людьми, с которыми они работают рядом в течение определенного времени. Большую часть своего времени они проводят в компании других сотрудников, обмениваются с ними услугами, контактируют, находят общие интересы, помогают друг другу или враждуют, испытывают взаимные симпатии или антипатии. Рано или поздно между ними возникают неформальные отношения — та невидимая сеть личных связей, которая может совпадать или не совпадать с официальным уставом формальных отношений главенства и подчинения. Люди, вступающие в подобного рода неформальные отношения, проявляют гораздо более живой интерес к организации, чем от них требуют принципы исполнения их единственной роли или задачи; они ищут (и находят) удовлетворение таких потребностей в личностной коммуникации, к которым организация определенно не имеет никакого отношения. Данная тенденция зачастую произвольно используется и поддерживается руководством организации.
В отличие от содержащихся в идеальной модели предположений, на практике оказывается, что ориентированное на выполнение задачи действие только выигрывает, если взаимодействие не будет сводиться лишь к специальным ролям. В этом смысле школа представляет собой типичную организацию, имеющую вполне определенную задачу передавать знания и навыки и оценивать их; однако выполнение этой задачи наверняка пострадало бы, если бы в школе не устанавливались отношения сообщества и чувства сопричастности среди учеников или студентов. Многие промышленные, торговые и финансовые компании особо субсидируют мероприятия, помогающие сплачивать их сотрудников, глубже вовлекать их интересы в сферу интересов организации. Они обеспечивают, например, отдых, развлечения, покупки и даже жилье своим сотрудникам. Ни одна из такого рода услуг не связана напрямую с непосредственной задачей организации или с той ролью, которая отведена в ней каждому конкретному сотруднику; но все они вместе призваны создавать «атмосферу сообщества» и побуждать сотрудников отождествлять себя с данной компанией. Эти эмоции, очевидно чуждые духу организации, призваны поддерживать в ее членах приверженность ее конечным целям и тем самым нейтрализовать противоположного рода чувства, которые может вызывать совершенно безличностное окружение, действующее согласно критериям рациональности.
И сообщества, и организации равно предполагают свободу своих членов; присоединение к ним — это предположительно добровольный поступок, по крайней мере в том смысле, что его можно и переиграть, отменив свое решение. Даже в тех случаях (вспомним так называемые естественные сообщества), когда присоединение к группе не было изначально результатом свободного выбора, ее члены все равно наделяются правом покинуть ее (хотя на них может оказываться давление с тем, чтобы они воздержались от реализации этого права). Однако есть один случай, когда организация явно отрицает данное право, и людей держат в пределах ее правомочности силой, — это случай тотальных институтов (название, данное им Ирвингом Гофманом). Тотальные институты — это принудительные сообщества, где вся жизнь их членов находится под тщательным контролем; их потребности четко определяются и удовлетворяются организацией; все, что им дозволено и не дозволено делать, четко регламентировано правилами организации. К модели тотального института в той или иной степени близки школы-интернаты, армейские казармы, тюрьмы, психиатрические больницы. Их подопечные денно и нощно содержатся под присмотром (или им создают такие условия, когда они не могут быть уверены, что за ними не наблюдают), так что любое отклонение от правил тут же обнаруживается и наказывается, а еще лучше — предотвращается. Тотальные институты резко отличаются от модели сообщества тем, что они отнюдь не поощряют стремление своих членов к установлению личных отношений. Полное вовлечение человека как личности в организацию сочетается с требованием абсолютно безличных отношений. Именно несоответствие такого сочетания объясняет громадную роль принуждения в тотальных организациях. Ни духовная приверженность, ни материальные блага не помогают обеспечить желаемое поведение, укрепить желание членов организации оставаться вместе и продолжать работу. Отсюда и другая черта тотальных институтов — строгое разделение их членов на тех, кто создает правила, и тех, кто им подчиняется. Эффективность принуждения как единственной компенсации отсутствия, с одной стороны, эмоциональной привязанности, а с другой — расчетливого эгоистического интереса, зависит от того, насколько велик и непреодолим разрыв между этими двумя сторонами. (Заметим, что здесь, как и везде, практика отличается от идеальной модели. Внутри тотальных институтов тоже развиваются межличностные отношения, зачастую перекрывающие пропасть между начальниками и подчиненными. То же, насколько они ослабляют общую стабильность и режим деятельности института, остается неясным, проявляется неотчетливо. Тем не менее совокупность взаимодействий здесь не менее гибка и не менее чувствительна к изменениям, чем в группах иного типа).
Я думаю, что когда мы наблюдаем человеческие группировки, мы более всего поражаемся их разнообразию. Но, несмотря на это их многообразие, все они — формы человеческого взаимодействия. Существование группы фактически заключается в постоянном поддержании сети взаимосвязанных действий ее членов. Например, утверждение «существует колледж» имеет в виду тот факт, что некоторое количество людей собираются вместе для обычного мероприятия, называемого лекцией (т. е. коммуникативного собрания, построенного таким образом, что один говорит, а другие слушают и записывают), семинаром (вербальным взаимодействием определенного числа людей, сидящих за столом и говорящих по очереди) или консультацией (таким взаимодействием, в котором один человек задает вопросы, а остальные отвечают на них) и других, подобных им, в целом регулярно и периодически осуществляющихся, типичных взаимодействий. В такого рода взаимодействиях люди руководствуются прежде всего своими представлениями о правильном поведении в данной специфической группе. Однако эти представления никогда не бывают полными и вряд ли могут дать недвусмысленные рекомендации, как следует вести себя в любой ситуации, возникающей в ходе взаимодействия. Идеальная сеть взаимодействий постоянно осмысляется и переосмысляется, да и сами практические действия членов взаимодействия являются своего рода осмыслением. А осмысление, интерпретация не могут не иметь обратной связи с первоначальным представлением. Идеальная сеть взаимодействий и обыденная практика постоянно связаны друг с другом и взаимно видоизменяются.
Самосохранение и постоянство группы как самостоятельной единицы становится вопросом поддержания и сохранения повседневных действий ее членов, приспосабливающихся к общему идеальному образцу «правильного поведения» в группе.
Глава 5 Дарение и обмен
Напоминания моих кредиторов накапливаются на моем столе. Есть срочные счета, а есть вещи, которые я просто должен купить, например, мои туфли изношены, по вечерам я не могу работать без настольной лампы, каждый день надо что-то есть… Что делать?
Я могу пойти к брату и попросить его дать мне взаймы денег. Я объясню ему ситуацию; вероятно, он наскребет для меня, прибавив к этому что-то вроде советов по поводу умения предвидеть, необходимости воздерживаться и планировать или о том, что нельзя жить не по средствам, но, в конце концов, полезет в карман и отсчитает мне какую-то сумму. Если у него хватит денег, то он даст мне столько, сколько нужно, а если нет, то по крайней мере даст столько, сколько сможет.
Можно пойти и в банк. Но там не имеет смысла объяснять, как я страдаю. Кого это интересует? Единственное, о чем меня могут спросить, это какие я могу предоставить гарантии в том, что оплачу заем. Вероятнее всего, спросят, есть ли у меня постоянный доход и достаточно ли он велик, чтобы оплатить заем с процентами. Я должен буду показать справку о зарплате; если бы у меня была собственность, то я должен был бы предъявить ее дополнительно — как залог. Если банковского служащего это удовлетворит, если он сочтет меня не столь уж рискованным клиентом, способным вовремя выплатить долг (разумеется, с хорошими процентами), то он выдаст мне деньги.
В зависимости от того, куда я обращусь со своей проблемой, можно ожидать два совершенно разных ответа, но прежде — две различных совокупности вопросов, свидетельствующих, очевидно, о двух разных пониманиях моего права (правомочности) получить помощь. Мой брат вряд ли станет интересоваться моей платежеспособностью: для него одолжить мне деньги не является вопросом выбора между хорошим или плохим бизнесом. Для него имеет значение только то, что я — его брат; а будучи его братом и пребывая в нужде, я имею достаточное основание просить его о помощи. Удовлетворить мою просьбу — его обязанность. Банковского же служащего меньше всего беспокоит, кто я и нужны ли мне деньги. Единственное, что его интересует, это достаточно ли разумным будет заем и достаточно ли выгодной будет деловая сделка для него или для банка, который он представляет. Он никоим образом — ни морально, ни как-то иначе — не обязан одалживать мне деньги. Если бы мой брат отказал мне в просьбе, то он должен был бы объяснить мне, что он не в состоянии одолжить денег. С банковским служащим дело обстоит иначе: если я хочу получить у него заем, то именно я должен доказывать ему, что я способен оплатить свои долги.
Взаимодействия людей подчиняются двум принципам, которые слишком часто противоречат друг другу, — принципу эквивалентного обмена и принципу дарения. В случае эквивалентного обмена первичным является личный интерес. Второй партнер по взаимодействию может признаваться в качестве самостоятельной личности, правомочного субъекта права и потребностей, но эти права и потребности рассматриваются первым партнером прежде всего как ограничения и препятствия на пути полного удовлетворения им собственных интересов. Для каждого превыше всего интересы «справедливой» оплаты в обмен на услуги, которые он предлагает для удовлетворения потребностей другого. «Сколько мне заплатят?», «Что я с того буду иметь?», «Не лучше ли мне заняться чем-то другим?», «Не надувают ли меня?» — эти или подобные вопросы каждый задает себе, планируя свои действия с тем, чтобы оценить их желательность и установить порядок предпочтений среди различных вариантов выбора. Можно торговаться по поводу значения «эквивалентности». Каждый использует доступные ему способы получения наиболее выгодной доли и для того, чтобы заключить сделку с пользой для себя. Совсем иное мы видим в случае с дарением. Здесь потребности и права других — главный и, возможно, единственный мотив действия. Вознаграждения, если они и последуют, не являются тем фактором, который принимается во внимание при расчетах желательности действия. Понятие эквивалентности здесь вообще не применимо. Вещи отдаются и услуги предоставляются единственно потому, что другой человек, будучи просто человеком, имеющим права и потребности, которые должно учитывать, нуждается в них.
«Дарение» — это обобщенное название широкого круга действий, различающихся по степени своей чистоты. «Чистое дарение» является как бы «пороговым понятием», чем-то вроде планки, по которой измеряют все практические случаи. Они в разной степени исходят из идеала. В самой чистой форме дарение абсолютно бескорыстно и совершается, невзирая на личные качества получателя. Бескорыстность означает отказ от вознаграждения в какой бы то ни было форме. Если судить о нем по обычным меркам собственности и обмена, то дарение есть чистый убыток; это «прибыток» только в моральном смысле, т. е. именно в том смысле, который логика наживы не признает. Фактически его моральная ценность возрастает с увеличением убытка. Моральная ценность дарения измеряется не рыночной ценой товаров и услуг, а именно величиной личных потерь дарящего (вспомним известную притчу о гроше вдовицы). То, что не берутся во внимание личные качества берущего, означает лишь одно, а именно: единственным его качеством, учитываемым в акте дарения, является его принадлежность к числу нуждающихся людей. Поэтому великодушие по отношению к членам своего рода или близким друзьям, о чем мы говорили во второй главе, фактически не удовлетворяет требованиям «чистого дарения», поскольку выделяет получателей как особых людей для особого с ними обращения. Обладая этой особенностью, получатели вправе рассчитывать на такое великодушие со стороны тех, с кем они связаны узами особых — личных — отношений. В своем чистом виде дарение осуществляется по отношению к любому нуждающемуся просто потому (и только потому), что человек в этом нуждается. «Чистое дарение» является признанием человечности другого, который остается анонимным, не причисленным к какой-либо категории на когнитивной карте дарящего.
Дарение поистине вознаграждает самого дарящего (хотя и иллюзорным) моральным удовлетворением: опытом самоотречения, самопожертвования ради другого человека. Будучи прямой противоположностью обмену или корыстолюбию, это моральное удовлетворение растет вместе с усилением чувствительности, самопожертвования и конечных потерь. Если характеризовать идеал чистоты дальше, то большинство религиозных учений поощряют к дарению, представляя его тоже как своего рода обмен: дарение — это искупление грехов и приобретение вечного счастья в загробной жизни. Подаяние страждущему поощряется как «благое деяние», необходимое для личного спасения. И хотя такая аргументация, несомненно, усиливает склонность к состраданию и дарению, она, достигая своего эффекта, в действительности поощряет столь же сильное желание наживы и тем самым бесповоротно укрепляет власть последнего.
Исследование человеческого поведения в экстремальных, жестоких обстоятельствах войны и иностранной оккупации показало, что большинство случаев героического самопожертвования, когда люди отдавали собственную жизнь ради спасения жизни другого человека, вообще совершались людьми, чьи мотивы были очень близки к идеалу «чистого дарения»: они считали помощь другим людям просто своим моральным долгом, т. е. тем, что не требует никаких доказательств, поскольку оно самоочевидно, естественно, элементарно. Одним из замечательных открытий этого исследования было то, что наиболее самоотверженные герои никак не могли осознать беспримерный героизм своих поступков. Им было свойственно недооценивать смелость, с какой они совершали свой поступок, и его моральное значение.
Два типа поведения, которые мы рассмотрели в начале главы, представляют собой примеры обыденных проявлений выбора «дарение — обмен». В первом приближении мы можем назвать мои отношения с братом (в которых превалировало дарение) личными, а отношения с банковским служащим (где на первый план выступало отношение обмена) — безличными. Происходящее в личных взаимоотношениях почти целиком зависит от того, что мы за люди, и очень мало от того, что мы делаем, делали и будем делать, т. е. зависит от нашего качества, а не от нашего поведения. Мы братья и потому должны помогать друг другу в нужде. И не важно (или, по крайней мере, это не должно быть важным), появилась эта нужда в результате невезения, просчета или недальновидности. Еще меньше имеет значение, «надежно» ли пристроена сумма, данная, чтобы выручить меня, т. е. будет ли мое поведение гарантировать ее оплату в будущем. В безличных отношениях верно обратное. Только поведение, а не качество человека имеет в них значение. Неважно, кто я, важно только то, что я собираюсь делать. Мой партнер будет интересоваться лишь моими прошлыми поступками, чтобы судить о моем возможном будущем поведении.
Талкот Парсонс, принадлежавший к числу наиболее влиятельных социологов послевоенного периода, считал противоположность «качество — исполнение» одной из четырех основных пар противоположностей, которые направляют любой выбор в человеческих отношениях. Он назвал эти противоположности «типовыми переменными». Другой парой противоположных возможностей выбора, по Парсонсу, являются «универсализм — партикуляризм». Обдумывая мою просьбу, брат может принять во внимание многие вещи, среди которых, однако, не будет универсальных принципов, таких, например, как правовые нормы, кодексы поведения или текущие процентные ставки. Для него я не «представитель категории людей», к которым можно применить некое универсальное правило. Я для него особенный, уникальный случай, я — его брат. И что бы он ни решил делать, он это будет делать потому, что я такой единственный человек, как никто другой; и поэтому вопрос «Что бы он делал в других, сходных обстоятельствах?» просто не встает. Но все совсем иначе с банковским служащим. Для него я просто один из огромной категории прошлых, настоящих и будущих заемщиков. Имея до этого опыт работы со многими «вроде меня», он наверняка выработал какие-то универсальные правила для всех подобных случаев в будущем. Поэтому результат моей конкретной просьбы будет зависеть от того, как — по универсальным правилам — будет оценена надежность моего случая.
Следующая типовая переменная также противопоставляет два случая. Отношения между мною и моим братом диффузные; отношения между мною и банковским служащим специфические. Великодушие моего брата — это не единовременная причуда; не отношение, вызванное огорчением непосредственно от данного конкретного сообщения. Его братская предрасположенность ко мне простирается на все, что касается меня, и поэтому все, что касается меня, является предметом его заинтересованности. Нет ничего в жизни каждого из нас, что не касалось бы другого. И если мой брат расположен помочь мне в этом случае, то именно потому, что он вообще хорошо расположен ко мне и заинтересован во всем, что я делаю и могу сделать. Его понимание и забота не ограничиваются финансовыми делами. Совсем иначе обстоит дело в случае с банковским служащим: его поведение специфически связано только с происходящим здесь и сейчас, его реакция на мою просьбу и окончательное решение основываются всецело на фактах данного дела и не имеют ни малейшего отношения к другим сторонам моей жизни или личности. Многое, важное для меня, он справедливо посчитает не относящимся к делу и оставит без внимания.
Четвертая противоположность венчает, так сказать, три предыдущие (хотя можно сказать, что она и лежит в их основании, делая их возможными) — противоположность, по словам Парсонса, между аффективностью и аффективной нейтральностью. Это значит, что одни взаимодействия наполнены эмоциями — сочувствием, симпатией, любовью, а другие — неэмоциональны, «холодны», отстраненны. Безличные взаимодействия не вызывают у партнеров никаких чувств, кроме нетерпеливого стремления заключить успешную сделку. Действующие сами по себе не являются объектами эмоций — они не вызывают ни любви, ни ненависти. Если они настойчиво торгуются, пытаются обманывать, изворачиваются и всячески тормозят дело, то своей задержкой в делах могут вызвать некоторое раздражение и бросить тень на отношение к ним; какая-то симпатия может зародиться лишь в том случае, если они усердно и охотно сотрудничают, если это люди, «с которыми приятно иметь дело». Вообще же эмоции не являются неотъемлемой частью безличных отношений, тогда как в межличностных отношениях они являются тем фактором, который только и делает их возможными.
Я и мой брат, мы оба, глубоко переживаем наши взаимоотношения. По всей вероятности, мы любим друг друга. Более того, мы, очевидно, симпатизируем друг другу и испытываем дружеские чувства; стремимся понять, поставить себя на место друг друга, каждый из нас старается не только представить себе радость или несчастье друг друга, но и радоваться удачам и сопереживать несчастья. Вряд ли такие отношения могут сложиться у меня с банковским служащим. Мы встречаемся крайне редко и знаем друг друга слишком мало, чтобы «читать» настроения друг друга. Если бы мы могли это делать, то все равно не делали бы, за исключением случаев, когда чувства, которые мы хотели бы обнаружить у другого или выказать сами, могут непосредственно повлиять на успех данной сделки (я постараюсь не разозлить банковского служащего, наоборот, я предпочту вызвать у него хорошее расположение духа шутками и комплиментами, надеясь нейтрализовать его придирчивость и рассчитывая на его человеческие слабости). В других случаях чувства здесь неуместны. Более того, они могут навредить, если им будет позволено влиять на оценки; если, например, мой банковский служащий решит предоставить мне заем из чувства жалости, сочувствия моему плачевному положению и по этой причине не примет в расчет мою неплатежеспособность, то его сочувствие запросто может обернуться убытком для банка, который он представляет.
Эмоции, являясь необходимым дополнением личностных отношений, совершенно неуместны в безличных. Главную роль в последних играет бесстрастный, холодный расчет, которым можно пренебречь только на свой страх и риск. Бесстрастная позиция, занятая моими партнерами по безличной сделке, может задеть мои чувства, особенно если я обращаюсь к ним в крайне затруднительной для себя ситуации. С моей стороны будет неразумно обвинять их в бесчувствии, возмущаться по поводу «бессердечия и бездушия бюрократов». Это явно не то, что может способствовать успеху безличных отношений. Теперь время от времени приходится слышать о так называемых «внимательных банках» и «банках, которые любят говорить “да”»; эти банки считают выгодным скрывать свое безразличие к клиентам (т. е. свой интерес к их деньгам, а не к их личным проблемам и чувствам) и даже обещать то, чего не могут и не собираются предложить — заключить безличную сделку на основе личностных отношений.
Наверное, самое существенное различие между личностным и безличным характером взаимодействия таится в тех факторах, на которые опираются действующие лица для достижения успеха. Мы все зависим от действий людей, о которых мы едва ли что-нибудь знаем или знаем слишком мало, для того чтобы строить свои планы и надежды в расчете на их личностные качества — надежность, честность, порядочность, трудолюбие и т. п. Имея в распоряжении так мало сведений, вряд ли можно было бы заключить сделку, если бы не возможность разрешить проблему на безличном уровне: обращаться не к личностным качествам или способностям партнеров (о которых мы все равно ничего не знаем), а к универсальным правилам, которые применимы во всех подобных случаях, кто бы ни был нашим партнером в данный момент. В условиях ограниченного личного знакомства обращение к правилам является единственным способом завязать общение. Только представьте себе, какое невероятно огромное, необъятное количество сведений вам пришлось бы собрать, если бы все ваши сделки основывались только на тщательно проработанной оценке личностных качеств ваших партнеров. Гораздо реальнее усвоить несколько общих правил, регулирующих взаимообмен, и надеяться, что партнер сделает то же самое и будет соблюдать эти правила.
Очень многое в жизни действительно организовано таким образом, чтобы позволить партнерам взаимодействовать при минимальном количестве личностной информации друг о друге. Например, для меня, ничего не понимающего в медицине, было бы совершенно невозможно оценить способности врачевания и истинное призвание тех специалистов, к которым я обращаюсь за помощью; к моему счастью, их компетенция подтверждена, проверена и удостоверена Британской медицинской ассоциацией, принявшей их в число своих членов, а также руководством больницы, принявшим их на работу. Поэтому моя задача сводится к тому, чтобы изложить свое дело и предположить (поверить), что в ответ я получу должное обращение и услуги. Желая убедиться в том, что поезд, в который я сел, направляется в нужный мне город, я с уверенностью могу справиться об этом у человека в униформе Британских железных дорог, не беспокоясь, что тем самым я поставлю под сомнение их правдивость. Я впускаю в дом человека, показавшего мне удостоверение инспектора газовой службы, не расспрашивая и не проверяя его документы, как я поступил бы с незнакомым человеком. В таких или подобных случаях лично не знакомые мне люди (вроде тех, что заседают в Британской медицинской ассоциации или в газовом управлении) взяли на себя задачу поручительства за компетентное, соответствующее правилам поведение тех, чьи удостоверения они заверяют. Тем самым они делают возможным для меня принять услуги таких людей на веру (это явление достаточно глубоко проанализировано британским социологом Энтони Гидденсом).
И все же как раз потому, что многие из наших взаимодействий имеют безличный характер, потребность в личностных отношениях становится особенно острой, даже можно сказать насущной. Мы часто замечаем, что чем больше мы зависим от каких-то не знакомых нам людей (о которых имеем самые смутные и приблизительные сведения, поскольку наши встречи с ними мимолетны и необязательны), тем сильнее наше желание расширить область личностных взаимоотношений с ними, стремление вызвать такие ожидания, которые могут возникнуть только в результате личных соглашений по поводу наших взаимодействий и не могут появиться даже при наилучшим образом осуществляющихся безличных отношениях. Негодование по поводу равнодушия безличного мира, наверное, сильнее всего ощущают молодые люди, готовые вот-вот покинуть теплый, уютный и удобный мир семьи, юношеской дружбы и вступить в жестокий, эмоционально холодный мир с его вечной заботой о хлебе насущном. Поэтому вполне понятны попытки вырваться, убежать из этого бездушного и бессердечного мира, в котором люди служат лишь средством (или им так кажется) для каких-то иных целей, не имеющих никакого отношения к их собственному счастью и нуждам. Некоторые беглецы пытаются установить коммуноподобные, замкнутые и самодостаточные малые анклавы[2], внутри которых разрешены только межличностные отношения. Однако такие попытки заканчиваются, как правило, неудачей и горькими разочарованиями. Единственное, в чем они убеждают участников подобных экспериментов, так это в том, что жизнь — очень сложная штука и не может держаться только на эмоциональной привязанности; сила эмоций, которую потребовало бы осуществление такого прожекта, очень скоро оказалась бы непомерной: даже вожделенный рай бесконечной любви при ближайшем рассмотрении может показаться адом взаимной озлобленности. Оказывается, что невероятные усилия, необходимые для сохранения высокого накала чувств на протяжение длительного времени, для предотвращения или снятия стрессов, вызываемых постоянными противоречиями между чувствами и повседневной реальностью, производят большее душевное опустошение по сравнению с теми усилиями, которые требуются для поддержания нарочитой холодности в случае альтернативных взаимоотношений.
Если межличностные отношения не могут полностью удовлетворить потребность в нормальной жизни, то они все же остаются ее неизбежной составной частью. Наше горячее желание «глубоких и целостных» личных взаимоотношений усиливается по мере того, как расширяется и становится менее проницаемой сеть безличных зависимостей, в которую мы вплетены. Я — работник компании, где зарабатываю жалованье; покупатель многих магазинов, где покупаю нужные мне (или кажущиеся мне таковыми) вещи; пассажир автобуса или поезда, который доставляет меня к месту работы и обратно; зритель в театре; полноправный член (т. е. с правом голоса) партии, которую я поддерживаю; пациент в кабинете врача, и у меня еще очень много других ролей в иных местах. В каждом из них, как я чувствую, присутствует лишь небольшая часть моего «Я», и мне приходится постоянно следить за собой, не позволяя остальной части моей личности вмешиваться в исполнение роли в другом месте, поскольку она (эта роль) относится к другому особому контексту, а в первом может и не приветствоваться. Таким образом, я нигде не чувствую себя самим собой в полной мере; нигде не чувствую себя, как дома. В конце концов, я начинаю ощущать себя совокупностью самых разных ролей, мною исполняемых, причем каждую в своем месте и среди различных людей. Но существует ли что-то такое, что связывает их? Кто я в итоге — каково мое истинное, настоящее «Я»?
Большинство из нас приходит в замешательство, обнаруживая, что образ его представляет собой не более чем набор ролей. Рано или поздно мы примиряемся с множественностью нашей личности (Me) и даже с недостаточной координацией этих ролей (см. гл. 1); но «Я» (I) — одно единственное или во всяком случае должно оставаться одним. Коль скоро во «внешнем» мире такого единства нет, что совершенно очевидно, ибо он расколот на множество отдельных, строго функциональных сделок, или обменов (трансакций), то отсутствие его (единства) должно быть восполнено целостностью нашей личности. Как давно заметил Георг Зиммель, в тесно заселенном, изменчивом мире, в котором мы обитаем, в нескончаемых поисках смысла и целостности индивиды склонны обращаться к самим себе. Эта неутолимая жажда целостности и согласованности, однажды сконцентрировавшись на своей личности, а не на внешнем мире, выражается в поиске себя как личности, т. е. в определении собственной идентичности, или самоидентичности.
Ни один из многих безличных обменов (трансакций), в которые мы вовлечены, не способен указать, дать нам эту идентичность. Искомая самоидентичность «выпадает» за рамки подобных обменов. Ни один из видов безличных контекстов не вмещает ее целиком. В каждом конкретном случае мы находимся, так сказать, не на месте: наша истинная личность, как мы ее ощущаем, находится где-то вне того контекста, в котором происходит имеющее место здесь и сейчас взаимодействие. И только в личностном взаимодействии с его размытыми границами и избирательностью, с тем важным значением, которое придается нами его качеству и наполняющим его взаимным переживаниям, мы можем надеяться найти то, что ищем.
Немецкий социолог Никлас Луман рассматривал поиски самоидентичности как исходную и наиболее сильную причину нашей всеохватывающей потребности в любви — любить и быть любимым. Быть любимым значит испытывать отношение к себе как к уникальной личности, не похожей ни на кого, со стороны другого человека; в такой ситуации любящим не требуется прибегать к помощи универсальных правил для оправдания ожиданий своих любимых о них самих или об их требованиях. Быть любимым означает, что любящий меня человек принимает и подтверждает независимость моей личности, моего права решать за себя и выбирать свой образ по моему разумению; это значит, что любящий человек соглашается с моим упорно повторяемым утверждением: «Вот я такой, так я поступаю и на том стою».
Другими словами, быть любимым означает быть понятым, по крайней мере, «понятым» в том смысле, который мы подразумеваем, когда говорим «Поймите же меня!» или вопрошаем в нетерпении: «Вы меня понимаете? Вы на самом деле меня понимаете?» Стремление быть понятым — отчаянный призыв к кому-нибудь влезть в мою шкуру, посмотреть на вещи моими глазами, согласиться без всяких доказательств, что моя точка зрения заслуживает уважения уже только потому, что она моя. Взывая к пониманию, я добиваюсь одного — подтверждения того, что мой личный опыт (мои внутренние мотивы, мое представление об идеальной жизни, мой образ самого себя, мои беды и радости) реален. Мне нужно подтверждение моего представления о самом себе. И я нахожу такое подтверждение в принятии моего опыта другим человеком, когда этот другой одобряет то, что в противном случае я счел бы просто игрой моего воображения, особенностью моего характера, моего стиля, плодом моей разбушевавшейся фантазии. Я надеюсь получить такое подтверждение уже в желании моего партнера серьезно и с симпатией выслушать мои рассказы о себе; мой партнер, по словам Лумана, должен «снизить порог соответствий»: он должен признавать все, что я считаю соответствующим и достойным внимания и осмысления.
По сути дела, мои желания парадоксальны. С одной стороны, я хочу представлять собой единое целое, а не просто совокупность ролей, которые я берусь играть, обращаясь «вовне», и меняю лишь во время перемещения из одного места в другое. Тем самым я не хочу ни на кого походить, кроме самого себя, и не хочу служить всего лишь одной из многих спиц в чьем-то колесе. С другой стороны, я знаю: ничто не существует только потому, что это я себе так представляю. Я ощущаю разницу между воображением и реальностью и знаю, что если что-то существует, то оно должно существовать в равной мере и для меня, и для других (вспомните, например, о знании повседневной жизни, которым каждый из нас обладает и без которого жизнь в обществе немыслима; одним из его важнейших требований является вера в то, что жизненный опыт имеет всеобщий характер (его имеет каждый человек) и что другим людям мир представляется таким же, как и нам самим). Поэтому чем лучше мне удается развить в себе действительно уникальную личность, приобретая уникальный опыт, тем больше мне требуется социальное подтверждение моего опыта. На первый взгляд кажется, что такое подтверждение можно получить только в любви. Результатом этого парадокса является то, что в нашем сложном обществе, где большинство человеческих потребностей удовлетворяется в безличной форме, потребность в любви более насущна, чем когда-либо. Это означает также, что бремя, которое несет любовь, непомерно, и столь же непомерны давление, напряжение, препятствия, с которыми приходится сталкиваться и бороться любящим людям.
Особенно хрупкими и уязвимыми отношения любви делает потребность во взаимности. Если я хочу быть любимым, то избранный мною объект моей любви, вероятнее всего, потребует от меня взаимности — чтобы я отвечал ему любовью. А это значит, как мы уже отмечали, что я должен платить любимому человеку тем же: действовать таким образом, чтобы подтверждать реальность его опыта; чтобы понимать, стремясь быть понятым. Идеально каждая из любящих сторон будет стремиться найти в мире такой же смысл, какой придает ему другая сторона. Но две реальности, два жизненных опыта (мой и моего партнера) наверняка не совпадают; более того, у них может быть всего лишь несколько (если вообще есть) общих моментов. Когда два человека встречаются впервые, у каждого позади своя долгая жизнь, которую он не делил с этим другим. Две совершенно разные биографии, по всей вероятности, имеют своим результатом две совершенно разных совокупности опыта и ожиданий. Но с этого момента они должны быть пересмотрены, поскольку хотя бы в некоторых отношениях они окажутся противоречивыми. Маловероятно, что мы оба сразу согласимся признать наши опыт и ожидания в равной мере реальными, приемлемыми и не нуждающимися в исправлениях и компромиссах. Кто-то один (или даже оба) должен поступиться своим опытом либо приспособить его или вообще от него отказаться ради продолжения отношений. Однако такой отказ ставит под сомнение саму цель любви и ту потребность, которую любовь должна удовлетворять. Если переоценка и в самом деле происходит и если ее производят оба партнера, то вознаграждение за такой шаг огромно. Но путь к счастливому концу тернист, и чтобы благополучно пройти его, нужно иметь много терпения и уметь ждать.
Американский социолог Ричард Сеннет ввел термин «деструктивный Gemeinschaft»[3] для отношения, в котором оба партнера одержимо добиваются права на интимность, чтобы раскрыться другому, чтобы всецело разделить с ним самое сокровенное в их внутреннем мире, чтобы быть абсолютно откровенным, т. е. ничего не скрывать, каким бы неприятным для партнера ни было известие. С точки зрения Сеннета, раскрывая душу перед партнером, человек возлагает на его плечи непомерное бремя: ведь он по существу просит партнера согласиться с тем, что не обязательно вызывает у него энтузиазм, и отвечать на доверие столь же честно и откровенно. Сеннет не согласен с тем, что продолжительные отношения, особенно отношения любви, могут строиться на зыбкой основе взаимной близости. Вероятнее всего, партнеры будут требовать друг от друга того, чего они не смогут дать друг другу (или не захотят дать, подсчитав цену); они будут страдать, мучиться, разочаруются друг в друге; и в конце концов наступит момент, когда они решат однажды прекратить всякие отношения и расстаться. Один из партнеров предпочтет уйти и искать удовлетворения своей потребности в самоутверждении где-то в другом месте.
Таким образом, мы вновь обнаруживаем, что хрупкость отношений любви, т. е. деструктивность общности, которой добиваются партнеры в любви, обусловлена прежде всего требованием взаимности. Как ни парадоксально, но моя любовь могла бы быть сохранена лишь в том случае, если бы я не добивался взаимности. И пусть кому-то это не покажется странным, но наименее уязвима та любовь, которую мы приподносим как дар: я готов принять мир любимого мною человека, войти в этот мир и постараться понять его изнутри, не ожидая при этом ничего подобного взамен… Мне вовсе не обязательно вести переговоры, вступать в соглашения или заключать брачный контракт. А вот если интимность достигается с обеих сторон, то переговоры и компромиссы неизбежны. Однако именно переговоры и компромиссы могут нелегко даваться партнерам, особенно если они слишком нетерпеливы или самоуверенны. Не удивительно, что любовь, которая так дорого и трудно достается нам, иногда требует взамен кого-либо, кто выполнял бы функцию любви (т. е. того, кто соглашался бы с нашим внутренним опытом, предварительно терпеливо и полностью восприняв, впитав наши откровенные признания), не требуя в ответ нашей взаимности. Здесь-то и кроется секрет поразительного успеха и популярности психоаналитических сеансов, психологических консультаций, брачных контор и т. п. За право раскрыть себя, сделать свои самые сокровенные чувства достоянием другого человека и в конце концов получить долгожданное подтверждение собственной идентичности нужно только заплатить деньги. Такая плата делает отношение аналитика (или врача) и пациента (или клиента) безличным. В этом случае можно быть любимым, не любя. Можно любить только себя, не разделяя это чувство с другим, ни мало не задумываясь об этом другом, ибо его услуги куплены, а купив их, он тем самым взял на себя обязательство разделять мои чувства, что и является частью деловой сделки. Пациент покупает иллюзию любви. (Заметим тем не менее, что поскольку односторонняя любовь «противоестественна», т. е. резко противоречит социально принятой модели любви, постольку психоаналитические упражнения предполагают соединение с так называемым «переносом» — склонностью пациента ошибочно принимать поведение аналитика за выражение «как бы» любви и отвечать поведением, которое выходит за рамки строго деловых, безличных отношений, оговоренных условиями соглашения. Феномен «переноса» может быть истолкован как наиболее сильное «средство лечения», как своеобразный заменитель любви.)
Другой, вероятно, менее уязвимый заменитель любви (вернее, функцию подтверждения идентичности) предлагает потребительский рынок. Он выставляет широкий набор «идентичностей», из которого каждый может выбрать себе наиболее подходящую. Коммерческая реклама берет на себя показ продаваемых товаров в их социальном контексте, т. е. как часть какого-либо конкретного стиля жизни, и потенциальный покупатель может сознательно выбрать и приобрести символы такой самоидентичности, какую он хотел бы иметь. Рынок предлагает также орудия производства идентичности, которые можно использовать по-разному, достигая результатов, благодаря которым каждый покупатель чем-то отличается от любого другого и таким образом персонализируется. На рынке можно собрать полный комплект различных элементов для фоторобота личности, изготавливаемого на заказ по принципу «сделай сам». Можно научиться, например, производить впечатление современной, свободной, беззаботной женщины или озабоченной, разумной и рачительной домохозяйки; честолюбивого, самоуверенного дельца; беспечного доброго малого; закаленного и физически крепкого мужчины — мачо[4]; романтической, мечтательной, жаждущей любви натуры или каждого из них в той или иной мере. Преимуществом предлагаемых рынком идентичностей является то, что они преподносятся в полном наборе, одновременно с рекламой, подтверждающей их социальную значимость, и не требует ажиотажа в поисках. Фотороботов и символы стиля жизни обычно представляют авторитетные люди, их снабжают информацией о том, что уже множество людей восприняло их и теперь используют их либо «переключаются» на них. Таким образом, социальное подтверждение уже не нуждается в согласовании — оно с самого начала оказывается, так сказать, встроенным в рыночный продукт.
Благодаря наличию таких широко доступных альтернатив, набирающих популярность, попытки решать проблему самоидентичности посредством взаимной любви имеют теперь как никогда мало шансов на успех. Как мы видели ранее, согласительное подтверждение мучительно переживается в любви обеими сторонами. Без длительных и самоотверженных усилий успех здесь невозможен. Он потребует самопожертвования с обеих сторон. Эти усилия и жертвоприношения предпринимались бы гораздо чаще и с большей охотой, если бы не было столь доступных «простых» заменителей. Понятно, что при наличии огромного количества абсолютно доступных заменителей (единственная необходимая жертва — расстаться с определенной суммой денег), агрессивно навязываемых продавцами, заметно ослабляется мотивация напряженных, длительных и зачастую неудачных усилий. Всякая жизнерадостность угасает, наталкиваясь на заманчивую «простоту» и нетребовательность рыночных альтернатив. Для начинающихся и легко ранимых отношений любви порой бывает достаточно первого барьера, первого препятствия, чтобы один партнер или оба сразу решили приостановиться или вообще «сойти с дистанции». Чаще всего заменители ищут для того, чтобы «дополнить» и тем самым укрепить или оживить угасающие отношения любви; однако рано или поздно заменители освобождают эти отношения от их первоначальной функции и забирают всю энергию, прежде побуждавшую партнеров в первую очередь искать пути их (отношений) возобновления.
Одним из свидетельств такого обесценения любви, описанных Ричардом Сеннетом, является склонность к замене и вытеснению эротизма сексуальностью. Эротизм означает использование сексуального влечения и, в конечном счете, самого сексуального взаимодействия в качестве фундамента, на котором строятся и поддерживаются продолжительные любовные отношения — устойчивые социальные отношения, обладающие всеми признаками, которые, как мы уже показали, относятся к многосторонним, целостным личным отношениям. Сексуальность означает сведение (редукцию) сексуального взаимодействия лишь к одной функции — удовлетворению сексуального влечения. Такая редукция зачастую сопровождается предостережениями, цель которых — предотвратить появление взаимной симпатии и необходимость брать на себя какие-то обязательства, вытекающие из сексуальных отношений, и тем самым воспрепятствовать перерастанию их во вполне зрелые личные отношения. Избавленный от любви секс сводится к процедуре снятия напряжения, в которой партнер используется как принципиально заменимое средство к достижению цели. Однако другим следствием этого является то, что освобождение сексуальности от эротизма значительно ослабляет любовные отношения. В таком случае им не достает одного из их важнейших источников, а их стабильность оказывается еще более беззащитной.
Таким образом, любовные отношения подвергаются двойной опасности: они могут прерваться из-за внутренней напряженности; могут уступить другому типу отношений или полностью превратиться в такое отношение, которое несет на себе многие или все признаки безличного отношения, — в обмен.
Когда мы говорили о сделках клиента банка с его служащим, мы рассматривали типичную форму отношений обмена. Как мы отмечали, единственным, что при этом имело значение, была передача особого объекта или услуги от одной стороны сделки другой; объект переходил из рук в руки. Живые люди, участники сделки, делали не что иное, как играли роли носителей или посредников, способствуя циркуляции товаров. Лишь невзначай их взгляд фиксировался на партнере. Фактически они приписывали значимость только объекту обмена, другого же человека наделяли вторичным, производным значением, т. е. видели в нем держателя или хранителя искомого товара. Они смотрели «сквозь» своих партнеров непосредственно на товар. И лишь в самую последнюю очередь они приняли бы в расчет нежные чувства или духовные устремления друг друга (и то только в том случае, если чувства партнера не могли повлиять на результат обмена). Грубо говоря, оба партнера действовали эгоистично; высшим мотивом их действия было как можно меньше дать и как можно больше получить; оба преследовали свои личные интересы, сосредоточиваясь исключительно на текущей задаче. И здесь их цели пересекались. Можно сказать, что в сделках безличного обмена интересы действующих находятся в конфликте.
Ничего в сделках обмена не совершается просто ради другого человека; ничто в отношении партнера не имеет значения, кроме того, что может быть использовано для более успешного торга в сделке. Поэтому, естественно, стороны относятся с подозрением к мотивам друг друга. Они боятся быть обманутыми. Им кажется, что они должны быть бдительными и осмотрительными, должны всегда быть начеку. Они не могут позволить себе взглянуть на дело иначе, ослабить свое внимание хотя бы на мгновение. Их самое большое желание — защититься от эгоизма другой стороны; они, конечно же, не ожидают, что другая сторона поведет себя бескорыстно, но настаивают на честной игре, т. е. на том, что они считают эквивалентным обменом. Так отношения обмена требуют связующего правила, т. е. закона, и власти, на которую возлагается задача соблюдения справедливости сделок и которая способна навязывать свои решения силой в случае неповиновения. Различного рода ассоциации потребителей, потребительский надзор, органы, рассматривающие жалобы, и т. п. созданы, исходя из этой необходимости защититься. Они берут на себя трудную задачу следить за справедливостью обмена. Кроме того, они оказывают давление на власть, чтобы она издавала законы, ограничивающие свободу более сильной стороны эксплуатировать незнание или наивность слабой.
Очень редко стороны сделки находятся в равном положении: те, кто производит или продает товары, знают гораздо больше об их качестве, чем когда-либо узнают покупатели или пользователи. Они вполне могли бы всучить доверчивым покупателям некачественный товар, если бы их не сдерживал закон. Чем изощреннее и сложнее технически товар, тем менее покупатели способны судить о его истинных качестве и ценности. Дабы избежать обмана, потенциальные покупатели должны прежде обратиться к помощи независимых, т. е. незаинтересованных, властей; они требуют издания закона, который четко фиксировал бы их права и позволял им в случае необходимости с целью защиты их зависимого положения от произвола продавца товаров и услуг передавать дело в суд.
Именно потому, что партнеры вступают в отношения обмена исключительно в качестве функций обмена, как «транспортировщики» товаров, и вследствие этого остаются «невидимыми» друг другу, они чувствуют себя гораздо менее обремененными и связанными, чем в отношениях любви. Они меньше вовлечены в них, не берут на себя никаких щекотливых обязательств, кроме обещания строго придерживаться условий сделки. Те стороны их личности, которые не относятся к конкретной сделке, не подвергаются воздействию и сохраняют свою автономность. В любом случае они чувствуют, что их свободу не ограничивали, а их выбор в будущем не будет сдерживаться связью, в которую они вступили. Обмен протекает относительно спокойно, «без последствий», поскольку связан лишь с данной конкретной сделкой и заканчивается ею же, он ограничен во времени и пространстве. Не захватывает он и всю личность в целом. (Заметим, что этот способ соединения обмена с автономией личности опровергает утверждение, зачастую принимаемое как само собой разумеющееся в экономических и политических рассуждениях, будто человеческий труд является таким же товаром и может выступать предметом обмена. В отличие от обмениваемых товаров труд нельзя отделить от работника. Продажа своего труда означает согласие с тем, что твои действия как личности — личности в целом — будут в течение определенного периода времени подчиняться воле и решениям других людей. Тотальность, целостность личности работника, а не просто некий отторгаемый объект, находящийся в его распоряжении, передается под чужой контроль. Безличный, казалось бы, контракт выходит далеко за рамки простых актов обмена).
Любовь и обмен — две крайности континуума, на котором можно расположить все человеческие отношения. Так, как мы их здесь описали, они редко встречаются в нашем реальном жизненном опыте. Мы рассмотрели их в «чистом виде», как модели. Большинство же отношений не являются «чистыми», смешивая две крайности в различных пропорциях. Большинство любовных отношений содержит элементы делового торга за справедливый обмен, вроде «Я сделаю то-то и то-то, если ты сделаешь это». В процессе обмена, за исключением случайных или одноразовых сделок, действующие лица отношений обмена редко остаются равнодушными друг к другу в течение длительного времени; рано или поздно в эти отношения вовлекается нечто большее, чем только деньги и товары. Каждая из крайностей, однако, сохраняет свою относительную тождественность, даже участвуя в смешанных отношениях. Каждая несет свой собственный груз ожиданий, свое собственное представление об идеальном положении дел и поэтому ориентирует поведение действующих лиц в специфическом направлении. Большая часть двусмысленности наших отношений с другими людьми может быть объяснена ссылкой на противоречия между этими двумя крайними, взаимодополняющими, но все же несовместимыми совокупностями ожиданий. Смоделированные, «чистые» отношения редко встречаются в жизни, где правилом является многозначность человеческих отношений.
Наши мечты и стремления, кажется, разрываются между двумя потребностями, которые почти невозможно удовлетворить одновременно, но не менее трудно удовлетворить их и по отдельности. Это потребности в причастности и в индивидуальности. Первая из них заставляет нас искать прочных и надежных связей с другими. Мы выражаем эту потребность, когда говорим или думаем о сообществе или общности. Вторая же подталкивает нас к замкнутости, к состоянию, в котором мы не доступны воздействиям и притязаниям других, делаем то, что считаем нужным, оставаясь «самими собой». Обе потребности действенны и могущественны; давление каждой из них усиливается тем больше, чем меньше она удовлетворена. С другой стороны, чем ближе мы подходим к удовлетворению одной потребности, тем болезненнее чувствуем неудовлетворенность другой. Оказывается, что сообщество без личной уединенности напоминает, скорее, подавление, нежели причастность. А уединенность без сообщества походит на одиночество, а не на бытие «самим собой».
Глава 6 Власть и выбор
Почему я делаю то, что я делаю? Этот вопрос кажется слишком простым, чтобы ломать над ним голову, если вы не настроены мыслить философски. Разве ответ на него не очевиден? По крайней мере, он таким кажется. Конечно, я делаю это потому, что… (Я бегу на семинар потому, что преподаватель сделал мне выговор за предыдущий пропуск; я останавливаюсь перед светофором потому, что здесь очень большое движение; я готовлю обед потому, что голоден; я ношу джинсы потому, что сейчас все их носят.) Такими простыми (действительно, очевидными) мои объяснения кажутся потому, что соответствуют общей привычке объяснять события, указывая на то, что они являются следствием какой-то причины.
Чаще всего, когда дело доходит до объяснения того, что мы делаем, или того, что с нами происходит, наше любопытство бывает в основном удовлетворено, или, говоря иначе, мы довольствуемся очень простым рассуждением вроде такого: даже если случилось нечто другое, все равно то событие, которое мы хотим объяснить, должно было бы произойти; другими словами, оно неизбежно или, по крайней мере, весьма вероятно. Почему взрыв произошел в том доме неподалеку? — Потому что там была утечка газа, а газ — очень огнеопасное вещество, достаточно искры для возгорания… Почему никто не услышал звона разбитого оконного стекла? — Потому что все спали. Люди, когда спят, обычно не слышат звуков… И так далее. Наши поиски объяснений иссякают, как только мы находим такое событие или положение вещей, за которыми всегда следует именно то событие, которое мы объясняем (тогда мы говорим о законе, т. е. связи без исключений), или, по крайней мере, следует в большинстве случаев (тогда мы говорим о норме — связи, проявляющейся в большинстве случаев, а не во всех). Таким образом, объяснение сводится к тому, чтобы представить объясняемое нами событие в виде суждения, выводимого из другого, более общего суждения или из совокупности суждений. А коль скоро мы можем представить его в таком виде, то рассматриваем его как принципиально предсказуемое: при наличии общего закона или нормы должно произойти именно это событие, и никакое другое событие не может случиться вместо него. Объяснение не допускает возможности выбора, волюнтаристского отбора, произвольной последовательности событий.
Однако что касается человеческого поведения, то такое привычное объяснение оставляет недосказанным кое-что очень важное. Оно не учитывает того факта, что объясняемое нами событие — это чье-то действие и что у человека, чье действие мы объясняем, был выбор. Он мог повести себя, как угодно. Из многих способов поведения он выбрал один, и именно это подлежало объяснению, но не было объяснено. Это событие ни в коей мере не было неизбежным. Не существует такой совокупности общих суждений, из которой оно может быть выведено с определенной уверенностью. А значит, оно не было предсказуемо. Мы можем постараться понять это событие только после того, как оно произошло, ретроспективно; «задним числом» мы можем интерпретировать это событие-действие как следствие определенного рода правил, которым действующие лица должны были бы следовать, чтобы совершить то, что они совершили. Однако эти правила должны были бы предполагать более чем один тип поведения. И действующему лицу не было необходимости строго следовать им.
В случае с человеческим поведением объяснения подобного рода не удовлетворяют нас, поскольку раскрывают не все, что можно узнать. По собственному опыту мы знаем, что люди совершают поступки с определенной целью. И у мужчин, и у женщин есть мотивы, подобно мне, они делают что-либо с тем, чтобы создать ситуацию, которая по той или иной причине представляется им предпочтительной (я, например, регулярно хожу на занятия, чтобы избежать нареканий со стороны преподавателя или чтобы полностью прослушать курс; я внимательно смотрю на дорогу, чтобы не попасть в аварию и остаться живым; я готовлю обед, чтобы удовлетворить чувство голода или ублажить своего гостя; я ношу джинсы, которые носит большинство людей вокруг, чтобы не выделяться и не вызывать подозрения).
Таким образом, нет ничего неизбежного в том, что я сижу на занятиях в условленное время просто потому, что посещения занятий требуют университетские власти; я сижу там потому, что подчиняюсь правилам — так или иначе, я считаю это правильным. Нет ничего неизбежного в том, что я останавливаюсь и жду зеленого света, даже если я вполне разумно хочу избежать аварии; я, очевидно, также полагаю, что светофор имеет смысл как средство предотвращения аварий и мне полагается подчиняться изменению света на нем именно с этой целью. Что бы я ни делал, всегда существует выбор. Проще говоря, я мог бы поступить и иначе.
Человеческие действия могли бы быть отличными от тех, какими они были, даже если бы обстоятельства действия и мотивы действующих оставались неизменными. Обстоятельствами можно пренебречь, от мотивов можно отказаться, из обоих случаев можно сделать разные выводы. Вот почему ссылка на внешние обстоятельства или на более общие законы не удовлетворяет нас полностью, как в случае с событиями, не связанными с человеческими действиями. Мы хорошо знаем, что вот тот мужчина или та женщина поступили бы иначе в объективно такой же ситуации (которая не представлялась бы такой же для них субъективно, поскольку значение, которое они приписывают этой ситуации в соответствии с их восприятием, различно). Если мы хотим узнать, почему была выбрана именно эта, а не другая форма действия, то нам следует лучше подумать о решении, которое было принято действующим лицом. Мы не можем не представлять себе действующего как принимающего решение, а само действие — как результат процесса принятия решения.
Разумеется, мы можем представить себе человеческое поведение, в котором принятие решений не играет заметной роли. Некоторые действия фактически нерефлективны, т. е. их альтернативы не осознаются и не становятся темой для размышления. Можно указать на два типа такого неосознанного поведения.
Привычное (иногда менее удачно называемое традиционным) поведение — одно из них. Каждый день я просыпаюсь примерно в одно и то же время, как будто в мое тело встроен будильник… Еще полусонный я совершаю мой обычный утренний моцион: моюсь, чищу зубы, бреюсь. Не припомню случая, чтобы я когда-то специально принимал решение по поводу этих привычных процедур; по правде говоря, я, наверное, думаю совсем о других вещах, совершая подобные процедуры (я нередко заглядываю в зеркало еще и еще раз, чтобы проверить, хорошо ли я побрился, поскольку делал это без всякого интереса). Каждый день мне хочется есть примерно в одни и те же часы — тогда, когда я обычно принимаю пищу. Когда я возвращаюсь вечером домой, я включаю свет, так сказать, автоматически. Я не замечаю специально, что уже темно, не размышляю о преимуществах освещенности перед темнотой и не отдаю предпочтения одному перед другим; едва ли я вообще думаю о сущности и цели моего действия. Но я начинаю размышлять, если вижу по возвращении, что свет в моей комнате горит, тогда как обычно этого не бывает… Я замечаю свет потому, что он нарушает обычный ход вещей: должно быть, случилось нечто необычное, возможно, неожиданно нагрянули гости или хуже того — залезли воры… Нормальная последовательность событий, о которой можно было бы не задумываться, нарушена. Привычные действия в такой ситуации не подошли бы, и поэтому я вынужден обдумывать мой следующий шаг — я должен принять решение. Или возьмем другой случай: мне понадобилась книга, которую я оставил на столе в другой комнате. Я прихожу за ней и вижу, что в комнате темно. Конечно же, нужно включить свет, но тут я замечаю, что кто-то спит на диване. Здесь следования привычке тоже недостаточно. Если я включу свет, то могу разбудить спящего. Но если, пробираясь за книгой в темноте, я нечаянно толкну стул или разобью вазу, то опять же разбужу его. Обстоятельства необычны, и тут привычка — плохой советчик. Совершенно ясно, что ситуация требует выбора, и я вновь запускаю процесс принятия решения.
Привычное поведение — это «отложение» прошлого знания. Когда-то в прошлом я приобрел привычку, и с тех пор, благодаря регулярному повторению, она избавила меня от необходимости каждый раз вновь думать, подсчитывать и принимать решения; одно движение следует за другим в обычной и монотонной последовательности до тех пор, пока не изменяются, остаются привычными обстоятельства. В самом деле, мои действия настолько привычны, что мне было бы трудно описать их, если бы меня попросили сделать это. Я обращаю на них внимание, замечаю их только в том случае, если что-то идет не так. Даже мои повседневные утренние процедуры могут застопориться и потребовать моего внимания, если я окажусь, например, в чужом доме, где ванные принадлежности находятся не там, «где они должны быть», т. е. где я привык находить их; или, скажем, если сломается моя зубная щетка или потеряется мыло. Эффективность моего привычного поведения зависит, как видим, от обычности и упорядоченности окружения, в котором совершаются мои действия.
Есть другой тип поведения, когда мое мышление очень мало что значит (если вообще что-либо значит). Это аффективное действие, т. е. действие под влиянием сильных эмоций, причем настолько сильных, что они способны выключить рассудочность, отменить все расчеты относительно целей и возможных последствий действия. Аффективное действие принудительно, и действующему трудно воспротивиться ему; оно не внемлет аргументам, глухо к голосу разума, обычно следуя непосредственно за бурным проявлением чувств. Со временем страсти остывают, и я дважды подумаю, прежде чем совершить такое действие. Что бы я ни делал после, это будет просчитанное (и, следовательно, не аффективное) действие. Будучи темпераментным человеком, я могу ударить или побить человека, обидевшего меня и даже любимого мною. Могу, например, в порыве сострадания и жалости отдать все свои деньги нуждающемуся человеку. Но если я решу подстеречь в темном переулке человека, которого ненавижу, чтобы отомстить ему за то зло, которое, как я считаю, он причинил мне, то это вряд ли будет аффективным действием; предварительное обдумывание этого действия показывает, что оно — результат расчетливого решения. Точно так же не будет аффективным и действие в случае, если я, например, помогая нуждающимся, пытаюсь снискать их расположение или расположение Бога; такая помощь была бы скорее шагом в рассчитанном предприятии, средством достижения цели — в данном случае вечного спасения и прощения грехов. Действие поистине аффективно только до тех пор, пока оно остается нерефлективным, спонтанным, не продуманным заранее и предпринятым до рассмотрения каких бы то ни было аргументов и соизмерения результатов.
Привычное и аффективное действия зачастую описываются как иррациональные. Это не означает, что они изначально глупые, неэффективные, неправильные или вредные. В самом деле, такое название не предполагает оценку целесообразности действия. Самые привычные действия вполне эффективны и полезны. Они жизненно необходимы и, кроме того, экономят нам много времени для размышлений, менее захватывают наше поведение, а задачи делают более простыми для исполнения. Так, например, в конце концов может оказаться более эффективным ударить обидчика, чем производить долгие расчеты и «хладнокровно» подыскивать методы предупреждения его вызывающего поведения в будущем. Действие иррационально не потому, что в нем недостает целесообразности, а потому, что расчет его целесообразности не предшествует ему, т. е. не является фактором в принятии решения. Действие иррационально, если оно не является результатом принятия решения. И наоборот, рациональное действие может оказаться менее эффективным (и тем самым менее целесообразным), чем иррациональное.
Рациональным является то действие, в котором из множества возможных способов (действия) действующее лицо сознательно выбирает один, который ему кажется наиболее соответствующим желаемой цели действия (это случай инструментальной рациональности): средства выбираются в соответствии с требованиями данной цели. Кроме того, рациональное действие может быть ценностно-рациональным: в распоряжении действующего лица есть определенные средства, которые могут быть использованы для достижения различных целей, из которых действующий выбирает одну, представляющуюся ему наиболее ценной, чем остальные («близкую сердцу», привлекательную, желанную, наиболее отвечающую его насущной потребности, испытываемой в данный момент). Обе разновидности рациональности — инструментальную и ценностно-рациональную — объединяет то, что здесь средства соизмеряются с целью, и взаимосоответствие средств и цели, истинное или предполагаемое, рассматривается как окончательный критерий выбора между правильным и неправильным решением. Это соответствие в итоге может оказаться иллюзорным, впоследствии может выясниться, что расчет был неверным; единственное, что делает действие рациональным, — это то, что расчет был произведен до самого действия. Существенная мысль, которая стоит за всеми этими взаимными соответствиями, расчетами, соизмерениями и окончательным выбором, заключается в следующем: действие рационально до тех пор, пока оно является добровольным, т. е. до тех пор, пока действующий осуществляет свободный выбор, а не принуждается, не подталкивается к тому, что он делает, неконтролируемыми привычками или мгновенным взрывом эмоций.
Коль скоро мы выбираем наше действие сознательно и добровольно, то мы строим предположения и о его возможном исходе. Мы делаем это, прежде всего оценивая в целом ситуацию предполагаемого действия и результаты, которые мы хотим получить. Точнее, мы оцениваем обычно ресурсы и ценности. Моими ресурсами могут быть деньги — наличные в моем кармане или на счете в банке, а также ценности, под которые я могу получить кредит. Но помимо этого мои ресурсы включают мои навыки, которые могут быть использованы для создания вещей, необходимых другим людям, в обмен на то, что нужно мне, т. е. мой «социальный капитал»: например, мои связи с людьми, которые отвечают за предметы или услуги, которых я добиваюсь. Ценности, которых я придерживаюсь и которыми дорожу, позволяют мне сравнивать между собой доступные цели и определять наиболее желанную. Я могу использовать свои ресурсы для достижения многих целей. Альтернативные цели различаются разной степенью привлекательности и тем, что они привлекательны по разным причинам. То есть они представляют собой различные ценности. Одни я могу выбрать потому, что они кажутся мне более способными удовлетворить ту или иную мою потребность, другие — потому, что я считаю их более необходимыми, третьи — более достойными. Некоторые могут быть выбраны потому, что они более эффективно помогут мне приумножить ресурсы, имеющиеся в моем распоряжении, и тем самым расширить мою свободу в будущем. В конечном счете, именно исходя из наличия у меня собственных ценностей я принимаю решение потратить дополнительно сто фунтов на этажерку, на отпуск, на покупку книг по социологии или на то, чтобы сохранить их на счете моего строительного кооператива. Подсчитав мои ресурсы, все, что я имею, я могу определить степень своей свободы: что я могу себе позволить, а что в моем случае не подлежит обсуждению.
У разных людей степени свободы различны. Тот факт, что люди различаются по степени свободы выбора, по характеру действий, которые они могут предпринять, и составляет сущность социального неравенства (т. е. социальных по своему происхождению различий между людьми; таких различий, которые были порождены и поддерживаются человеческими взаимодействиями и которые могут быть перераспределены или вообще устранены с изменением самих этих взаимодействий). Некоторые люди более свободны, чем другие: их выбор гораздо шире, поскольку они имеют доступ к большему количеству ресурсов и в их распоряжении имеется гораздо более широкий круг ценностей (обладание этими ценностями для них вполне реально и возможно, тогда как для менее удачливых они остаются скорее идеалом, недостижимой и безнадежной мечтой).
Различия в степени свободы зачастую трактуются как различия в степени властвования. Действительно, власть чаще всего понимается как способность осуществлять действие, т. е. выбирать цель какого-либо действия и распоряжаться средствами, которые и делают эти цели реалистичными. Власть есть разрешающая способность. Чем больше у человека власти, тем более широк его выбор; тем большее количество решений может считаться для него реалистичным; тем шире круг целей, которые он может преследовать вполне обоснованно, будучи уверенным, что он получит то, чего хочет. Обладание меньшей властью или не обладание ею вообще означают необходимость сдерживать свои мечтания или вовсе оставить попытки достичь цели из-за недостатка ресурсов.
Обладание властью позволяет действовать более свободно, а отсутствие власти или ее недостаток по сравнению с другими людьми означает, что свобода выбора ограничена решениями, которые принимают другие. Мы говорим, что А имеет власть над Б, когда ресурсы, находящиеся в распоряжении А, позволяют ему вызывать такое поведение Б, которое необходимо для достижения целей А, когда, говоря иначе, они позволяют использовать цели Б в качестве средств для достижения целей А; или, другими словами, преобразовать ценности Б в ресурсы для А. Можно предположить, что если бы не реальные или потенциальные действия А, то действия Б были бы иными, нежели они есть в реальности; поскольку цели Б являются чьими-то ресурсами и в этом качестве используются для достижения чьих-то целей, постольку свобода выбора Б значительно ограничивается. Действия Б уже не являются самостоятельными, автономными, они становятся гетерономными[5].
Мое начальство, например, имеет власть надо мной: оно может уволить меня, если я не подчинюсь установленным им правилам и указаниям, или может вознаградить и продвинуть меня по службе, если мое поведение будет примерным, с его точки зрения. Но право нанимать и увольнять, награждать или наказывать не является моим ресурсом, и я, следовательно, не могу ответить ему тем же. Более того, начальство может и не раскрывать мне свои карты. Оно может держать свои намерения в секрете до самого последнего момента, когда мое сопротивление будет уже бесполезно. Оно может запланировать коренную реорганизацию всего дела (поставить новое оборудование, ввести новое разделение труда), что резко ухудшит мое положение и сократит мою свободу маневра. Я не могу ответить начальству, прибегнув к тому же оружию секретности, поскольку мало какие из моих замыслов оказали бы столь же сильное воздействие на свободу начальства, как его тайные замыслы на мою. Потенциально секреты моего начальства — гораздо более опасное оружие, чем все, что я могу вынашивать в своих мыслях. Поэтому наше неравенство разительно по степени влияния на положение друг друга. В наших взаимоотношениях власть поделена неравным образом — это асимметричное отношение власти. Мое начальство может делать свой выбор из гораздо более широкого набора альтернатив, чем тот, что доступен мне. Так происходит вследствие резкого различия наших степеней свободы, причем настолько резкого, что я, по всей вероятности, буду делать как раз то, чего от меня хочет начальство, поэтому оно и может рассчитывать на мое подчинение его правилам; планируя свои действия, оно может считать мои действия своими ресурсами. Чем более ограничена моя свобода выбора, тем точнее оно может предсказать мое поведение. У меня нет от него почти никаких секретов, я — менее неизвестная величина в его уравнении и, тем самым, в меньшей степени являюсь источником неуверенности в положении начальства, чем оно в моем. В моем подчинении его целям можно быть столь же уверенным, как и в капитале или оборудовании, имеющихся в его распоряжении.
Таким образом, власть заключается в способности пользоваться действиями других людей как средствами для достижения собственных целей; в целом — это способность уменьшать ограничения, налагаемые свободой других людей на свой выбор целей и подсчет средств. Такого обесценения свободы других людей, означающего увеличение собственной свободы, можно достичь двумя способами.
Один из них — насилие, заключающееся в манипулировании ситуацией действия таким образом, что ресурсы другого человека, сколь значительными они ни казались бы при иных обстоятельствах, вдруг становятся неадекватными или неэффективными. Создается совершенно другая игра, для которой манипулирующая сторона вооружена гораздо лучше. (Неважно, кто является жертвой насильника — богатый банкир, могущественный политик или знаменитость шоу-бизнеса; их ресурсы, обеспечивающие им большую степень свободы в других ситуациях, теряют свои «возможности», как только сталкиваются на темной и пустынной улице с ножом к горлу или с грубой физической силой.) Значительно уменьшить свободу можно и посредством принуждения к переоценке ценностей или перетасовывания вариантов выбора таким образом, что обычно высоко котирующиеся ценности внезапно утрачивают свое значение. Во время ночной встречи с грабителем кошелек, полный банкнот и кредиток (обычно представляющий высшую ценность для скупого владельца), может вдруг утратить свое значение: ведь выбор — между жизнью и смертью, а не между большим и меньшим количеством денег. Пребывание по решению суда в тюрьме или в трудовом лагере может сделать старые, некогда лелеемые приоритеты смехотворно ничтожными и никчемными по сравнению с новыми ценностями — хорошей едой, легкой работой, разрешением отлучаться или принимать посетителей, не попадать в одиночную камеру или в карцер и даже расположением надзирателей. В экстремальных условиях концентрационного лагеря ценность самосохранения и выживания затмевает собой все остальные варианты выбора.
Другой способ — менее откровенный (и чреват большими издержками для власть предержащего), чем принуждение. Он состоит в том, что ценности других людей зачисляются в собственные ресурсы по принципу: «заставить желания других работать на меня». Точнее, это манипулирование ситуацией таким образом, чтобы заставить других людей стремиться достигать своих целей, только следуя правилам, установленным власть имущим. Так, рвение и старание, с какими храбрый солдат убивает врагов, вознаграждаются повышением его социального положения за счет медалей или почетных грамот (в прошлом — за счет присвоения рыцарских званий и пожалования земель). Формальное признание навыков и знаний студента ставится в зависимость от его подчинения важнейшим правилам колледжа, таким, как регулярное посещение занятий, сдача в срок письменных работ. Заводские рабочие могут сохранить высокий жизненный уровень (высокую зарплату) при условии более интенсивного труда, работы с большей отдачей и беспрекословного подчинения приказам управляющих. Таким образом, ценности подчиненных становятся ресурсами их управителей; их мечты и стремления используются для достижения целей, установленных власть имущими. Не имея собственного капитала, я завишу от того, возьмут меня на работу или нет. А будучи принятым на работу, я должен действовать в соответствии с условиями работодателя, т. е. на время работы я ограничиваю свою свободу. Добровольно выбрав в качестве цели высокий жизненный уровень (или, в крайнем случае, просто выживание), я обнаруживаю теперь, что у меня нет иного пути достижения избранной цели, кроме как поступиться весьма значительной частью собственной свободы.
Тот, кто может использовать насилие или манипулировать всякого рода наградами, точно так же может изменить мои шансы достичь желанных целей. Его решения влияют на объем или на пригодность ресурсов, которыми я располагаю для своих действий. Он может повлиять и на цели моих действий, хотя сделать это он может лишь косвенно. Я могу отказаться от погони за некогда дорогими мне ценностями, поскольку теперь сочту их «нереалистическими». Шансы слишком неравны, вероятность преодоления неравенства фактически ничтожна; усталость и разочарование берут свое, и постепенно цели, которых я надеялся достичь (и даже все мои жизненные планы), становятся лишь мечтами, о которых любят поговорить, но ничего не предпринимают для их осуществления. Мои действия изменяют мою ориентацию: теперь они направлены на более «реалистические» цели, моя оценка потенциальных ресурсов изменилась, и с тех пор я подсчитываю их иначе — соизмеряю цели со средствами. Разница заключается в том, что я замахиваюсь фактически на гораздо меньшее, чем мечталось вначале.
Но откуда берутся мои ценности? Почему я наделяю ценностью одни цели и недооцениваю или игнорирую другие? Являются ли эти ценности предметом моего свободного выбора? Могу ли я их принимать и отвергать по своей воле? Или они, подобно моим ресурсам, тоже зависят от действий других людей и от тех факторов, которые определяют мое положение и которые я не имею возможности контролировать? Рассмотрим следующую ситуацию: я хочу поступить в колледж сразу после школы, но мои друзья решают иначе. При обсуждении наших вариантов они убеждают меня, что продолжение образования не сделает мою жизнь очень уж счастливой, и было бы здорово начать наслаждаться жизнью сразу: иметь какой-то собственный доход, а не обрекать себя на три полуголодных года и другие самопожертвования. Прислушиваясь к их доводам, я изменяю свое решение и вместо того, чтобы поступать в колледж, начинаю искать источник какого-нибудь дохода. Теперь я наслаждаюсь, будучи обладателем чековой книжки: приятно иметь деньги в кармане и тратить их на желанные покупки. Затем профсоюзные деятели предлагают нам начать забастовку, чтобы вынудить руководство отменить свое решение о реорганизации конторы таким образом, чтобы сэкономить на нескольких рабочих местах. Мои рабочее место и доход в безопасности, перспективы продвижения отличные, а после реорганизации могут быть еще лучше. Наконец, начальство заявляет, что в случае забастовки будут сделаны особые распоряжения, и в результате все мы будем уволены. Мне такой поворот дел совсем не нравится; но большинство моих товарищей поставили солидарность выше возможности сохранить свои рабочие места, честь — выше дохода и проголосовали за забастовку. Я не захотел быть белой вороной и присоединился к ним, хотя теперь, вполне вероятно, я лишусь работы, а вместе с ней и свободы наслаждаться жизнью, как я это понимаю…
Как видно из этого примера, ценности, выбираемые людьми для ориентации в своих действиях (т. е. для упорядочения своих целей в соответствии с их высокой или низкой значимостью), изменяются в ходе и под влиянием социального взаимодействия. Именно это мы и имеем в виду, когда говорим о влиянии. В отличие от власти влияние непосредственно сказывается на ценности: оно проявляется в том, что сдвигаются относительные позиции различных целей в их иерархии значимости, когда одни цели начинают казаться более привлекательными, чем другие, и тем самым заслуживающими больших усилий. Если мы выбираем одни ценности, ставим одни цели выше других, то это значит, что, как мы надеемся, получившие приоритет цели в конечном счете принесут больше удовлетворения, удовольствия, что они более почитаемы, морально возвышенны и эстетически привлекательны, а в целом они в большей мере отвечают понятиям должного и ложного.
Ценности не всегда выбираются сознательно. Как мы видели ранее, многие наши действия привычны и рутинны и не предполагают сопоставления целей и средств. До тех пор пока действия остаются обыденными, мы редко задумываемся над тем, каким ценностям они служат. Обыденное действие не нуждается в обосновании: нам было бы трудно объяснить, почему мы предпочли их другим действиям. Под давлением вопросов мы, вероятно, дали бы какой-нибудь ответ, наподобие следующего: «Это всегда именно так делалось» или «Есть, как оно есть…» — как будто то время, в течение которого существуют наши привычки, придает им нечто вроде авторитета; или будто тот факт, что множество людей поступает таким же образом, сам по себе является ценностью, которая диктует определенное действие. Однако не следует забывать, что все это — «вынужденные» объяснения, навязанные самими вопросами. Они не обязательно присутствовали в сознании человека до того, как его начали спрашивать. Как вы помните, смысл поведения по привычке, или традиционного действия, заключается в том, что оно не требует обоснований. Действие является традиционным до тех пор, пока от него не требуется легитимации; традиционное действие может обойтись без легитимации, т. е. не требуется соотнесения его с ценностями, которым оно должно служить. Оно все время повторяется в основном по одному и тому же образцу, поддерживаясь лишь одной силой привычки. Многие наши повседневные действия традиционны (обыденны, привычны, мы над ними не задумываемся) независимо от того, что большинство из нас вовсе не является традиционалистами (если бы нам позволили подумать над этим и высказать свое мнение, мы стали бы отрицать авторитет старого и косного, не принимая присущие ему ценности — стабильность и отсутствие изменений).
Самые главные ценности, которыми мы руководствуемся в течение всей своей жизни (ценности, предшествующие выбору специфических целей наших действий), такие, как стандарты должного или успеха, честности или ума, тяжелой работы или развлечений, последовательности или гибкости, в общем и целом формируются уже в детстве. Чаще всего они «откладываются», «укореняются» на подсознательном уровне и проявляются скорее как голос совести, нежели четко сформулированные указания, которые мы по желанию или необходимости можем воспроизвести для принятия решения. Мы с трудом вспоминаем влияния, которые оказывались на нас в детские годы; мерой успеха таких влияний как раз и является то, насколько они забываются и уже не воспринимаются как внешнее давление. Мы осознаем внешние влияния только тогда, когда дело доходит до свободного выбора: когда ставятся под сомнение ценности, которым мы подчиняемся, когда требуется их обоснование и легитимация.
Способность влиять на ценности других людей составляет характерную черту авторитета. Авторитет измеряется вероятностью того, что люди воспримут данные ценности только по одной причине, а именно: кто-то (организация или личность, наделенная авторитетом) разделяет их или руководствуется ими на практике. Личность или организация может представлять авторитет для некоторых людей в том случае, если тот факт, что именно она выступает за определенную ценность, будет рассматриваться этими людьми как достаточная причина одобрения и согласия. Таким образом, авторитет личности или организации предполагает вероятность того, что другие люди последуют их примеру или совету. Такое подчинение можно объяснять с помощью различных понятий, таких, как «ум», «правдивость», «опытность», «нравственная целостность» руководящего начала, которому следуют. Однако в любом случае, таким образом обосновывается вера последователей в непреложную обоснованность этого руководящего начала.
Ценности, которые мы бережно лелеем, являются делом нашего выбора. В конечном счете именно мы наделяем авторитетом тех, за кем мы решаем следовать, и отказываем в авторитете тем, кто нам не нравится. Прежде чем мы решим, кому верить, мы можем проанализировать притязания различных конкурирующих «лидеров ценностей» или тех, кто выступает от их имени, с точки зрения значимости их примера и их способности подать хороший, достойный пример. Чтобы стать для нас авторитетом, личность или организация должна представить легитимацию, или доказательства того, что ее совету (или ее иерархии ценностей) нужно следовать и отдать ей предпочтение перед другими.
С одной такой легитимацией мы уже встречались: вспомним, что некоторые ценности представляются достойными уважения благодаря стоящей за ними традиции. Они, как нам говорят, проверены временем. Следует оставаться верным прошлому; группе, с которой ты это прошлое разделял; общему наследию, которое мы вместе должны охранять. История, нам говорят, связывает накрепко; то, что соединено историей, никакая человеческая самонадеянность не в силах разъединить. Старые заслуги надо чтить уже просто потому, что они старые…
Вот такое обоснование. Зачастую оно ставит все с ног на голову: почитают не ценности, проверенные временем, а тех, кто в поисках популярности и всеобщего признания своих ценностей (иногда совершенно новых, недавно изобретенных) обращается к истории, надеясь откопать там уникальные свидетельства их древности. Образ исторического прошлого всегда избирателен; в данном случае он составляется таким образом, чтобы придать достоверность пропагандируемым ценностям за счет ссылки на их «почтенный возраст». Уважение, которое люди испытывают перед прошлым, учитывается в сегодняшней борьбе ценностей. Если признано, что некоторые ценности разделялись еще нашими предками, то эти ценности менее уязвимы для современной критики, тогда как иные ценности еще должны проявить себя; считается, что ценности старого доброго прошлого уже прошли проверку временем, пусть даже не блестяще. Традиционалистская легитимация становится особенно привлекательной во времена резких изменений, которые не могут не порождать беспокойство и неуверенность. Если радикальные и доселе небывалые нововведения провозглашаются как реставрация старых и испытанных способов жизни, то они легче проходят; такое представление о них иногда может несколько уменьшить неопределенность, обусловленную быстрыми социальными переменами, и, как кажется, предложить относительно безопасный, менее болезненный вариант выбора.
Альтернативой этому было бы отстаивание новых ценностей, выдаваемых за откровения — за результат эпохального открытия, невероятно глубокого проникновения в суть вещей, или прозрения, проникшего сквозь неизвестное и узревшего будущее. Такой тип аргументации относится к харизматической легитимации. Харизма — качество, впервые отмеченное в исследованиях того глубокого и неоспоримого влияния, которое церковь оказывает на верующих. Понятие харизмы относилось к убеждению верующего в том, что церковь наделена особой, только ей дарованной свыше способностью постигать истину: она как институт была помазанницей Божией, призванной вести людей к праведной жизни и в конце концов — к спасению. Харизма, однако, не обязательно связана с религиозными верованиями и институтами. Можно говорить о харизме и в том случае, если принятие определенных ценностей мотивируется убеждением в том, что те, кто исповедует эти ценности, обладают сверхчеловеческими качествами (необыкновенным умом, дальновидностью, доступом к источникам знания, закрытым для обычных людей), которые и обеспечивают истинность их видения и правильность их выбора. Обычный же рассудок рядовых людей не располагает никакими средствами для оценки того, что провозглашают харизматики, и, тем самым, у них нет никаких оснований сомневаться в харизматической личности. Чем сильнее харизма лидера, тем труднее усомниться в его повелениях и тем удобнее следовать его приказам в ситуации полной неопределенности.
Во времена резких и глубоких социальных изменений, быстро обесценивающих привычные образцы поведения, потребность в харизматических «гарантиях» безошибочности выбора ценностей постоянно возрастает. Официальная церковь лишь отчасти удовлетворяет эти требования. Возникает множество ситуаций выбора, порожденных новыми, небывалыми доселе социальными изменениями, для которых у церкви нет готовых рецептов, а если таковые и окажутся, то они плохо вписываются в современные условия. Это вовсе не означает, что божественные формы харизматического авторитета уже не в чести. Современные версии, предлагаемые телевизионными евангелистами, религиозными гуру и разнообразными сектантами, свидетельствуют о широко распространенной и сильной потребности в сверхчеловеческих решениях проблем, т. е. таких решениях, которые явно превосходят человеческие способности суждения.
Отвечая на потребность в харизматических решениях ценностных проблем, выросшую до небывалых размеров, некоторые политические партии и массовые социальные движения выступили с аналогичными услугами. И в числе первых из них — так называемые тоталитарные партии (требующие полной преданности своих последователей во всех проявлениях их жизни), фашистские и коммунистические, ставшие особенно известными либо благодаря харизматическим лидерам, наделенным сверхчеловеческим даром предвидения и безукоризненным чувством правого и неправого, либо благодаря превращению в коллективного носителя харизматического авторитета. В последнем случае харизматическое влияние обычно приобретает в целом новые, более стабильные основания; влияние харизматической организации может в принципе (а иногда это случается и на практике) пережить харизматического лидера. Более того, оно может стать относительно неуязвимым для дискредитирующего воздействия прошлых ошибок, в которых будут обвинены отдельные личности, а организация останется незапятнанной, ее непреходящий авторитет будет подтверждаться. Такая роскошь недоступна в целом плохо организованным массовым движениям (если только им не удается установить сильную, подобно партийной, организацию, способную к самовоспроизводству). Чаще всего массовые движения разделяют участь своего лидера, который собственно и является носителем харизматического авторитета, — и его стремительное возвышение, и столь же стремительное падение, если его популярность оказывается подорванной непреодоленными препятствиями и невыполненными обещаниями или если его затмевает более удачливый (еще не дискредитировавший себя) соперник, также претендующий на внимание публики.
Однако сейчас центр харизматического авторитета переместился и из религии, и из политики. Появление средств массовой информации, наступление масс-медиа — могущественной технологии, способной тех, кто обращается с посланиями, сделать видимыми и слышимыми, но фактически недоступными миллионам, воспринимающим их послания, — сыграло главную роль в этом перемещении. Психологические последствия такой ситуации — потрясающи. Уже одно появление перед массами, а также недоступность телевизионных знаменитостей или тех, кому телевидение помогает стать знаменитыми, видимо, служат источником мощного харизматического влияния. Подобно прежним харизматическим лидерам эти люди наделяются способностью вершить высший суд, на этот раз прежде всего в области вкуса — тем самым они могут стать законодателями стиля жизни. Впечатление превосходства является, как можно предположить, отражением того, что их выставляют напоказ, а также массового подражания им. Теперь количество как таковое становится авторитетом — истинным носителем харизматической ауры. Огромное число людей, ищущих у популярных личностей совета относительно своего выбора, желающих подчиняться их руководству, увеличивает власть харизмы и усиливает всеобщую веру в надежность источника.
Другой пример коллективного харизматического влияния — профессионалы. Их притязания на то, чтобы судить и определять выбор людей, основываются на их опыте и знаниях (компетентности): на их привилегированном доступе к знаниям, которые другим трудно получить и которые более ценны, чем непроверенные и зачастую ошибочные суждения рядовых людей. Знания, которыми располагают профессионалы, как правило, достаточно обширны и недоступны для понимания тех, кого призывают подчиняться их суждениям, основанным на знании, — справедливость их заключений нельзя проверить. Их принимают потому, что люди, которые им подчиняются, считают эти суждения безукоризненными; и их мнениям продолжают подчиняться до тех пор, пока те, кто им подчиняется, верят, во-первых, в коллективную мудрость профессии в целом и, во-вторых, в способность профессионального сообщества контролировать своих членов, чтобы каждый из них действовал как компетентный и надежный проводник этой мудрости. Так, человек готов отказаться от удовольствия курить или пить, раз «доктора говорят», что эти удовольствия вредны; или человек прислушивается к мнению врача по поводу того, что ему надо следить за своим весом, даже если это будет стоить ему отказа от любимой пищи. Харизматический авторитет профессий — это особый случай более широкого феномена, а именно: нашей общей веры в неоспоримое превосходство науки как метода продуцирования ценного и надежного знания. Сколь существенным ни было бы различие между научным знанием и религиозным откровением, механизмы принятия их широкой публикой не различаются существенным образом. В обоих случаях простые, непосвященные люди не могут проверить достоверность информации, а могут только принять ее на веру, довериться мудрости и правдивости людей или организаций (церкви, университету), поставляющих информацию с гарантией ее качества.
Два типа легитимации, рассмотренные здесь, — традиционалистская и харизматическая — имеют одну общую особенность: оба они предполагают отказ от права самостоятельно осуществлять выбор ценностей и передачу его другому действующему субъекту, индивидуальному или коллективному. Передача права выбора зачастую ассоциируется с отказом от ответственности. Теперь уже другой действующий субъект (актор) (предшествующие поколения или современные авторитарные институты) делает выбор за нас и тем самым берет на себя ответственность за результаты, в том числе моральную ответственность за последствия наших действий.
Легитимность третьего типа — легально-рациональная — идет еще дальше, поскольку вообще снимает проблему ценностного выбора и сопутствующие ей муки самооправдания. Она предполагает, что некоторые организации или индивиды, призванные говорить от их имени, обладают законно гарантированным правом указывать нам, какого рода действия нам следует предпринимать, а нашей столь же законной обязанностью является беспрекословное подчинение этим указаниям. В таком случае сам вопрос о мудрости или моральных качествах совета кажется нам бессмысленным. Мы не несем ответственность (или нам так говорят) за выбор одного из соревнующихся носителей харизматического авторитета. Теперь закон, его предписания, а не наши решения, выбирает для нас авторитет, определяющий наши действия. Легально-рациональная легитимация отделяет действие от выбора ценности и тем самым явно делает его ценностно-свободным. Исполнителям приказаний не нужно ни тщательно разбираться в нравственности действия, которое им приказано исполнить, ни чувствовать свою ответственность, если поступок не выдерживает проверки на нравственность. Уверенные в своей правоте, они с достоинством ответят на любые вопросы: «Я всего лишь выполнял приказы моих законных начальников».
И какие бы выгоды в смысле повышения действенности и эффективности человеческой инициативы, предприимчивости ни сулила легально-рациональная легитимация, она чревата пагубными последствиями именно из-за ее склонности освобождать действующих субъектов от ответственности за выбор ценности, а нередко вообще не рассматривать вопрос о ценностном выборе. Массовые убийства и геноцид последней мировой войны являются самым потрясающим и уникальным примером такого рода последствий: палачи отказывались брать на себя моральную ответственность, ссылаясь на предписанную им законом обязанность подчиняться приказам; они отвергали обвинения в том, что их решение подчиниться этим приказам фактически и было их нравственным выбором.
Когда из поля зрения действующего субъекта исчезают ценности, которым служат действия, когда цепочка приказаний растягивается так, что уходит за пределы видимости исполнителей, тогда действие кажется свободным от ценностей и суждений нравственности. Действующим субъектам предлагается, так сказать, избегать бремени свободы, которая всегда предполагает ответственность за свои действия.
Глава 7 Самосохранение и нравственный долг
Мне это нужно. Я должен это иметь — как часто я произношу на одном дыхании эти два предложения, словно второе высказывание просто сильнее подчеркивает то, что сказано в первом, или второе поясняет смысл первого; или во втором высказывании делается очевидный практический вывод из положения вещей, зафиксированного в первом. Это выглядит так, будто «нуждаться в чем-либо» означает «не иметь чего-либо, что нужно иметь», или «утрачивать, лишаться его», т. е. речь идет о депривации. Такая нужда порождает желание иметь недостающее. «Иметь» — это что-то вроде необходимости или принуждения, вызываемого потребностью. «Я должен иметь это»; «это» — нечто, что мне необходимо для полного счастья или для того, чтобы избавиться от нынешнего состояния нужды, которое, как можно предположить, вызывает чувство дискомфорта и неловкости, а следовательно, не дает покоя. Владение — это условие моего самосохранения и даже выживания. Без этого я не могу оставаться тем, что я есть. Моя жизнь будет разбита и станет невыносимой. В самом крайнем случае она вообще не сможет продолжаться. В опасности будет не просто мое благосостояние, а само мое физическое существование.
Именно моя потребность в чем-то, чего мне не хватает, в чем я нуждаюсь для собственного самосохранения или выживания, делает это «что-то» благом. Благо является не чем иным, как обратной стороной потребности. Поскольку я в чем-то нуждаюсь, постольку это «что-то» является благом; нечто является благом, поскольку я нуждаюсь в нем. Это нечто может означать разные вещи: товары, которые можно приобрести в магазине за деньги; тишина ночью на улице иди чистые воздух и вода, чего можно достичь лишь согласованными усилиями многих других людей; безопасность дома и безопасность нахождения в общественных местах, что зависит от действий властей предержащих; любовь другого человека и его желание понять меня и посочувствовать. Иначе говоря, любое «благо», т. е. то, что становится предметом нашего интереса ввиду потребности в нем, всегда ставит нас в отношение к другим людям. Наши потребности не могут быть удовлетворены, если у нас нет доступа к искомым благам, не важно, хотим мы ими владеть или только пользоваться. Но всегда потребность и желание удовлетворить ее вовлекает в круг наших интересов других людей и их действия. Каким бы самодостаточным ни было стремление к самосохранению, оно укрепляет наши связи с другими людьми, делает нас зависимыми от действий других людей и от мотивов их действий.
Эта истина не столь очевидна на первый взгляд. Напротив, собственность в широком смысле понимается как глубоко «частная» вещь — как особое отношение между человеком и предметом, которым он владеет. Когда я говорю «это мое» или «это принадлежит мне», то чаще всего в сознании возникает невидимая связь между мною и, скажем, авторучкой, книгой или столом, принадлежащими мне. Кажется, будто предмет (собственность) каким-то невидимым образом связан со своим собственником; и мы полагаем, что сущность владения заключается именно в этой связи. Если я владею клочком бумаги, на котором пишу эти строчки, то только я и никто другой решаю, что с ним делать. Я могу пользоваться им по своему усмотрению: могу делать на нем записи для будущей книги, написать письмо другу или завернуть в него бутерброд; более того, я могу вообще порвать его, если захочу. (Правда, по отношению к некоторой своей собственности я не могу поступить так по закону; например, я не могу спилить старое дерево в своем саду без разрешения; не могу сжечь свой дом. Но даже тот факт, что требуется специальный закон, запрещающий мне распоряжаться некоторой собственностью таким образом, лишь еще больше подчеркивает общий принцип: именно я, и только я решаю, что будет с вещами, принадлежащими мне.) Однако общепринятое представление о собственности не учитывает, а популярные описания отношений собственности оставляют недосказанным то, что собственность является также (и даже больше, чем что бы то ни было) отношением исключения. Ведь каждый раз, говоря «Это мое», я также имею в виду (хотя и не произношу этого вслух, а зачастую и вообще не думаю об этом), что «это не твое». Собственность никогда не является частным качеством; она всегда есть «вещь» общественная. Собственность подразумевает особое отношение между предметом и его владельцем только потому, что она подразумевает в то же время и особое отношение между владельцем и другими людьми. Владение вещью — это отказ в доступе к ней другим людям.
Собственность устанавливает взаимную зависимость и тем самым тесное отношение между мною и другими, но она не столько связывает (вещи и людей), сколько разъединяет (людей). Факт собственности противопоставляет друг другу, ставит в отношение взаимного антагонизма тех, кто владеет предметом, и тех, кто им не владеет; первые могут пользоваться (и злоупотреблять, если специальный закон этого не запрещает) предметом, тогда как вторым отказано в таком праве. Факт собственности дифференцирует людей (я могу достать деньги из своего кармана, но никому другому этого не позволено). Я могу также (вспомним наше обсуждение власти) сделать отношение между людьми асимметричным: те, кто не имеет доступа к предмету собственности, но хочет им воспользоваться, то должны подчиняться условиям, диктуемым собственником. Таким образом, их потребность, как и желание удовлетворить эту потребность, ставят их в положение зависимости от собственника (т. е. они не могут получить блага, необходимые им для насыщения их потребностей, для их самосохранения как личностей или для продолжения их существования, без тех действий, которые требует от них собственник).
Вопрос о том, как и с какой целью использовать станки, на которых работают рабочие, решает владелец или его уполномоченные. Владелец же, коль скоро он купил (в обмен на зарплату) время своих работников, точно так же считает это время своей собственностью, как и машины или фабричные здания. Тем самым собственник заявляет свое право решать, какую часть этого времени работник может тратить на перекуры, болтовню, чаепитие и т. п. Именно право решать, как использовать, а не само использование как таковое, наиболее ревностно охраняется в качестве той функции, к которой других не допускают. Таким образом, право решать, свобода выбора составляют истинную суть различия между собственниками и не-собственниками. Различие между владением и не-владением является различием между свободой и зависимостью. Владеть вещами значит быть свободным в принятии решения относительно того, что должны делать те, кто ими не владеет, а в конечном счете это и означает — иметь власть над другими людьми. Собственность и власть на практике сливаются воедино. Погоня за собственностью и вожделение власти в таком случае становятся фактически неразличимыми.
Любая собственность разделяет и разъединяет (т. е. исключает не-собственников из числа пользователей чьей-либо собственностью). Но не всегда собственность дает собственнику власть над теми, кто исключен. Собственность дает власть только в том случае, если удовлетворение потребностей исключенных невозможно без использования этих предметов собственности. Собственность на орудия труда, на сырье, нуждающееся в обработке человеческим трудом, на место, где эта обработка может производиться, предоставляет такую власть. (В ранее приведенном примере работникам нужен доступ к станкам, контролируемым владельцем фабрики, чтобы заработать себе на жизнь; они им нужны для самосохранения и даже для выживания. Без такого доступа их навыки и время будут бесполезными, они не смогут ими воспользоваться с выгодой для себя, заработать на жизнь.) Иначе дело обстоит с собственностью на товары, которые потребляются собственником. Если у меня есть автомобиль, видеомагнитофон или стиральная машина, то моя жизнь становится легче и приятнее с ними, чем без них. Они могут также способствовать повышению моего престижа — уважения людей, чье одобрение для меня важно: я могу похвастаться своими новыми приобретениями, чтобы те, кого я хотел бы поразить, стали смотреть на меня снизу вверх. Но это не обязательно дает мне власть над ними, если, конечно, они сами не захотят использовать эти вещи для собственного удовольствия или удобства; тогда я буду ставить условия пользования, которые они должны выполнять. Большинство вещей, которыми мы владеем, не дают нам власти; они дают, тем не менее, независимость от власти других людей (мне не нужно больше соблюдать установленные другими правила пользования этими вещами). Чем больше часть моих потребностей, которые я могу удовлетворить непосредственно сам, не спрашивая на то разрешения у других, тем меньше я должен подчиняться правилам и условиям, устанавливаемым другими. Можно сказать, что собственность — это власть давать право. Она расширяет автономию, свободу действия и выбора. Она делает человека независимым; позволяет ему действовать в соответствии со своими мотивами и преследовать свои личные цели. Собственность и свобода сливаются воедино. Часто задача расширения поля свободы переводится в расширение контроля над вещами — в собственность.
Обе функции — власть над другими и независимость — собственность выполняет лишь постольку, поскольку она разделяет. В самом деле, во всех вариантах и при любых обстоятельствах собственность предполагает дифференциацию и исключение. Как основополагающий принцип собственность означает, что права других людей являются пределами моих собственных прав (и наоборот); что расширение моей свободы потребует ограничения свободы других. Согласно этому принципу возможности всегда сопровождаются некоторыми (пусть частичными и относительными) поражениями в правах других людей. Данный принцип предполагает неустранимый конфликт интересов людей, вовлеченных во взаимодействие в процессе реализации их интересов: то, что выигрывает один, другой теряет. Ситуация напоминает игру с нулевым итогом: ничего нельзя выиграть (как предполагается) ни при одном варианте — ни при разделении, ни при кооперации. В ситуации, когда способность действовать зависит от единоличного контроля над ресурсами, действовать разумно означает следовать предписанию «каждый для себя (сам)». Так нам представляется задача самосохранения; такова логика, которая, видимо, следует из этой задачи и тем самым становится принципом любого разумного действия.
Когда человеческие действия следуют указанному принципу, их взаимодействие приобретает форму конкуренции. Соперниками движет желание исключить своих реальных или потенциальных конкурентов из числа пользователей ресурсов, которые они контролируют, надеются или мечтают контролировать. Блага, за которые борются соперники, воспринимаются ими как ограниченные: они считают, что их недостаточно и потому невозможно удовлетворить всех, следовательно, некоторые из соперников вынуждены будут согласиться на меньшее. Существенным моментом идеи конкуренции и основной особенностью конкурентного действия является то, что некоторых желающих ждет разочарование, поэтому отношения между победителями и побежденными всегда бывают отмечены взаимной неприязнью или враждой. По этой же причине ни одна из завоеванных в конкуренции побед не может считаться надежной, если ее постоянно не защищают от посягательств соперников. Конкурентная борьба никогда не кончается; ее результаты никогда не бывают окончательными и необратимыми. Отсюда можно сделать ряд важных выводов.
Во-первых, всякая конкуренция поддерживает тенденцию к монополии. Победившая сторона стремится обезопасить свои завоевания, отказывая проигравшим в самом праве (или, по крайней мере, в реальной возможности) усомниться в этой победе. Конечной, хотя и иллюзорной, недосягаемой, целью соперников является устранение конкуренции; конкурентным отношениям внутренне свойственна тенденция к самоуничтожению. Сами по себе они ведут к резкой поляризации шансов. Ресурсы будут скапливаться и создавать изобилие на одной стороне взаимоотношения, становясь все более скудными на другой. Очень часто такая поляризация ресурсов дает выигравшей стороне возможность диктовать правила для всех последующих взаимодействий и не дать проигравшим возможности оспорить эти правила. В таком случае выигрыш будет превращен в монополию; монополия же, в свою очередь, позволит выигравшей стороне диктовать условия дальнейшей конкуренции (например, зафиксировать цены на не доступные другим товары) и тем самым получать еще больший выигрыш, увеличивая разрыв между сторонами.
Во-вторых, постоянная поляризация шансов, порождаемая монополией (т. е. ограничениями, налагаемыми конкуренцией), ведет в долгосрочной перспективе к различным взаимодействиям победителей и побежденных. Рано или поздно как победившие, так и побежденные «консолидируются» в «постоянные» классы. Победившие объясняют поражение побежденных их прирожденной неполноценностью. Считается, что побежденные сами виноваты в своем невезении. Их изображают неспособными, порочными, неверными, недальновидными, расточительными, нравственно незрелыми, короче — не обладающими теми качествами, которые необходимы для победы в конкурентной борьбе и которые одновременно являются качествами, заслуживающими уважения. Представленным таким образом побежденным отказывают в легитимности их права на недовольство. Принято считать, что раз их нищета обусловлена их же собственными недостатками, то им некого винить, кроме самих себя, и у них нет никакого права на свою долю пирога, особенно на ту долю, которые получили более удачливые. Принижение и поношение бедных используется как средство защиты привилегий, которыми наслаждаются богатые. Бедные представляются ленивыми, неряшливыми и грязными, скорее развращенными, нежели обделенными (лишенными): с не-сложившимся характером, избегающими тяжелого труда и склонными к преступлениям и нарушениям закона. Считается, что подобно остальным они «сделали себя сами», т. е. сами выбрали свою судьбу. Их нищета обрушилась на них как следствие их особого характера и поведения. Более удачливые им ничего не должны.
Если случается, что богатые делятся своим имуществом с бедными, то это только благодаря доброте богатых, а не потому, что у бедных есть право на эту часть имущества богатых. Точно так же в обществе, где доминируют мужчины, женщин порицают за их подчиненное положение; их согласие выполнять менее престижные и привлекательные функции объясняют «врожденной» неполноценностью — чрезмерной эмоциональностью, недостатком духа соревновательности, меньшим интеллектом или рациональностью.
Порицание проигравших в конкурентной борьбе является одним из наиболее сильных способов заставить замолчать альтернативный мотив человеческого поведения — моральный долг. Нравственные интересы расходятся с интересами наживы по целому ряду существенных параметров. Корыстное действие опирается на эгоизм и жестокость по отношению к потенциальным соперникам. Нравственное же действие требует солидарности, бескорыстной взаимопомощи, желания прийти на выручку, не спрашивая и не ожидая вознаграждения. Нравственное отношение выражается в уважении к нуждам других и зачастую имеет результатом самоограничение и добровольный отказ от личной выгоды. Если в корыстном действии мои потребности (как бы я их ни определил) являются единственным мотивом, то для нравственного действия основным критерием выбора становятся потребности других. В принципе, эгоизм и моральный долг — это две противоположности.
Тот факт, что одной из наиболее характерных черт современности является разделение предприятия и домашнего хозяйства, впервые отметил Макс Вебер. Подобное разделение есть способ предотвратить столкновение двух противоположных критериев действия. Такой результат достигается посредством четкого разграничения двух ситуаций, в которых господствующими являются соответственно соображения выгоды и моральный долг. Занимаясь предпринимательской деятельностью, человек свободен от семейных уз, другими словами, освобожден от груза морального долга, поэтому все внимание может уделить интересу наживы, которой требует успех предпринимательской деятельности. Возвращаясь в семью, можно забыть о холодном деловом расчете и делить блага между членами семьи в соответствии с потребностями каждого. В идеале семейная жизнь (как и жизнь всех коммунальных образований, построенных по образу семьи) должна быть свободна от интересов наживы. И также в идеале на деловую активность не должны влиять мотивы, вызванные нравственным чувством. Дело и нравственность плохо сочетаются. Предпринимательский успех (т. е. успех в конкуренции) зависит от рациональности поведения, что, в свою очередь, означает беспрекословное подчинение поведения соображениям личного интереса. Рациональность означает главенство рассудка, а не сердца. Действие считается рациональным лишь потому, что оно предполагает использование наиболее эффективных средств для достижения поставленной цели с наименьшими издержками.
Выше мы отмечали, что организация (или бюрократия, как ее обычно называют) является попыткой приспособить человеческое действие к идеальным требованиям рациональности. Теперь же мы видим, что такая попытка должна включать в себя более, чем что бы то ни было другое, подавление моральных соображений (т. е. интереса к другому ради него же самого, бескорыстного участия, даже если это идет вразрез с интересом самосохранения). Задача каждого члена организации сводится к простому выбору: подчиниться или не подчиниться приказанию. Она также ограничена лишь малой толикой общих задач, стоящих перед организацией в целом, так что более отдаленные последствия действия не обязательно просматриваются действующим субъектом. Кто-то может совершить поступки, имеющие ужасные последствия, о которых он и не предполагает; может воздействовать на людей, о существовании которых он и не подозревает, и таким образом продолжить вереницу еще более отвратительных и страшных дел, не испытывая при этом никакого нравственного конфликта или угрызений совести (так бывает, например, когда человек зарабатывает на вполне приличную жизнь, трудясь на заводе, выпускающем оружие; на предприятии, которое нещадно загрязняет окружающую среду, или изготавливает потенциально вредные и ядовитые лекарства). Особенно важно отметить то, что организация заменяет нравственную ответственность дисциплиной как постоянным стандартом должного («Я просто выполнял приказ», «Я просто старался хорошо выполнить свою работу» — эти объяснения наиболее распространены и самоочевидны). До тех пор, пока член организации строго соблюдает правила и выполняет приказания начальников, он свободен от нравственных сомнений. Нравственно предосудительное действие, немыслимое при каких-то иных обстоятельствах, вдруг становится возможным и относительно легко выполнимым.
Сила, с какой организация подавляет или замалчивает нравственные ограничения, была убедительно продемонстрирована в знаменитых экспериментах Стэнли Милгрэма, где несколько добровольцев должны были в якобы «научном исследовании» посылать болезненные электрические разряды испытуемым. Большинство добровольцев, будучи уверены в благородности научных целей (которыми они, как обыкновенные люди, могли только восхищаться, а не разбираться в них или судить о них), не думали о своей жестокости, а полагались на общепризнанное и более значимое мнение отвечающих за исследование ученых и доверчиво следовали инструкциям, ничуть не смущаясь воплями своих жертв. То, что в эксперименте проявилось в малом масштабе — лишь в лабораторных условиях, было продемонстрировано в невероятных масштабах практикой геноцида во время и после второй мировой войны. Убийство миллионов евреев под руководством нескольких тысяч высших нацистских лидеров и чиновников было гигантской бюрократической операцией, привлекшей к соучастию в ней миллионы «простых» людей, большинство из которых, по всей вероятности, были прекрасными соседями, любящими супругами, заботливыми родителями. Эти люди вели поезда, увозившие жертвы в газовые камеры; работали на заводах, производивших отравляющие газы или оборудование для крематориев; и еще множеством других способов помогали выполнению общей задачи — уничтожению. У каждого была «своя работа», поглощавшая все их духовные и физические силы. Эти люди могли делать то, что они делали, только по одной причине: они очень смутно представляли себе, если вообще представляли, последствия своих действий, поскольку никогда их не видели; равно, как и те ученые мужи, которые создали умные орудия разрушения, обрушившиеся на вьетнамских крестьян, не видели порождения своего ума в реальном действии. Конечный результат был настолько далек от тех простых задач, которыми они занимались, что связь этих задач с конечным результатом не попадала в поле их зрения или изгонялась из сознания.
Даже если функционеры какой-то сложной организации и осознавали конечный результат их общего дела, частью которого каждый из них был, то этот результат был так далек от них, что о нем не стоило и беспокоиться. Отдаленность может быть скорее идеальной, духовной, нежели географической. Благодаря вертикальному и горизонтальному разделению труда действия любого индивида, как правило, опосредованы действиями многих других людей: либо его собственная работа не имеет непосредственных последствий, либо она отгораживается от ее конечной, отдаленной цели множеством иных работ, выполняемых другими. Вот почему создается впечатление отсутствия прямой причинной связи между тем, что человек делает, и тем, что происходит с конечными объектами действия. В конце концов, собственный вклад человека меркнет, оказываясь незначительным, и его влияние на конечный результат представляется ему слишком малым, чтобы всерьез считаться нравственной проблемой. «Я ничего дурного не делал, и вы ничего не можете вменить мне в вину» — таково обычное объяснение. Наконец, человек мог делать такие невинные и безвредные вещи, как написание листков, составление отчетов, заполнение документов, включение и выключение машины, смешивавшей ядовитые вещества. Он вряд ли узнавал в обуглившихся телах в какой-то экзотической стране результаты своих действий, свою ответственность.
Крепко закрыть глаза на нравственно ужасающие конечные результаты на первый взгляд невинных дел помогает в дальнейшем известная безличность организационных функций. Существенной характеристикой любой организации является то, что любая роль в ней может быть исполнена любым человеком, обладающим соответствующими навыками. Поэтому можно утверждать, что вклад в решение общей задачи вносит именно роль, а не ее носитель. Если настоящий исполнитель не играет ее, как полагается, то на его место поставят другого, но задача в любом случае будет выполнена. Это утверждение можно развивать и дальше и продолжать настаивать на том, что сама ответственность за претворение общей задачи в жизнь лежит на роли, а не на ее исполнителе, и что роль не следует смешивать с личностью исполнителя. Заметим, что даже преступники — участники геноцида, которые слишком близко находились к стадии убийства, чтобы заявлять о своем неведении относительно реальных последствий своих действий, и те доказывали, что в обстановке бюрократических приказаний и разделения труда нравственные оценки были неуместны. Их собственные чувства не были «ни там, ни здесь», и не имело никакого значения, ненавидели они свои жертвы или сочувствовали им. Задача требовала от них дисциплины, а не эмоций. Как и в других обыденных и организованных взаимодействиях, они имели дело с назначенными им мишенями, а не с собратьями из рода человеческого.
Бюрократия, призванная служить нечеловеческим целям, продемонстрировала свою способность подавлять нравственные мотивации не только среди своих сотрудников, но и далеко за пределами самой бюрократической организации; это удалось ей путем апелляции к чувству самосохранения и тех, кого она намеревалась уничтожить, и тех, кто стал невольным свидетелем этого уничтожения. Бюрократическое управление геноцидом обеспечило, с одной стороны, сотрудничество многих его жертв, а с другой — нравственное безразличие большинства наблюдателей. Будущие жертвы были превращены в «психологических пленников», зачарованных иллюзорными перспективами милостивого обращения с ними в качестве вознаграждения за согласие подыгрывать своим мучителям и способствовать своему закабалению. Вопреки всему они надеялись, будто что-то еще можно спасти, предотвратить какие-то опасности, если только не раздражать своих мучителей, будто сотрудничество с ними будет вознаграждено. В большинстве случаев это был феномен упреждающего согласия: жертвы сами предлагали тот или иной способ ублажить палача, стараясь заранее угадать его намерения и удовлетворить его с особым рвением. Помимо всего прочего, они до последнего момента не осознавали неизбежности своей окончательной участи. Каждый следующий шаг на пути к уничтожению представлялся им хотя и неприятным, но не последним и уж во всяком случае не необратимым; на каждом шагу они сталкивались с четко определенным выбором, у которого было только одно рациональное решение — без вариантов, но и оно лишь приближало их уничтожение. Благодаря этому организаторы геноцида достигали своих целей с наименьшими беспорядками и фактически при отсутствии какого бы то ни было сопротивления; потребовалось совсем мало надзирателей за длинной, послушной колонной, идущей в газовые камеры.
Что же касается сторонних наблюдателей, то их согласие или, по крайней мере, молчание и бездействие обеспечивались пониманием ими слишком высокой цены нравственного поведения и сочувствия жертвам. Выбрать правильное с нравственной точки зрения поведение означало бы навлечь на себя страшную кару, а зачастую подвергнуть риску само свое физическое существование. Когда ставки так высоки, тогда интерес самосохранения отставляет в сторону моральный долг, а моральные соображения, угрызения совести подавляются рациональными доводами: «Помогая жертвам, я подверг бы опасности свою семью и собственную жизнь; в лучшем случае я спас бы одного человека, в случае же неудачи погибло бы десять». Предпочтение отдается подсчетам шансов на выживание, а не нравственному качеству действия.
Мы привели крайние случаи противостояния мотивов самосохранения и морального долга; они были взяты из редко встречающихся ситуаций и, как правило, порицаемых всеми. В более мягкой и потому менее настораживающей форме такое противостояние оказывает воздействие на повседневную человеческую жизнь. В любой организационной среде рациональность действий, провозглашаемая как наиболее эффективное средство самосохранения, по большей части достигается за счет нравственных обязательств. Явное преимущество рационального поведения перед действием, руководствующимся моральным долгом, составляет рецепт правильного выбора, т. е. то, что непосредственно взывает к чувству самосохранения и самопродвижения. Рациональное поведение становится еще более соблазнительным благодаря своей способности удовлетворять желание самовозвеличивания, вызываемое конкуренцией. Мотив самосохранения, выраженный в нулевом варианте исхода конкуренции и оснащенный надежным оружием бюрократической рациональности, превращается в грозного и, наверное, непобедимого соперника нравственности.
Дальнейшему уничтожению моральных обязательств способствует статистическое обращение с людьми просто как с безликими объектами действия, свойственное любой бюрократии. Рассматриваемые как фигуры, или «чистые формы», которые могут быть заполнены любым содержанием, такие человеческие объекты утрачивают индивидуальность и отчуждаются от своего бытия носителей прав человека и моральных обязательств. Вместо этого их относят к некой категории, представители которой полностью определяются соответствующей совокупностью организационных правил и критериев. Их личностная неповторимость, а следовательно, их уникальные, индивидуальные потребности теряют свое значение как ориентиры бюрократического действия. Значение имеет только категория, к которой они официально причислены. Подобная классификация сосредоточивает внимание лишь на избранных атрибутах индивидов, в которых выражается интерес организации, и поощряет пренебрежение всеми остальными их характеристиками, т. е. индивидуальными чертами, делающими индивида моральным субъектом, уникальным и единственным в своем роде человеческим существом.
По сути дела, бюрократия — это не единственный феномен, в котором нравственные мотивы приходятся не ко двору и в котором они приглушаются и подавляются. Весьма сходный результат подавления нравственного чувства можно наблюдать и в ситуации, практически во всех других отношениях диаметрально противоположной холодной расчетливой рациональности бюрократической организации и также практически свободной от соображений наживы и завистливой конкуренции. Такую ситуацию, отличающуюся наиболее эффективной способностью подавлять нравственность, создает толпа.
Замечено, что люди, вынужденные находиться на ограниченном пространстве бок о бок с огромным количеством незнакомых им людей, которых они не встречали раньше при других обстоятельствах и с которыми до этого не взаимодействовали, а в настоящем «объединены» лишь временным, случайным интересом, склонны вести себя так, как они даже не предполагали бы возможным вести себя в «нормальных» условиях. Самое дикое поведение может вдруг обуять толпу подобно пожару в лесу, порыву ветра или распространению заразы. В случайно образовавшейся толпе, например на переполненном народом рынке или в театре, охваченные паникой люди, движимые единственным желанием спастись, могут топтать других людей, толкать их в огонь, обеспечивая себе жизненное пространство и избегая опасности. В другом случае они могут напасть и убить предполагаемого злодея, на которого им указали и объявили источником угрозы. В толпе люди способны на такие действия и поступки, которые не хватит духу совершить ни одному преступнику. Если толпа и может коллективно совершать то, что претит любому ее члену в отдельности, то именно в силу ее безликости. В толпе люди утрачивают свою индивидуальность и «растворяются» в анонимном сборище; в ней они не воспринимаются как субъекты нравственности, как цель морального долга (результат, сходный с дистанцированием, порождаемым бюрократическим разделением труда). Сборище линчевателей или толпа болельщиков освобождают своих членов от моральной ответственности за насильственные действия в отношении других людей, которые обычно могут быть защищены от насилия только моральными ограничителями, если таковые имеются у предполагаемых насильников. В подобных случаях подавление моральных ограничителей является результатом анонимности толпы и фактического отсутствия каких бы то ни было продолжительных связей между ее участниками. Толпа рассеивается так же быстро, как и собирается, и ее коллективное действие, даже координируемое, не воспроизводит и не порождает никакого сколько-нибудь продолжительного взаимодействия. Именно мгновенный и непоследовательный характер действия толпы делает возможным чисто эмоциональное, неконтролируемое, аффективное поведение отдельных ее членов. В какое-то мгновение все тормоза срываются, снимаются все запреты, отменяются все обязательства и все правила нарушаются.
Упорядоченное, бесстрастное поведение в рамках бюрократической организации и необузданные порывы гнева или паники в толпе кажутся полярно противоположными; и все же их воздействия на нравственные чувства и запреты поразительно схожи. Сходные результаты имеют и сходные причины: деперсонализация, «обезличение», уничтожение индивидуальной самостоятельности. И бюрократия, состоящая из ролей, а не из личностей, сводящая людей к ролям или множеству ресурсов или препятствий на пути к достижению цели или решению проблемы, и неуправляемая, возбужденная толпа, состоящая из неразличимых частиц, а не из отдельных индивидов, отличающаяся лишь размером, а не индивидуальными качествами своих членов, по существу являются безликими и анонимными.
Для других человеческих существ люди остаются моральными субъектами до тех пор, пока они признаются именно людьми, т. е. существами, имеющими право на то, чтобы с ними обращались так, как полагается обращаться только с людьми, причем с любым человеком (естественно, речь идет об обращении, предполагающем, что партнеры взаимодействия тоже имеют свои уникальные потребности и что эти потребности столь же ценны и важны, как и твои собственные, и к ним следует относиться с не меньшим вниманием и уважением). Можно даже сказать, что понятия «объект нравственности» и «человек» соотносимы — их содержание совместимо. Как только определенные лица или категории людей лишаются права на нашу моральную ответственность, с ними обращаются как с «недочеловеками», «порочными людьми», «не совсем людьми» или вообще «нелюдями».
Мир (универсум) моральных обязательств (совокупность людей, объединенных моральным долгом) может включать, а может и не включать всех представителей рода человеческого. Многие «примитивные» племена наделяли себя именами, которые просто означали «люди»; человеческий статус других племен, особенно тех, с которыми не установились никакие взаимодействия, кроме редких вспышек враждебности, не признавался. Отказ признать человеческое в чужих племенах продолжал сохраняться и в рабовладельческих обществах, где рабам приписывался статус «говорящих орудий» и на них смотрели только с точки зрения их пригодности для решения предназначенной им задачи. Статус ограниченной человечности на практике означал одно: существенное требование нравственного отношения, т. е. уважения потребностей другого человека, что подразумевает прежде всего признание его целостности и непреходящей ценности его жизни, не было обязательным в отношении к носителям этого статуса. Похоже, что история развивалась как постепенное, но неумолимое наступление идеи гуманизма с ее ярко выраженной тенденцией к распространению универсума обязательств на весь человеческий род.
Однако, как мы видели, этот процесс не был прямолинейным. Наш век прославился появлением весьма влиятельных мировоззрений, призывавших исключить целые категории людей — классы, нации, расы, конфессии — из универсума обязательств. Вместе с тем совершенство бюрократически организованного действия достигло такого уровня, на котором моральный запрет уже не может воспрепятствовать соображениям эффективности. В результате сочетания обоих факторов — возможности подавить нравственную ответственность (что создает бюрократическая технология управления) и существования мировоззрений, готовых и желающих использовать эту возможность, — во многих случаях значительно сократился универсум обязательств. А это, в свою очередь, открыло дорогу таким последствиям, как массовый террор в коммунистических обществах против представителей враждебных классов и их пособников, постоянная дискриминация расовых и этнических меньшинств в странах, которые гордятся своими успехами в области прав человека, множество явных и скрытых систем апартеида и многочисленные случаи геноцида, начиная с убийства армян турками, уничтожения миллионов евреев, цыган и славян нацистской Германией и кончая применением смертоносных газов против курдов, массовыми убийствами в Камбодже. Границы универсума обязательств по сей день остаются спорными. Можно предположить, что развитие бюрократической технологии, имеющее своей задачей подавление моральных мотивов (такое же достижение современного общества, как и распространение морального чувства в отношении всех представителей рода человеческого), сжало эти границы по сравнению с прошлыми временами, во всяком случае если не в теории, то на практике.
Внутри универсума обязательств значение потребностей других людей признается. Общепринято, что потребности других людей являются законным основанием их требований; если же требования не удовлетворяются, то это всегда требует объяснений и в некотором роде извинений. Жизнь другого человека должна быть сохранена любой ценой. Должно быть сделано все возможное, чтобы обеспечить его благополучие, увеличить его жизненные шансы, открыть ему доступ к благам, которыми располагает общество. Его бедность, болезни, беспросветность его повседневной жизни взывают к участию всех остальных членов универсума обязательств. Столкнувшись с таким призывом, мы чувствуем себя обязанными оправдываться — давать убедительное объяснение, почему было так мало сделано, чтобы облегчить их участь, и почему нельзя было сделать больше; мы также чувствуем себя обязанными доказывать, что было сделано все возможное. Подобные объяснения не обязательно должны быть правдивыми. Мы слышим, например, что медицинское обслуживание населения в целом не может быть улучшено потому, что «деньги невозможно истратить до того, как они заработаны». Однако такое объяснение скрывает, что прибыли частной медицины, услугами которой пользуются богатые, расцениваются как «заработанное», тогда как услуги, предоставляемые тем, кто не может прибегнуть к помощи частной медицины, считаются «расходом»; такое объяснение, следовательно, скрывает различия в удовлетворении потребностей, которое зависит от платежеспособности. И все-таки уже сам факт, что объяснение вообще предоставляется и что те, кто его дает, чувствуют себя обязанными это сделать, свидетельствует о признании того, что люди, чьи потребности в лечении игнорируются, остаются внутри универсума обязательств.
Тот факт, что потребности других людей остаются неудовлетворенными, не ощущался бы нами как наша неудача и внутреннее побуждение объяснить ее утратило бы смысл, если бы игнорируемые «другие» были изгнаны из универсума обязательств; или если бы, по крайней мере, было продемонстрировано, что их присутствие в универсуме обязательств сомнительно или «незаслуженно». И это совсем не надуманная ситуация. Она воспроизводится посредством объявления тех, «других», находящимися в недочеловеческом состоянии и затем посредством обвинения их в том, что причиной их неудач является их собственная неспособность действовать «по-человечески». Отсюда — лишь один шаг до заключения, что эти «другие» не могут считаться людьми, поскольку их недостатки неисправимы и ничто не сможет вернуть их к человеческому состоянию. Они, например, навсегда останутся «чуждой расой», которая сможет приспособиться к моральному порядку «коренного населения», поскольку они сами не смогут терпеть этот порядок.
Самосохранение и моральный долг противостоят друг другу. Ни то, ни другое не может претендовать на «большую естественность», лучшую приспособленность к внутренней предрасположенности человеческой природы. Если одно берет верх над другим и становится главенствующим мотивом человеческого действия, то обычно причину дисбаланса можно отыскать в том случае, если удастся дойти до социально определенной ситуации взаимодействия — до способа определения приоритетов. Мотивы нравственности и самосохранения превалируют в зависимости от обстоятельств, над которыми люди, попадающие в них, имеют ограниченный контроль. Было замечено, однако, что сила обстоятельств никогда не бывает абсолютной и выбор между двумя противоположными мотивами остается открытым даже в самых экстремальных условиях. Моральная ответственность человека или отказ от нее не могут быть оправданы в конечном счете ссылками на внешние силы и принуждение.
Глава 8 Природа и культура
Посмотрите на этого коротышку. Бедняга, природа его явно обделила, — говорим мы с жалостью и сочувствием. Мы не виним человека за его невнушительный рост. Нас просто поражает, что он ниже многих людей, которых мы знаем, а именно: ниже «нормального» роста. Но нам и в голову не приходит, что где-то кто-то может сделать человека выше. Насколько нам известно, ростом невозможно манипулировать; рост — это, так сказать, приговор природы, который обжалованию не подлежит. Нет способов отменить или аннулировать его. Нет другого выбора, кроме как принять его и жить с ним по мере сил. «Посмотрите, какой толстяк, — говорим мы уже со смехом. — Должно быть, он обжора или пивная бочка. Стыдно. Он должен что-то делать с собой». В отличие от роста толщина человеческого тела, как нам кажется, находится во власти человека. Ее можно уменьшить или увеличить. В этом нет ничего неизменного. Вес человека может и должен регулироваться, чтобы соответствовать нужному стандарту. Люди сами отвечают за свой вес, у них есть обязательства в этом отношении, и им должно быть стыдно, если они ими пренебрегают.
Чем отличаются друг от друга эти два случая? Почему мы реагируем на них по-разному? Ответ дает нам знание того, что люди могут сделать, и наше убеждение в том, что они должны делать. Во-первых, встает вопрос: что находится «во власти человека», когда он что-либо предпринимает (доступны ли ему существующие знания, навыки, технологии и может ли он их использовать, чтобы преобразовать по своему вкусу тот или иной аспект или фрагмент мира). Во-вторых, вопрос заключается в том, существует ли стандарт, норма, которой это «что-либо» должно соответствовать. Другими словами, есть вещи, которые люди могут изменить, сделать иными, нежели они были раньше. К ним следует относиться иначе, чем к вещам, которые не доступны власти человека. Первые мы называем культурой, вторые — природой. Поэтому если мы представляем себе нечто как относящееся скорее к культуре, нежели к природе, то мы имеем в виду, что данной вещью можно манипулировать и что существует желаемое и «правильное» конечное состояние такой манипуляции.
В самом деле, если вы представите себе подобную ситуацию, то само слово «культура» во многом предполагает именно это. Оно оживляет в памяти труд фермера или садовника, который тщательно обустраивает клочки земли, отвоеванные у дикой природы, и культивирует их, отбирает семена для посева и саженцы, удобряет их, прививает растения, придавая им нужный вид, т. е. вид, который он считает соответствующим данным растениям. Но на самом деле фермер и садовник делают больше, чем только это. Они также выпалывают нежелательных гостей, «незваные» растения, которые выросли здесь «по своему усмотрению» и тем самым испортили аккуратную планировку участка, снизили запланированную урожайность поля или повредили эстетическому идеалу сада. Именно подсчет урожайности или идея порядка и красоты разделили все растения на полезные, достойные заботливого ухода, и сорняки, подлежащие выкорчевыванию, потраве или избавлению от них каким-либо другим способом. Именно фермер или садовник составляют картину «порядка вещей», а затем используют свои навыки и орудия для воплощения в жизнь этой картины (заметим, что в большинстве случаев навыки и орудия, которыми они уже обладают, определяют границы воображения фермера или садовника; только такие представления о порядке воспринимаются как вполне реальные при данном уровне развития искусства). К тому же они предлагают и критерии различения порядка и беспорядка, нормы и отклонения от нее.
Работа фермера или садовника является показательным примером культуры, она выступает как деятельность, имеющая цель, причем особого рода цель, а именно: придание определенной части реальности той формы, которая иначе не появилась бы без определенного усилия внедрить ее. Культура занимается тем, что делает вещи отличными от того, чем они были и могли бы быть без нее, и тем, что сохраняет их в этой искусственной форме. Культура занимается также тем, что внедряет и сохраняет порядок и борется против всего, что отклоняется от этого порядка, нарушает его и, с ее точки зрения, выглядит как хаос. Культура вытесняет и замещает «естественный порядок» (т. е. положение вещей, каково оно есть без человеческого вмешательства) искусственным, спланированным. Культура не только внедряет искусственный порядок, но и развивает его. Культура означает предпочтение. Она превозносит один порядок как наилучший, возможно даже — единственно хороший, принижая при этом все другие варианты как неполноценные или в целом беспорядочные.
Граница между природой и культурой зависит, конечно, от имеющихся в нашем распоряжении знаний и навыков, а также от того, существует ли у нас намерение использовать их для достижения целей, не ставившихся ранее. В целом же развитие науки и технологии увеличивает возможности манипуляции считавшимися до сих пор «естественными» явлениями и тем самым расширяет область культуры. Возвращаясь к нашему первому примеру, мы можем надеяться, что технологии и практика генной инженерии, химической промышленности, а также профессионализм медицинских работников когда-нибудь вполне смогут изменять рост человека, поднимая его из естественных рамок на уровень культурного стандарта: рано или поздно технологии манипулирования генами или лекарствами, воздействующими на рост тканей и органов тела, позволят предотвращать уменьшение роста человека ниже желаемого стандарта, который тогда станет нормой. Правильный рост, как и правильный вес, мог бы уже сегодня стать предметом коллективного внимания и личной ответственности.
Давайте, однако, остановимся несколько подробнее на нашем воображаемом примере, поскольку он иллюстрирует еще одну важную черту культуры. Если для регуляции роста будет использоваться генетический контроль, то решать, какого роста быть человеку, будет не он сам, а другие; скажем, это будут родители, которые сами установят, каким быть их отпрыску; или это будет закон, написанный и применяемый государственной властью, которая будет решать, какой рост граждан является правильным; или это будет заключение медицинского специалиста, который порекомендует, что является «нормальным», а что — «ненормальным» размером человеческого тела. То есть, как бы то ни было, но обладатель тела будет вынужден принять заключение других или (как в случае с генной инженерией) его принятие или непринятие просто не будут иметь значения. Культура, демонстрирующая растущую мощь человечества в целом (можно сказать, его растущую независимость, свободу от природы), может проявляться для отдельного человека во многом подобно законам природы, как рок, против которого не взбунтуешься.
Как показывает наш пример, культура — это действительно человеческая активность, но активность, которую одни люди испытывают на других. Как и в случае с садом, в любом культурном процессе роли культурного садовника и окультуриваемых им растений безусловно различаются и не смешиваются. Причиной не-самоочевидности такого разделения в случае с «человеческими растениями» является то, что зачастую неясно, кто «садовник». Власть, стоящая за нормой, которую индивиды вынуждены соблюдать или по образцу которой они сформированы, как правило, размыта и анонимна. Невозможно указать точно, где она находится. Огромная и подавляющая власть, формирующая человеческое тело и сознание, проявляется в форме «общественного мнения», моды, «общепринятого мнения», «мнения экспертов» или даже такого неуловимого образования, как здравый смысл, являющийся общим, но ничьим в отдельности. Может показаться, однако, что существует некая абстрактная, неосязаемая, неопределенная культура сама по себе, которая и заставляет людей делать что-либо, например, красить губы, а не уши, или мочиться в одиночестве, а пить в компании. Культура становится некой иллюзорной «субстанцией»; она кажется прочной, тяжелой, весомой и непоколебимой. С точки зрения, удобной для человека, который считает любое сопротивление господствующим формам жизни рискованным и неблагодарным занятием, она может показаться неотличимой от остальной реальности «вовне». Она не кажется менее «естественной», чем само естество. Конечно, в нем мало искусственного, если искусственность означает быть сделанным людьми и таким образом располагать чьим-то решением или согласием поддержки. Несмотря на свое явно рукотворное происхождение, культура, как и природа, прочно и неприступно возвышается над возможностями индивида. Как и природа, она защищает настоящий порядок вещей. Хотя никто не сомневается в том, что сельское хозяйство или садоводство есть дело рук человеческих, в случае же с «человеческой культурой» подобная истина глубоко упрятана или по меньшей мере скрыта. Но от этого истина не становится меньшей, чем в других случаях.
Как только вы пристальнее посмотрите на «рукотворные элементы» своей жизни, вы, вероятно, заметите, что они входят в вашу жизнь двумя путями; или, говоря иначе, действия, вызванные внедрением и поддержанием искусственного, «рукотворного» порядка, могут быть двух типов. Это действия, направленные, во-первых, на окружение, во вторых, — на индивида. Первые регулируют, упорядочивают ситуацию, обстоятельства, в которых проходят жизненные процессы индивида; вторые формируют мотивы и цели самих жизненных процессов. Первые делают жизненный мир человека менее случайным, более регулярным, таким, что определенное поведение становится более уместным и разумным и, в конце концов, более вероятным, чем какой-либо другой его вид. Вторые делают человека более расположенным к выбору определенных мотивов и целей из огромного множества других, какие только можно представить себе. Заметим, что эти два аналитически различаемых типа не являются взаимоисключающими по своему применению и результатам, как не являются они и не зависящими друг от друга. Мое окружение, как и окружение любого другого индивида, в не меньшей мере состоит и из других индивидов с их мотивами и целями, а следовательно, «нормативная регуляция» индивидуальных мотивов и образцов поведения является важным фактором в общей регулятивное™ и предсказуемости окружения.
Порядок отличается от случайности или хаоса тем, что в упорядоченной ситуации не все может случиться, т. е. не все возможно. Из фактически бесконечного числа всех мыслимых событий может иметь место только ограниченное количество. Различные события обладают разной степенью вероятности: некоторые могут произойти с большей вероятностью, чем другие. Искусственный порядок можно считать прочно установившимся, если то, что было невероятным, трансформировалось в необходимое или неизбежное (как, например, происшествие совершенно невероятного события — встречи яиц и бекона в регулярной утренней процедуре). Установить порядок, следовательно, означает манипуляцию вероятностью событий. Некоторые события, обычно происходившие случайно, делаются более вероятными, «нормальными», тогда как на пути других событий воздвигаются препятствия. Установить порядок — значит выбрать, отобрать, установить предпочтения и приоритеты, оценить. Ценности стоят за любым искусственным порядком и фактически являются его неотъемлемой частью. Никакое описание искусственного порядка не может быть поистине свободным от ценностей. Любой такой порядок представляет собой лишь один из многих способов отклонения вероятностей, которому было отдано предпочтение перед другими. Как только он прочно и надежно устанавливается, мы естественно «забываем» об этой истине и воспринимаем его как единственно возможный.
Теперь нам кажется, что коль скоро возможен только один-единственный порядок, разнообразие беспорядка бесконечно. Специфический, данный порядок воспринимается как синоним порядка как такового; все альтернативы однозначно классифицируются как беспорядок или хаос.
Как человеческие существа мы все заинтересованы в создании и поддержании упорядоченного окружения, и прежде всего потому, что большая часть нашего поведения — заученное поведение. Из наших прошлых действий мы лучше вспоминаем те, которые были успешными — принесли желаемый результат, доставили удовольствие, снискали одобрение и уважение окружающих нас людей. Благодаря драгоценному дару памяти и способности обучения мы можем приобретать еще более эффективные жизненные навыки; мы накапливаем знания, умение, опыт. Но память и обучение приносят благоприятные результаты лишь до тех пор, пока ситуация (контекст) наших действий остается по большей части неизменной. Благодаря постоянству окружающего нас мира наши действия, успешные ранее, могут оставаться таковыми и сегодня, и завтра. Только представьте себе, какая ужасная катастрофа может произойти, если, например, изменить значение цветов светофора, никого не предупредив об этом. В случайно, хаотически меняющемся мире память и научение превратились бы из благословения в проклятье. Научаться, следовать прошлому опыту было бы поистине самоубийственно.
Упорядоченный мир, это регулярное и уютное, вполне предсказуемое окружение, в котором мы проводим большую часть своей жизни, является продуктом культурного замысла и отбора. Хорошо спроектированные и построенные здания существенно сокращают амплитуду колебаний температуры и полностью исключают невыносимые крайности. Разделение улицы на тротуар и проезжую часть значительно уменьшает вероятность смертельного столкновения между пешеходом и средством транспорта. Мост, соединяющий берега реки, уменьшает вероятность промокнуть или утонуть, пересекая реку. Разделение города на кварталы с различными уровнями цен и арендной платы, с различным качеством удобств ограничивает круг людей, которых вы можете встретить как прохожих или соседей. Подразделение поезда или самолета на первый и второй классы с существенно различными ценами на билеты также ограничивает круг возможных попутчиков.
Порядок окружающего нас мира противостоит беспорядочности нашего собственного поведения. В целом мы выбираем различные дороги для прогулки или поездки. На вечеринке с выпивкой мы ведем себя иначе, чем на семинаре в колледже или на деловой встрече. Мы по-разному ведем себя в родительском доме на каникулах и на формальной встрече с людьми, которых мы не знаем. Мы используем разный тон голоса и разные слова в зависимости от того, обращаемся мы к начальнику или болтаем с друзьями. Есть слова, которые мы в одном случае говорим, а в другом — избегаем произносить. Есть вещи, которые мы делаем публично, а есть «частные», которые мы делаем только тогда, когда уверены, что за нами никто не наблюдает. Примечательно, что, выбирая «соответствующее» случаю поведение, мы оказываемся в компании других людей, которые ведут себя точно так же, как и мы; отклонения от того, что вполне очевидно является правилом, случаются крайне редко — как если бы всех нас одинаково дергали за нечто вроде невидимых нитей.
Если я все перепутаю и буду вести себя так, как полагается вести себя в другом контексте, в обстоятельствах, для которых мое поведение явно не подходит, я, по всей вероятности, буду чувствовать себя смущенным или виноватым. Я сожалею о совершенной ошибке, которая может мне дорого стоить: например, я потеряю работу или возможность продвижения по службе, скомпрометирую свою репутацию, неудачно попытаюсь заслужить или потеряю симпатию дорогого мне человека. В других случаях мне может быть стыдно, как если бы я выдал какой-то секрет о своем «истинном Я», который я хотел бы скрыть или даже желал бы, чтобы его не было. В моем чувстве стыда, в отличие от сожаления по поводу ошибки, повлекшей неприятные результаты, нет никакого расчета или чего-то рационального. От этого чувства я освобождаюсь без особых раздумий. Стыд есть автоматическая реакция на перепутывание, смешение того, что должно быть порознь, на нарушение различия, которое должно было соблюдаться и оставаться неприкосновенным. Можно сказать, что стыд является (культурно усвоенной) защитой против таких смешений, против отрицания различий. Его можно воспринимать как способ удерживать наше поведение в правильном (т. е. культурно предписываемом) русле.
Теперь должно быть ясно, что культура — этот труд по наведению искусственного порядка — реализуется главным образом путем проведения различий, отделения, разграничения, сортировки вещей и действий, которые иначе вряд ли были бы разделены. В пустыне, не тронутой человеческой деятельностью и безразличной к человеческим целям, нет ни пограничных столбов, ни заборов, делающих одну полоску земли отличной от другой; одна дюна в точности похожа на другую, свободна от значения «самости», не несет на себе ничего, что отличало бы ее от другой. Незаселенная пустыня кажется бесформенной. В среде, подверженной работе культуры, напротив, однообразная плоская поверхность разделена на области, принимающие одних людей и отталкивающие других, или на полосы, предназначенные только для транспорта и только для пешеходов, т. е. мир приобретает структуру. Люди подразделены на высших и низших, представителей власти и простых людей, тех, кто говорит, и тех, кто слушает и записывает, — и все это вне всякого отношения к «естественным» различиям или сходствам их физического строения или умственной конституции или даже вопреки им. Однообразное течение времени разделяется на время завтрака, перерывов на кофе, обед, вечерний чай или ужин. Похожие или одинаковые по своему «физическому» составу собрания тем не менее в одном случае называются семинаром, в другом — конференцией, в третьем — вечеринкой. Приемы пищи различаются как совершенно разные события — просто чай, ужин у телевизора или трапеза при свечах.
Представляется, что эти и подобные различия проводятся одновременно в двух планах: один план — это «форма мира», в котором имеет место действие; второй — само действие. Части мира различаются между собой, равно как и внутри себя, в зависимости от периодов, различаемых в потоке времени (одно и то же здание может быть школой утром и бальным залом вечером, жилая комната может быть местом занятий днем и спальней ночью — они меняют свое назначение). Точно также дифференцируются и действия. Типы поведения за столом резко различаются в зависимости от того, что на столе и кто за столом. Даже застольные манеры — способ поведения во время еды — различаются в зависимости от того, что она собой представляет — формальную трапезу, обычный семейный ужин или просто дружескую пирушку.
Отметим еще раз, что различение этих двух планов (контекста и действия в нем, внешнего и внутреннего, объективного и субъективного) является продуктом абстракции. Два теоретически разных плана на самом деле неотделимы друг от друга. Не было бы формального обеда, не будь людей, обедающих в формальной манере, или бала, не будь танцующих, как на балу, как не может быть реки без потока или ветра без дуновения. Именно определенные действия преподавателя и студентов делают семинар семинаром. Два теоретически различных плана на практике неразрывно связаны — это, скорее, две стороны медали, чем два разных предмета. Один не может существовать без другого. Они могут появиться и сохраняться только одновременно и вместе. Различия, являющиеся сущностью культурно произведенного порядка, влияют одновременно и параллельно, согласованно, синхронно и на контекст действия, и на само действие. Можно сказать, что противоположности, различаемые во внешнем мире, повторяются в дифференциации поведения действующих; использование же противоположных образцов поведения отражается во внутренних подразделениях окружающего мира. Можно пойти еще дальше и сказать, что дифференциация поведения является сущностью, или смыслом, дифференциации среды, и наоборот.
Эту координацию можно было выразить и по-другому: сказав, например, что культурно организованный социальный мир и поведение культурно обученных индивидов структурированы, т. е. «артикулированы» при помощи противоположностей в отдельные социальные контексты, требующие различной деятельности и различных образцов поведения, пригодных для различающихся между собой социальных контекстов, и что обе артикуляции соответствуют друг другу (или, говоря техническим языком, они «изоморфны»). Всякий раз, когда мы видим противоположность способов поведения (например, приводимое ранее противопоставление формального и неформального поведения), мы можем с уверенностью предположить наличие такой же противоположности (оппозиции) и в контексте социальной реальности, в которой эти способы поведения имеют место, и наоборот.
Механизм, обеспечивающий столь чудесное «совпадение», соответствие между структурами социальной реальности и культурно регулируемым поведением, называется культурным кодом. Как вы уже, наверное, догадались, код — это прежде всего система противоположностей (оппозиций). В самом деле, в этой системе противопоставляются знаки — видимые, слышимые, осязаемые, обоняемые объекты или события вроде огней разного цвета, деталей одежды, надписей, устных утверждений, тона голоса, жестов, выражений лица, запахов и т. д. Они-то и связывают поведение действующих субъектов и социальную форму, поддерживаемую их поведением. Знаки, как правило, содержат два указания одновременно: на намерения, интенции, действующего субъекта и на данный фрагмент социальной реальности, в котором он действует. Ни одно направление не служит простым отражением другого. Ни одно из них не является также первичным или вторичным. Оба они, повторим еще раз, существуют только вместе, будучи укоренены в одной возможности, предоставляемой культурным кодом.
Представьте себе, например, надпись «Вход воспрещен» на двери конторы. Вы, наверное, замечали, что подобная надпись чаще всего появляется только на одной стороне двери, а дверь, на которой она висит, обычно бывает не заперта (если бы дверь невозможно было открыть, то вряд ли такая надпись понадобилась бы вообще). Следовательно, надпись не дает никакой информации об «объективном состоянии двери». Это скорее указание, предназначенное для создания и поддержания ситуации, которая иначе не образовалась бы. Фактически слова «Вход воспрещен» лишь проводят различие между двумя сторонами двери, между двумя типами людей, приближающихся к двери с разных сторон, и двумя типами поведения, которые ожидаются от этих людей и разрешены им. Пространство за обозначенной стороной двери закрыто для тех, кто приближается к двери со стороны надписи, но к людям по другую сторону двери, напротив, этот запрет не относится. Именно данное различие и обозначает знак. Его задачей является установление различий в однообразном пространстве между равно единообразными людьми.
«Человеческая культура» как научение индивидов состоит в том, чтобы наделять знанием о культурном коде: сформировать способность читать знаки, привить навык их отбора и демонстрации. Все должным образом «окультуренные» личности могут безошибочно определять потребности и ожидания, заложенные в ситуации, в которую они вступают, и отвечать на эту ситуацию, выбирая соответствующий образец поведения. И наоборот, все обученные культуре люди способны безошибочно подобрать манеру поведения, которая вызовет тот тип ситуации, который им нужен. Кто «знает» код, тот использует его в двух направлениях одновременно. Светофор на перекрестке дает хорошую иллюстрацию такой двусторонности. Красный свет сообщает водителям, что путь вперед закрыт. Он также заставляет их остановить машину, тем самым действительно закрывая путь вперед для движения по этому направлению и делая истинной информацию, сообщаемую зеленым светом, который открывает дорогу в перпендикулярном направлении.
Код срабатывает, конечно же, только в том случае, если все люди, участвующие в данной ситуации, прошли такое же культурное обучение. Все они должны были научиться читать культурный код и пользоваться им одинаково. В противном случае знаки не будут восприниматься именно как знаки, им не удастся побудить читающего их к объектам или типу поведения, который они замещают; или они будут прочитаны неверно, даже наоборот. Предполагаемой координации не произойдет, поскольку действия различных воспринимающих не будут соответствовать смыслу знаков (только представьте себе, что может случиться на перекрестке, если какой-нибудь водитель неправильно «прочтет» красный свет; или если какие-нибудь водители прикрепят красные подфарники спереди, а фары — сзади). Тот, кто впервые входил в колледж или в контору, ездил на каникулы в отдаленную местность, наверняка познал эту неприятную истину на собственном опыте. Уютное чувство безопасности, ассоциируемое со знакомым окружением, с пребыванием дома, возникает именно из подробного знания применяемого здесь культурного кода, а также из обнадеживающего и обоснованного ожидания, что такое знание есть у всех окружающих.
Знать код — значит понимать значение знаков; а понимание значения знаков, в свою очередь, означает знание того, как вести себя в ситуации, в которой они появляются, или как ими пользоваться, чтобы вызвать подобную ситуацию. Понимать — значит быть способным действовать эффективно и тем самым поддерживать координацию между структурами ситуации и структурами поведения. Понимание означает двойной выбор. Знак указывает индивиду, способному его прочесть, на связь между особого рода окружением и особого рода поведением.
Часто говорят, что понимать знак значит схватывать его значение. Однако было ошибкой думать, что это «схватывание значения» вызывает в сознании какой-то мысленный образ. Мысль (вербальное «раскрытие» содержания знака, нечто вроде «прочтения вслух» знака в вашей голове; например, красный свет означает приказ остановиться) может сопровождать знак или озвучивать его, но это не является ни достаточным, ни необходимым условием понимания. Ухватить значение, как и понять его, означает не более и не менее, чем знать, как продолжать вести себя. Следовательно, значение знака двойственно, поскольку несет в себе различие: одно значение — при наличии знака, другое — при его отсутствии. Иными словами, значение знака соотносится (противостоит) с другими знаками. Значение знака есть различие между ситуацией «здесь и сейчас» и другими ситуациями, которые могли бы быть вместо нее, но не случились; проще говоря, это отличие данной ситуации от всех остальных.
Зачастую (практически во всех случаях, кроме самых примитивных) одного знака недостаточно, чтобы сделать это различие достаточно четким, в конечном счете, сделать его «опорой». Мы можем сказать, что один знак иногда несет недостаточно информации, чтобы обозначить ситуацию, сделать ее предметом внимания всех, в ней участвующих, заставить их выбрать правильное поведение и тем самым засвидетельствовать, что предполагаемая ситуация действительно имеет место. Один знак может быть неверно прочитан, и если такое ошибочное прочтение случается, то уже ничто не может исправить ошибку. Например, знак военной формы сообщает нам вполне недвусмысленно, что этот человек служит в армии; для большинства гражданских лиц этой информации будет вполне достаточно, чтобы «структурировать» контакт. Для других, служащих в армии с ее сложной иерархией власти и разделением обязанностей, информации, заложенной в форме, будет недостаточно (к капралу и к полковнику относятся по-разному). Поэтому на первичный, более общий знак — форму как таковую — «наращивается» другой, указывающий на звание и дополняющий недостающую информацию. Но это не единственная важная информация, которую мы отметили: на военной форме знаки отличия обычно присутствуют в большем количестве, чем это было бы абсолютно необходимо для получения всей информации, требуемой для точного определения ситуации. Капрала от полковника отличают более чем два противоположных знака: разный покрой формы, различный материал, пуговицы из разного металла, на плечах — знаки, резко различающиеся по форме, то же на рукавах. Этот излишек знаков, добавление новых противопоставлений, которые лишь повторяют уже полученную при помощи другого знака информацию, можно описать как избыточность.
Избыточность кажется совершенно необходимой для исправного функционирования любого культурного кода. Это, можно сказать, гарантия от ошибок; приспособление, которое требуется для устранения двусмысленности и неправильности прочтения. Если бы не избыточность, то случайное уничтожение или пропуск одного-единственного знака повлекли бы за собой неверный тип поведения. Чем более важна для общего порядка информация, заложенная в данной противоположности знаков, тем большей избыточности можно ожидать от нее. Но избыточность — это ни в коей мере не расточительность, а напротив, неизбежный фактор в деятельности культуры, производящей порядок. Она уменьшает опасность ошибки, недоразумения и гарантирует точное прочтение значения в соответствии с предполагаемым. Другими словами, она делает возможным использование культурного кода как средства коммуникации, т. е. взаимной координации поведения.
Давайте повторим: смысл имеет противопоставление знаков, а не один знак, взятый в отдельности. А это, в свою очередь, предполагает, что значения, которые должны быть прочитаны и поняты, находятся в системе знаков, т. е. в культурном коде в целом, в проводимых в нем различиях, а не в предполагаемой особой связи между знаком и его референтом, т. е. тем, с чем соотносится его значение. По сути дела, такой особой связи вообще не существует (впечатление, что есть естественная связь между знаком и предметом, который он замещает, само по себе является продуктом культуры, результатом усвоения кода). По отношению к фрагментам мира или к нашим действиям, которые они вызывают, знаки произвольны. Они не мотивированы этими фрагментами, не связаны с ними иначе, как посредством функции обозначения, предписанной знакам культурным кодом. Качество произвольности ставит культурно произведенные знаки (всю сделанную человеком систему обозначений) особняком от чего бы то ни было другого, что можно обнаружить в природе: культурный код поистине не имеет прецедентов.
Говоря о способе получения наших знаний о природных феноменах, мы часто ссылаемся на «знаки», посредством которых природа «сообщает» нам о себе и которые должны быть прочитаны с тем, чтобы извлечь содержащуюся в них информацию. Так, глядя на капли воды, стекающие по оконному стеклу, мы говорим: «Идет дождь», т. е. мы говорим об этих каплях как знаках дождя. Или при виде мокрого тротуара мы делаем вывод, что, должно быть, прошел дождь. Я кладу руку на лоб своего ребенка, замечаю, что он необычно горячий, и говорю: «Он, должно быть, болен, давайте вызовем доктора». Во время прогулки за городом я замечаю на дорожке следы необычной формы и думаю, что этой весной сюда вернулись зайцы, причем в большом количестве. Во всех перечисленных случаях то, что я увидел или почувствовал, дает мне информацию о чем-то, чего я не мог видеть, — это и есть то, что обычно делают знаки. Однако характерной чертой таких знаков, отличающей их от культурных знаков, рассмотренных выше, является то, что они детерминированы, т. е. являются следствиями своих соответствующих причин. Именно эти причины я «считываю» как информацию, содержащуюся в знаках. Дождь струится каплями воды по стеклу и оставляет мокрые тротуары; болезнь изменяет температуру тела и делает лоб горячим; зайцы, перебегающие песчаную дорожку, оставляют следы особой формы. Если я знаю о существовании этих причинных связей, то смогу установить «невидимую» причину по ее видимым следствиям. Чтобы избежать путаницы, наверное, было бы точнее говорить о признаках или симптомах, а не о знаках, ссылаясь на причинно обусловленные (в отличие от произвольных) заключения в наших суждениях (капля является признаком дождя, горячий лоб — симптомом болезни).
В случае же с культурными знаками такой причинной связи не существует. Знаки произвольны или условны (конвенциональны). Дождь не может оставить следов на дорожке, а зайцы не могут заставить воду течь по стеклу: между причиной и следствием существует однозначная связь. Однако многочисленные культурно обусловленные различия могут быть обозначены любым типом знаков любой формы. Между знаками и тем, что они замещают, не существует ни причинной связи, ни сходства. Если внутри данной культуры упор делается на различие полов, то это может быть обозначено бесчисленным количеством способов. Половые различия в манерах (форма одежды, макияж, походка, речь, общий вид) могут радикально меняться с течением времени и от одного места к другому, а различия между мужчиной и женщиной при этом будут сохраняться. То же самое относится к различиям между поколениями (что, как это ни парадоксально, иногда выражается в отрицании одним поколением различий между полами в манере одеваться или причесываться), между формальным и неформальным контекстами, между печальными событиями (например, похоронами) и радостными (например, свадьбой). Культурные знаки свободно изменяют свою видимую форму, но контраст между ними и противоположными им знаками сохраняется и воспроизводится с каждым изменением, так что работа по проведению различий — их единственное назначение — исправно выполняется снова и снова.
Однако произвольность не всегда равнозначна полной свободе выбора. Наиболее свободными являются знаки, выполняющие исключительно культурно-различительную функцию и служащие только одной потребности — в человеческом взаимодействии. Таковы прежде всего знаки языка. Язык — это система знаков, специализирующихся на функции коммуникации. Вот почему в языке (и только в языке) произвольность знаков не имеет ограничений. Голосовые звуки, произносить которые способны все люди, могут модулироваться бесконечным количеством произвольных способов при условии, что их достаточно для составления требуемых противоположностей. Одна и та же противоположность на разных языках может быть сконструирована при помощи пары, различающейся внутри себя, например мальчик и девочка, garçon и fille, Knabe и Mädchen.
Но в других знаковых системах свобода (степень допустимой произвольности) не является столь полной. Выполняя коммуникативную функцию, все системы, за исключением языка, тесно связаны также с другими человеческими потребностями и тем самым с другими функциями. Платье, например, изобилует произвольными знаками и тем не менее спасает от превратностей климата, сохраняет тепло тела, предоставляет дополнительную защиту для уязвимых частей кожного покрова и позволяет соблюсти общепринятые правила приличия. Большинство этих функций также культурно регулируются (например, по большей мере дело культуры — определять, какая часть кожного покрова считается «уязвимой» и нуждается в прикрытии; потребность носить обувь, прикрывать грудь, а не ноги, или наоборот — все это культурные результаты), но они служат уже не чисто коммуникативным потребностям; рубашки и брюки прикрывают тело в дополнение к тому, что они обозначают помимо этого. Точно также, сколь многообразны и точны ни были бы обозначенные различия, приписанные разным видам пищи, все же есть пределы материала, в котором могут быть выражены культурные различия, поскольку, учитывая особенности человеческого пищеварения, не все может быть съедобным. Кроме того, чай или обед, формальный или неформальный, должен, помимо обозначения специфического характера события, подразумевать и питательные вещества, т. е. и прием пищи, в конце концов. Если человеческая речь используется исключительно в целях коммуникации, то другие средства коммуникации разделяют свою семиотическую функцию (нести и передавать значение) с удовлетворением других потребностей. Их код как бы вырезан на поверхности других, не в первую очередь коммуникативных, функций.
В своей коммуникативной функции (как осмысленные объекты или события, структурирующие ситуацию, в которой они появляются) знаки всегда произвольны. Любопытно, однако, что «вполне культурным» людям — тем, кто может легко и безошибочно продвигаться в сформированном данным культурным кодом мире, они вовсе не кажутся произвольными. Любой воспитанный в какой-либо языковой среде человек находит нечто вроде естественной, необходимой связи между звучанием слова и объектом, с которым оно соотносится, как если бы названия действительно принадлежали объектам и считались их атрибутами наравне с размером, цветом или упругостью. Произвольный аспект форм, запечатленный в других средствах информации, может в целом не коснуться нашего внимания: одежда для того, чтобы одеваться, еда — чтобы есть, машина — чтобы добираться отсюда туда. Трудно понять, что вдобавок к дифференцирующей информации типа одежда носится, а пища потребляется, они еще проводят различия между людьми, их разными ролями, которые они в данный момент исполняют: трудно понять, что пища и одежда тоже служат созданию и воспроизводству особого, искусственного, «рукотворного» социального порядка. Такая слепота на самом деле является частью культурной игры. Чем меньше мы осознаем не субстантивную (т. е. не соотносимую с очевидным содержанием данной деятельности) упорядочивающую функцию культурно оформленных действий, тем более надежным является порядок, поддерживаемый этими действиями. Культура наиболее действенна тогда, когда она маскируется под природу; когда искусственное оказывается укорененным в самой «природе вещей», необходимой и незаменимой, — в том, что не может изменить никакое человеческое решение. Резкие различия в социальном положении людей (вызванные культурой и поддерживаемые с момента рождения на протяжение всей жизни различиями в одежде, игрушках, играх, компаниях, предпочтениях в проведении досуга и т. п.) становятся поистине прочными и надежными, как только ученики усваивают, что социальное различие полов является чем-то предопределенным, заложенным в физиологическом строении человеческого тела, «естественным» и потому требующим повиновения, внешне выражаемого во всем, что делает человек, будь то манера говорить, походка, словарный запас или манера выражать (или не выражать) свои эмоции. Культурно произведенные социальные различия между мужчинами и женщинами кажутся столь же естественными, сколь и биологическое отличие мужских половых органов от женских и различие их репродуктивных функций.
Культура может вполне успешно выдавать себя за нечто несомненно естественное до тех пор, пока искусственный, конвенциональный характер выдвигаемых ею норм (эти нормы могут отличаться от того, чем они являются на самом деле) не проявится отчетливо. К тому же ее искусственность вряд ли удастся раскрыть, поскольку каждый в обозримом окружении подчинен тому же типу культурного обучения; поскольку все освоили и сохраняют приверженность одним и тем же нормам и ценностям и постоянно демонстрируют эту приверженность, пусть даже бессознательно, своим ежедневным поведением. Другими словами, культура подобна и действует подобно природе до тех пор, пока неизвестны и не проявляются никакие альтернативные конвенции. Однако в нашем, человеческом мире такое едва ли возможно. Как правило, верно обратное. Фактически любой из нас знает, что существует множество различных стилей жизни. Мы видим вокруг себя людей, которые одеваются, говорят, ведут себя не так, как мы, и, очевидно (как мы полагаем), придерживаются других норм, отличных от наших. Поэтому мы вполне осознаем, что любой стиль, образ жизни в конечном счете является вопросом выбора. Есть не один способ быть человеком. Практически все можно делать иначе, чем мы это делаем, т. е. ни один способ не является неизбежным. Даже если каждый из них требует культуры, научения, то не сразу ясно, в каком направлении должно по необходимости проводиться это научение, какой должен быть сделан выбор. Мы знаем, что существуют культуры, а не одна-единственная культура. А если культура мыслится во множественном числе, то она не может восприниматься, как природа. Ни одна культура не может претендовать на безоговорочное подчинение, которого требует природа.
Поскольку культура сосуществует со многими другими способами жизни, она не способна удерживать человеческое поведение и мысли такой же мертвой хваткой, какая была бы возможна, если бы культура была поистине универсальной и свободной от конкуренции. Порядок, которому служит культура (эта конечная «цель» любой культуры), не может быть действительно надежным. Не чувствуем себя надежно и мы, объекты культурного обучения, «культурные» люди. Порядок, скрепляемый нашим культурным обучением, представляется чрезвычайно уязвимым и хрупким. Это лишь один из возможных порядков, и мы не можем быть уверены, что он самый правильный. Мы не можем быть уверены даже в том, что он лучше множества его альтернатив. Мы не знаем, почему мы должны отдавать ему предпочтение перед другими порядками, находящимися в поле нашего зрения. Мы смотрим на образ своей жизни как бы со стороны, как если бы мы были чужими в собственном доме. Мы сомневаемся и задаем вопросы. Нам нужны объяснения и заверения, мы требуем их.
Неопределенность редко когда бывает приятным состоянием, поэтому попытки избежать ее свойственны всем. Принуждение подчиниться нормам, навязываемым культурным обучением, обычно сопровождается попытками дискредитировать, принизить нормы других культур, равно как и их продукты — альтернативные порядки. Другие культуры представляются как проявляющие отсутствие культуры, как «нецивилизованный», грубый, неприятный и жестокий образ жизни, больше напоминающий скотский, чем человеческий. Другие культуры преподносятся как результат вырождения: нездоровое, зачастую патологическое, отклонение от «нормального», разрушение, аномалия. Даже если другие способы жизни признаются как культуры в рамках их порядка целостные и жизнеспособные, то все равно их пытаются представить странными, низшими и смутно опасными: приемлемыми, возможно, для других, менее требовательных людей, но никак не для нас — людей достойных. Подобные реакции являются различными формами ксенофобии (боязни чужих) или гетерофобии (боязни других). Это различные способы защиты того неустойчивого и непостоянного порядка, который поддерживается исключительно общим культурным кодом: воинствующей двусмысленностью.
Можно сказать, что различия между «мы» и «они», «здесь» и «там», «внутри» и «вовне», «родной» и «чужой» являются едва ли не самыми важными различиями, устанавливаемыми и поддерживаемыми культурами. Посредством этих различий они проводят границы территории, над которой провозглашают свое безраздельное право и которую охраняют от какой бы то ни было конкуренции. Культуры склонны быть терпимыми к другим культурам только на расстоянии — только при условии исключения какого бы то ни было обмена или ограничения его строго контролируемой областью и ритуализированной формой (например, торговые сделки с «иностранными» торговцами и владельцами ресторанов; использование иностранцев на подсобной работе, которая предполагает лишь минимум взаимодействия и строго ограничена одной сферой жизни; восхищение «иностранными» продуктами культуры в надежном убежище музея, сцены, экрана или эстрадной площадки; отдых или развлечение — как досуг, отдельный и не смешиваемый с «нормальной» повседневной жизнью).
Описывая иными словами направленность культурной деятельности, можно сказать, что культуры, как правило, стремятся к гегемонии, т. е. к монополии норм и ценностей, на которых воздвигнут их собственный особый порядок. Культуры стремятся также к единообразию в области, подчиненной их гегемонии, и в то же время резко отделяют эту область от остального человеческого мира. Тем самым им внутренне присуще неприятие равенства форм жизни, они отдают предпочтение одному выбору перед остальными возможными. Большей частью культура является обращением в свою веру (миссионерством). Она побуждает своих приверженцев отказаться от старых привычек и убеждений и воспринять вместо них другие. Своим острием она направлена против ереси, рассматриваемой как «инородное влияние». Она уязвима, поскольку представляет внутренний порядок как произвольный, допускающий выбор, и тем самым ослабляет давление господствующих норм, подрывая их монопольную власть. Когда несколько культурных устройств сосуществует без четких разграничительных линий, обозначающих области их влияния (т. е. в условиях культурного плюрализма), тогда насущным становится отношение взаимной терпимости (взаимного признания самоценности другой стороны), однако его не так-то просто достичь.
Глава 9 Государство и нация
Вам, наверное, приходилось по разным поводам заполнять анкеты, в которых вас просили дать о себе некоторую информацию. Более чем вероятно, что самая первая графа каждой анкеты содержала требование написать свое имя. Речь шла о вашем личном имени (фамилии, которую вы разделяете с другими членами вашей семьи, и других именах, которые даны только вам, чтобы отличить вас от других родственников). Именно это имя должно было отличать вас от остальных заполнителей анкеты, указывать только на вас как на индивида, на уникальную, неповторимую личность, не похожую ни на кого другого. Как только была установлена ваша уникальная идентичность, следовали другие вопросы, цель которых заключалась в том, чтобы, напротив, установить те свойства, которые вы разделяете с другими, т. е. локализовать вас в рамках определенных более широких категорий. Кто бы ни составлял эти анкеты, он, судя по всему, рассчитывал, узнав о вашей принадлежности к некоторым категориям — по полу, возрасту, образованию, профессии, месту жительства, получить информацию относительно таких качеств вашей личности, которые, возможно, имеют определенное значение для предположений о вашем нынешнем состоянии или будущем поведении. Авторы анкеты, конечно, были в основном озабочены той частью вашего поведения, которая соотносится или может соотноситься с целями организации, выпускающей анкету и использующей ваши ответы (например, если это была форма для получения кредитной карты или банковской ссуды, то собиравшаяся информация должна была бы позволить банковскому служащему оценить вашу кредитоспособность и риск, который сопряжен с предоставлением вам ссуды).
Многие анкеты содержат вопрос о вашей национальной принадлежности. Вы можете ответить на него «британец», но можете написать и «англичанин» («валлиец», «шотландец», «еврей» или «грек»). Получается так, что оба ответа правильны, если вопрос касается национальной принадлежности. Но эти ответы относятся к разным вещам. Отвечая «британец», вы указываете, что являетесь «британским подданным», т. е. гражданином государства, называемого Великобританией или Соединенным Королевством. Отвечая «англичанин», вы сообщаете тот факт, что принадлежите к английской нации. Вопрос о национальности делает возможными и приемлемыми оба ответа; это показывает, что на практике оба варианта обозначения нации не различаются достаточно четко и имеют тенденцию к взаимоналожению, а вследствие этого и к тому, что их могут путать. И все же если вы, отвечая на вопрос о национальной принадлежности, пишете «британец», то тем самым вы сообщаете о совершенно ином аспекте вашей идентичности, чем в том случае, если вы пишете «англичанин». Можно спутать государство и нацию, но это совершенно разные вещи, и принадлежность к ним включает вас в разного рода отношения.
Начнем с того, что нет государства без особой территории, удерживаемой воедино некоторым силовым центром. Всякий, постоянно проживающий в той области, на которую распространяется авторитет государства, принадлежит к государству. В данном случае принадлежность к государству имеет значение прежде всего законосообразности. «Власть государства» означает способность провозглашать и вводить в действие «закон страны», т. е. правила, которые должны соблюдаться всеми подданными этой власти (если только само государство не освободит их от этого повиновения) и теми, кто хотя бы чисто физически окажется на территории этого государства. Если законы не соблюдаются, то виновные могут понести наказание. Их принудят повиноваться, хотят они того или нет. По существу государство притязает на исключительное право принуждать с применением физической силы (использовать оружие для защиты закона, лишать свободы посредством заключения в тюрьму нарушителей закона и в крайнем случае убивать <преступника>, если перспектива исправить его ничтожна или нарушение закона признано настолько тяжким, что его нельзя простить или покарать каким-либо менее суровым, нежели смерть, наказанием; если умерщвление совершается по приказу государства (и только тогда), оно может быть разрешено и рассматривается не как убийство, а как наказание, которое само не наказуемо).
Другая сторона государственной монополии на физическое принуждение заключается в том, что любое использование силы, не уполномоченное государством или совершенное кем-либо иным, кроме уполномоченных агентов государства, осуждается как акт насилия (т. е. как «преступление» в отличие от инициированного государством «приведения закона в действие») и, следовательно, влечет за собой уголовное преследование и наказание.
Законы, провозглашаемые и защищаемые государством, определяют обязанности и права подданных государства. Наиболее важной обязанностью является уплата налогов, т. е. отдача части своего дохода государству, которое забирает ее и использует по своему усмотрению. Права могут быть личными (например, защита своей жизни и собственности, если только это не определено иначе решением уполномоченных государственных органов, или право на собственные мнения и верования), политическими (воздействие на состав и политику государственных органов, например, посредством участия в выборах корпуса представителей, которые затем становятся управителями или администраторами государственных институтов) или социальными (гарантии со стороны государства элементарного прожиточного минимума и удовлетворения основных потребностей, которых либо принципиально нельзя достичь в одиночку, либо — усилиями лишь конкретного индивида). Именно сочетание таких прав и обязанностей делает индивида подданным государства. Первое, известное нам о том, что такое быть подданным государства, заключается в следующем: сколь бы неприятным оно ни было для нас, мы должны платить подоходный налог, налог на добавленную стоимость или подушный налог; но со своей стороны мы можем подавать жалобы властям и просить их помощи, когда наносится ущерб нашему телу или имуществу, и требовать возмещения этого ущерба; мы полагаем, что следует винить государственные органы (правительство, парламент, полицию и т. п.) тогда, когда под угрозой какая-либо из наших постоянных потребностей (если загрязняются воздух и вода, отсутствует или недостаточен доступ к здравоохранению или образованию и т. п.).
Тот факт, что подданство государству является сочетанием прав и обязанностей, заставляет нас чувствовать себя одновременно и защищенными, и угнетенными. Мы наслаждаемся относительным спокойствием жизни, которым, как мы знаем, мы обязаны некой наводящей страх силе, которая всегда начеку, готовая выступить против нарушения закона. Мы нисколько не задумываемся над альтернативой. Поскольку государство является единственно законным судьей, отделяющим разрешаемое от неразрешимого, и поскольку введение в действие закона государственными органами есть единственный метод сохранения и упрочения такого разделения, постольку мы полагаем, что если государство уберет свою карающую десницу, то вместо нее воцарится повсеместное насилие и вступит в действие «закон джунглей». Мы полагаем, что обязаны своей безопасностью и душевным покоем государственной власти и что без нее не было бы ни безопасности, ни душевного покоя. Однако во множестве случаев мы сопротивляемся назойливому вмешательству государства в нашу частную жизнь. Нередко нам кажется, что государство навязывает нам слишком много правил, чересчур придирчивых к нашим удобствам; мы чувствуем, что они ограничивают нашу свободу. Если охранительная забота государства позволяет нам что-либо делать, планировать свои действия в уверенности, что планы можно будет беспрепятственно выполнить, то подавляющая функция государства ощущается как лишение возможностей; из-за нее многие планы выглядят нереальными. Таким образом, нам внутренне присуще неоднозначное восприятие государства. Может получиться так, что оно нам и нравится и не нравится одновременно.
А уж то, как эти два чувства уравновешиваются и какое из них преобладает, зависит от обстоятельств. Если я богат и деньги для меня не проблема, то меня прельстила бы перспектива дать своим детям лучшее образование, чем то, которое получает средний гражданин, и поэтому я, наверное, не приветствовал бы тот факт, что государство управляет школами и решает, какие дети (в зависимости от их места проживания) какие школы должны посещать. Если же мой доход более чем скромный, чтобы купить исключительное образование, то я буду склонен приветствовать монополию государства на образование так же, как и на защиту. Поэтому я, вероятно, буду возражать против призывов богатых людей ослабить контроль государства над школами. Я могу предположить, что как только дети богатых и влиятельных людей перейдут в частные школы, так государственное образование, предназначенное теперь только для бедных детей, будет хуже обеспечиваться, чем раньше, и тем самым утратит свои возможности.
Если бы я управлял фабрикой, то я бы, наверное, был доволен тем, что государство сурово ограничивает права моих работников на забастовки. Я счел бы это ограничение проявлением созидающей функции государства, а не подавляющей. Коль скоро такое ограничение касается меня непосредственно, оно увеличивает мою свободу, позволяя мне принимать непопулярные среди моих рабочих меры, делать шаги, на которые рабочие наверняка ответили бы прекращением работы, если бы им это было позволено. Я рассматриваю ограничение права на забастовки как средство, поддерживающее порядок и делающее окружающий меня мир более предсказуемым и доступным контролю; в таком «улучшенном» мире моя свобода маневра увеличивается. И наоборот, если бы я был рабочим этой же фабрики, то ограничение забастовок представлялось бы мне актом подавления моей свободы. Наиболее эффективное средство сопротивления хозяевам теперь мне было бы недоступно. Поскольку мои работодатели вполне осознавали бы эту мою ущербность, постольку они не рассматривали бы возможность возмездия с моей стороны как фактор, ограничивающий их свободу при разработке новых планов: я утратил бы большую часть своей способности торговаться с ними. Я не знал бы, сколько неприятных и губительных для меня решений со стороны работодателей может ожидать меня. В конце концов, мой мир стал бы менее предсказуемым, а я сам пал бы жертвой прихоти других людей. Я менее, чем когда-либо, ощущал бы, что контролирую положение вещей. Другими словами, то действие государства, которое мои работодатели воспринимают как предоставление возможностей, я считаю главным образом подавлением моих возможностей.
Итак, мы видим, что в зависимости от ситуации и от смысла вопроса некоторые люди могут переживать как увеличение своей свободы такие действия государства, которые другими переживаются как стеснение свободы, и, наоборот, чувствовать себя подавленными действиями, воспринимаемыми другими как расширение их возможностей выбора. Однако в целом все заинтересованы в изменении соотношения этих двух функций государства. Все предпочли бы максимально расширить предоставляемые им возможности и сократить до минимума необходимое подавление свобод. Понимание того, что является предоставлением возможностей, а что — подавлением, различно, но желание контролировать или по крайней мере влиять на соотношение этих двух функций одинаково. Чем большая часть нашей жизни зависит от действий государства, тем шире распространено и сильнее это желание.
Желая изменить соотношение между функциями предоставления возможностей и подавления, подданные государства требуют для себя все большего влияния на государственные дела и на законы, провозглашаемые и применяемые государством; они требуют реализации в жизни их гражданских прав. Быть гражданином — значит быть не только подданным (носителем прав и обязанностей, каковые определены государством), но и иметь право голоса в определении государственной политики (т. е. в определении этих прав и обязанностей). Другими словами, быть гражданином — значит иметь возможность влиять на деятельность государства и тем самым участвовать в определении и управлении теми «законом и порядком», которые призвано охранять государство. Чтобы оказывать такое влияние на практике, граждане должны пользоваться определенной автономией, быть не зависимыми от государственного регулирования. Должны существовать пределы государственного вмешательства в действия индивида и его способность действовать. Здесь мы опять сталкиваемся с противоположностью таких функций государства, как предоставление возможностей и подавление. Однако на этот раз данные функции относятся к общей способности влиять на государственную политику и противостоять излишним амбициям государства, как только они возникают. Институт гражданства требует, чтобы государство само было ограничено в его способности ограничивать; чтобы государство ничего не предпринимало для сдерживания способности граждан контролировать, оценивать и влиять на его политику; и чтобы, напротив, государство было обязано оказывать содействие такому контролю и делать его эффективным. Например, гражданскими правами нельзя воспользоваться полностью, если деятельность государства окружена секретностью, если «простым людям» невозможно узнать о намерениях и деяниях своих правителей, если эти люди не имеют доступа к фактам, позволяющим им судить о реальных последствиях действий государства.
Отношения между государством и его подданными зачастую бывают напряженными, поскольку подданные вынуждены бороться за приобретение гражданских прав или за сохранение своего гражданского статуса, которому угрожают растущие амбиции государства. Главное препятствие, с которым они сталкиваются в этой борьбе, можно назвать «комплексом опеки» и «терапевтическим отношением государства». Первый означает тенденцию обращаться с подданными как с несовершеннолетними, неспособными определить, что для них является благом и действительно служит их интересам, и тем самым неправильно понимающими действия государства и принимающими абсолютно неверные решения, которые государство должно исправлять и отлаживать, если не может пресечь их в корне. Второе относится к склонности государственных властей обращаться с подданными так, как врач обращается со своими пациентами, т. е. как с индивидами, обремененными проблемами, которые они не в силах решить сами, без руководства и присмотра экспертов, «внутренними» проблемами тела и души, требующими указаний и присмотра, чтобы пациенты воздействовали на свое тело согласно предписаниям врача.
С точки зрения государства подданные являются прежде всего объектами государственного управления. Их поведение рассматривается как то, что должно строго ограничиваться правами и обязанностями, определенными государством; если государство отрицает такое ограничение, то подданные начинают определять свои действия сами, зачастую к несчастью своих сотоварищей и своему собственному, поскольку преследуют эгоистические цели, делая совместную жизнь неудобной или вообще невозможной. Поведение подданных, как кажется, постоянно нуждается в указаниях и предписаниях. Государство, подобно врачу, призвано поддерживать здоровье подданных и защищать их от болезней. Если же подданные ведут себя не должным образом, то это всегда означает, что (как и в случае с болезнью) что-то не так с самим субъектом. Необходимо раскрыть внутренние, личные причины недуга с тем, чтобы надсмотрщик (государство как врач) мог бы предпринять шаги, ведущие к исцелению. Аналогично отношениям врача и пациента, отношения государства и его подданных асимметричны. Даже если пациенты могут выбирать врачей, то как только врач выбран, пациенту остается лишь слушать и повиноваться. Теперь врач говорит, что делать пациенту, ожидая от него подчинения, а не рассуждений. В конце концов, пациент не знает причин болезни и путей ее излечения или ему недостает силы воли для того, чтобы действовать в соответствии со своими знаниями (в целом врачи, прикрываясь специальными знаниями, следят за тем, чтобы это невежество пациентов и вытекающая из него их зависимость сохранялись). Требуя подчинения и безоговорочного повиновения, врач объясняет, что делает это для блага самого пациента. Государство оправдывает свои притязания на неукоснительное исполнение своих указаний тем же способом. Его власть — это пастырская власть: она применяется «во благо» подданных, нуждающихся в защите против их же собственных дурных наклонностей.
Асимметрия отношений наиболее отчетливо проявляется в потоке информации. Врачи, как известно, требуют от пациентов полного доверия. Они просят больных полностью раскрыться, поведать о каждой детали их жизни, которую врач может счесть относящейся к делу, поделиться самыми потаенными секретами, какими бы интимными они ни были и как бы тщательно ни скрывались от других людей, включая друзей и близких. Однако сами врачи не отвечают пациентам такой же искренностью. Информация о пациентах держится в секрете, как и заключения врачей, складывающиеся на основе полученных от пациента сведений. Врач сам решает, какую информацию следует довести до сведения пациента. Отказ в информации опять же объясняется благом пациента: излишек информации может ему навредить — повергнуть его в состояние депрессии, безнадежности, сделать его безрассудным или непослушным. Такая стратегия секретности практикуется и государством. Оно собирает весьма подробную информацию о своих подданных, государственные институты обрабатывают и хранят ее, в то время как сведения о действиях самого государства расцениваются как «государственная тайна», выдача которой наказуема. Поскольку большинство подданных государства не имеет доступа к таким тайнам, то те немногие, которые его имеют, получают заметное преимущество перед всеми остальными. Свобода государства собирать информацию вкупе с государственной практикой секретности еще больше углубляют асимметрию взаимоотношений. Шансы воздействовать друг на друга разительно неравны.
Таким образом, гражданство также имеет тенденцию сопротивляться устремлениям государства к командным позициям, о чем говорят попытки раскрутить государственную власть в обратном направлении, освободить важные сферы человеческой жизни от государственного контроля и вмешательства и вместо этого подчинить их самоуправлению. Такие попытки развиваются в двух взаимосвязанных, но все же разных направлениях. Одно из них — регионализм, т. е. когда государственная власть является естественным противником местной автономии; фактически это любая промежуточная власть, стоящая между государственными органами и подданными; она противостоит исключительности государственной власти. Специфика местных интересов и проблем преподносится в качестве достаточного основания для самоуправления местными делами; доказывается необходимость местных представительных органов, которые будут ближе к народу и более чувствительны к специфическим местным интересам, более ответственны за их реализацию. Второе направление — экстерриториальность. Государственная власть всегда строится на территориальной основе, все обитатели данной территории, независимо от других их особых характеристик, являются подданными только государственной власти; именно этот принцип здесь и подрывается. В качестве более существенных на первый план выдвигаются другие характеристики, а не место обитания. Раса, национальность, религия, язык могут выступать как более важные характеристики человека, гораздо более весомые для человеческой жизни в целом, нежели совместное проживание. Их право на автономию, на отдельное правление является насущным и направлено против принуждения к единообразию со стороны унитарной территориальной власти.
Даже при самых благоприятных обстоятельствах всегда есть пусть незначительная, но напряженность и недоверие между государством и его подданными. Чтобы обеспечить дисциплину своих подопечных в таких условиях, государство, как и любая власть, добиваясь и требуя дисциплины для упорядочения поведения своих подданных, нуждается в легитимации: ему нужно убедить своих подданных в существовании весьма веских оснований для того, чтобы они подчинялись приказаниям государства, даже если не имеют доступа ко всей его информации; они должны подчиняться его приказаниям просто потому, что они — приказания государства. Основное предназначение легитимации — обеспечить веру подданных в то, что все, исходящее от государства и несущее на себе печать соответствующих властей, заслуживает подчинения, и постоянно поддерживать убеждение в том, что подчиниться должно. Человек должен следовать закону, даже если он не уверен в его разумности, даже если ему не нравится то, что закон требует делать. Человек должен следовать закону просто потому, что он поддерживается легитимной властью, поскольку, как сказано, это «закон страны».
Цель легитимации — создание безоговорочной приверженности государству, которая наилучшим образом обеспечивается, если основывается на чувстве «это моя родина — плохая или хорошая, но моя». А если это моя родина, то я только выиграю от ее богатства и могущества. Поскольку ее богатство и могущество зависят от всеобщего согласия и сотрудничества, от сохранности порядка и мирного сосуществования всех жителей, постольку я должен думать, что этот наш общий дом будет сильнее, если мы все станем действовать согласованно ради того, что служит нашему общему благу. Наши действия должны руководствоваться патриотизмом — любовью к родине, желанием укреплять ее и делать все, чтобы она была сильной и процветающей. Постоянным долгом патриота является дисциплина; на самом деле подчинение государству служит самым ярким признаком патриотизма. Любое сомнение в государственном законе взращивает несогласие, и уже поэтому (независимо от сути дела) оно «непатриотично». Легитимация стремится к поддержанию подчинения посредством рациональных доводов и подсчетов: для всех будет лучше, если все и каждый будут подчиняться. Консенсус и дисциплина делают всех нас богаче. В конце концов, каждому согласованные действия более выгодны, чем раскол, даже если согласие требует от меня подчинения политике, которую я не одобряю.
Однако все подсчеты предполагают и противоположные доводы. Если патриотическое подчинение требуется во имя разума, то вполне можно попробовать подвергнуть эти доводы проверке разума. Можно подсчитать цену подчинения нетерпимой политике по сравнению с выгодой, которую может принести активное противодействие ей. Можно обнаружить или убедить себя в том, что в конечном счете сопротивление менее накладно и требует меньших затрат, нежели подчинение, и что оно покрывает издержки отказа от согласия. Попытки легитимировать потребность в подчинении ссылками на выгоды, приносимые единством, вряд ли когда-либо были вполне последовательны. Именно потому, что легитимация представляет себя как продукт рационального подсчета, и до тех пор, пока она себя так представляет, она уязвима и сомнительна, постоянно нуждается в закреплении и защите.
С другой стороны, приверженность нации свободна от внутренних противоречий, отягощающих дисциплину в отношении государства. Национализм, призывающий к безоговорочной преданности нации и ее благополучию, не нуждается в ссылках на разум и расчет. Он может позволить себе и не обещать выгод или благ за верную службу делу нации. Он взывает к повиновению как к ценности самой по себе и ради самой себя. Принадлежность к нации понимается как судьба, которая сильнее любого человека, как свойство, которое нельзя принимать или устранять по собственной воле. Национализм предполагает, что есть нация, которая дает индивиду его тождественность (идентичность). В отличие от государства нация не является ассоциацией, в которую вступают для того, чтобы способствовать реализации общих интересов. Напротив, именно единство нации, ее общая судьба предшествуют любым соображениям интереса и действительно придают этому интересу значение и вес.
Государство, которое может полностью идентифицировать себя с нацией (что, разумеется, не относится к многонациональной Великобритании), т. е. национальное государство, может использовать потенциал национализма вместо попыток с меньшей надежностью легитимировать себя, ссылаясь на подсчеты выгоды. Национальное государство требует подчинения на том основании, что оно выступает от имени нации, и поэтому дисциплина по отношению к государству, как и подчинение общей национальной судьбе, являются ценностью, которая не служит никакой иной цели, являясь целью себя самой. Неповиновение государству — наказуемое преступление — теперь становится чем-то еще более худшим, нежели нарушение закона: оно превращается в предательство дела нации — в гнусный, безнравственный поступок, лишающий совершивших его достоинства и вытесняющий их из человеческого сообщества. Вероятно, благодаря соображениям легитимации и сохранения единообразия поведения и существует вообще некое взаимное притяжение между государством и нацией. Государство стремится присвоить авторитет нации для укрепления собственных требований дисциплины, а нация стремится оформиться в государство, чтобы завладеть силовым потенциалом государства для поддержки своих притязаний на преданность. И все же не все государства являются национальными, не все нации имеют свои государства.
Что такое нация? Это необычайно трудный вопрос, на который нет ответа, удовлетворяющего всех. Нация не является такой же «реальностью», как государство. Государство — это «реальность» в том смысле, что оно имеет четко очерченные границы как на карте, так и на поверхности земли. Границы охраняются вооруженными силами, поэтому случайное пересечение границы между государствами, въезд и выезд наталкиваются на вполне реальное, ощутимое сопротивление, которое позволяет государству чувствовать себя «реальным». В пределах государства существует совокупность обязывающих законов, которые, опять же, «реальны» в том смысле, что пренебрежение ими, как если бы они не существовали, может «обернуться боком» тому, кто их игнорирует. И наконец, существуют вполне определенная территория и четко определенная верховная власть, делающие государство «реальным» и ясно определенным как жестокая и упрямая вещь, которую никак нельзя игнорировать. Однако этого нельзя сказать о нации. Нация от начала и до конца — воображаемое сообщество; она существует как нечто единое до тех пор, пока ее члены духовно и эмоционально «идентифицируют себя» с коллективным образованием, большинство других членов которого они никогда лично не узнают. Нация становится духовной, ментальной реальностью, поскольку она как таковая воображается. В самом деле, нации обычно занимают некоторую протяженную территорию, которой, как они вполне достоверно утверждают, они придают особую окраску и характер. Но очень редко эта национальная окраска придает территории единообразие, сравнимое с тем, которое навязывается единством «закона страны», устанавливаемого государством. Вряд ли нации могут претендовать на монополию проживания на данной территории. Практически на любой территории живут бок о бок люди, идентифицирующие себя с различными нациями, к преданности которых взывают разного рода национализмы. На многих территориях ни одна нация не может признать себя большинством, но может считаться достаточно господствующей, чтобы определять «национальный характер» страны.
Верно также и то, что нации различаются и объединяются по признаку языка. Но то, что принято называть общим языком и различными диалектами, в большинстве случаев является результатом националистического (и зачастую оспариваемого) решения. Как правило, местные диалекты настолько специфичны по своему словарному запасу, синтаксису и идиоматике, что едва ли могут служить средством взаимопонимания для всех жителей территории, их специфическая идентичность отрицается или активно подавляется; им отказывают в праве быть самостоятельными языками из опасения нарушить национальное единство. И напротив, даже сравнительно незначительные различия в диалектах могут быть преувеличены до такой степени, что диалект возводится в ранг отдельного языка и в ранг специфической особенности отдельной нации (например, различия между норвежским и шведским языками, голландским и фламандским, украинским и русским вряд ли более существенны, чем различия между многими «внутренними» диалектами, которые представляются (если вообще признаются) как разновидности одного национального языка). Кроме того, некоторые группы людей могут признавать и использовать общий язык, но считать себя разными нациями (англоязычные валлийцы или шотландцы, многочисленные англоговорящие в странах бывшего Британского содружества, австрийцы, швейцарцы и сами немцы, говорящие на немецком языке). Или, как, скажем, швейцарцы, они могут затушевывать очевидные различия употребляемых ими языков.
Территория и язык являются недостаточными факторами для того, чтобы признать нацию как «реальность» по одной, но существенной причине: в них можно, так сказать, передвигаться туда и обратно. В принципе можно сменить национальную принадлежность; можно обосноваться среди людей той нации, к которой не принадлежишь; можно овладеть языком другой нации. Если территория поселения (напомним, что эта территория не имеет охраняемых границ) и участие в языковом сообществе (напомним, что человек не обязан пользоваться только определенным национальным языком лишь потому, что другие языки не признаются власть предержащими) были бы единственными определяющими чертами нации, то нация оказалась бы слишком «расплывчатой» и «неопределенной», чтобы претендовать на абсолютную, безоговорочную и исключительную преданность, какой требуют все формы национализма.
Это требование более всего достижимо, если нация трактуется как судьба, а не как выбор, как «факт», настолько глубоко и скрупулезно обоснованный в прошлом, что человеку не под силу изменить его в настоящем; как «реальность», которую можно поправить лишь на страх и риск самого исправляющего. Национализм в целом стремится именно к этому. Его главным инструментом является миф о происхождении нации, который толкует о том, что даже если изначально нация и была созданием культуры, то в ходе истории она стала воистину «естественным» феноменом, запредельным для человеческого контроля. Нынешние представители нации, как утверждается в мифе, связаны воедино общим историческим прошлым. Дух нации — их общее и исключительное достояние. Он объединяет их и в то же время отделяет от всех остальных наций, от всех людей, которые стремятся вступить в их сообщество, не имея права или способности влиться в этот национальный дух, который наследуется коллективно, а не приобретается частным образом.
Поддерживаемая мифом претензия на «естественность» наций, на «предопределенность» и наследуемость национальной принадлежности не может служить источником противоречий в национализме. С одной стороны, утверждается, что нация — это приговор истории, и ее реальность столь же объективна и ощутима, как и реальность любого природного явления. Однако, с другой стороны, нация — сомнительное образование: ее единство и солидарность все время находятся под угрозой, поскольку другие нации пытаются переманивать к себе ее представителей, а также внедрять своих в ее ряды. Нация должна защищать свое существование; сколь бы естественной она ни была, ей трудно выжить, не будучи бдительной и не прилагая для этого усилий. Поэтому национализм обычно требует власти, т. е. права использовать насилие, с тем чтобы обеспечить сохранность и преемственность нации. Лучше всего для этой цели подходит государственная власть. Власть государства, как мы видели, означает монополию на орудия насилия; только государственная власть способна навязать единые правила поведения, принять и обнародовать законы, которым все должны повиноваться. Таким образом, как государству нужен национализм для своей легитимации, так и национализму требуется государство для большей жизнеспособности. Национальное государство является продуктом этой взаимной потребности.
Как только удается отождествить государство с нацией (представив его как орган самоуправления нации), так шансы национализма на успех резко возрастают. Национализму уже больше не надо полагаться лишь на убедительность и последовательность своих аргументов, на желание своих представителей принять их. Теперь в его распоряжении имеется другое, гораздо более действенное средство. Государственная власть означает возможность принудить к исключительному использованию национального языка в государственных учреждениях, судах и представительных органах. Кроме того, она означает возможность мобилизации общественных ресурсов для повышения конкурентоспособности избранной национальной культуры вообще и национальной литературы и искусства в частности. Наконец, она означает контроль над образованием, которое становится одновременно и свободным, и обязательным, так что никто не может быть исключен и не может избежать его влияния. Всеобщее образование позволяет всем проживающим на территории государства усвоить ценности господствующей в государстве нации: сделать их патриотами «от рождения» и таким образом утвердить на практике то, что провозглашалось в теории, а именно — «естественность» национальности.
Совокупное воздействие образования, вездесущего жесткого культурного давления и предписываемых государством правил поведения сопутствует формированию образа жизни, ассоциируемого с «национальной принадлежностью». Эта духовная связь иногда проявляется в осознанном и четко выраженном этноцентризме — убеждении, что моя собственная нация и все относящееся к ней правильно, нравственно одобряемо и прекрасно, своя нация представляется намного выше любой другой, и тому, что хорошо для своей нации, должно отдавать предпочтение перед интересами кого бы то ни было другого. Даже если такая явно этноцентричная, групповая философия особенно и не превозносится, то все же факт остается фактом: вырастая в специфическом, культурно сформированном окружении, люди склонны там и только там чувствовать себя как дома, в безопасности. Условия, в чем-то не соответствующие привычным, обесценивают приобретенные навыки и тем самым вызывают чувство неловкости, смутной озлобленности и даже враждебности, направленной на «чужаков», якобы виновных в этом замешательстве. Манеры чужаков расцениваются как свидетельство их отсталости или высокомерия, а сами чужаки воспринимаются как незваные гости. Хочется отделить их или убрать совсем.
Национализм вдохновляет, инициирует склонность к культурным крестовым походам с намерением изменить образ жизни чужаков, обратить их в свою веру, заставить их подчиниться культурному авторитету господствующей нации. Цель таких крестовых походов — ассимиляция. (Первоначально понятие «ассимиляция» было заимствовано из биологии; для того чтобы прокормить себя, живые организмы ассимилируют элементы окружающей среды, т. е. преобразуют «инородные» вещества в клетки и ткани своих собственных организмов. Тем самым они делают их «схожими» (ассимилированными) с собой; то, что раньше было отличным, становится подобным.) Несомненно, все разновидности национализма подразумевают ассимиляцию, поскольку нация, «естественное единство» которой декларирует национализм, первоначально должна быть образована посредством объединения зачастую безразличного и разнородного населения вокруг мифа и символов национального отличия. Попытки ассимиляции становятся наиболее очевидными, в них наиболее полно проявляются внутренние противоречия тогда, когда торжествующий национализм, достигший государственного господства над определенной территорией, обнаруживает среди обитателей этой территории какие-нибудь «чужеродные» группы. Обычно эти группы либо сами заявляют о своем национальном отличии, либо воспринимаются как отличные и национально чуждые тем населением, которое уже испытало на себе воздействие культурной унификации. В таких случаях ассимиляция часто представляется как миссия обращения, во многом сходная с обращением язычников в истинную веру.
Как это ни парадоксально, но попытки обращения имеют тенденцию к вялости, нерешительности, словно опасаются чрезмерного успеха. Они несут на себе печать внутреннего противоречия, постоянно присутствующего в националистическом мировоззрении. С одной стороны, национализм провозглашает превосходство своей нации, национальной культуры, национального характера. Поэтому считается, что привлекательность нации для окружающих ее народов — это что-то само собой разумеющееся; в самом деле, желание и попытки других присоединиться к славе нации являются свидетельством и еще одним подтверждением провозглашенного превосходства нации. Более того, в случае национального государства это еще и мобилизует общественную поддержку государственной власти и подрывает все другие источники власти, противящиеся навязываемому государством единообразию. С другой стороны, приток в нацию иностранных элементов, особенно когда он облегчается политикой «распростертых объятий», гостеприимством принимающей нации, вызывает сомнение в «естественности» национальной принадлежности и тем самым подтачивает сами основы национального единства. Предполагается, что люди могут менять место пребывания по своей воле. Вчерашние «они» на глазах превращаются в «нас». Это выглядит так, будто национальность — всего лишь дело выбора, результат принятого решения, которое, как и все решения, можно в принципе заменить и даже отменить вовсе. Ассимиляция, если она действенна, четко выявляет сомнительный, произвольный характер нации и национальной принадлежности, т. е. именно то, что национализм пытается скрыть.
Тем самым ассимиляция взращивает озлобленность против тех самых людей, которых культурное завоевание стремилось привлечь и обратить в свою веру. Теперь уже они представляются угрозой порядку и безопасности: они совершили то, что, согласно теории, не должно было бы быть возможным; своими (человеческими) усилиями они добились того, что считалось за пределами человеческой власти и контроля. Они показали, что якобы естественная граница на самом деле является искусственной и, хуже того, пересекаемой. Поэтому-то и трудно согласиться с тем, что их ассимиляция, провозглашенная в качестве цели националистической политики, действительно была успешной и полной. В глазах наиболее подозрительных якобы ассимилированные личности выглядят скорее как оборотни: двуличные, потенциальные предатели, которые лишь притворяются — то ли ради личной наживы или имея в голове еще более низменные цели — теми, кем они на самом деле не являются. И пусть это не покажется парадоксальным, но именно успех ассимиляции подкрепляет мысль о том, что различия как были непреодолимыми, так таковыми и останутся, что «настоящая ассимиляция» фактически невозможна и что создание нации посредством культурного обращения — нежизнеспособный вариант.
В таком случае национализм может отступить на более жесткую и менее уязвимую расистскую линию обороны. В отличие от нации раса воспринимается вполне очевидно и недвусмысленно как естественная вещь, однозначно находящаяся за пределами человеческого влияния и контроля. Понятием «раса» обозначаются такие различия между людьми, о которых нельзя предположить, что они созданы человеком или что они могут быть предметом вмешательства и изменения посредством человеческих усилий. Зачастую понятию расы придается чисто биологический смысл (т. е. оно выражает идею о том, что индивидуальный характер, способности и наклонности тесно связаны с наблюдаемыми, внешними характеристиками вроде формы и размера черепа либо других частей тела или раз и навсегда предопределены качеством генов). В любом случае это понятие относится к наследственным качествам, передаваемым из поколения в поколение в процессе человеческого воспроизводства. Столкнувшись с расой, образование должно отступить. То, что определено природой, не суждено изменить никакому человеческому разумению. В отличие от нации раса не может быть ассимилирована; она может только «испортить» чистоту другой расы и понизить ее качество. Для того чтобы предотвратить это бедствие, чуждые расы надо отделить, изолировать, а лучше всего — убрать на безопасное расстояние, чтобы смешение стало невозможным, и тем самым оградить собственную расу от «порчи».
Ассимиляция кажется прямо противоположной расизму, и тем не менее у них есть общий источник — стремление воздвигнуть границы, присущее националистической тенденции. И ассимиляция, и расизм представляют два полюса этого внутренне противоречивого источника. В зависимости от обстоятельств в качестве средства достижения националистических целей может быть использована та или другая стратегия. В любой националистической кампании постоянно присутствуют обе, ожидая своей очереди. Они, скорее, не исключают друг друга, а взаимно поддерживают и усиливают.
Национализм черпает свои силы из той роли, которую он играет в установлении и поддержании социального порядка, определяемого государственной властью. Он «конфискует» расплывчатую гетерофобию (т. е. неприятие всего иного, о чем мы говорили в главе, посвященной феномену «чужака») и мобилизует ее на службу государству и на поддержку дисциплины, подчиненной власти государства. Тем самым он делает государственную власть более эффективной. В то же время он и сам использует ресурс государственной власти для формирования именно такой социальной реальности, которая создает новые резервы гетерофобии, а тем самым и новые возможности мобилизации. Поскольку государство ревностно охраняет свою монополию на насилие, постольку оно, как правило, запрещает все частные способы сведения счетов, как, например, расовое или этническое насилие. В большинстве случаев оно также осуждает и даже наказывает частные проявления дискриминации. Государство использует национализм, как и другие свои ресурсы, единственно с целью поддержания социального порядка (т. е. того, который определяется, поддерживается и подкрепляется государством) и одновременно пресекает его стихийные, случайные и, следовательно, беспорядочные проявления. Мобилизационный потенциал национализма затем будет задействован в соответствующей государственной политике, увязывая националистические чувства и патриотические наклонности с государственным интересом предпочтительно недорогим, но престижным способом — ценой экономических, спортивных, военных побед, а также посредством ограничивающих иммиграционных законов, принудительной репатриации и других мер, ясно отражающих и определенно усиливающих популярную гетерофобию.
В большей части мира государство и нация исторически слились; государство использовало националистические чувства для укрепления своей власти над обществом и устанавливаемого им порядка, а попытки создания нации обращались к государственной власти для усиления единства, которое было признано естественным и не нуждалось в принудительном навязывании. Заметим, что факт исторического слияния государства и нации еще не является доказательством неизбежности такого слияния. Приверженность этнической группе, родному языку и обычаям не сводима к политической функции, к которой их привел альянс с государственной властью. Союз между государством и нацией никоим образом не предопределен; он является условным, конвенциональным.
Глава 10 Порядок и хаос
Интересно, хватало ли у вас когда-нибудь терпения в кинотеатре оставаться в кресле после того, как уже промелькнули последние кадры фильма и пошли титры. Если да, то вы наверняка были поражены нескончаемым списком имен людей, или просто функций, которые создатели фильма сочли нужным упомянуть. Вы несомненно узнали бы из этого списка, что число людей, работавших за кадром, во много раз больше, чем тех, чьи лица вы увидели в фильме. Имен невидимых помощников гораздо больше, чем актеров. Более того, некоторые аспекты этого коллективного предприятия обозначались названиями фирм, а каждая такая фирма использует труд гораздо большего числа людей, чем можно упомянуть в каком-либо списке. И это еще не все. Некоторые люди, работа которых была необходима и без которых вы не смогли бы увидеть фильм, вообще не были упомянуты. Например, компания, позаботившаяся об озвучивании ролей, была упомянута, а компания, поставившая оборудование для озвучивания, — нет, как и компания, обеспечившая комплектующими другую компанию, производящую оборудование; не были упомянуты и фабрики, произведшие сырье для изготовления этих комплектующих, равно как и бесчисленное множество людей, чей труд был необходим для того, чтобы те, кто производит сырье или комплектующие, были накормлены, одеты, здоровы, обеспечены жильем, чтобы они приобрели навыки, необходимые для их работы…
Назвать или хотя бы косвенно упомянуть всех их — дело совершенно немыслимое. Поэтому кто-то должен решить, где прервать список упоминаний; и каким бы это решение ни было, оно в любом случае было бы произвольным. Черту можно было бы подвести в любом другом месте и с той же легкостью (при наличии простейшего обоснования или вовсе без оного). Любая черта, сколь бы тщательно ни выбиралось место для нее, всегда будет вынужденной, случайной, вероятностной и по этой причине всегда будет предметом споров. Спор, каким бы горячим он ни был, останется незавершенным в силу того очевидного факта, что никакая граница, сколь бы скрупулезно ее ни проводили, не отражает «объективной истины» (объективно существующих разделений, которые она предполагает отразить). Ни одно собрание людей, ограниченное этой чертой, не может считаться вполне самодостаточным, в данном случае — достаточным для производства фильма; сама по себе его «реальность» как полного, замкнутого коллектива является результатом ограничивающего действия. Совокупность людей, задействованных в производстве одного-единственного фильма, практически не имеет границ (точнее, она не имела бы границ, если бы не факт произвольного подведения черты). Для того чтобы еще больше усложнить задачу проведения границ, заметим: вообще невозможно четко отделить все то, что эти люди сделали для фильма, от остальной их жизни; их вклад в производство фильма — лишь один из аспектов их жизнедеятельности, в которой есть и другие интересы, очень слабо соотносящиеся, если вообще соотносящиеся, с той ролью, которую они сыграли в производстве фильма. Принимая решение, где прекратить список выражения признательности, некто делает искусственное разделение в двух смыслах. С огромной массы взаимопересекающихся жизней взаимозависимых индивидов был сделан тонкий срез, который, поскольку он был отделен от остального, казалось, имеет «свою собственную реальность»: с одной стороны, он представлялся самодостаточным, а с другой — внутренне скрепленным общей целью и функцией. Однако на самом деле все обстоит не так.
Дело в том, что все якобы независимые и автономные образования, все на первый взгляд «самоуправляющиеся», жизнеспособные подразделения человеческого мира имеют сомнительную и уязвимую природу: все они являются результатом отчаянных попыток обособить четко обозначенные, управляемые маленькие мирки, выделить их из несвязной и не имеющей границ, протяженной и нераздельной реальности. В случае с титрами в конце фильма операция такого обособления не имела особо значимых последствий. В худшем случае она могла привести к тяжбе, если бы не упомянутые помощники захотели потребовать восстановления справедливости, публичного подтверждения значимости их услуг. Но этот случай дает нам пример гораздо более серьезного затруднения, известного своими отнюдь не безобидными проявлениями. Представьте себе попытки провести четкие государственные границы, которые вобьют клин между людьми, имеющими тесные экономические и культурные связи, а людей, до этого имевших мало общего, поместят в одинаковые условия. Или представьте себе меры, предпринимаемые для сохранения брака, но упускающие из виду все многообразие взаимозависимостей, в которых участвуют оба партнера и в которых семейные отношения — лишь одни из многих, причем не независимые и даже не основные.
Как можно предположить, такие попытки прочертить, установить и охранять искусственные границы становятся предметом все возрастающего интереса (пока в конце концов не превратятся в навязчивую идею) по мере того, как «естественные», т. е. прочно установленные, крепкие и не поддающиеся изменениям, различия и расстояния стираются и исчезают, и человеческие жизни (даже те, что находятся на огромном географическом или духовном расстоянии друг от друга) оказываются связанными между собой еще прочнее. Чем менее «естественна» граница, тем чудовищнее ее давление на сложную реальность, тем большего внимания и осмысленных усилий требует ее охрана, тем чаще она вынуждает прибегать к насилию и принуждению. Самыми спокойными и менее всего охраняемыми государственными границами являются те, которые совпадают с территориальными пределами поселения внутренне единого и «обращенного вовнутрь» населения. Государственные границы, проводимые через области частого и интенсивного экономического и культурного взаимообмена, нередко служат предметом споров и даже вооруженной борьбы. Возьмем другой пример: как только сексуальные взаимоотношения начинают все больше отделяться от эротической любви и от устойчивых, многосторонних взаимоотношений сожительства, к которым они «естественно» принадлежали, так сразу они становятся предметом растущего беспокойства, требующим особой изобретательности и психологического напряжения, вдруг оборачивающегося насилием.
Можно сказать, что значение разделения, принудительности, с которой оно проводится и защищается, растет вместе с его хрупкостью и степенью ущерба, который оно наносит сложной человеческой реальности. Когда убеждаются в том, что разделение вряд ли примут на веру, за него сражаются изо всех сил; эта борьба за непроницаемость границ становится тем более угрожающей, чем менее она способна достичь своей цели.
Такую ситуацию многие считают наиболее отличительной чертой современного общества — общества, которое установилось в нашей части мира около трех столетий назад и в котором мы живем по сей день. В условиях, предшествовавших этому периоду (о которых часто говорят как о «до-современных»), сохранение различий и разграничений между разными категориями людей привлекало меньше внимания и вызывало меньше активности, чем сегодня, именно потому, что различия воспринимались как естественные, не зависящие от осознанных усилий со стороны человека. Они казались самоочевидными, вечными и неизменными, не поддающимися человеческому воздействию, а уже тем более не казались сотворенными человеком. Наоборот, они воспринимались как часть «божественного Космоса», где все и вся имело свое место и было обречено оставаться там всегда. Благородный человек был благородным по рождению, и ничто из того, что он делал, не могло лишить его этого качества или сделать его чем-то иным. То же относилось и к крепостным и большей части горожан (единственной лазейкой сквозь непроницаемые границы были война и религиозная деятельность; это обстоятельство обусловило пристальное внимание к профессиям священнослужителя и солдата, а также к построению, защите и развитию церковной и военной иерархий). И в самом деле казалось, что человеческая жизнь основательно обустроена, как и все остальное в мире, поэтому считалось, что нет причин различать «природу» и «культуру», «человеческие» и «естественные» законы, природный и человеческий порядок. Оба казались высеченными из единого прочного, нерушимого монолита.
Примерно к концу XVI в. в Западной Европе эта гармоничная и целостная картина мира начала рушиться (в Англии данный процесс пришелся на период после правления Елизаветы I). Поскольку число людей, не вписывавшихся четко ни в одну из установленных ячеек «божественной цепочки бытия» (а следовательно, и объем тех усилий, которые предпринимались, чтобы отнести их к строго определенным, тщательно соблюдаемым позициям), резко возрастало, постольку, естественно, ускорились темпы законодательной деятельности, в частности были приняты кодексы, регулирующие даже те сферы жизни, которые с незапамятных времен были предоставлены себе самим; кроме того, были созданы специальные органы для надзора, присмотра и защиты правил, для предупреждения нарушений и обезвреживания преступников. Социальные различия и неравенство стали предметом анализа, преднамеренного планирования и целеполагания и, наконец, осознанных, организованных и специализированных усилий. Постепенно становилось очевидным, что в отличие от леса, моря или поля социальный порядок является результатом человеческой деятельности, что он не может долго существовать, если его постоянно не поддерживать мерами, которые могут быть и должны быть спланированы и предприняты только людьми. Различия между людьми уже не рассматривались как «естественные». Коль скоро они — результат человеческой деятельности, то их можно улучшать или ухудшать. И что бы там ни было, они были и будут произвольными и искусственными. Таким образом, человеческий порядок стал восприниматься как предмет искусства, познания и технологии.
Это новое видение резко разделило природу и общество. Можно сказать, что природа и общество были «открыты» одновременно. В действительности же, если что-то и было открыто, то вовсе не природа или общество, а именно различие между ними, особенно различие между практикой, сопряженной с обществом, и практикой, связанной с природой. По мере того как условия человеческого существования все больше закреплялись законодательно и становились продуктом управления и обдуманной манипуляции, «природе» все более отводилась роль огромного хранилища, которое вмещало в себя все то, что еще не успели или не намеревались подчинить себе человеческие силы; иными словами, под «природой» подразумевалось все, что управлялось согласно собственной логике и что люди оставили на произвол судьбы. Философы заговорили о «законах природы» по аналогии с законами, которые оглашали короли или парламенты, хотя и отличали первые от последних. «Естественные законы» рассматривались как подобные законам королей (т. е. они столь же обязательны и чреваты карательными санкциями), но, в отличие от королевских указов, у них не было вполне определенного автора (т. е. их сила была сверхчеловеческой независимо от того, были они установлены Божьей волей для непостижимой цели или они причинно обусловлены, с абсолютной необходимостью детерминированы непосредственно тем порядком, который господствует во вселенной).
Идея порядка как регулярной последовательности событий, как гармоничного сочетания хорошо прилаженных частей, как ситуации, в которой все остается таким, каким и должно быть, появилась не в современную эпоху. Определенно современными являются интерес к порядку, понимание необходимости что-то делать для этого, страх перед тем, что если это «что-то» не будет сделано, порядок рассыплется в прах, превратится в хаос. (При этом под хаосом имеется в виду неудачная попытка упорядочить вещи; таким образом, положение дел, отличное от предполагаемого и устанавливаемого порядка, представляется не как другой порядок, а как отсутствие какого бы то ни было порядка вообще. Таким беспорядочным его делает неспособность наблюдателя контролировать поток событий, получать требуемую реакцию среды, предотвращать, устранять нежелательные или незапланированные ситуации, происшествия, короче говоря — неопределенность.) В современном обществе только чуткое отношение к человеческим делам может занять прочное место между порядком и хаосом.
И все же, как мы видели, границы любого участка в сети взаимозависимостей, любого составного, но отдельного действия, отсеченного от универсума жизнедеятельности, являются произвольными и потому прозрачными, легко проницаемыми и спорными. Управление порядком (всегда частичным) является тем самым неполным, далеко не совершенным и вынужденным постоянно оставаться именно таковым. Существует много внешних зависимостей, не объяснимых человеческими целями и устремлениями, которые сметают искусственно проведенные границы и вмешиваются в планы любых правителей. Спланированный и управляемый участок оказывается не более чем замком на песке, шалашом, продуваемым всеми ветрами, или, еще точнее, водоворотом в бурной реке, который, сохраняя свою форму, постоянно меняет свое содержание.
В лучшем случае мы можем говорить лишь об островках порядка (непостоянных и хрупких), разбросанных в огромном море хаоса (т. е. незапланированного и неоформленного потока событий). Самое большее, чего могут достичь попытки устройства порядка, — это относительно автономные субтотальности (отмеченные несколько большим перевесом центростремительных сил над центробежными, несколько большей интенсивностью внутренних связей и несколько меньшей значимостью внешних ограничений). Преимущество внутренней стойкости над внешними потрясениями всегда относительно и никогда не бывает абсолютным. А это значит, что победа порядка над хаосом никогда не бывает полной или окончательной. Борьба никогда не прекращается, поскольку ее предполагаемая цель в принципе не достижима.
Говоря это, мы делаем не более того, что выводим общие заключения из наблюдений некоторых случаев, рассмотренных в предыдущих главах. Вспомним то затруднение, с которым сталкиваются попытки втиснуть всех людей, попадающих в орбиту территориального образования или организации, в рамки строго разграниченных категорий, классифицировать их либо как «мы», либо как «они», как своих или чужих, как врагов или друзей. Мы видели также, что самые искренние попытки добиться ясности в этих разграничениях заканчиваются неудачей, поскольку всегда остается довольно большое число людей, которые находятся и не внутри, и не снаружи, т. е. чужаки, чье присутствие меняет всю картину и лишает ясности поведенческие ориентиры. Именно потому, что ни одна дихотомия, т. е. двусторонняя классификация, не соответствует сложности человеческих ситуаций, сама попытка навязать такие «пары» бесконечно многообразной реальности несет в себе изрядную долю двусмысленности — она-то и сохраняет опасность хаоса и постоянно отодвигает завершение задуманного порядка. Или вспомним затруднения, с которыми сталкивается любая бюрократическая организация, когда пытается подчинить поведение своих членов одной-единственной, определенной начальством цели и вычеркнуть все остальные мотивы и желания, какие только они смогут принести из других группировок, где они проводят свою жизнь помимо организации; или вспомним безнадежное стремление свести все человеческие отношения внутри самой организации к ситуациям обмена, способствующим достижению организационной задачи, и не позволять личным амбициям, ревности, симпатиям, дружелюбию или нравственным порывам нарушать исключительную концентрацию на одной-единственной цели, спускаемой с вершин бюрократической иерархии. Как мы видели, даже самые энергичные попытки в этом отношении не могут не закончиться неудачей — не могут воплотить в жизнь этот яркий, гармоничный образ, изначально закладывавшийся в организационную структуру. Отсюда и постоянные жалобы на ненадежность, двурушничество, неподчинение, предательство.
Попытки сконструировать искусственный порядок в соответствии с идеальной целью обречены на провал. Они всегда оставляют в воображении островки относительной автономии и в то же время преобразуют территорию, смежную с искусственно выделенными островками, в серое пространство двойственности, амбивалентности. По этой причине такие попытки должны постоянно возобновляться и вряд ли когда-нибудь прекращаться. Амбивалентность (как сущность беспорядка, хаоса) есть неизбежный результат всех без исключения классификаций, т. е. обращения с объектами реальности так, словно они и в самом деле отделены друг от друга и дискретны, будто они не выходят ни за какие рамки и, наконец, принадлежат только к одному подразделению. Амбивалентность проистекает из предположения, что люди, наделенные множеством качеств, могут быть четко разделены на тех, кто внутри, и тех, кто снаружи, на полезных и вредных, соответствующих и несоответствующих или что они, по меньшей мере, должны быть подразделены. Любая дихотомия как противопоставление неизбежно порождает амбивалентность; или, говоря иначе, не было бы амбивалентности, если бы не дихотомическое представление, по необходимости связанное со всяким стремлением к порядку.
Дихотомичное представление по принципу «либо — либо» само по себе является продуктом стремления к относительно автономному замкнутому пространству, над которым может осуществляться тотальный и вездесущий контроль. Поскольку любая власть имеет свои пределы, поскольку контроль над вселенной в целом не в человеческих силах и ускользает даже от самых дерзких человеческих устремлений, постольку установление порядка на практике всегда означает обособление сферы порядка от беспорядочного окружения, от «естества», проведение границы вокруг островка порядка в безбрежном море хаоса. Весь вопрос в том, как обеспечить это обособление, как построить тот забор или прочную плотину, которая предохранила бы остров от затопления морем, как остановить поток неопределенности. Установление порядка требует искусства ведения войны против неопределенности. Установить порядок — значит пойти войной на двусмысленность.
На любом относительно автономном островке порядка следят за тем, чтобы все делалось однозначно (т. е. поддерживают такую ситуацию, когда каждое название соотносится со строго определенным типом объектов, а каждый объект имеет название, сразу узнаваемое и не смешиваемое ни с чем). Для этого надо, конечно, чтобы все другие значения, «другие способности», незапланированные признаки, вещи и слова были запрещены, подавлены, объявлены неуместными или оставлены вне поля зрения. Для того чтобы достичь этой двойной цели, критерии классификации должны быть такими, чтобы можно было контролировать их и принимать решения на их счет из единственного места — из которого правят и дают распоряжения (заметим, что монополия правителей, т. е. их исключительное право решать, где проводить границу между внутренним и внешним, единственно их компетенция определять все, что подлежит их усмотрению, эта монополия является необходимой предпосылкой поддержания порядка и предотвращения неопределенности; возможно, она служит и их мотивом). Критерии, исключающие такой централизованный контроль, объявляются незаконными, предпринимаются попытки устранить их из практики, нивелировать или каким-либо другим способом нейтрализовать действие. Неопределенность — это враг, против которого хороши все средства принуждения и символического насилия. Вспомним борьбу, которую ведут блюстители любой ортодоксии против еретиков и диссидентов! Вспомним и то, что эта борьба намного более жестока и беспощадна, чем борьба с объявленными врагами — язычниками или неверными!
На карте проводится воображаемая линия. Затем ее называют «государственным рубежом». Вдоль него ставят вооруженных людей для предотвращения «незаконного» пересечения его. Эти вооруженные люди одеты в униформу, благодаря которой любой может признать в них уполномоченных лиц, т. е. тех, кто имеет право решать, кому позволено, а кому не позволено пересекать рубеж. Однако отнюдь не эти люди являются настоящими стражами. Они действуют как посредники, как представители другой власти, находящейся где-то в столице страны, границы которой они охраняют. Именно эта власть и решает, кто имеет право пересекать границу, а кого следует задержать и отправить обратно. Эта власть выдает паспорта лицам первой категории и составляет черные списки неблагонадежных из лиц второй категории. Эта власть поступает так, как поступают все власти: она пытается аккуратно разделить на две взаимоисключающие группы огромное количество людей, чьи личностные характеристики никоим образом не исключают друг друга и чьи различия (равно как и сходства) разнообразны до бесконечности. Благодаря неусыпной бдительности этих властей и множества посредников, выполняющих их волю, поддерживается сомнительное тождество государства как сообщества людей, объединенных одним качеством — «подданные государства». Человек либо принадлежит, либо не принадлежит к этому сообществу, третьего не дано, — никакого промежуточного статуса, никакой двусмысленности.
Один и тот же образец повторяется до бесконечности. Когда вы видите вооруженных людей в униформе и на страже, то это задействован именно такой образец. Иногда, чтобы быть принятым внутри, вы должны показать удостоверение личности, которое отличает вас, скажем, известного и надежного болельщика этой футбольной команды, от всех не удостоверенных участников игры; или показать приглашение, подтверждающее то, что хозяева хотят видеть вас в качестве гостя на своем вечере; или членский билет, определяющий вас как «одного из нас», т. е. членов клуба; или студенческий билет, подтверждающий ваше право на чтение книг в университетской библиотеке в отличие от мошенника или случайного посетителя, просто пришедшего взглянуть на интересные книги… Если вы не сможете предъявить такой билет, паспорт, приглашение и т. п., то вас, по всей вероятности, выставят за дверь. Если же вам каким-либо образом удастся проникнуть внутрь, но вас обнаружат, то в лучшем случае попросят удалиться. Пространство было зарезервировано для особого рода людей, которые следуют одним и тем же правилам, соблюдают одну и ту же дисциплину и подчиняются одной и той же власти. Ваше непрошенное присутствие подрывает ее устои. Относительная автономность образования, контролируемого этой властью, может быть принижена и извращена не поддающейся «приручению» двусмысленностью, если эту автономность отдать на произвол тех сил и влияний, которые делают взаимодействия случайными и потому далекими от регулярности и порядка. Вообще государство или какие-либо другие организации могут поддерживать и защищать свой особый, всегда непрочный, порядок (а тем самым и свое тождество, относительную автономию) в течение лишь некоторого, строго определенного времени — до тех пор, пока стражи остаются на местах, пока некоторые люди или их некоторые личностные характеристики надежно упрятаны за охраняемыми воротами.
Закрыть эти ворота физически или закрыть физические границы не просто, хотя, по крайней мере технически, — дело вполне ясное. А вот раскалывание человеческой личности на части, допустимые и не допустимые внутри границ, ограничение коммуникаций — задачи куда более сложные. Добиться преданности организации (означающей отказ или подавление всех остальных привязанностей) весьма трудно, обычно это требует самых изощренных уловок. От сотрудников фирмы или компании могут потребовать отказаться от членства в профсоюзах или политических движениях; им могут запретить обсуждать дела организации с людьми, которые к ней не принадлежат (если же сотрудники нарушат это правило, то, сравнив суждения и мнения этих «посторонних» с официальным мнением начальства, могут обнаружить, что последнее не столь уж безупречно, как им внушают). Вспомните пресловутый «Акт об официальных секретах», запрещающий государственным служащим обнародовать информацию о деятельности и намерениях государственных органов, даже если популяризация этой информации отвечает общественным интересам, т. е., по определению, интересам тех людей, которые не состоят на государственной службе. Именно потому, что организации стремятся затормозить поток информации, единство личности и личных связей, простирающихся за искусственные границы, представляется как опасная неопределенность, а поэтому, с точки зрения организации и ее начальников, становится самой опасной угрозой порядку. Охрана секретов порождает шпионов и предателей или, скорее, она обозначает, квалифицирует некоторые в других отношениях невинные и «естественные» человеческие действия как предательские и подрывные.
Сфера неопределенности, неизбежно окружающая все искусственно проведенные границы, и стратегии, разработанные для ее искоренения или подавления, не являются единственным следствием территориальной или функциональной (всегда относительной и непрочной) автономии. Естественная сеть связей и зависимостей разрывается на части, общение через искусственно воздвигнутые границы сводится на нет, и в результате проведение границ оборачивается многочисленными побочными последствиями, которых никто не предвидел, не просчитывал и не желал. То, что кажется правильным, рациональным решением проблемы с точки зрения одного относительно автономного образования, само по себе становится проблемой для другого образования. А поскольку эти образования, вопреки их собственным представлениям, тесно взаимосвязаны, постольку задача разрешения проблемы ложится в первую очередь непосредственно на самого действующего субъекта. Его деятельность ведет к незапланированным и непредсказуемым сдвигам в общей ситуации, которые делают последующее решение начальной проблемы более затратным, чем предполагалось, или даже вовсе невозможным. Самым ярким примером таких побочных эффектов является нарушение экологического и климатического баланса на планете, которое угрожает, как опасаются, существованию всех стран и народов независимо от их удаленности от ограниченной территории, охватываемой деятельностью и замыслами тех, кто принимает решения. Природные ресурсы земли истощаются, делая проблемы еще более тяжелыми, а их разрешение — все более сложным. Промышленные предприятия загрязняют воздух и воду, создавая множество невероятных осложнений для тех, кто отвечает за здоровье людей и развитие городов. Пытаясь сделать свое производство более эффективным, компании значительно рациональнее используют рабочую силу, а в результате, избавляясь от излишка рабочих, они прибавляют к упомянутым проблемам хроническую безработицу, нищету и заброшенные районы. Огромное увеличение числа частных автомобилей, шоссе, аэропортов и самолетов, казавшееся решением проблемы мобильности и передвижения, имеет следствием автомобильные пробки, загрязнение воздуха, шум; оно ведет к такой централизации культурной жизни и услуг в одних местах, что необитаемыми становятся целые локальные поселения в других — там разрушаются целые населенные районы. Перемещение теперь становится более необходимым (место работы, как правило, достаточно отдалено от места проживания) или более притягательным («убежать от всего этого» хотя бы на несколько выходных дней), чем когда-либо раньше, и в то же время — более трудным и изматывающим. В общем и целом автомобили и самолеты неожиданно усилили и обострили ту самую проблему, которую они были призваны решить, а обострив ее, они ни на йоту не приблизили ее решение. Как бы там ни было, но они ограничили коллективную свободу, которую обещали расширить.
Такая тупиковая ситуация кажется всеобщей, и из нее нет очевидного выхода. Она заложена в самой относительности автономии любого образования, искусственно вырванного из единого целого, связующего всех людей с обитаемым миром. Автономия в лучшем случае может быть частичной, в худшем — просто воображаемой: зачастую автономия мерещится только потому, что мы слепы или добровольно закрываем глаза (это меня не касается; это не мое дело; разве я сторож брату моему? всяк сам за себя и к черту отстающих) на разнообразные и далеко идущие связи между всеми действующими субъектами и между всеми их действиями. Число факторов, принимаемых во внимание при планировании и осуществлении решения каждой проблемы, всегда меньше, чем сумма факторов, влияющих на ту ситуацию, которая породила эту проблему, или зависящих от нее. Можно даже сказать, что власть как способность устраивать, воплощать и поддерживать порядок заключается именно в умении отодвигать в сторону, не принимать во внимание многие факторы, которые, если их проигнорировать, могут сделать порядок невозможным. Обладать властью — значит, помимо всего прочего, решать, что важно, а что не важно; что пригодится в борьбе за порядок, а что не представляет интереса. Сложность, однако, состоит в том, что это еще не означает устранения таких «неуместных» факторов из реальной жизни.
Поскольку приписывание, определение соответствия и несоответствия чего-то чему-то всегда условно, контингентно (т. е. не существует какого-то исчерпывающего основания для проведения границы соответствия; ее можно провести по-разному), постольку решение может горячо оспариваться, что зачастую и происходит. История изобилует примерами подобных споров. На пороге Нового времени, эпохи модернизации одно из наиболее ожесточенных сражений разгорелось вокруг перехода от патронажа к тому, о чем сокрушались некоторые мыслители того времени и против чего выступали некоторые движения протеста тех лет, — к денежным отношениям. Столкнувшись с бессердечным равнодушием владельцев фабрик к судьбам «рабочих рук фабрики» (само название, которое дали тогда рабочим, содержало в себе намек на то, что именно их руки, и только руки, интересовали владельцев), критики нарождавшейся фабричной системы вспоминали практику ремесленных мастерских и даже сельских мануфактур, которые работали как «одна большая семья», снизу доверху. Хозяин мастерской и сельский сквайр могли быть безжалостными и деспотичными, нещадно эксплуатировать усердный труд своих рабочих, но и рабочие были вправе ожидать от них заботы о своих нуждах и надеяться, что в тяжелый час они выручат их из беды. Рабочие могли надеяться, что им будет обеспечена крыша над головой, помощь в случае болезни или стихийного бедствия и даже некоторое пособие по старости или инвалидности. В явном противоречии с этими старыми обычаями владельцы фабрик ни одно из подобных ожиданий не рассматривали как законное. Они платили своим работникам за труд, выполняемый на фабрике в определенное время, а остальное, как они полагали, — это личное дело каждого рабочего. Критики такой системы и защитники фабричных рабочих возмущались подобным «умыванием рук». Они отмечали, что рутинная, отупляющая, изматывающая работа изо дня в день истощает рабочих физически и опустошает духовно, тем самым глубоко воздействуя на личность рабочих и их семьи, за которые хозяева фабрик снимают с себя всякую ответственность. Кроме того, они подчеркивали, что когда заводские рабочие выбираются из этой молотилки фабричного режима, они превращаются в «человеческие отходы» (и подобно другим частям фабричного продукта из разряда отходов, они рассматриваются как бесполезные с точки зрения производственного плана, как неизбежная составная конечного продукта, которую из-за невозможности дальнейшего прибыльного использования оставляют вне поля зрения, обходят заботами и, в конце концов, просто выбрасывают вон). Критики также указывали, что отношения между владельцами фабрик и фабричными рабочими в действительности не ограничиваются просто обменом труда на заработную плату: труд не может быть отсечен и изолирован от личности работника так же, как сумма наличных отсекается от личности хозяина. «Отдать свой труд» означает подчинить всю личность, тело и душу, задаче, поставленной хозяином, и напряженному ритму, задаваемому хозяином. Хотя хозяева, полностью сконцентрировавшие свое внимание на «полезном продукте», вряд ли захотят признать это, от работника в обмен на заработную плату тем не менее действительно требуют отдать всю его личность и свободу. Власть владельцев фабрик над наемными работниками выражалась именно в том, что им сходила с рук эта асимметрия якобы равноценного эквивалентного обмена. Наниматели определяли смысл найма и оставляли за собой право решать, что касается рабочих, а что — нет, т. е. то самое право, в котором они отказывают нанимаемым. Естественно, что борьба рабочих за лучшие условия труда и право голоса в управлении производственным процессом, в определении их собственных ролей и обязанностей в нем должна была превратиться в борьбу против права нанимателей определять границы и содержание порядка, устанавливаемого на фабрике.
Конфликт между рабочими и владельцами фабрик по поводу определения границ фабричной системы — это только один пример противостояния, которое с необходимостью вызывают все определения порядка. Поскольку любое определение контингентно и в конечном счете опирается на чью-либо власть установить его, оно в принципе остается спорным, и действительно, его стремятся оспаривать те, кто пал жертвой его следствий. Время от времени вы слышите горячие споры о том, кто должен расплачиваться, например, за загрязненные запасы питьевой воды, выбросы токсичных веществ или за ущерб, нанесенный ландшафту новой шахтой или железнодорожной магистралью. В принципе такого рода споры могут продолжаться вечно, поскольку не имеют объективного, беспристрастного решения и разрешаются исключительно посредством борьбы властей. Чьи-то отбросы могут вполне стать важным элементом чьих-то жизненных условий. Предмет спора выглядит по-разному в зависимости от того, какое относительно автономное образование выступает точкой отсчета, а его значение полностью зависит от того, какое место оно занимает в данном автономном порядке. Сталкиваясь с множеством зачастую противоположных влияний, предмет спора может приобретать форму, не предвиденную никем заранее и не приемлемую ни для кого.
Под воздействием множества частичных порядков он никем не воспринимается как «мое дело».
В современную эпоху эта проблема все более обостряется, поскольку сила технических инструментов человеческой деятельности значительно выросла, а вместе с ней возросли и последствия их применения. Любой островок порядка становится все более отлаженным, рационализированным, лучше управляемым и более эффективным в своих функциях, но множество таких усовершенствованных частичных порядков имеют результатом общий хаос. Спланированные, целенаправленные, рационально выстроенные и находящиеся под строгим присмотром действия отзываются дальним эхом непредсказуемых, неконтролируемых катастроф. Представьте себе весь ужас предсказываемого парникового эффекта — этого никем не предполагавшегося конечного продукта бесчисленных попыток добыть как можно больше энергии ради большей эффективности и роста производства (каждая такая попытка была прекрасно научно обоснована с точки зрения насущных задач); или представьте себе еще трудно вообразимые последствия попадания в окружающую среду новых генетически выведенных видов живых организмов, из которых каждый в отдельности прекрасно служит своим специфическим целям, но в совокупности они способны изменить экологическое равновесие таким образом, что никто не в силах себе представить будущий кошмар. В конце концов любой выброс в атмосферу токсичных веществ является лишь побочным результатом вполне разумного и честного стремления наиболее рационально (наиболее продуктивно и с меньшими издержками) разрешить специфическую задачу, стоящую перед той или иной относительно автономной организацией. Каждый вновь созданный вирус или бактерия имеет вполне определенную цель и конкретное назначение, например уничтожение особо вредного паразита, который угрожает прибылям фермеров, выращивающих пшеницу или ячмень. Манипуляции с человеческими генами, если это когда-нибудь будет разрешено, точно так же будут нацелены на подобные, очевидно предпочтительные, сиюминутные цели, скажем, на предотвращение последствий или предрасположенности к какой-либо специфической болезни. Во всех этих случаях, однако, изменения ситуации, находящейся «в фокусе» внимания, не могут не повлиять на множество других вещей, остающихся вне этого «фокуса»; эти незапланированные и непредвиденные влияния могут оказаться гораздо более разрушительными, чем изначальная, досадная в прошлом, но уже решенная проблема. Искусственные удобрения, используемые для увеличения урожайности, весьма наглядно представляют эту ситуацию. Брошенные в землю нитраты достигают ожидаемого от них результата — увеличивают урожай. Но дожди смывают добрую половину удобрений в грунтовые воды, создавая тем самым новую, не менее насущную проблему очистки водохранилищ с тем, чтобы вода стала пригодной к употреблению. Новая проблема требует строительства очистных сооружений, в которых наверняка будут использованы новые химические реакции для нейтрализации последствий предыдущих. Рано или поздно обнаружится, что эти новые химические процессы также имеют своими последствиями загрязнения: они создают богатую питательную среду для ядовитых водорослей, которые теперь заполняют водохранилища.
Таким образом, борьба против хаоса продолжается, и конца ей не видно. Но все больше хаос, который должен быть завоеван и покорен, становится результатом целенаправленной, упорядочивающей человеческой деятельности, поскольку решение одних проблем ведет к созданию новых, а каждая новая проблема не может быть разрешена старым способом, т. е. формированием команды, ответственной за поиск и обнаружение наиболее короткого, самого дешевого и «самого разумного» пути решения насущной проблемы. Чем больше других факторов не принимается при этом в расчет, тем более простыми, дешевыми и рациональными выглядят предлагаемые рекомендации.
Подводя итог сказанному, можно заключить: стремление заменить хаос порядком, подчинить доступную нам часть мира правилам, сделать ее предсказуемой и контролируемой вынуждено оставаться незавершенным, потому что само это стремление как таковое является главным препятствием на пути к собственному успеху, поскольку большинство неупорядоченных явлений (нарушающих правила, непредсказуемых и неконтролируемых) суть следствия именно таких узко ориентированных, направленных на решение одной-единственной проблемы действий. Каждая новая попытка упорядочить какую-то часть человеческого мира и сферу человеческой деятельности создает новые проблемы, даже если она и разрешает старые. Каждая такая попытка порождает новые виды неопределенности и тем самым делает необходимыми последующие попытки — с тем же результатом.
Иначе говоря, сам успех современного поиска искусственного порядка является причиной его самых глубоких и настораживающих недугов. Раскалывание неуправляемой целостности человеческой ситуации на множество мелких, непосредственных задач, которые из-за своей малости и ограниченности во времени могут быть отслежены и управляемы, сделало человеческие действия более эффективными, чем когда-либо прежде. Чем более точной, ограниченной и ясно определенной является текущая задача, тем лучше она может быть выполнена. В самом деле, специфически современный способ ведения дел поразительно превосходит любой другой способ, пока он рассматривается в понятиях ценности, соотнесенной с денежным эквивалентом (т. е. в понятиях непосредственного результата, достигаемого при данных издержках). Именно это имеется в виду, когда описывают современный способ действия как рациональный, т. е. продиктованный инструментальным разумом, который соизмеряет фактический результат с предполагавшейся целью и рассчитывает затраты ресурсов и труда. Но все дело в том, что не все издержки учитываются в этих расчетах, а лишь те, что созданы самими действующими субъектами; не все результаты попадают в поле зрения: учитываются те из них, которые соответствуют поставленной задаче, определенной действующими субъектами или для них. Если бы все потери и выигрыши были приняты в расчет (если вообще подобное невероятно претенциозное предприятие можно было бы себе представить), то превосходство современного способа ведения дел выглядело бы менее впечатляющим. Могло вполне оказаться, что конечный результат множества частичных и отдельных рациональных действий является не чем иным, как иррациональностью. А наиболее показательные достижения в разрешении проблем вовсе не уменьшают, а наоборот, увеличивают общее число проблем, требующих решения. Это, наверное, наиболее досадное, но неизбежное внутреннее противоречие стремления к порядку и борьбы против неопределенности, которое составляет отличительную особенность современного общества.
Мы все приучены представлять себе нашу жизнь как совокупность задач, которые нужно выполнить, и проблем, которые нужно разрешить. Мы привыкли думать, что если проблема обнаружена, то задача заключается в том, чтобы точно определить ее и найти способ, как с ней справиться (наша первая реакция на плохое настроение, грусть или подавленность — это вопрос «В чем проблема?», а затем поиск эксперта, который может посоветовать, что с ней делать). Мы полагаем, что как только это сделано, следующим шагом на пути избавления от досаждающей проблемы является отыскание необходимых соответствующих ресурсов и старательное выполнение поставленной задачи. Если же из этого ничего не получается и проблема не исчезает, то мы виним себя в невежестве, нерадении, неспособности (если продолжаем пребывать в плохом настроении, то объясняем его либо собственным неумением справиться с ним, либо неверно установленной причиной такого настроения — мы неправильно истолковали «проблему»), Но никакое разочарование или подавленность не могут подорвать нашу уверенность в том, что любая ситуация, сколь бы ни была она сложна, может быть разъята на конечное число проблем, и с любой из этих проблем можно справиться (сделать ее безвредной или устранить) при наличии должного знания, умения и усилия. Короче говоря, мы уверены, что всю жизнь можно разъять на отдельные проблемы, каждая проблема имеет свое решение, а каждое решение имеет специфический инструмент и метод — их только надо найти.
Эта уверенность делает нас ответственными как за очевидные достижения современности, так и за накопленные тревоги современного общества, которое теперь начинает подсчитывать общую цену научного и технологического прогресса, столкнувшись с опасностями и тупиками, неизбежно сопутствующими этим достижениям. Как мы вкратце рассмотрим далее, эта внутренне присущая современному состоянию неопределенность находит свое точное выражение в том, как мы планируем и ведем свою жизнь.
Глава 11 Приступая к повседневной жизни
Как и вы (надеюсь), я вполне находчивый и изобретательный человек. Я многое что могу делать по дому. Например, я могу починить электрический выключатель, вставить штепсель в розетку. У меня даже есть для этого набор отверток, предохранителей, проводов различного диаметра. Случись так, что я не найду в коробке необходимый мне удлинитель, когда я захочу переставить настольную лампу в другой угол, я знаю, где его взять: существуют специальные магазины с изобилием всего, что может понадобиться электрику. Есть также магазины типа «Сделай сам», где продается все, что может потребоваться для работ по дому. Как-то я зашел в один из таких магазинов и нашел там нужные мне гвозди, чтобы прибить кабель к полу, но пока искал гвозди, заметил и несколько других вещей, которых до сих пор не видел, — инструменты, приспособления, устройства. Каждая из них могла бы, если ее употребить по назначению, что-то добавить к моему образу жизни. Оригинальный переключатель, например, позволил бы мне менять интенсивность освещения. Другой электронный переключатель сам включал и выключал бы свет с восходом и заходом солнца или тогда, когда я его запрограммирую. Никогда прежде я не пользовался такими приспособлениями, но они приятно удивили меня. Я с интересом прочел буклеты, описывающие их применение и эксплуатацию, купил их и установил у себя в доме. Однако чинить их оказалось гораздо труднее, чем старые переключатели. Если они сломаются, отверткой тут не поможешь. Они запломбированы и не рассчитаны на то, чтобы их вскрывали неспециалисты, вроде меня. Мне пришлось купить другое устройство, заменив им старое. Некоторые вещи продавались с запасными частями, поэтому я мог просто заменить в ней один элемент, не выбрасывая ее всю.
Все это пригодилось мне не раз, когда речь шла об электричестве, и прежде всего ночью, чтобы не сидеть в темноте, но и во многих других случаях тоже. С годами количество разных приспособлений существенно возросло. Я еще помню, например, как я стирал свои рубашки в тазу. Теперь я закладываю их в электрическую стиральную машину. Несколько лет назад я приобрел автоматическую стиральную машину и с тех пор стал покупать специальный стиральный порошок для таких машин (я не припомню, чтобы такой порошок продавался до того, как эти машины стали автоматическими). Год назад я перестал мыть посуду руками в раковине, потому что купил электрическую посудомоечную машину и, естественно, флакон специальной жидкости для нее. Пару дней назад что-то случилось с моей посудомоечной машиной, и я оказался в весьма затруднительном положении. Помыть посуду после небольшого приема гостей — раньше я делал это множество раз — оказалось для меня совершенно непосильной работой… В еще большем затруднении я оказался, когда вышла из строя моя электробритва. Я уже забыл, как можно было обходиться без нее. Я ходил небритым целых два дня, пока не нашел магазин, где продавались запчасти для бритвы определенной модели.
А эта незабываемая общенациональная забастовка, когда в течение нескольких часов не было электричества. Это был поистине кошмар; радио молчало, на экране телевизора ничего не было. Я не знал, чем заполнить вечер. Книги? Оказалось, что мои глаза не привычны читать при свечах. А затем отключились и телефоны. Мои друзья и коллеги оказались вдруг невероятно далеки и недосягаемы. Мой мир практически разрушился… Я помню ужасное чувство покинутости в этом мире; простые вещи, которые я привык делать день за днем, ни на секунду не задумываясь о них, вдруг превратились в сложнейшие задачи, с которыми я не знал, как справиться.
Теперь, когда я все это сказал, я снова начинаю задумываться над тем, что было сказано вначале, а именно, что я находчивый и изобретательный человек и могу делать все необходимое мне в повседневной жизни. Теперь уже все эти вещи не кажутся мне такими уж простыми. Мои навыки, которые, как мне казалось, придавали мне столько уверенности в себе, вовсе не сделали меня независимым. Я стал заложником магазинов, заводов, выпускающих электротовары, бесчисленных изобретений экспертов и дизайнеров, приспособлений, которые они изготавливают, инструкций и рекомендаций, которые они составляют. Я не могу жить без них.
Оглядываясь назад, я вижу, что моя зависимость от них с годами становилась все сильнее. Когда-то давно я пользовался простой «опасной» бритвой. Конечно, я не могу сам изготовить бритву, но однажды приобретя ее (отец дал мне мою первую бритву — одну из двух, которыми он почти всю жизнь пользовался изо для в день), я мог легко наточить ее и вообще содержать в порядке, постоянно готовой к употреблению. Вскоре модными стали безопасные бритвы, и мой старый надежный инструмент вдруг стал казаться мне топорным, вовсе не таким уж удобным в употреблении и даже чем-то непристойным, как будто пользование им делало меня старомодным и отсталым. Но безопасные бритвы тупились, а заточить их уже было нельзя, во всяком случае, я не мог этого сделать. И теперь мне приходится постоянно помнить о том, чтобы периодически покупать новые. В магазинах было много разных видов безопасных бритв, и мне нужно было употребить всю свою смекалку, чтобы выбрать лучшую. Я чувствовал, как моя свобода выбора растет; и все же я мог купить какую-то одну. В конце концов, я должен бриться каждый день. Позднее появились электробритвы, и старая история повторилась. В считанные дни безопасные бритвы утратили свою привлекательность; казалось, они мало что могут предложить по сравнению с прекрасным новым приспособлением. И вновь я оказался перед выбором: какую электробритву мне купить — у меня еще не было никакой. В самом деле, не буду же я ломать свою привязанность к устаревшим вещам? Наконец, я сдался и купил электробритву. Но теперь я не могу бриться, если нет электричества. Не могу я и починить мою бритву или заменить в ней какую-то деталь, если она испортится, — мне требуется помощь эксперта-механика.
На каждом шагу я должен приобретать новые навыки, и я успешно их приобретаю. Я могу гордиться собой, как, так сказать, искусным оператором самых современных технических средств. Но на каждом шагу мне нужен все более сложный «технологический объект» для применения своих навыков, однако с его появлением я все меньше понимаю, как он работает; все меньше у меня знаний о том, что у него внутри; все меньше я могу заставить его работать, если в нем что-то ломается. Для того чтобы делать то же, что и раньше, мне нужны все более изощренные орудия — они стоят теперь между моими намерениями и их исполнением. Я уже не смог бы действовать без этих инструментов, я забыл, как обходиться без них. Мои новые навыки, сосредоточенные на новых инструментах, вытеснили мои прежние способности. Вместе с более простыми орудиями прошлого ушли и былые навыки. Насколько я помню, способ действия, которым я владел, а потом забыл, требовал гораздо больше сноровки, опыта, внимания и осторожности, чем просто нажатие кнопок в электробритве. Кажется, что трудную работу взяли на себя инструменты, словно мои прошлые навыки перешли в используемые мною инструменты и «заперты» там. Именно поэтому, наверное, так сильна моя зависимость от них.
Во времена моей молодости бритье было чем-то обыденным для каждого. Оно требовало научения (просто чтобы не пораниться), но едва ли кому-то приходило в голову, что это специальный навык, требующий особых знаний, а все, что требовалось для бритья, было у каждого под рукой. Именно благодаря такому универсальному распространению этого навыка не было надобности в экспертах по процедуре и технологии бритья. Сейчас все изменилось.
Процесс бритья стал предметом тщательного научного изучения. Сначала он был подразделен на составные части, и каждая часть исследовалась детально, будь то чувствительность различных типов кожи или угол роста волос на различных участках лица, соотношение между направлением движения лезвия и скоростью сбривания волос и т. д. Затем каждая проанализированная часть процесса была представлена как проблема со своими внутренними особенностями, которые следует учесть; следовательно, каждая проблема требовала решения. Далее начали предлагаться различные варианты решения, которые проверяли экспериментально, сравнивали; в результате из множества решений было выбрано одно, которое сочли наилучшим (поскольку оно более эффективно или наиболее привлекательно и потому его легче продать), а затем решения всех проблем были соединены и, наконец, был получен конечный вариант устройства. Десятки специалистов, каждый из которых представляет в высшей степени специфическую область экспертного знания, участвовали в создании конечного продукта; они работали в исследовательских коллективах, занятых одним единственным вопросом — бритьем — и потому способных исследовать его настолько глубоко, как не может никто из обычных людей, вроде вас или меня, желающих лишь, чтобы их лица были чистыми и аккуратными в течение рабочего дня.
Точно так же обстоит дело и со всем остальным: мытьем полов, стрижкой газонов, подрезанием живой изгороди, приготовлением пищи или мытьем посуды. Во всех этих функциях экспертиза, заключенная в технических изобретениях и устройствах, перехватила, отшлифовала и заострила навыки, которыми когда-то пользовались. Теперь для того, чтобы сделать что-то, нам нужны экспертиза и технология. Нам также надо заменять старые, устаревшие и забытые навыки новыми, а именно навыками нахождения и оперирования соответствующими техническими приспособлениями.
Не все технологии, которыми мы пользуемся сегодня и без которых уже не можем обходиться, просто заняли место, подготовленное им работой, которую мы выполняли сами до их изобретения. Есть много вещей, существенных в нашей жизни, которые мы никогда не могли бы выполнить без технологий, делающих их возможными. Вспомните радио, музыкальные центры, телевизоры, персональные компьютеры. Их появление открыло для нас новые возможности, ранее вообще не существовавшие. Когда просиживание за телевизором по вечерам еще и не мыслилось, он нам и не был нужен; теперь же мы чувствуем себя обделенными и подавленными, если телевизор выходит из строя. Кажется, у нас развилась потребность в нем. Точно так же не нужны были нам и компьютерные игры до тех пор, пока не стало возможным появление в доме персонального компьютера. Не было нужды и в музыке как постоянном шумовом фоне до создания стереоаппаратуры высшего класса. Представляется, что в таких случаях сама технология создала потребность в себе, т. е. по существу новый тип потребности. Эти новые технологические объекты не заменили старые способы действия; они побудили нас делать то, чего мы раньше не делали, и заставили нас чувствовать себя несчастными, если они оказываются нам недоступными.
Однако неверно было бы считать, что экспертиза и технологии появились в ответ на имеющиеся потребности. Зачастую людям, предлагающим свои услуги и продукты, приходится прежде убеждать нас, что мы действительно нуждаемся в их товарах и услугах. Даже тогда, когда новые продукты предназначены для удовлетворения уже сформировавшихся не подвергаемых сомнениям потребностей (наподобие бритья, которое мы обсуждали), мы можем продолжать удовлетворять их старым привычным способом. если нас не искушают прелестями новых изобретений. В ситуациях, подобных ситуации с бритьем, технология — не просто ответ на потребность. Ее появление никоим образом не было обусловлено некой всеобщей потребностью; скорее потребность была обусловлена доступностью новой технологии. Неважно, была потребность или ее не было прежде, спрос на новые продукты следует за их внедрением.
Что же обусловливает появление все новых, более глубоких и специализированных экспертных знаний и все более изощренных технических устройств? Вероятнее всего предположить, что развитие специальных знаний и технологий является самодвижущимся и самоподдерживающимся процессом, который не нуждается в каких-то внешних причинах. Если группу специалистов обеспечить исследовательскими материалами и оборудованием, то вполне можно быть уверенным, что они выдадут новые продукты и предложения, руководствуясь единственно логикой собственной деятельности в организации — потребностью обойти соперников, доказать свое превосходство или просто общечеловеческим интересом и увлеченностью работой. Продукты, результаты их деятельности, как правило, становятся научно и технологически возможными еще до того, как определено их применение: у нас есть такая технология, как нам ее использовать? А раз она у нас уже есть, то не будет ли непростительно не использовать ее? Решения появляются раньше самих проблем; решения ищут проблемы, которые они могли бы разрешить. Другими словами, чаще всего какая-либо сторона жизни не воспринимается как проблема, как нечто требующее решения до тех пор, пока не появятся специальные знания или технологии, провозглашающие себя решением этой проблемы. Только затем встает задача убедить потенциальных пользователей, что данный предмет действительно обладает потребительной стоимостью. Их надо убедить в этом, иначе они вряд ли станут тратить на него деньги; они не захотят покупать его.
Мы с вами являемся потребителями специальных знаний, будь то в форме устных инструкций или тех, что находятся внутри используемого нами технического устройства. Фактически каждый, включая самих специалистов в любой из многочисленных сфер жизни, находится за пределами узкой области своей специализации. Большинство специальных знаний появляется в нашей жизни непрошено, не спрашивая нашего согласия. Представьте себе, например, невероятно сложную технологию, используемую полицией для обнаружения водителей, превышающих допустимые пределы скорости, или для разгона демонстраций, или для внедрения в группу, деятельность которой рассматривается как нежелательная. Или представьте себе, как используются информационные технологии различными государственными и частными организациями; эти уму непостижимые объемы данных, которые они теперь могут собрать о каждом из нас и хранить просто на случай надобности (и использовать их не обязательно в нашу пользу) в каком-то неопределенном будущем. Подобное использование специальных знаний и технологий, вполне понятно, ограничивает нашу свободу; некоторые варианты выбора оно делает невыгодными или вообще невозможными. Оно усиливает власть любого, имеющего к ним доступ, над нашей свободой передвижения. В крайних случаях использование этих технологий может сделать нас беспомощными жертвами чьих-то произвольных решений. И все же большинство технических новшеств предназначено для нашего личного пользования; они сулят увеличить, а не ограничить наши возможности выбора, сделать нас более свободными и властными над своей жизнью. В таких случаях, хотя мы и становимся более зависимыми от новой технологии, освоив ее, но это происходит не столь непосредственно. По большей части мы приветствуем новые технические возможности как высвобождающие и обогащающие нашу жизнь; они позволяют нам делать то же, что мы делали и раньше, но быстрее и с меньшими усилиями, или вообще позволяют нам делать то, чего до сих пор мы никогда не делали. Мы приветствуем их потому, что уверены в них. И все же нас надо убедить, что эта наша уверенность должным образом обоснована.
Нас надо убедить для того, чтобы мы, так сказать, поверили услышанному, поскольку сами мы ничего знать не можем. Я не знаю, а тем более заранее, действительно ли техническая новинка может удовлетворить мою потребность. (Действительно ли это тот самый напиток, который, будучи подан к столу, сделает мой прием успешным? Неужели этот запах привлечет ко мне — и только ко мне — внимание молодых и красивых мужчин или женщин на улице, в толпе? В самом ли деле этот стиральный порошок сделает все поистине белым и без единого пятнышка, и это сразу всем станет заметно? Сделает ли это людей, чьим вниманием я дорожу, благодарными и благожелательными?) Иногда я даже не знаю, что у меня есть потребность, для удовлетворения которой предназначено предлагаемое технологическое новшество (я не знаю, что, умываясь мылом, я не смою грязь, проникшую «глубоко в поры», если не использую специальную жидкость для протирания кожи; я не знаю, что в моем ковре обитают какие-то ужасно противные жучки, с которыми не может справиться мой пылесос, поэтому мне нужен еще специальный противожучковый порошок для ковров; я не знаю, что на моих зубах накапливается совсем неаппетитное вещество, если я не использую специальную жидкость вот из этой бутылочки для полоскания рта, когда чищу зубы; я не знаю, что мой безнадежно устаревший фотоаппарат смехотворно примитивен и беспомощен, до тех пор пока мне не покажут новый, полностью автоматизированный, который сам наводит фокус, выбирает экспозицию, перемещает кадр и тем самым делает меня, как мне говорят, хорошим фотографом).
Коль скоро мне все это сообщили, я могу пожелать приобрести те вещи, которые, как мне сказано, удовлетворят мои потребности, которые, как мне сказано, у меня есть и нуждаются в немедленном удовлетворении. Раз до меня действительно дошло, что у меня и в самом деле есть эти потребности, то ничего в таком случае не предпринимать кажется неправильным. Если же я все-таки буду продолжать ничего с моими знаниями не делать (теперь, когда я знаю), то такое мое поведение уже не сможет быть мне оправданием. С этих пор ничегонеделание будет свидетельством моего попустительства, незаинтересованности, тупоголовости или нерадения; в любом случае оно нанесет ущерб моему достоинству и лишит меня права на уважение других людей и самоуважение. Я буду чувствовать себя так, словно я не забочусь о своей семье, не способен обеспечить людей, которых люблю, или свое собственное тело, доверенное моему попечительству; мне будет казаться, что я пренебрегаю своим долгом или не могу выполнить его. Я буду чувствовать себя виноватым, пристыженным, униженным. Вдруг все, что я делал раньше, и то, как я это делал, больше уже не представляются удовлетворительными; вполне определенно все это не кажется больше достойным восхищения и гордости. Для того чтобы восстановить уважение к себе других и самоуважение, я в самом деле должен приобрести эти искусные и всемогущие предметы, которые позволят мне делать все должным образом.
Зачастую приобретение означает покупку. Эти чудесные, искусные и всемогущие вещи появляются в основном как товары, т. е. они — предметы рынка, произведены на продажу, проданы, оплачены деньгами. Кто-то хочет продать их мне за деньги, получив прибыль. Но для того чтобы достичь такой цели, этот кто-то должен сначала убедить меня: обладание данным товаром стоит того, чтобы расстаться с деньгами; товар действительно имеет потребительную стоимость, которая оправдывает его меновую стоимость — цену, которую я собираюсь за него заплатить (ну и предлагаемый за эти деньги товар, как мы часто слышим, хороший). Люди, желающие продать свои продукты (сделать их товарами), должны найти, расчистить для них место на переполненном рынке. Они должны представить уже имеющиеся продукты устаревшими, несовременными, неполноценными (кто осмелится пользоваться пишущей машинкой, когда вокруг полно компьютеров?). Подготовив таким образом почву, они должны заняться увещеванием — должны подогревать мое желание использовать их продукт, а тем самым — вызывать у меня готовность пожертвовать многим (больше работать, чтобы больше заработать денег, скопить и больше их потратить) ради обладания им. Этой цели они достигают наиболее эффективно с помощью рекламы (например, на телевидении). Реклама должна иметь результатом две вещи. Во-первых, она должна показать мне, что мое собственное понимание моих потребностей и навыков, их удовлетворяющих, не адекватно; что я не могу достаточно “хорошо судить о том, что мне действительно нужно и что я должен делать. Во-вторых, она должна доказать мне, что есть надежные средства восполнить мое невежество или недостатки суждения, если я буду слушать тех, кто знает лучше. В большинстве случаев коммерческая реклама изображает людей, действующих по старинке, смешными, старомодными невеждами; они встречаются с признанным авторитетом, который, удостоверяя их невежество, показывает и то, как его преодолеть. Таким авторитетом может быть ученый, высококлассный специалист по автоделу, банкир или страховой агент, доброжелательный дяденька, заботливая опытная мать, бывалый умелец в определенного вида работе, для которого предназначается рекламируемый предмет, или просто знаменитость, на которую люди смотрят с благоговением, осознавая при этом, что миллионы других людей делают в это время то же самое. Последний пример показывает, что количество само по себе может обладать признаками авторитета (мы думаем, в конце концов, что «огромное количество людей не может ошибаться» и что «один человек не может долго дурачить всех»); поэтому некоторые рекламы просто информируют нас о том, что большинство людей поступает именно так, что все больше людей переключается на это; что это предпочитает большинство кошек.
Любая коммерческая реклама имеет целью побудить и заставить нас купить определенный продукт. Но на самом деле она развивает наш интерес к товарам, к рынку (универмагам, лавкам), где можно найти товары, и к обладанию ими. Отдельное рекламное сообщение вряд ли оказало бы воздействие на наше поведение, если бы общий интерес уже не был глубоко профилирован и покупка не была бы фактом повседневной жизни. Другими словами, «старания убедить», предпринимаемые рекламными агентствами, взывают к уже закрепленной потребительской установке и в свою очередь усиливают ее.
Что значит иметь и проявлять потребительскую установку? Во-первых, это значит, что жизнь воспринимается как набор проблем, которые можно обнаружить, более или менее ясно определить, вычленить и решить. Во-вторых, это означает быть уверенным в том, что разрешение таких проблем является долгом, который нельзя игнорировать, не навлекая на себя обвинения и позор. В-третьих, это означает иметь веру в то, что любая проблема, уже известная или могущая появиться в будущем, имеет свое решение, т. е. особый предмет или рецепт, составленный специалистами — людьми, обладающими высшим знанием, и что задача заключается в том, чтобы найти его. В-четвертых, это означает предполагать, что данный предмет или рецепт является принципиально доступным, что его можно приобрести в обмен на деньги, а покупка является средством его приобретения. В-пятых, это означает преобразовать задачи овладения искусством жизни в усилия по приобретению навыков поиска таких предметов и рецептов, в обретении власти над ними, владения ими, когда они найдены, т. е. навыки покупки и покупательную способность (надо иметь особую сметку, чтобы найти лучший стиральный порошок и лучшую стиральную машину, чтобы иметь возможность приобрести именно их и таким образом «решить проблему стирки», а не проворные руки и трудолюбие вашей бабушки, которым она могла гордиться).
Шаг за шагом, проблема за проблемой потребительская установка всю жизнь обращает к рынку; любое желание и любое усилие она направляет на поиски инструмента или специального знания, которые можно купить. Она растворяет проблему контроля над обширной жизненной средой (то, чего большинство людей никогда не достигнет) во множестве мелких актов покупки, доступных каждому. Она, так сказать, приватизирует проблемы так, что они уже больше не кажутся открытыми, общедоступными, т. е. публичными, она индивидуализирует задачи настолько, что они уже не представляются общественными. Теперь моим долгом (и, как меня обнадеживают, также посильной для меня задачей) становится улучшать свою жизнь и самого себя, делаться более культурным и утонченным, преодолевать свои недостатки и устранять другие неприятности, сопровождающие мою жизнь. Так, невыносимый шум уличного движения превращается в необходимость вставить двойные рамы. Загрязненный городской воздух связывается с необходимостью покупки глазных капель. Подавленность от рабочих перегрузок жены и матери преодолевается с помощью пакетика анальгетиков и быстродействующих таблеток от головной боли. То, что общественный транспорт приходит в негодность, наводит на мысль о покупке автомобиля, а вместе с тем и об увеличении шума, еще большем загрязнении воздуха и усилении болезненного нервного напряжения, равно как и о еще большем расстройстве общественного транспорта…
В самом деле, именно потребительская установка превращает мою жизнь в мое индивидуальное дело, именно потребительская активность делает из меня индивида (почти всегда люди производят и создают нечто совместно с другими людьми, и только то, что они потребляют, они потребляют в одиночку, в собственное удовольствие). В конце концов кажется, что я состою из множества вещей, которые я покупаю и которыми владею: скажите мне, что вы покупаете, в каких магазинах вы это покупаете, и я скажу, кто вы. Кажется, что с помощью тщательно подобранных покупок я могу сделать из себя все, что пожелаю, все, чем, по-моему, стоит казаться. И как решение моих проблем является моим и долгом, и обязанностью, так и формирование моей личностной идентичности, мое самоутверждение, становление меня неким конкретным человеком являются моими, и только моими, задачами: их выполнение всегда будет испытанием моих намерений, прилежания и настойчивости, и я буду держать ответ за все, что из этого получится.
На рынке представлены самые разные модели того, что я могу сделать с собой: на нем всегда можно выбрать что-то из множества того, за чем гоняются сегодня, а завтра выбор будет еще больше, и еще больше послезавтра. Эти модели поставляются в полном комплекте, со всеми необходимыми частями и деталями и с подробными инструкциями по их сборке — настоящий «набор идентичности». Даже если предложение имеет единичный характер, если специфический продукт адресуется якобы единичной специфической потребности, то все равно в целом он демонстрируется нам на фоне четко изображенного стиля жизни, к которому (как полагается) он естественным образом принадлежит. Только сравните костюм, речь, манеры и даже физическое сложение людей в рекламах, побуждающих нас пить данный сорт пива, с аналогичными характеристиками тех, кто появляется в рекламах изысканных духов, престижных или малолитражных автомобилей, еды для кошек или собак. Вы наверняка обнаружите, что любой продукт имеет свой «адрес». Продается не просто непосредственная потребительская ценность самого продукта, а его символическое значение как неотъемлемая часть особого стиля жизни.
Модели различаются по популярности в разное время: они входят в моду и выходят из моды. Чтобы процесс производства и потребления не останавливался, нельзя допустить затухания покупательского азарта. Если бы мы хранили предметы столько времени, сколько позволяет их предполагаемое использование, то рыночная активность очень скоро сошла бы на нет. Феномен моды предотвращает это. Вещи обесцениваются и замещаются не потому, что утрачивают свою пригодность, а потому, что выходят из моды, т. е. в них по их виду легко узнать товары, выбранные и приобретенные вчерашними покупателями, и тем самым их присутствие вызывает подозрения относительно настоящего статуса их владельца как полноценного и уважаемого сегодняшнего покупателя. Чтобы сохранить этот статус, человек должен поспевать за изменяющимися предложениями рынка. Их приобретение означает подтверждение социального качества, но так будет только до тех пор, пока остальные потребители не начнут делать то же самое, и уже тогда модные вещи, первоначально отличавшие их владельца, становятся «общими» и «вульгарными», готовыми выйти из моды, быть замещенными чем-то другим.
Модели различаются также по степени популярности, которой они пользуются в тех или иных общественных кругах, и по тому уважению, которым данное общественное окружение способно наделить своих представителей. Модели, таким образом, по-разному привлекательны. Выбирая данную модель, покупая все необходимые для нее атрибуты и прилежно исполняя все необходимые действия, я делаюсь членом группы, одобряющей такую модель и принимающей ее как свою торговую марку, как видимый признак своего членства. И больше ничего, или почти ничего, не надо для того, чтобы считаться членом этой группы, кроме выказывания этих признаков: носить специфическую одежду, покупать специфические пластинки и слушать специфическую музыку, смотреть и обсуждать специфические телевизионные программы и фильмы, развешивать на стенах своей комнаты специфические украшения, проводить вечера специфическим образом и в специфических местах и т. д.
Я могу «пристать к племени», покупая и демонстрируя специфические для этого «племени» принадлежности обихода. Это значит, что те «племена», к которым я присоединяюсь в поисках своей идентичности, весьма не похожи на те реальные племена, которые открывают исследователи в дальних странах (по сути дела, они не похожи ни на одну группу, сформированную четко определенным членством, потребностью принимать или исключать членов, контролировать их поведение и удерживать его в рамках групповых стандартов, заставлять членов приспосабливаться к ним). Схожими «племена», к которым присоединяются посредством покупки их символов, и настоящие племена делает то, что и те, и другие отделяют себя от других групп и невероятно суетятся, чтобы подчеркнуть свою особую идентичность и предотвратить смешение; и те, и другие наделяют идентичностью своих членов — определяют их по доверенности. На этом сходства заканчиваются и начинаются существенные расхождения: «племена» (назовем их во избежание недоразумений неоплемена) ничуть не заботятся о том, кто считает себя их членом. Они не создают советов старейшин, учреждений или приемных комиссий, которые решали бы, кто имеет право быть принятым, а кого следует держать подальше. Они не нанимают ни швейцаров, ни пограничников. У них нет ни института власти, ни верховного суда, который мог бы выносить решения относительно правильности поведения их членов. Короче говоря, они не контролируют своих членов и не следят за тем, в какой степени те приспосабливаются к группе. Таким образом, к неоплеменам можно присоединяться и покидать их по собственной воле, можно свободно перемещаться из одного неоплемени в другое (т. е. надевать и снимать ту идентичность, в которой и заключается племя), просто переодеваясь, меняя обстановку в квартире и проводя свободное время в другом месте. Неоплемена держат свои двери (если они вообще у них есть) широко открытыми.
Или это только так кажется. Если сами неоплемена и не заботятся об охране входа, то есть некто, кто это делает, — рынок. Неоплемена по сути своей являются стилями жизни, а стили жизни, как мы с вами видели, почти всецело сводятся к стилям потребления. Доступ к потреблению, причем к потреблению в любом стиле, осуществляется через рынок, через акт покупки рыночного товара. Очень мало вещей потребляются без предварительной покупки, и такие бесплатные потребительные стоимости, которые не были приобретены как товары, в большинстве случаев не используются в качестве строительного материала для известных стилей жизни. Если некоторые из них и способствуют определению специфического стиля жизни, то на такой стиль смотрят свысока, как на лишенный блеска и престижа, как на презренный, непривлекательный и даже оказывающий деградирующее воздействие на людей, его практикующих. (Так происходит с большинством тех, кто из-за нехватки средств ограничен в своей свободе выбора, кто не может выбирать все, что угодно, кто обречен ограничивать свое потребление тем, за что не надо платить, кто, тем самым, не ведет себя подобающим потребителю образом и исключается из рыночных отношений, — это люди, чье состояние описывается как бедность. В обществе потребителей бедность означает ограничение или отсутствие потребительского выбора.)
Кажущаяся доступность широких и разнообразных неоплемен, каждое из которых практикует свой стиль жизни, имеет мощное и неоднозначное воздействие на нашу жизнь. С одной стороны, мы испытываем эту возможность как снятие всех ограничений нашей свободы. Теперь мы вольны «перемещаться» из одного личностного качества в другое, выбирать, кем мы хотим быть и что нам с собой делать. И кажется, нас ничто не сдерживает, ни одна мечта не представляется неуместной, не соответствующей «нашему положению». Это похоже, и вполне справедливо, на освобождение — на радостное ощущение несвязанности какими бы то ни было узами, принципиальной достижимости всего, по крайней мере в мечтах, отсутствия каких бы то ни было окончательных и неизменных условий. Но поскольку любой пункт нашего назначения, длительного или временного, представляется целиком и полностью делом нашего выбора и результатом того пути, по которому мы шли к своей свободе в прошлом, постольку и винить за него мы должны только самих себя (или превозносить в зависимости от степени удовлетворенности). Мы все «сами себя сделали», и нам постоянно об этом напоминают: нет никакого смысла урезать наши амбиции. Любой стиль жизни сколь угодно отдаленного неоплемени выступает как вызов. Если мы находим его привлекательным, если его превозносят выше, чем наш, то мы чувствуем себя обделенными. Он искушает нас, притягивает, заставляет сделать все, что в наших силах, только бы присоединиться к нему. Наш реальный стиль жизни теряет свою прелесть. Он больше не приносит нам былого удовлетворения. А поэтому нескончаемы наши усилия обрести новый стиль. Мы не можем остановиться и сказать: «Я достиг, я сделал это, теперь я могу расслабиться и отдохнуть». Как раз в тот момент, когда я собрался пожинать плоды своих долгих трудов, на горизонте появляется новое искушение, и я уже больше не чувствую себя победителем. Одним из результатов моей свободы (т. е. свободы потребительского выбора, свободы сотворения из себя самого кого-то иного посредством усвоения или неприятия различных стилей потребления) является то, что я, кажется, обречен всегда оставаться в состоянии обделенности. Сама возможность все новых и новых соблазнов и их очевидная доступность лишают радости любое достижение. Когда пределом служит небо, ни один из земных уделов не кажется достаточным, чтобы приносить удовлетворение. С гордостью выставляемые напоказ стили жизни не просто многочисленны и разнообразны, зачастую их представляют как различающиеся по своей ценности, по достоинству, которым наделяются их представители. Мы все «окультуриваем» себя сами, но есть более и менее утонченные культуры — высокие, средние и низкие. Если мы соглашаемся на менее, а не на самую лучшую, то с этого момента мы вынуждены признать, что наше не очень престижное социальное положение является естественным следствием не очень-то старательного «самокультивирования».
Но на этом история не кончается. Стили жизни других людей, даже самые утонченные, потому так дразнят, кажутся близкими и доступными, что они не скрываются. Напротив, они появляются соблазнительно манящими и открытыми; в самом деле, неоплемена не живут в крепостях за толстыми стенами, за крепостными рвами и башнями, так что любой прохожий может вступить в их пределы. И все же, как мы видели чуть раньше, вход не столь уж и свободен, как кажется; эта особого рода несвобода потому и представляется столь зловещей и потрясающей, что ее реальные стражи невидимы. Реальные же стражи — рыночные силы — не носят униформы и не несут ответственности за конечный успех или неудачу предприятия (в отличие от государственного регулирования потребностей и их удовлетворения, которое не может оставаться невидимым и тем самым является уязвимым для общественного протеста и легкой мишенью для коллективных усилий реформирования). В случае поражения злополучный прохожий должен знать, что это только его собственная вина. Он рискует потерять веру в самого себя, в силу своего характера, ума, таланта, устремлений и усердия. Что-то со мной не так, сделает он вывод и, возможно, обратится за помощью к специалисту, к психоаналитику, чтобы исправить «повреждения» в своей личности. Специалист подтвердит его подозрения: да, условия тут ни при чем, это скорее какое-то внутреннее течение, что-то скрытое в поврежденной личности потерпевшего поражение, что мешает ему воспользоваться возможностями, несомненно имеющимися в этих условиях. Специалист поможет перепроецировать расстройство (фрустрацию) на саму подверженную ему личность. Таким образом, негодование от такой фрустрации не перельется через край и не будет направлено на внешний мир. Невидимые стражи, преграждающие желанный путь, так и останутся невидимыми и еще более надежными, чем раньше. А мечты, которые они рисовали такими соблазнительными, так и останутся неразвенчанными. Они сохранят свою притягательность и искусительную силу: они стоят ваших усилий, это вы по какой-то причине не можете заставить себя предпринять необходимые усилия. Неудачники тем самым лишаются последнего утешения поносить задним числом ценность того стиля жизни, который они тщетно пытались освоить (пресловутое утешение «зеленого винограда»: мне не удалось заполучить его, но он и не стоит того, чтобы стремиться к нему любой ценой, поэтому не так-то уж много я и потерял. Было замечено, что очень часто неудача в достижении цели, превозносимой в качестве высшей и благородной, порождает чувства негодования, озлобленности и зависти, не только направленные против самих целей, но и стремящиеся распространиться на людей, похваляющихся тем, что достигли их).
Сколь вероятным это ни казалось бы при данных обстоятельствах, гораздо чаще неудача в достижении особо желанного стиля жизни не является виной стремившихся к нему людей. Даже те стили жизни, которые оказываются наиболее труднодостижимыми, должны быть представлены как общедоступные, если их хотят успешно продавать: их рекламируемая доступность — необходимое условие их соблазнительности. Они вызывают покупательную мотивацию и интерес потребителей потому, что возможные покупатели думают, будто искомые ими модели потребления могут быть приобретены в дополнение к восхвалениям и восхищению, будто эти модели — законные предметы практического действия, а не просто уважения и поклонения. Именно такое представление (от которого рынок вряд ли когда-либо откажется) предполагает равенство потребителей в их способностях свободно выбирать и самостоятельно определять свое социальное положение. В свете этого предполагаемого равенства неудача в приобретении вещей, которые есть у других, оскорбительна и унизительна.
Но неудача фактически неизбежна. Реальная доступность альтернативных стилей жизни предопределяется способностью предполагаемого их участника позволить приобрести себе соответствующие символы; проще говоря, той суммой денег, которую он может на них потратить. Истина заключается в том, что у одних людей денег больше, чем у других, поэтому они имеют большую свободу выбора, чем другие. На практике позволить себе наиболее вожделенные, хваленые и наиболее престижные стили могут только обладатели самых больших сумм денег (вот настоящий билет на рынок и пропуск к предлагаемым рынком благам). По сути дела то, что вы сейчас читаете, является тавтологией — утверждение, определяющее предмет, в то же время претендует на его объяснение: стили, которые могут быть приобретены сравнительно небольшим числом особенно богатых людей, рассматриваются тем самым как наиболее почтенные и достойные поклонения. Восхищение вызывает именно их нераспространенность, чудесными их делает их практическая недоступность. Приобретая их, ими гордятся, поскольку они — атрибуты исключительного, особого социального положения. Они служат признаками «лучших людей», это «лучшие стили жизни», поскольку их практикуют «лучшие люди». И товары, и люди, потребляющие их (при этом демонстрация является одним из основных способов их употребления, если не самым главным), получают высшие оценки благодаря именно этому «союзу».
Все товары имеют прикрепленный к ним ценник. С его помощью отбирается совокупность потенциальных покупателей. Он не определяет непосредственно решения, которые фактически принимают покупатели — они остаются свободными. Но он проводит границу между возможным и реальным — границу, которую данный покупатель преступить не может. За кажущимся равенством шансов, провозглашаемым и развиваемым рынком, скрывается практическое неравенство покупателей, т. е. неравенство четко различаемых степеней практической свободы выбора. Это неравенство ощущается как подавление и в то же время как стимул. Оно порождает болезненное чувство обделенности со всеми его пагубными для самооценки последствиями, которые мы рассматривали выше. Кроме того, оно вызывает невероятные усилия ради увеличения покупательной способности — усилия, которые поддерживают неистребимый спрос на рыночное предложение.
Таким образом, несмотря на то что рынок превозносит равенство, он же порождает и воспроизводит неравенство в обществе потребителей. Типичный, вызванный рынком или обслуживаемый им тип неравенства поддерживается и постоянно оживляется ценовым механизмом. Определенные рынком стили жизни наделяют подразумеваемым отличием благодаря ценникам, делающим их недостижимыми для менее обеспеченных покупателей; и эта функция «наделения отличием» делает их более привлекательными, тем самым поддерживая присвоенную им высокую цену. В конце концов, оказывается, что при всей предполагаемой свободе покупательского выбора рыночные стили жизни распределяются не равномерно и не случайно; каждый из них стремится сосредоточиться в определенной части общества, выполняя таким образом роль признака социального положения. Стили жизни склонны приобретать, можно сказать, классовую специфику. Тот факт, что они собраны из вещей, которые свободно продаются в магазинах, вовсе не делает их проводниками равенства, хотя и превращает их в фактор, постоянно подпитывающий ощущение приемлемости действительного неравенства. Теперь это неравенство становится более невыносимым и нестерпимым для относительно бедных и обделенных, чем тогда когда каждому социальному сословию, как правило, наследственному и неизменному, было четко предписано, каким имуществом ему можно владеть.
Именно против этого предписанного неравенства на самом деле борется порождаемое и поддерживаемое рынком неравенство. Рынок преуспевает за счет неравенства доходов и богатства, но он не признает сословий. Он сводит на нет все двигатели неравенства, кроме ценников. Товары должны быть доступны любому, кто может заплатить их цену. Стили жизни — все стили жизни — пригодны для грабежа покупателей. Покупательная способность — единственное право, признаваемое рынком. По этой же причине в рыночных потребительских обществах набирает небывалую силу сопротивление всем другим, предписанным видам неравенства. Привилегированные клубы, не принимающие в число своих членов людей определенной расы или национальности, рестораны и отели, преграждающие вход посетителям «не с тем цветом кожи», владельцы недвижимости, не желающие продавать ее покупателям по той же причине, — все это подвергается ожесточенным нападкам. Преобладание власти поддерживаемых рынком критериев социальной дифференциации, как кажется, подавляет все остальные критерии: не может быть ничего такого, что нельзя было бы купить за деньги.
Очень часто лишения, обусловленные рынком, расовой или этнической принадлежностью, пересекаются. Группы, удерживаемые на низших ступеньках ограничительными «предписаниями», как правило, заняты на плохо оплачиваемой работе, а потому и не могут позволить себе стиль жизни, предназначенный для «лучших людей». В таком случае предписывающий (аскриптивный) характер их депривации (лишенности) остается скрытым. Видимое неравенство объясняют меньшими талантами, стараниями или сообразительностью представителей обделенной расы или этнической группы; если бы не их врожденные пороки, они преуспели бы так же, как и другие. Стать похожими на тех, кому они завидуют или хотят подражать, было бы им вполне доступно, если бы они захотели и приложили к этому старание.
Однако такое объяснение невозможно в случае с теми представителями обделенных (в другом отношении) групп, которые, преуспев на рынке, все еще не допускаются к «лучшим стилям жизни». Что касается денег, то они могут позволить себе и высокие взносы в клубе, и высокие цены в отеле, но все равно вход им туда заказан. Тем самым демонстрируется предписывающий, или аскриптивный, характер их депривации (лишения); они узнают, что, вопреки обещаниям, за деньги нельзя купить все и что для положения человека в обществе, для его благополучия и достоинства мало просто прилежно зарабатывать деньги и тратить их. Это открытие подрывает их веру в свободный рынок как гарантию человеческой свободы. Насколько нам известно, люди могут различаться по способности (точнее, возможности) покупать билеты, но никому не может быть отказано в билете, если он может позволить себе его купить. В рыночном обществе предписывающая (аскриптивная) дифференциация возможностей не находит оправданий и по этой причине — невыносима. Вот почему во главе всех попыток сопротивления против дискриминации по какому-либо признаку, кроме покупательной способности, стоят зажиточные и более удачливые представители дискриминируемых рас, этнических групп, религиозных сект, языковых сообществ (в определенной степени феминистское движение также черпает силы из факта дискриминации, чуждого «духу» или по крайней мере обещаниям потребительского общества). Эпоха «сделавших себя» людей, господства «племен», представляющих стили жизни, дифференциации посредством стилей потребления — это в то же время и эпоха сопротивления расовой, этнической, религиозной и гендерной дискриминации, эпоха непримиримой борьбы за права человека, т. е. за уничтожение каких бы то ни было запретов, кроме тех, которые в принципе (согласно представлениям нашего типа общества) могут быть преодолены усилиями любого человека как индивида.
Глава 12 Средства и возможности социологии
От одной главы к другой мы с вами путешествовали по миру нашей общей повседневной жизни. Социология была приглашена нами в качестве гида: наш путь пролегал через наши обыденные заботы и проблемы, и перед социологией ставилась задача комментировать, что мы видим и делаем. Как и в любом путешествии под руководством гида, наш гид, мы надеялись, постарается, чтобы мы не пропустили ничего важного, и обратит наше внимание на вещи, мимо которых сами бы мы прошли, не заметив их. Мы также ожидали, что гид объяснит нам то, что до сих пор мы знали лишь поверхностно; расскажет нам об этом то, чего мы не знали. Мы полагали, что в конце нашего путешествия будем знать больше и понимать лучше, чем в начале; когда мы опять возвратимся в нашу повседневную жизнь после этого путешествия, мы будем лучше вооружены для того, чтобы справляться со стоящими перед нами проблемами. И не обязательно наши попытки разрешить их будут более успешны, но по крайней мере мы знаем, что это за проблемы и что требуется для их решения, если оно вообще возможно.
Я думаю, что социология, насколько мы узнали о ней в нашем путешествии, вполне справилась с поставленной задачей; но она разочаровала бы нас, если бы мы ожидали от нее чего-то большего, чем просто комментария, набора объяснительных примечаний к нашему повседневному опыту. Именно комментарий и должна предоставлять социология. Социология — это углубление того знания, которым мы обладаем и пользуемся в нашей повседневной жизни, поскольку она раскрывает некоторые весьма тонкие различия и не вполне очевидные связи, недоступные невооруженному глазу. Социология отмечает больше деталей на нашей «карте мира», а также расширяет эту карту за пределы нашего повседневного опыта, с тем чтобы мы видели, как обитаемые нами территории вписываются в не исследованный еще нами окружающий мир. Разница между тем, что мы знаем и без социологии, и тем, что мы знаем теперь, после знакомства с ее комментариями, не является разницей между ошибочным и истинным знанием (хотя, давайте признаем, что иногда социология то тут, то там исправляет наши мнения); это скорее различие между уверенностью в том, что наши переживания и опыт можно описать и объяснить одним и только одним способом, и знанием того, что возможные — вероятностные — интерпретации многочисленны. Можно сказать, что социология — это еще не предел наших поисков понимания, но ободрение для того, чтобы продолжать их, и препятствие на пути самодовольства, убивающего любознательность и останавливающего всякие поиски. Говорят, лучшее, что может сделать социология, это — «подстегнуть ленивое воображение», показывая несомненно знакомые вещи в неожиданных ракурсах и тем самым рассеивая обыденность и самодовольство.
А вообще, относительно того, что может и должна предлагать социология как «социальная наука» (т. е. как совокупность знаний, провозглашающих превосходство над простыми мнениями и суждениями и обладающих надежной, достоверной, правильной информацией о том, как в действительности обстоят дела), существуют два очень разных ожидания.
Одно из них ставит социологию наравне с другими видами специального знания, обещающими поведать нам о наших проблемах и рекомендующими нам, что с ними делать и как от них избавиться. Социология рассматривается как что-то вроде учебника по искусству жизни, подсказывающего нам, как достичь желаемого, как перепрыгнуть или обойти препятствия на пути к нему. В конечном счете это ожидание сводится к вере в то, что раз мы знаем о взаимозависимости различных элементов нашей ситуации, то мы сможем свободно ее контролировать, подчинять ее нашим целям или по крайней мере заставить ее лучше служить им. Собственно, это и называется научным знанием. Мы так высоко ценим его за то, что оно делает нас мудрее, и эта мудрость, как нам кажется, дает нам возможность предсказывать, чем все обернется; за его способность предсказывать ход событий (а тем самым и последствия собственных действий), позволяющую нам действовать свободно и рационально, т. е. делать только такие ходы, которые гарантируют желаемый результат.
Второе ожидание тесно связано с первым, но оставляет открытыми положения, подчеркивающие идею инструментальной пользы, т. е. предпосылки, которые у предыдущего ожидания не было нужды выделять. Контролировать ситуацию так или иначе должно означать приманивать, принуждать или как-то еще заставлять других людей (которые всегда являются частью ситуации) вести себя таким образом, чтобы их поведение способствовало достижению того, что нам нужно. Как правило, контроль над ситуацией не может не означать также и контроля над другими людьми (в конце концов, искусство ведения жизни и представляется как «способ завоевывать друзей и влиять на людей»). В этом втором ожидании желание контролировать других людей выходит на первый план. На социологию возлагаются надежды, что она поддержит усилия по созданию порядка и устранению хаоса, который, как мы показали в предыдущих главах, является отличительным признаком нашего времени. От социолога, исследующего внутренние побуждения человеческого поведения, ожидают практически полезной информации о том, как следует все упорядочить, чтобы выявить показательные типы поведения или, наоборот, предотвратить поведение, не соответствующее сконструированной модели порядка. Так, фабриканты могут спросить у социологов, как предотвратить забастовки; командующие войсками, оккупирующими чужую страну, могут спросить, как бороться с партизанами; полицейские могут проверить практические рекомендации по рассеиванию толпы и сдерживанию потенциальных бунтовщиков; управляющие торговыми компаниями могут затребовать наилучших способов искушения потенциальных покупателей; чиновники, занимающиеся делами общественности, могут спросить, как сделать нанявших их политиков более популярными и избираемыми; сами же политики могут обратиться за советом, какие методы поддержания законности и порядка наиболее эффективны (т. е. как заставить своих подданных подчиняться закону, желательно добровольно, даже тогда, когда им не нравятся эти законы).
Суть всех этих требований заключается в том, чтобы социолог советовал, как урезать свободу некоторых людей так, чтобы, несмотря на то что их выбор будет ограниченным, поведение все-таки было бы более предсказуемым. От социолога требуется знание о том, как преобразовать данных людей из субъектов их собственного действия в объекты действия других людей; как применить к человеческому поведению на практике что-то вроде модели «бильярдного шара», в которой все, что делают люди, целиком и полностью обусловливается толчками извне. Чем больше человеческое поведение будет походить на движения такого «бильярдного шара», тем более полезными будут и услуги социологов для поставленной цели. Даже если люди не могут перестать выбирать и принимать решения, то внешний контекст их действий должен подвергаться таким манипуляциям, при которых было бы совершенно исключено, чтобы их выборы и решения были направлены против желаний манипуляторов.
Чаще всего такие ожидания выливаются в требование научности социологии: социология должна оформлять свою деятельность и ее результаты по образцу наук, которые мы все высоко ценим за их явную практическую полезность, т. е. за приносимые ими ощутимые выгоды. Социология должна выдавать столь же точные, практически полезные и эффективные рецепты, какие выдают, например, физика или химия. По их замыслу, эти и подобные им науки имели целью приобретение вполне определенного вида знания, т. е. такого, которое в итоге ведет к полному овладению объектом исследования. Этот объект, сконструированный наподобие «природного» объекта, не наделен собственной волей, целеполаганием, поэтому он может быть безо всякого сожаления полностью подчинен воле и целеполаганию человека, стремящегося использовать его с целью лучшего удовлетворения своих потребностей. Язык науки, описывающий «природные» объекты», был тщательно очищен от всех понятий, соотносящихся с целью или смыслом; после этой очистки остался только «объективный» язык, конструирующий свои объекты лишь постольку, поскольку они, во-первых, воспринимают, а не производят действие, и, во-вторых, направляются внешними силами, однозначно представляемыми как «слепые», т. е. не направленные на какую-либо определенную цель и свободные от каких бы то ни было намерений. Описанный таким образом естественный мир воспринимался как «свободный для всех», как целина, ждущая, когда ее возделают и преобразуют в спланированный с определенной целью участок, более пригодный для человеческого обитания. Объективность науки нашла выражение в том, что она докладывала о своих открытиях бесстрастным, техническим языком, подчеркивающим непреодолимое различие между людьми как носителями целей и природой, предназначенной для формирования и преобразования в соответствии с этими целями. Наука провозгласила своей целью способствовать «господству человечества над природой».
Главным образом с этой целью и предпринимались исследования мира. Природа должна была изучаться с тем, чтобы мастеровые знали, как придать ей желаемую форму (представьте, например, скульптора и глыбу мрамора, которую он хочет преобразить в подобие человеческой фигуры. Чтобы осуществить эту цель, он должен прежде всего знать о внутренних свойствах камня. Отбивать и откалывать куски мрамора, не разбивая его, можно только по некоторым определенным направлениям. Для того чтобы придать куску мрамора задуманную форму, т. е. подчинить камень своему замыслу, скульптор должен научиться распознавать эти направления. Искомое им знание подчинило бы мертвый камень его воле и позволило преобразовать его в соответствии с представлениями скульптора о гармонии и красоте). Именно так и было сконструировано научное знание: объяснить объект науки означало получить возможность предсказать, что произойдет, если то-то и то-то имеет место быть; обладая такой способностью предсказания, человек получает возможность действовать, т. е. навязывать уже завоеванной и покоренной части реальности свой замысел, наилучшим образом отвечающий поставленной цели. Реальность рассматривалась прежде всего как сопротивление человеческой целенаправленной деятельности. Задача науки заключалась в том, чтобы найти способы преодоления этого сопротивления. Конечное завоевание природы означало бы освобождение человечества от природных ограничений, возрастание, так сказать, нашей коллективной свободы.
Все добытое ценное знание должно было соответствовать этой модели науки. Любой вид знания, желающий снискать общественное признание, найти себе место в академическом мире и получить свою долю общественных ресурсов, должен был доказать свое сходство с естественными науками, свою способность выдавать столь же полезные практические указания, которые позволят нам лучше приспособить этот мир для человеческих целей. Требование приспособиться к стандарту, установленному естественными науками, было настойчивым и не терпящим возражений. Даже если мысль о роли архитекторов или проектировщиков социального порядка и не посещала отцов-основателей социологии, даже если единственным, к чему они стремились, было понять более полно человеческое положение, они не могли (скрыто или явно) не принять доминирующую модель науки как прототип «хорошего знания» и образец всепонимания. Поэтому они должны были показать, что для изучения человеческой жизни и деятельности можно изобрести такие же точные и объективные методы, как и методы, используемые науками о природе, и что в результате их применения может быть получено столь же точное и объективное знание. Они должны были доказать, что социология сможет подняться до статуса науки и тем самым быть принятой в академическую семью на равных с ее более старшими и задающими тон членами.
Долгий путь, пройденный социологией от этого стремления к ее современному социологическому дискурсу (способу рассуждений и обмена суждениями), объясняет и его специфическую форму с тех пор, как социология обосновалась среди других наук в мире академического преподавания и исследования. Усилия сделать социологию «научной» доминировали в этих рассуждениях о ее судьбе и призвании; данная задача заняла почетное место среди интересов участников обсуждений. Нарождавшаяся академическая социология использовала три стратегии для выполнения указанной задачи, все они были апробированы и последовательно соединились в той форме, которую приняла официальная социология.
Первая стратегия нагляднее всего просматривается в трудах основателя академической социологии во Франции Эмиля Дюркгейма. Дюркгейм принял как само собой разумеющийся факт существования модели науки, разделяемой всеми областями знания, которые претендуют на научный статус. Данная модель характеризуется прежде всего объективностью, т. е. четким отделением объекта исследования от изучающего его субъекта, представлением этого объекта как чего-то «внешнего», что должно быть подвергнуто рассмотрению исследователя, должно наблюдаться и описываться на строго нейтральном и отстраненном языке. Так как вся наука действует одним и тем же образом, то научные дисциплины различаются лишь тем, что общий всем им тип объективного рассмотрения направляется на различные области реальности; мир, так сказать, делится на участки, каждый из которых исследуется отдельной научной дисциплиной. Все исследователи одинаковы: все они владеют сходными техническими навыками и занимаются деятельностью, подчиненной сходным правилам и законам поведения. И реальность, которую они изучают, для всех одна и та же, всегда состоящая из «внешних» объектов, ожидающих наблюдения, описания и объяснения. Отличает же научные дисциплины друг от друга только разделение исследуемой территории. Различные отрасли науки делят мир между собой, и каждая из них берет на себя один его фрагмент — свой собственный «набор вещей».
Если дело с науками обстоит именно так, то для того, чтобы социология смогла занять свое место в науке, т. е. стать наукой, она должна найти фрагмент мира, еще не освоенный существующими научными дисциплинами. Подобно мореплавателю, социология должна открыть континент, над которым еще не объявлен ничей суверенитет и над которым она может установить собственное несомненное господство благодаря своей научной компетенции и авторитету. Проще говоря, социология как наука и как отдельная, независимая научная дисциплина может быть легитимирована только в том случае, если найден до сих пор не известный «набор вещей», ожидающий научного анализа.
Дюркгейм полагал, что специфически социальные факты, т. е. явления коллективности, не свойственные ни одному конкретному человеку в отдельности (как общие представления и образцы поведения), могут быть приняты как такие вещи и изучаться в объективной, отстраненной манере подобно другим вещам. В самом деле, эти явления представляются индивидам вроде нас с вами почти такими же, как и остальная «внешняя» реальность: они жестоки, упрямы и не зависят от нашей воли признавать или не признавать их, поскольку мы не вольны избавиться от них. Они присутствуют здесь независимо от того, знаем мы о них или нет, почти как стол или кресло, занимающие определенное место в комнате, независимо от того, смотрю я на них или думаю о них. Более того, я могу игнорировать их присутствие только в ущерб себе. Если я буду вести себя так, словно их нет, то буду жестоко наказан (если я игнорирую естественный закон всемирного тяготения и покину комнату через окно, а не через дверь, то буду наказан — сломаю ногу или руку. Если я игнорирую социальную норму — закон и моральный запрет воровать, то я также понесу наказание: буду заключен в тюрьму или подвергнут остракизму со стороны своих товарищей). Фактически я постигаю существование социальной нормы трудным путем: когда я нарушаю ее и тем самым «нажимаю на спусковой крючок» карательных санкций против меня.
Итак, мы можем сказать, что хотя социальные феномены, как совершенно очевидно, не могут существовать без людей, тем не менее они находятся не внутри человека как индивида, а вне его. Вместе с природой и ее непреложными законами они составляют жизненно важную часть объективного окружения любого человека, часть внешних условий любого человеческого действия и человеческой жизни в целом. Нет никакого смысла пытаться узнать об этих феноменах, спрашивая о них людей, подчиняющихся их силе (невозможно изучать закон всемирного тяготения, собирая мнения людей, вынужденных ходить по земле, а не летать). Информация, полученная путем опроса людей, была бы смутной, неполной и противоречивой: люди, к которым мы обращаемся с вопросами, мало что могут рассказать нам, поскольку они не изобретают и не создают изучаемые явления, они находят их уже готовыми и знакомятся с ними (т. е. вынуждены осознать их наличие) лишь фрагментарно и кратко. Поэтому социальные факты надо изучать непосредственно, объективно, «со стороны», наблюдая систематически, т. е. точно так же, как изучаются все остальные вещи, находящиеся «во вне».
В одном отношении, полагает Дюркгейм, социальные факты существенно отличаются от фактов природы. Связь между нарушением закона природы и последующим ущербом непосредственная: она не привносится человеческим замыслом (и ничьим замыслом вообще). Связь же между нарушением общественной нормы и понесенным нарушителями наказанием, напротив, является «искусственной». Определенное поведение наказуемо потому, что общество осуждает его, а не потому, что само это поведение влечет за собой ущерб для его исполнителя (так, воровство не причиняет ущерба самому вору, наоборот, может быть даже выгодным для него; если вор в результате наказан, то только потому, что общественная мораль восстала против воровства). Это различие, однако, не умаляет «вещественного» характера социальных норм и возможность их объективного изучения. Верно как раз обратное: оно еще больше прибавляет к «вещественной» природе норм, так как они оказываются истинным материалом и эффективными причинами, обусловливающими регулярность и неслучайность человеческого поведения и, следовательно, социального порядка как такового. Именно такие «подобные вещам» социальные факты, а не настроения или чувства индивидов (которые так страстно исследуют психологи) обеспечивают истинное объяснение человеческого поведения. Желая правильно описать и объяснить человеческое поведение, социолог должен (и его призывают) оставить в стороне человеческую душу, намерения и личные смыслы, о которых нам могут поведать только сами индивиды («загадки человеческой души», таким образом, обречены оставаться незамеченными и непроницаемыми), и обратиться к изучению явлений, которые можно наблюдать со стороны и которые будут казаться разным наблюдателям одинаковыми.
Это одна из возможных стратегий, с помощью которой можно добиваться научного статуса социологии. Совсем другая стратегия предложена в работах Макса Вебера. Мысль о том, что существует один, и только один, способ «быть наукой» и что поэтому социология должна самоотверженно подражать естественным наукам, Вебер категорически отвергает. В противовес этому он полагает, что социологическая практика, не теряя присущей научному знанию точности, должна отличаться от естественных наук так же, как отличается социальная реальность, исследуемая социологом, от не-человеческого мира, исследуемого науками о природе.
Реальность у людей, или человеческая реальность, отличается (и в этом она поистине уникальна) тем, что действующие субъекты наделяют свои действия смыслом. Они обладают мотивами, действуют, чтобы достичь поставленных целей. Именно цели объясняют их действия. По этой причине человеческие действия, в отличие от пространственных перемещений физических тел или химических реакций, надо прежде всего понять, а не объяснить. Точнее, объяснить человеческое действие — значит понять его: уловить смысл, которым действующий субъект наделяет его.
То, что человеческие действия осмысленны и потому требуют исследований особого рода, было известно и до Вебера. Эта идея еще задолго до него служила основанием герменевтики — теории и практики «раскрытия смысла», заложенного в литературном тексте, живописи или в каком-либо другом продукте созидающего духа. Герменевтические исследования безрезультатно боролись за научный статус. Теоретикам герменевтики было трудно доказать, что метод и открытия герменевтических изысканий могут быть столь же объективными, как и методы и результаты науки, т. е. что можно закодировать метод герменевтического исследования настолько точно, что любой исследователь, выполняющий его требования, придет к тем же выводам. Такой научный идеал представлялся герменевтикам недостижимым. Казалось, для того чтобы понять смысл текста, его интерпретаторы должны «поставить себя на место автора», посмотреть на текст глазами автора, продумать его мысли, короче — быть, думать, рассуждать, чувствовать, как автор (такое «перевоплощение» в жизнь и в дух автора, переживание и повторение его опыта получило название эмпатии). Это требует истинной духовной близости с автором и невероятной силы воображения, результаты же будут зависеть не от унифицированного метода, с одинаковым успехом доступного каждому, а от уникального таланта единичного интерпретатора. Следовательно, вся процедура интерпретации относится скорее к искусству, нежели к науке. Если интерпретаторы предлагают весьма различные интерпретации, то можно выбрать одно из конкурирующих предложений, более богатое, проницательное, глубокое, эстетически приятное или в каком-либо другом отношении более удовлетворительное, чем остальные; но все это не может служить причиной, позволяющей нам сказать, что предпочтительная для нас интерпретация является истинной, а те, что нам не нравятся, — ложными. Утверждения же, которые не могут быть однозначно определены как истинные или ложные, не могут принадлежать науке.
И все же Вебер настаивал на том, что, будучи исследованием человеческих действий, нацеленным на их понимание (т. е. как и герменевтика, стремящаяся постичь их смысл), социология все-таки может достичь уровня объективности, присущего научному знанию. Другими словами, он считал, что социология может и должна получить объективное знание о субъективной человеческой реальности.
Совершенно ясно, что не все человеческие действия могут быть интерпретированы таким образом, так как многое в нашей деятельности является либо традиционным, либо аффективным, т. е. направляемым либо традициями, либо эмоциями. В обоих случаях действие не рефлективно: когда я действую в раздражении или следую повседневным привычкам, я не рассчитываю мои действия и не преследую определенных целей; я не планирую, не контролирую свое действие как средство, ведущее к определенной цели. Традиционные и эмоциональные действия обусловливаются факторами, которые не подвластны контролю моего сознания, как и природные явления; и подобно природным явлениям, эти действия бывают поняты лучше, когда указана их причина. Действия, называемые рациональными, т. е. рефлективные, рассчитанные действия, сознательно воспринимаемые, контролируемые и нацеленные на осознаваемый результат (действия типа «для чего»), требуют понимания смысла, а не причинного объяснения. Если традиции слишком разнообразны, а эмоции неповторимы и глубоко личны, то разум, который мы используем для соизмерения целей и средств, выбираемых для достижения целей, присущ всем человеческим существам. Поэтому я могу извлечь смысл из наблюдаемого мною действия не путем догадок относительно того, что происходит в головах действующих, и не путем «продумывания их мыслей» (т. е. не путем эмпатии), а подбирая к действию мотив, имеющий смысл и тем самым делающий действие осмысленным для меня и для любого другого наблюдателя. Если вы в порыве гнева ударите своего приятеля, то мне это может показаться бессмысленным, если я — человек спокойный, никогда не испытывающий сильных эмоций. Но если я вижу, что вы не спите за полночь и пишите сочинение, мне легко будет установить смысл наблюдаемого (и любому это легко будет сделать), поскольку я знаю, что написание сочинений — это прекрасное, проверенное средство приобретения знаний.
Коротко говоря, Вебер полагал, что рациональное сознание может узнать себя в другом рациональном сознании, и до тех пор, пока изучаемые действия рациональны (рассчитаны, целенаправленны), они могут быть рационально поняты, т. е. объяснены посредством установления смысла, а не причины. Поэтому социологическому знанию вовсе не надо быть ниже науки. Напротив, оно имеет явное преимущество по сравнению с наукой в том, что может не просто описывать, но также и понимать свои объекты — людей. Как бы тщательно ни исследовался мир, описываемый наукой, он остается бессмысленным (можно знать все о дереве, но нельзя «понимать» дерево). Социология идет дальше науки — она раскрывает смысл изучаемой ею реальности.
Существовала и третья стратегия, пытавшаяся поднять социальное исследование до статуса науки: показать, что социология как наука имеет непосредственное и эффективное практическое применение. Эта стратегия с особым энтузиазмом использовалась первопроходцами социологии в Соединенных Штатах Америки — стране, известной прагматическим складом ума ее граждан, признанием ими практического успеха высшим критерием ценности и, в конечном счете, истины. В отличие от европейских коллег первые американские социологи не имели времени для теоретизирования о природе их занятий, они не утруждали себя философским обоснованием социологической практики. Вместо этого они всерьез решили показать, что доставляемое социологическим исследованием знание может быть использовано точно так же, как на протяжение многих лет использовалось научное знание с его неоспоримыми результатами: оно может быть использовано для предсказания и «манипулирования» реальностью, для изменения ее в соответствии с нашими потребностями и намерениями, каковы бы они ни были и как бы они ни определялись и ни отбирались.
Эта третья стратегия сосредоточилась на разработке методов социального диагноза (на опросах, детально описывающих точное состояние дел в определенной сфере социальной жизни) и общей теории человеческого поведения (т. е. факторов, обусловливающих такое поведение; надежды возлагались на то, что исчерпывающее знание таких факторов сделает человеческое поведение предсказуемым и поддающимся манипуляции). С самого начала социологии был задан практический тон, причем этот тон задавали вечные социальные проблемы — рост преступности, подростковая преступность, алкоголизм, проституция, ослабление семейных связей и т. д. Социология обосновывала свои притязания на общественное признание обещаниями помочь в управлении социальными процессами, как геология и физика помогают в строительстве небоскребов. Другими словами, социология поступила на службу построения и поддержания социального порядка. Она разделяла интересы правителей общества, людей, выполняющих задачу по руководству поведением других. Обещание практической пользы было адресовано и воспринято в новых сферах управленческой деятельности. Услуги социологии были использованы для того, чтобы снять антагонизм и предотвратить конфликты на фабриках и шахтах; способствовать адаптации новобранцев в боевых частях армии; помочь продвижению новых коммерческих продуктов; реабилитировать бывших преступников; увеличить эффективность программ социального обеспечения.
Эта стратегия более всех соответствовала формуле Фрэнсиса Бэкона «покорять природу, повинуясь»; она перепутала истину с пользой, информацию с контролем, знание с властью. Она восприняла призыв власть имущих доказать обоснованность социологического знания практическими выгодами, которые она может дать для управления общественным порядком, для разрешения проблем, какие представляют себе и формулируют те, кто следит за порядком и управляет им. Тем самым социология, воспринявшая такую стратегию, должна была принять во внимание перспективу управления: рассматривать общество «сверху» как материал, обладающий способностью к сопротивлению, как объект манипуляции, внутренние свойства которого нужно лучше узнать, чтобы он стал податливее и восприимчивее к той форме, какую ему захотят придать.
Пересечение интересов социологии и управления, возможно, и приблизило социологию к государственному, промышленному или военному руководству, но в то же время сделало уязвимой для критики тех, кто воспринимал контроль «сверху», т. е. со стороны властей, как угрозу дорогим для них ценностям и особенно индивидуальной свободе и общественному самоуправлению. Критики отмечали, что следование данной стратегии заставляет активно поддерживать существующую асимметрию власти. Неправильно думать, утверждали они, будто знание и практические рекомендации, вырабатываемые социологией, могут в равной мере служить любому, кто захочет их использовать, и рассматриваться как нейтральные и беспартийные. Далеко не каждый может использовать знание, построенное с точки зрения управленческой перспективы: его применение, в конце концов, требует ресурсов, которыми распоряжаются только управляющие. Таким образом, социология лишь усиливает контроль над теми, кого уже контролируют; она еще больше меняет ситуацию в пользу тех, кто уже наслаждается лучшим положением. Следовательно, социология способствует неравенству и социальной несправедливости. Все это делает положение социологии противоречивым: она испытывает давление с разных сторон, и примирить силы давления трудно. То, чего требует от социологии одна сторона, другая рассматривает как нечто отвратительное и решительно отвергает. Ответственность за такую противоречивость нельзя возлагать только на социологию. Социология является жертвой реального социального конфликта, внутреннего противоречия, раскалывающего все общество, т. е. противоречия, которое социология не в силах разрешить.
Противоречие заключено в самой перспективе рационализации, присущей современному обществу. Рациональность — это обоюдоострое оружие. С одной стороны, она помогает индивидам больше контролировать свои действия. Рациональный расчет, как мы видели, может лучше направить действие к цели, поставленной действующим субъектом, и тем самым увеличить эффективность этого действия. В целом же рациональные индивиды, видимо, с большой долей вероятности достигают своих целей, чем те, кто ничего не планирует, не рассчитывает и не контролирует свои действия. Поставленная на службу индивиду рациональность может увеличить степень его свободы. С другой стороны, обратившись однажды к окружению индивидуального действия — к организации общества в целом, рациональный анализ может с тем же успехом и ограничить индивидуальный выбор или сократить набор средств, которыми может пользоваться индивид для достижения своих целей. То есть рациональный анализ может достичь прямо противоположных целей: урезать индивидуальную свободу. Поэтому возможные варианты использования рациональности принципиально несовместимы и обречены оставаться противоречивыми.
Противоречия, окружающие социологию, являются лишь отражением двойственной природы рациональности, и социология ничего не может поделать с этим. Вот почему противоречия останутся и в будущем. Власть предержащие по-прежнему будут обвинять социологию в том, что она подрывает их власть над подданными и возбуждает социальное недовольство и напряжение. Люди же, отстаивающие свой образ жизни от удушающих запретов, налагаемых властью, обеспеченной всеми ресурсами, будут по-прежнему недоумевать или чувствовать себя оскорбленными, видя социологов в роли советников или прислужников своих давних противников. В любом случае бремя обвинений будет отражать степень существующего конфликта.
Научный статус социологии, отражающей атаки с двух сторон, оказывается весьма сомнительным. Ее соперники жизненно заинтересованы в обесценении социологического знания, а отказ в научном статусе прекрасно служит этой цели. Именно такое двойное обвинение, с которым сталкиваются лишь немногие отрасли науки, делает социологов столь чувствительными к проблеме их собственного статуса ученых и порождает все новые попытки убедить и ученое сообщество, и широкую общественность в том, что производимое социологами знание может претендовать на истинность общепринятого в научном мире образца. Однако попытки эти так и остаются безрезультатными. Кроме того, они отвлекают внимание от тех реальных преимуществ, которые социологическое мышление может предложить для обыденной жизни.
Любое знание, будучи упорядоченной картиной мира, картиной порядка, содержит в себе и интерпретацию этого мира. Оно не является, как нам иногда кажется, отражением вещей самих по себе, как они есть; скорее вещи становятся для нас существующими благодаря имеющемуся у нас знанию: словно наши грубые, беспорядочные ощущения спрессованы в вещи и распределены по контейнерам, которые наше знание для них уже заготовило в виде категорий, классов, типов. Чем большим знанием мы обладаем, тем больше вещей мы видим, тем большее количество разных вещей мы различаем в этом мире. Можно даже сказать, что выражения «У меня больше знаний» и «Я различаю больше вещей в мире» означают одно и то же. Если я изучаю искусство живописи, то мое доселе нерасчлененное представление о «красном» начинает делиться на все возрастающее число специфических и вполне отличных друг от друга представителей «семьи красных цветов»: теперь я различаю адрианопольский красный, огненно-красный, чемерично-красный, индийский красный, японский красный, карминный, кармазинный, рубиновый, основной красный, пунцовый, кроваво-красный, багряный, алый, альпийский красный, помпейский красный, персидский красный и все увеличивающееся число других красных цветов. Разница между человеком несведущим, не разбирающимся в живописи и специалистом, профессиональным художником или искусствоведом будет заключаться в неспособности первого увидеть цвета, которые для второго представляются явно (и «естественно») различными. Она может выражаться и в утрате вторым способности первого видеть «красный» вообще как таковой, воспринимать все предметы, окрашенные в различные оттенки красного, как предметы одного цвета.
В любой области, сфере приобретение знания состоит в научении проводить новые различия, делать единообразное разделенным, видеть различия более специфическими, делить большие классы на меньшие, чтобы интерпретация опыта становилась более богатой и подробной. Мы часто слышим, что образованность людей измеряется богатством словарного запаса, который они используют («Как много слов в их языке!»). Вещи можно описать как «прекрасные», но это «прекрасное» можно сделать более конкретным, и тогда окажется, что вещи, описанные таким образом, могут быть восприняты как «прекрасные» по многим причинам: потому что они упоительны, приятны на вкус, добры, хорошо подходят к чему-либо, сделаны со вкусом или «правильно поступают». Кажется, что богатство опыта и языка возрастает одновременно.
Язык не приходит в жизнь «извне» сообщить о том, что уже произошло. Язык с самого начала пребывает внутри жизни. В самом деле, можно сказать, что язык есть форма жизни, и любой язык — английский, китайский, португальский, язык рабочего класса, «благородный» язык, официальный язык государственных служащих, арго низших слоев, жаргон подростковых компаний, язык искусствоведов, моряков, физиков-ядерщиков, хирургов, шахтеров — является полноценной формой жизни. Каждый из них имеет свою карту мира (или конкретной его части) и свой кодекс поведения с двумя различными порядками, с двумя сторонами различения (одна — восприятие, другая — поведенческая практика), параллельными и согласованными. Внутри каждой формы жизни карта и кодекс взаимосвязаны. Мы можем их представить себе в отдельности, но на практике их разъять невозможно. Различия в названиях вещей отражают наше восприятие различия их качеств, а тем самым различия в их использовании и нашем обращении с ними; но признание нами качественных различий отражает и различия, которые мы применяем в наших действиях с ними и в наших ожиданиях, с которых собственно и начинаются наши действия. Вспомним то, что мы уже отмечали: понять — значит знать, как поступать дальше. И наоборот: если мы знаем, как поступать дальше, значит мы поняли. Именно это пересечение, эта гармония между способом действия и способом видения мира заставляет нас предположить, что различия присущи самим вещам, что окружающий нас мир сам по себе подразделяется на отдельные части, различаемые в нашем языке, что названия «принадлежат» обозначаемым ими вещам.
Существует много форм жизни. Они, разумеется, отличаются одна от другой; их различия, в конце концов, и делают их отдельными формами жизни. Но они не отгорожены друг от друга непроницаемыми стенами; не следует представлять их как замкнутые, опечатанные миры с перечнем их содержимого, со всеми предметами, принадлежащими только им. Формы жизни — это упорядоченные, общие образцы, но зачастую навязываемые друг другу. Они пересекаются и соперничают в определенных областях целостного жизненного опыта. Это, так сказать, различные подборки и различные варианты организации одних и тех же частей целостного мира и одних и тех же вещей, взятых из общего запасника. В течение одного дня я прохожу через многие формы жизни, но где бы я ни проходил, я и с собой несу части других форм жизни (поэтому мой образ действий, например в исследовательском коллективе, где я работаю, «несет на себе отпечаток» региональных и местных особенностей формы жизни, которой я живу как частное лицо; а мое участие в соседской форме жизни, в свою очередь, несет на себе следы особой религиозной конгрегации, к которой я принадлежу и в жизни которой участвую, и т. д.). В каждой форме жизни, через которую я прохожу в течение всей моей жизни, я разделяю знания и кодексы поведения с различными совокупностями людей; и каждая из этих совокупностей может обладать уникальным сочетанием форм жизни. По этой причине ни одна из форм жизни не является «чистой»; не является она и статичной, заданной раз и навсегда. Мое вхождение в какую-либо форму жизни не является для меня пассивным процессом примитивного заучивания, не является оно и процессом выворачивания наизнанку, переплавки и переиначивания моих мыслей и навыков только ради того, чтобы они соответствовали строгим правилам, которым я теперь намерен подчиняться. Мое вхождение изменяет форму жизни, мы оба меняемся: я приношу с собой нечто вроде приданого (в виде частей других форм жизни, остающихся со мной), которое преображает содержание той формы жизни, где я еще новичок, поэтому после моего вхождения эта форма жизни уже не та, что была прежде. И таким образом она изменяется постоянно. Каждый акт вхождения (изучение, владение, использование языка, который конституирует данную форму жизни) является творческим актом — актом преобразования, трансформации. Иначе говоря, языки, как и общности — их носители, являются открытыми и динамическими образованиями. Они могут существовать только в состоянии постоянного изменения.
Именно поэтому все время возникают проблемы понимания (равно как и опасность недоразумений и прекращения коммуникации). Предпринимаемые вновь и вновь попытки сделать общение понятным и несложным (путем «замораживания» интерпретаций, содержащихся в языке, навязывания каждому слову однозначного и обязательного определения) ничего не дают и не могут дать, поскольку разговаривающие на данном языке люди, имеющие свои собственные отличные от других интерпретации одних и тех же слов, постоянно привносят во взаимодействие людей различные совокупности форм жизни. В ходе их взаимодействия смыслы претерпевают едва уловимое, но постепенное и неизбежное изменение. Теперь они приобретают окраску, начинают ассоциироваться с конкретными объектами (референтами), от которых раньше были далеки; они замещают старые смыслы и претерпевают многие другие изменения, которые не могут не изменить язык как таковой. Можно сказать, что процесс коммуникации (связи, общения) — действие, нацеленное на достижение взаимопонимания, на «перемалывание» различий, на согласование интерпретаций, — предотвращает застой в любой форме жизни. Для того чтобы уяснить себе это замечательное качество форм жизни, представьте себе водовороты в течении реки: кажется, будто каждая воронка имеет постоянную форму и «остается прежней», сохраняющей свою «идентичность» на протяжение длительного периода времени; и тем не менее, как нам хорошо известно, она не может удержать ни одной молекулы воды дольше, чем на пару секунд, ее вода постоянно течет. Если же вы полагаете, что это недостаток водоворота и что для его безопасности, для «выживания» было бы лучше, если бы поток воды в реке остановился, то подумайте: это означало бы и «смерть» водоворота. Он не может «жить» (не может сохранять свою форму как отдельная и устойчивая идентичность) без постоянного притока и истока все нового и нового количества воды (которая, между прочим, всегда несет какие-нибудь новые неорганические и органические элементы).
Можно сказать, что языки, или формы жизни, подобно водоворотам, подобно самим рекам, продолжают жить и сохраняют свою идентичность, свою относительную автономию, именно потому, что они постоянно текут и способны впитывать новый материал, одновременно избавляясь от «отработанного». Но это значит, что формы жизни (все языки, все совокупности знаний) погибли бы, если бы вдруг оказались закрытыми, неподвижными и не поддающимися изменению. Они не пережили бы своей окончательной систематизации, кодификации и той точности, которую подразумевает такая упорядоченность. Иначе говоря, языки и знание вообще нуждаются в двойственности (амбивалентности), чтобы оставаться живыми, сохранять целостность, а также пригодность к употреблению.
Однако власть, стремящаяся упорядочить «месиво» реальности, не может не рассматривать эту двойственность как препятствие на пути к достижению ее целей. Она, естественно, пытается заморозить водоворот, преградить путь всем нежелательным поступлениям в контролируемый ею массив знания, «запечатать» форму жизни, на которую она хочет сохранить свою монополию. Стремление к однозначному знанию («верному» благодаря отсутствию конкуренции) и попытки упорядочить действительность, сделать ее податливой для самоутверждающегося, эффективного действия, сливаются в единое целое. Желать полного контроля над ситуацией означает ратовать за четкую «лингвистическую карту», на которой значения слов не подлежат сомнению и никогда не оспариваются; на которой каждое слово безошибочно указывает на своего референта, и только эта связь может подразумеваться при его использовании. Вследствие этого двойственность знания постоянно порождает попытки «зафиксировать» определенное знание как обязательное и не подлежащее сомнению, т. е. как ортодоксальное, заставить уверовать в то, что это, и только это знание является безошибочным, что оно вне подозрений или по крайней мере лучше (более правдоподобно, надежно и полезно), чем его соперники. Она порождает тем самым и попытки обесценить альтернативные формы знания как низшие, заслуживающие названия предрассудка, суеверия, предвзятости или невежества, т. е. в любом случае ереси, постыдного отклонения от истины.
Эта борьба на два фронта (защита позиций ортодоксии и предотвращение или уничтожение ереси) контролирует интерпретацию как свою цель. Существующая власть стремится получить исключительное право решать, какую из возможных интерпретаций следу-16-943 ет выбрать и признать истинной (истинной, по определению, может быть только одна конкурирующая версия, а многие версии — ложны; ошибки многочисленны, а истина одна; презумпция монополии, исключительности, отсутствия конкуренции заключена в самой идее истины). Стремление к монополизации власти выражается в объявлении сторонников альтернативы диссидентами, в общей нетерпимости к плюрализму мнений, в цензуре и в крайнем своем выражении — в преследовании (сожжение еретиков Инквизицией, расстрел диссидентов во время сталинских чисток, узники совести при современных диктаторских режимах).
По своей природе социология на редкость плохо приспособлена к такому занятию, как «запирание» и «опечатывание». Социология — это расширенный комментарий опыта обыденной жизни, интерпретация, основывающаяся на других интерпретациях и, в свою очередь, питающая их. Она не конкурирует, но соединяет свои силы с другими частными дисциплинами, занимающимися интерпретацией человеческого опыта (литература, искусство, философия). Социологическое мышление, по меньшей мере, подрывает веру в исключительность и полноту какой бы то ни было интерпретации. Оно привлекает внимание к множественности опытов и форм жизни, показывает каждую из них как целостность саму по себе, как мир со своей собственной логикой и в то же время разоблачает всю фальшь ее самодовольства и якобы явной самодостаточности. Социологическое мышление не затрудняет, а способствует потоку переживаний и их обмену. И если говорить прямо, она прибавляет неопределенности, поскольку подрывает усилия «заморозить поток» и захлопнуть все входы и выходы. С точки зрения власти, озабоченной установленным ею порядком, социология является частью хаотичного мира, скорее проблемой, чем решением.
Наилучшая служба, которую социология может сослужить людям в их повседневной жизни и сосуществовании, — это стимулирование взаимного понимания и терпимости как постоянных условий общей свободы. Социологическое мышление не может не способствовать пониманию, которое порождает терпимость, и терпимости, делающей понимание возможным. Как сказал американский философ Ричард Рорти, «если мы позаботимся о свободе, истина и добро сами о себе позаботятся». Социологическое мышление помогает делу свободы.
Что еще стоит прочесть
Самое большее, что могла сделать эта книга, — привить вкус к социологии, дать некоторое представление о том, чему могут научить социологические выводы и рассуждения. Теперь вы, наверное, прекрасно понимаете, что такое социология и как она может помочь осмыслению вашей жизни и окружающего мира. Однако не обольщайтесь: ваше познание социологически не завершено. Вы еще весьма далеки от исчерпания всего накопленного социологией богатства, которое может открыться тем, кто будет упорно продолжать ее изучение. Пойдите в университетскую библиотеку и как следует просмотрите полки с книгами по социологии. Вы увидите, как много еще книг можно прочесть и насколько интригующи их названия. В самом деле, социология — это научная дисциплина с давними традициями, глубоко повлиявшими на все современное мышление: ведь она исследовала насущные для нашей повседневной жизни проблемы. Но социология — и развивающаяся наука, постоянно пополняющая свои и без того внушительные достижения новыми идеями и исследовательскими находками. Вполне возможно, что поход в библиотеку обескуражит вас, вы растеряетесь при виде огромной массы литературы, может быть, вашего прежнего энтузиазма по поводу дальнейших занятий несколько поубавится или вы вовсе откажетесь от них. Но не огорчайтесь и не поддавайтесь искушению забросить эти занятия.
Социологическое знание может показаться всеохватывающим, однако большая часть его касается того, что вы прекрасно знаете и чувствуете, что вполне созвучно вашему опыту. Ваши усилия не пропадут даром, и наверняка освоение богатства социологического знания окажется вам по силам. К счастью, есть социологическая литература, написанная главным образом для того, чтобы помочь вам справиться с поставленной задачей: ее авторы относительно легко вводят вас о основную социологическую проблематику. Некоторые из книг (далеко не все) мы сейчас назовем и вкратце охарактеризуем. Но еще раз хотим предупредить: это лишь выборка, а не исчерпывающий перечень. По мере продвижения вперед вы будете все более уверенно выбирать направление, больше опираться на собственные суждения; сами станете выбирать, что вам читать и где искать.
Наверное, начать следует с «Социологии» Энтони Гидденса (готовится к изданию на русском языке — Прим. ред.), представляющей собой наиболее подробную карту социологической территории, наиболее полный и современный обзор того, чем занимается социология, конечно, насколько такой обзор вообще может быть полным. Вероятно, вам трудно будет осилить всю книгу за один присест, но это и не столь важно. Считайте ее справочником и путеводителем, из которого вы узнаете о том, что можно найти в работах разных социологов, какие рассуждения вы в них обнаружите. Затем можно выбрать и сосредоточиться на определенных проблемах или направлениях и изучать их более углубленно. У вас будет меньше шансов утонуть в море литературы, поскольку путь для вашего странствия будет уже хорошо размечен.
Хотя систематические обзоры состояния дел в социологии (в ряду которых книга Гидденса — один их лучших) являются чрезвычайно важным и необходимым подспорьем для каждого новичка, тем не менее они не могут заменить непосредственного знакомства с источниками — с работами людей, сформировавших особый, социологический подход к изучению окружающей действительности, определивших главные темы социологии и ее основные понятия. Для того чтобы осмыслить и усвоить общий социологический опыт, необходимо иметь представление и о мыслительном процессе, сопровождавшем его накопление; надо «почувствовать», как медленно и кропотливо он выстраивался и приобретал свои нынешние очертания; наконец, важно понять, чего хотят все эти умные люди, чем они живут, чем интересуются, какие проблемы стремятся решать. Поэтому ваше знакомство с социологической мыслью нельзя считать полным без чтения «классики» или хотя бы отрывков из классических работ. Есть несколько сборников таких текстов, которые значительно облегчат вашу задачу.
Наиболее разносторонним является сборник под редакцией Л. Козера и Б. Розенберга «Социологическая теория: антология» (Sociological Theory: A Book of Reading, edited by Lewis A. Coser and Bernard Rosenberg), выдержавший пять изданий, причем постоянно обновлявшийся. В этом сборнике тексты очень удобно распределяются по основным темам социологических исследований, показывая, как различные направления социологической теории способствовали осмыслению той или иной проблемы, как в спорах и дискуссиях ученые дополняли друг друга. Некоторые сборники текстов построены иначе: они сосредоточены на какой-либо одной теории, содержат выдержки из работ какого-то одного теоретика и тем самым раскрывают последовательность развития теорий разного рода проблем. Среди книг такого типа особо стоит отметить сборники текстов из работ Макса Вебера (под редакцией Дж. Элдриджа), Эмиля Дюркгейма (под редакцией Э. Гидденса) и Карла Маркса (под редакцией Т. Боттомора и Рубеля). К сожалению, подобного сборника работ Г. Зиммеля нет, но вы можете получить хорошее представление о его социологических взглядах по очеркам, собранным в книгах «Конфликт и современная культура» под редакцией К. Эцкорна (The Conflict in Modern Culture, ed. by K.P. Etzkorri) и «Индивидуальность и социальные формы» под редакцией Д. Левина (On Individuality and Social Forms, ed. by D.N. Levin).
Если вы хотите получить общий обзор социологических направлений в сравнительно простом изложении, то вам вполне подойдет книга Стивена Меннела «Социологическая теория: области применения и составляющие» (Stephen Mennell. Sociological Theory: Uses and Unities). Исключительную познавательную ценность имеет введение в различные социологические теории, представленное в небольшой книге Д. Фризби и Д. Сэйера «Общество» (David Frisbi and Derek Sayer. Society); в ней очень хорошо показано, как способ восприятия социальной реальности зависит от выбранной ученым теоретической позиции. Наконец, стоит упомянуть еще две очень важные книги, в которых четко прослеживаются наиболее спорные моменты в представлениях разных социологов о том, какие задачи должна решать социология и какую роль она призвана играть в человеческой жизни. Мы имеем в виду «Социологическое воображение» Ч. Райта Миллза (С. Wright Mills. The Sociological Imagination. Готовится к изданию на русском языке. — Прим. ред.), написанную тридцать лет назад, но до сих пор не утратившую своей актуальности, и «Приглашение в социологию: гуманистическая перспектива» Питера Бергера (на русском языке: М., 1996. — Прим. ред.), в которой в очень доступной форме излагаются сомнения и предпочтения социологов, характерные для их творчества в последние десять лет.
Однако подчеркивая важность приобретения надежных социологических знаний, мы должны предупредить: никакое количество теоретических изысканий не сможет дать вам того, что дает простое наблюдение социологии «в деле», т. е. способность использовать теоретические наработки ученых и понятийный аппарат социологии для лучшего понимания явлений, на первый взгляд, хорошо знакомых нам из прошлого опыта или из расхожих суждений о них. Несть числа хороших, ярких работ, каждая из которых может научить большему, чем самый удачно систематизированный учебник. Любой набор таких работ будет произвольным и весьма неполным, и выбор, сделанный в нашей книге, — не исключение.
Из книги Кришана Кумара «Пророчество и прогресс» (Krishan Kumar. Prophecy and Progress) вы узнаете, как можно представить себе мир, в котором мы живем — современный, индустриальный мир, как увидеть направление, в котором он изменяется. Вы поймете, что историю этого мира можно рассказывать по-разному, и хотя каждый ее вариант содержит в себе зерно истины, тем не менее ни один из них не является исчерпывающим. Вы узнаете также, что события, которым когда-то придавалось особое значение, со временем утрачивают его и заменяются другими, кажущимися теперь более значимыми. Иные же, наоборот, переживают свое время, стремясь вобрать в себя смысл нового, изначально не присущего им опыта. Прочтите внимательно книгу Кумара, и вы много узнаете о замысловатых отношениях между знанием и реальностью, между нашими коллективными представлениями о мире и нашими коллективными действиями в нем.
Книга Бенедикта Андерсона «Воображаемые сообщества: размышления о происхождении и распространении национализма» (Benedict Anderson. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Готовится к изданию на русском языке. — Прим. ред.) дополняет книгу Кумара. В ней говорится о том, как создаются истории наций, национальных сообществ, национальных судеб и как они, в свою очередь, влияют на наши действия, вызывая в нас чувства приверженности или враждебности, как в результате восстает та самая реальность, которую эти созданные людьми образы (наций и т. д.) пытались представить, хотя они и в самом деле сплачивали людей и становились «непреложными фактами их жизни». Таких передаваемых из уст в уста образов и трактовок исторических фактов очень много и зачастую они противоречат друг другу. Не случайно воссоздаваемая нами на их основе реальность оказывается далеко не однозначной. Но эта неоднозначность, подчеркнем еще раз, лишь отражает несоответствие наших образов с их предполагаемой ясностью и четкостью, и той двусмысленности, которая вытекает из подчиненности человека множеству подчас совершенно не зависящих друг от друга сил.
В книге Мери Дуглас «Чистота и опасность» (Mery Douglas. Purity and Danger. Готовится к изданию на русском языке. — Прим. ред.) речь идет о свойственных всем нам попытках преодолеть неполноту и условность любой трактовки истории; о нашем стремлении сделать собственные представления о мире более ясными и недвусмысленными; о нашем желании втиснуть мир в рамки таких представлений («срезать углы»; провести четкие границы и защитить их от «нарушителей»; сокрушить все, что посягает на целостность данных границ, все, что может быть истолковано неоднозначно). Из книги Мери Дуглас вы узнаете, что подобные усилия напрасны, двусмысленность будет сопровождать нас всегда, ибо сам жизненный мир слишком «текуч» и подвижен, чтобы наше знание, основанное на противопоставлениях и четких разграничениях, способно было воспринять его и усвоить. Однако вы убедитесь и в том, что попытки внести ясность в наши представления тоже нельзя прекратить, люди никогда не откажутся от них — ведь всем нам нужна ясность в жизни.
В книгах «Стигма» и «Представление себя другим в повседневной жизни» (Erving Goffman. Stigma; Erving Goffman. Presentation of Self in Everyday Life. Готовятся к изданию на русском языке. — Прим. ред.) Ирвинг Гофман показывает, как каждый из нас пытается справиться с этой неизбежной двусмысленностью, с вероятностью того, что вещи могут оказаться вовсе не такими, какими они нам представляются. Обе эти книги посвящены нашим самым насущным проблемам: кропотливой и нескончаемой работе по установлению собственной идентичности и страстному, хотя и не всегда успешному, навязыванию результатов этой работы окружающим нас людям. Вы увидите, что знать, как правильно исполнять свою роль, — это одно, а убедить окружающих в том, что вы хорошо ее исполняете, — совсем другое. Вы поймете, почему мы так часто испытываем неудобство, сталкиваясь лишь с явлением, почему хотим добраться до сути — понять, кем на самом деле являются окружающие нас люди. Но в том и другом случае судьба этих попыток — всегда оставаться незавершенными, и в конечном счете все, на чем основываются наши взаимодействия, — это вера, которая может быть обоснованной, а может и не быть таковой.
Из книги Ричарда Сеннета и Джонатана Кобба «Скрытые пороки класса» (Richard Sennet and Jonathan Cobb. Hidden Injuries of Class) вы узнаете, что в попытках сконструировать свою тождественность, идентичность и добиться ее принятия обществом вступающие во взаимодействие стороны, как правило, не равны. То, что говорят или повторяют одни люди, имеет огромное влияние — такие люди облечены властью; другие же должны воспринимать себя и оценивать свои качества, исходя из того, что говорят власть предержащие. Шансов на то, что их собственные слова будут восприняты, очень мало. До тех пор пока эти другие находятся в подчиненном положении, они будут возмущаться тем, что власть предержащие представляют их «низшими», будут винить их за такое отношение к себе; но им ничего не остается, как действовать соответственно, словно представление верно. «Скрытый порок» в названии книги — это уязвленное достоинство. Необходимость подчиняться ценностям, которые не принимаешь, переживается наиболее болезненно, она воспринимается, хотя и не сразу отчетливо, как несправедливость, заставляющая людей остро чувствовать классовое или любое другое неравенство.
Книга Дика Хебдиджа «Скрываясь на свету» (Dick Hebdidge. Hiding in the Light) поучительна для понимания проблем, связанных с существованием в условиях неопределенности и неравенства. Из этой книги вы узнаете о тяготах такой жизни, а также о том, как все новые и новые поколения молодых людей противостоят им. В конечном счете, вы лучше поймете на первый взгляд нелепую и обескураживающую «молодежную культуру»: за ее экзотическими и шокирующими проявлениями вы увидите потребность молодежи в том, чтобы преобразовать эту униженность в гордость, чтобы сопротивляться подавлению, отыскать для себя островок свободы в море зависимости, заявить о себе во весь голос и быть услышанной. Исследование Хебдиджа поможет вам лучше понять сложную, диалектическую взаимосвязь зависимости и свободы, ограничения и самостоятельности.
Хотелось бы дать маленький совет: когда вы будете читать эти книги по социологии (и, надеюсь, многие другие), обращайте внимание не только на то, о чем в них говорится, но и на разнообразие стилей, в которых они написаны. А различаются они практически во всем: и в том, как авторы отбирают и обозначают исследуемую проблему, и в том, с каких позиций они рассматривают ее, и, наконец, в том, как они объясняют приводимые примеры. Различия книг — не в том, «плохая» это или «хорошая» социологическая работа (хотя, как вы сможете убедиться, «плохих» работ ничуть не меньше, чем «хороших»). Существование различий говорит о многообразии и неоднозначности нашего опыта, а также о том, что толкования его порой очень противоречивы. Однако, несмотря на различия, все книги объединяет то, что их авторы сосредоточиваются на нашем жизненном опыте и не пытаются преуменьшать его сложность, представлять очевидными вещи, которые отнюдь не являются таковыми, что они не стремятся к простым и удобным объяснениям, а напротив, хотят раскрыть и осмыслить сложность нашей повседневной жизни. Именно это и делает книги образцами «хорошей социологии» и, вместе с тем, полезным и занимательным чтивом.
Послесловие научного редактора и переводчика
Зигмунт Бауман принадлежит к числу тех определяющих «лицо» социологической науки сегодня ученых, которых невозможно представить с помощью привычных клише вроде «известный польский социолог» или «выдающийся британский социолог». Социология Зигмунта Баумана, не претендуя на абсолютную завершенность «системы» или «направления» в теории с целой «школой» последователей, являет собой особый образец социологической культуры, который нельзя свести ни к одной из известных парадигм, ни к какой-либо их эклектической комбинации. Волею судеб ему на собственном опыте довелось испытать и фашизм, и социализм польского образца, а после эмиграции в 1968 г. в Англию — и современный капитализм. Маргинальное положение З. Баумана по отношению к различным культурам и режимам позволяет ему сохранять критическую дистанцию наблюдателя, знающего ситуацию изнутри каждого из социумов, способного и сопереживать, и анализировать, и сопоставлять их проблемы, благодаря чему его социология способна выполнять функцию социальной рефлексии par excellence. Уровень этой рефлексии у З. Баумана не ограничивается эпистемологическими рамками социологии как научной дисциплины; это, скорее, экзистенциальная рефлексия, стремящаяся дать ответ на вопрос не только о том, как социология получает знание об обществе, но и о том, как возможно и чем оправдано ее существование в обществе.
Сверхзадачей и фундаментальным вопросом, который призвана решать социология в современном мире и который придает особую гуманистическую направленность социологии З. Баумана, является вопрос человеческой свободы — как ее обрести и как ею распорядиться. Власть и культура в современном обществе становятся основными областями социологического теоретизирования. Многочисленные книги З. Баумана (а их более 60) так или иначе сосредоточиваются на этих вопросах.
Систематический анализ современного общества в разнообразных его проявлениях, обусловленных нерасторжимой взаимосвязью власти и культуры, представлен в трилогии «Законодатели и интерпретаторы» (Legislators and Interpreters: On Modernity, Post-modernity and Intellectuals. Cambridge: Polity Press, 1987), «Современность и Холокост» (Modernity and the Holocaust. Cambridge: Polity Press, 1989) и «Современность и амбивалентность» (Modernity and Ambivalence. Cambridge: Polity Press, 1991).
Культура как практика, как действие (в Марксовом понимании), как двуединый процесс закрепления структуры и структурирования; асимметричная структура власти; социальный контроль в современном обществе и роль интеллектуалов; кризис современного «общества потребления» и «процесс децивилизации»; переход к «постмодернизму», который в последней из упомянутых работ З. Бауман определяет как «модернизм, смирившийся с собственной невозможностью» («Modernity and Ambivalence». Р. 272); геноцид как непременный спутник современной технократической цивилизации; социальные функции утопии в современном обществе; «досоциальные основания нравственного поведения»; социальный порядок в целом и амбивалентность — вот лишь самый общий перечень фундаментальных вопросов, позволяющих осмыслить современную реальность социологически.
Предлагаемая читателю книга З. Баумана — это еще одно подтверждение его приверженности постановке «классических» и социально-философских вопросов. Только на первый взгляд она может показаться обычным популярным введением в социологию, менее интересным по сравнению с его знаменитыми специальными работами. На самом деле это принципиальное сочинение, позволяющее составить представление о том, что З. Бауман понимает под социологией как таковой. Правда, сам он во введении утверждает, что обращался к одним темам, опускал другие, несколько раз возвращался к третьим, исходя из основной задачи книги: быть социологическим комментарием к повседневной жизни, а не всеохватывающей картиной социологии. Отнестись к этому утверждению надо серьезно, но правильно оценить его можно только в связи с другими высказываниями З. Баумана о характере и задачах социологии. Он неоднократно акцентирует родство и тесную взаимосвязь социологии и обыденного знания. В самом конце книги он высказывается недвусмысленно: социология — обширный комментарий к опыту повседневной жизни. Так это и надо понимать: вся социология, а не только часть ее. Однако не следует думать, будто те области профессиональной работы социологов, которые не столь тесно соприкасаются с обыденным миром, объявляются им ненужными или неинтересными. Просто то, что касается повседневности, имеет совершенно особый статус в социологии. Говоря словами поэта, «здесь речь идет о праве первородства».
«Социологический комментарий к повседневности» важен, по мысли автора, не только как теоретическая помощь, которую мы получаем от науки при объяснении происходящего. Социология выступает также в качестве важного ресурса индивидуальной вменяемости и свободы. Отдавая себе отчет в многообразии и обусловленности явлений социальной жизни, мы в значительной мере освобождаемся и от привычного автоматизма, и от внезапных аффектов в своем собственном поведении. Социолог наследует просветителю, но уже не как законодатель, а как интерпретатор, если вспомнить об одной из самых известных книг З. Баумана.
Обратим внимание прежде всего на сложность задачи, стоявшей перед автором. С одной стороны, он явно не собирался излагать только одну концепцию, «большую теорию», будь то своя собственная или чья-то еще. Он стремился дать обобщенное знание, представление об основных моментах социологического мышления, черпая материал из многих источников. С другой стороны, само единство изложения, сведёние многих концепций в рамках одной книги, одного круга рассуждений должны были бы внушить читателю мысль о некотором метатеоретическом единстве социологии. Однако это — по научным канонам — пришлось бы обосновывать в ходе сложной и нетривиальной процедуры кодификации научного знания, что явно противоречило бы основной интенции книги. А поскольку любая метатеория грозит обернуться либо сугубой формалистикой, либо «наиболее общей» и «единственно правильной» теорией, постольку возникает опасность утратить собственно предмет социологии или выступить с несоразмерными притязаниями. Все крупные современные теоретики решают эту проблему по-своему. Не составляет исключения и З. Бауман.
Для того чтобы оценить достоинства избранного им решения, обратим внимание на то, как мало в книге имен (не считая рекомендаций по дополнительному чтению, их всего шестнадцать, а за вычетом имен несоциологов — и того меньше). З. Бауман упоминает только «самых-самых» и только в том случае, если их концепции сыграли совершенно исключительную роль[6]. Но главная особенность его заключается в том, что он иначе выстраивает аргументацию: идет не от теорий, а от проблем. Социология является особой дисциплиной (несмотря на всю сомнительность ее внутреннего единства, о чем так хорошо знают все современные теоретики), а социологическое мышление — специфическим способом мышления, потому что они особым образом проблематизируют социальную жизнь. Речь идет, подчеркивает З. Бауман, именно о проблемах, а не о решениях. Почти во всех случаях эта проблематизация имеет форму дихотомии, точнее оппозиции, пары противоположностей: «свобода и зависимость», «вместе и врозь», «власть и выбор», «порядок и хаос». Это именно социальные оппозиции[7], но в то же время — и конкурирующие перспективы рассмотрения социальности. Они выбраны в качестве лейтмотивов глав с тем, чтобы таким образом развернуть вокруг них целый веер определений, различений и наблюдений.
Так выстраивается не только картина социологического способа мышления, но и картина самой социальности. Пожалуй, если и можно было бы сделать какой-то упрек автору, то только разве что в недостаточно четкой пространственно-временной локализации его описаний. Строго говоря, речь в книге идет не об опыте повседневности вообще, а об обыденной жизни современного («постсовременного») Запада. Читая ее, мы узнаем себя и по-новому понимаем свою социальную жизнь в той мере, в какой она приближается к этому образу или совпадает с ним.
Новый, независимый взгляд на представляющиеся обыденному человеческому сознанию такими незыблемыми и естественно подавляющими индивидуальную свободу «воображаемые сообщества» и структуры «расколдовывает» их для нас и открывает новые перспективы человеческой свободы. В рабочем кабинете З. Баумана висит литография П. Пикассо с изображением Дон Кихота, сражающегося с мельницами. Если и можно предположить, что З. Бауман в какой-то мере отождествляет себя с этим образом (Culture, Modernity and Revolution: Essays in Honour of Zygmunt Bauman/Ed.by R.Kilminster, I. Varcoe. L.: Routledge, 1996. P. 7.), то наш современный социологический Дон Кихот сражается с ними не потому, что сам видит в них чудовищ, а потому, что хочет «расколдовать» их для нас, помочь нам взглянуть на мир свободно.
А.Ф. Филиппов, С.П. Баньковская
Примечания
1
От латинского ego — я. (Прим. перев.)
(обратно)2
Анклав (фр. enclave) — часть территории, отгороженная от остального мира физическими, а чаще духовными (моральными, политико-идеологическими, культурными и т. д.) границами. (Прим. перев.)
(обратно)3
Термин Gemeinschaft в данном случае не поддается переводу: ни «сообщество», ни «общность» не исчерпывают его многообразных значений. (Прим. перев.)
(обратно)4
Мачо — воплощение мужественности, мужского начала во всех его проявлениях, но прежде всего в физическом и сексуальном («мужчина-самец»). (Прим. перев.)
(обратно)5
Гетерономные — здесь: зависящие от многих различных причин, обстоятельств. (Прим. перев.)
(обратно)6
Важно подчеркнуть, что это именно выбор, причем далеко не самоочевидный. Здесь скорее интересно, то, какие имена опушены. Если З. Бауман упоминает Г. Зиммеля и М. Вебера, а не К. Маркса, З. Фрейда, а не К.Г. Юнга, Н. Лумана и Т. Парсонса, а не Ю. Хабермаса и не П. Бурдье, то уже одно это свидетельствует о многом. За каждым именем — не просто теоретический аппарат, но определенный способ проблематизации социальности.
(обратно)7
Чтобы оценить этот момент, рекомендуем обратиться к тому фрагменту книги, где З. Бауман пишет о роли бинарных оппозиций в культуре.
(обратно)

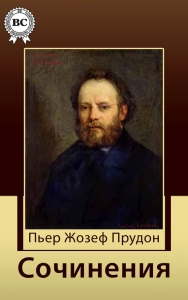

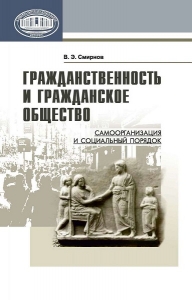



Комментарии к книге «Мыслить социологически», 3игмунт Бауман
Всего 0 комментариев