Л.А. Гриффен
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ОРГАНИЗМ
(введение в теоретическое обществоведение)
Киев
“ЭКМО”
2005
ББК 60
Г 85
Гриффен Л.А.
Г85 Общественный организм (введение в теоретическое обществоведение). Изд. 2-е. – К.: ЭКМО, 2005. – 628 с.
ISBN 966-7405-66-4
Целью настоящей работы явилось начальное изложение теоретических основ обществоведения как естественнонаучной дисциплины. В его основу положено представление об обществе как высшей ступени развития живого, как о целостном организме, сформировавшемся и развивающемся в вероятностно-статистической среде. С этой позиции рассмотрены сущность и становление общества, определены необходимость и основные факторы его развития, исследованы те закономерные формы, в которых оно происходит, а также предпринята попытка прогноза дальнейшего развития.
ББК 60
Рекомендовано к печати Ученым советом факультета социологии Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» (протокол № 4 от 23.06.2005 г.).
Рецензенты:
доктор экономических наук, профессор Найденов В.С.
доктор философских наук, профессор Новиков Б.В.
доктор философских наук, профессор Суименко Е.И.
ISBN 966-7405-66-4 Л.А. Гриффен, 2005
Научное издание
Гриффен Леонид Александрович
Общественный организм
(введение в теоретическое обществоведение)
Редактор И.Л. Бобрякова
Компьютерный набор и верстка Л.А. Берест
Подписано к печати 1. 07. 2005.
Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная.
Печать – ризография. Гарнитура Times New Roman.
Усл.-печ. л. 39,25. Тираж 300. Зак. .
Издательство ПП «ЭКМО»
г. Киев, проспект Победы, 37
Свидетельство серия ДК № 1046 от 17.09.02 г.
Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ………………………………………………………………
ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………….
Раздел первый ОЧЕРКИ ПО ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ
1.1. Объект развития ……………………………………………
1.2. Диалектика и общая теория систем ………………..
1.3. Взаимодействие системы и среды ………………….
1.4. Живая система в вероятностной среде ……………
Раздел второй ПРИРОДА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ОРГАНИЗМА
2.1. Общество как организм …………………………………
2.2. Человек и общество ………………………………………
2.3. Потребности человека …………………………………..
2.4. «Социальные» эмоции …………………………………..
2.5. Искусство как средство социализации. …………..
2.6. Способы социальной компенсации. ……………….
2.7. Некоторые факторы развития ………………………..
Раздел третий СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ОРГАНИЗМА
3.1. Антропосоциогенез. Первобытное общество…..
3.2. Разложение родового строя (община) …………….
3.3. Становление классового общества ………………….
3.4. Деструктивная фаза классового общества ………
3.5. Конструктивная фаза классового общества ……..
3.6. Капитализм и социалистические революции……
3.7. Высшая стадия капитализма – империализм …..
Раздел четвертый ПЕРЕХОД К ГЛОБАЛЬНОМУ
СВЕРХОРГАНИЗМУ
4.1. Социализм как общественно-экономическая формация ……………………………………………………
4.2. Производственные отношения социализма …….
4.3. Социализм и проблема классов ………………………
4.4. Становление и развитие социализма ……………….
4.5. Кризис социализма ………………………………………..
4.6. Будущие судьбы социализма …………………………..
ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………….
4
7
44
69
96
115
132
152
182
200
216
232
257
283
314
339
362
389
422
449
476
496
510
536
562
586
611
ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга представляет собой попытку более или менее систематического изложения теоретических основ науки об обществе как естественнонаучной дисциплины. Существенные отличия общественных явлений от явлений в биологической сфере приводили к тому, что столетиями человек и общество изучались так называемыми «общественными науками», достаточно далеко отстоящими от естествознания. По мере изучения тех связей, которые существуют между различными явлениями жизни, все больше проявлялись закономерности, охватывающие их все без исключения. А это требует внесения определенных коррективов в науку об обществе. Но поскольку те, кто называет себя обществоведами, обычно излишне не отягощены сведениями из области естественных наук, трудно рассчитывать, что им удастся выработать общий подход. Да они и не очень к этому стремятся. Гораздо чаще такого рода попытки предпринимаются естествоиспытателями. Однако здесь слишком часто имеет место другая крайность. Если обществоведы ревниво охраняют свою «парафию» от вторжения «чужаков» в то, что кажется им принципиально отличным от «животной жизни», то естественники, наоборот, как раз склонны упускать из виду своеобразие общественных явлений, и стремятся решать возникающие здесь задачи привычными им методами. Даже лучшие из естествоиспытателей (от Ч.Дарвина до К.Лоренца) оказывались несвободными от попыток проводить прямые параллели между явлениями «чисто» биологическими и общественными. Что совершенно недопустимо, поскольку общественные явления суть не повторение, но продолжение явлений биологических, дальнейшее развитие в известном смысле тех же живых систем на совершенно ином качественном уровне. Такого рода упрощения, разумеется, препятствуют успешному развитию обществоведения естественнонаучными методами. Тем не менее, вызванные объективной необходимостью научной интеграции попытки «вмешательства неспециалистов» в обществоведческие проблемы, безусловно, будут продолжаться. Одной из них и является настоящая работа.
Сложность поставленной задачи делает весьма проблематичным ее успешное решение «с чистого листа». К счастью, в этом и нет необходимости, ибо основы научного (естественнонаучного!) рассмотрения обществоведческих проблем уже давно заложены марксизмом.
Но нынче марксизм как научная теория переживает тяжелые времена. И дело не в том, что сегодня (как, впрочем, и много раз до этого) его опять и опять объявляют «несовременным», «устаревшим», а то и вообще «ошибочным». Подобного рода подход носит конъюнктурный и приспособленческий характер, научного интереса не представляет и не может заслонить той огромной роли, которую марксизм играл и играет в постижении общественных процессов. Нет, марксизм не потерял последователей. Однако большинство его сегодняшних «сторонников» также пытаются использовать его для своих частных целей.
Так, сегодня марксизм (с выхолощенной революционной составляющей) достаточно моден в весьма респектабельных западных научных центрах типа Гарварда или Стенфорда, а Маркс фактически продолжает считаться «основателем современных социальных наук». «Советский марксизм» в этом случае представляется только одной из ветвей − неудачной − марксистской мысли.
Для других же (в основном в «постсоветских» странах) как раз существует только эта версия «марксизма» (адаптированная к потребностям господствующей социальной группы советского общества − номенклатуры), которая в свое время была кощунственно названа «марксизмом-ленинизмом». Такого рода «марксисты» давно уже превратилась в узкую секту, признающую только свое «священное писание». Не устраивающую их действительность эти люди попросту не воспринимают, а потому такой «марксизм» никакого влияния на научные исследования общества оказать не может.
А вот тех, кого можно было бы назвать «ортодоксальными марксистами», то есть тех, кто, принимая принципиальные положения марксизма, понимает, однако, что классический марксизм, столь блестяще развитый его основателями, есть только ступень в бесконечном процессе изучения общества, и требует дальнейшего развития применительно к новому уровню знаний и новым задачам, сейчас практически не осталось. Автор попытался подойти к изучению общества именно с позиций такого «ортодоксального марксизма».
В свое время настоящая работа задумывалась как популярное изложение тех идей, которые возникают при развитии классического марксизма. Однако результат получился несколько иным. Поскольку рассматриваемые проблемы имеют так сказать «высший уровень сложности», пришлось затрагивать ряд вопросов, требующих определенной подготовки. Причем в различных областях, поскольку оказалось необходимым рассматривать всю проблему в целом. (Следствием этого, кстати, оказалось то, что книга состоит из четырех разделов, каждый из которых в известном смысле можно считать самостоятельным произведением).
По причине необходимости охвата широкого круга проблем существенно возрастал объем. Чтобы избежать его чрезмерного увеличения, пришлось рассматривать решения только основных задач, часто оставляя в стороне вытекающие из них важные следствия. В результате неизбежно получилось то, что Ф.Достоевский неодобрительно именовал «писать эссенциями». Автор стремился обеспечить логически последовательное изложение, но не имел возможности «подробно разъяснить» излагаемые положения, как того справедливо требовал Ч.Дарвин по отношению к каждой сколько-нибудь новой идее. Все это, безусловно, затрудняет восприятие изложенного в книге материала.
Как показало первое издание настоящей работы, существенным оказался и специфический характер того контингента читателей, на который она пока что может рассчитывать. На протяжении многих десятилетий эти люди привыкли к тому, что практически во всех «марксистских» книгах прилежно пересказывается одно и то же; разнообразие даже в мелочах не поощрялось. Исследователи типа Э.Ильенкова составляли крайне редкое исключение; их обычно по-настоящему и не понимали (да, в общем-то, и не читали). В результате возникла стойкая привычка чтения «по диагонали» - не было смысла вчитываться в то, что и так давным-давно известно. Глаз был «настроен» разве что на вылавливание «крамолы».
Читать таким образом данную работу просто не имеет смысла, ибо истины марксизма в ней практически (кроме случаев, где это требуется для подчеркивания преемственности и обеспечения связности изложения) не пересказываются, они заранее полагаются известными читателю. Зато «крамола» - на каждом шагу, поскольку данная работа предполагает развитие классического марксизма (а следовательно, изложение в основном того, чего в марксизме классическом не было и быть не могло), а в ряде случаев (как это и должно быть при любом развитии) и его диалектическое отрицание.
С тех пор, как появилось первое издания настоящей работы, прошло уже пять лет. За это время произошло немало событий, в результате которых автор во многом расширил свои представления о затронутых вопросах, но поскольку это принципиально не изменило его точку зрения, существенная переработка книги не представлялась целесообразной. Поэтому второе издание, если не считать некоторых исправлений и уточнений, практически повторяет первое. Некоторым же новым моментам, связанным с затронутыми вопросами, посвящена другая работа автора (Гриффен Л.А. «Капитал» и капитализм. К., 2003).
Л. Гриффен
ВВЕДЕНИЕ
Общепризнанной науки под названием «обществоведение» (тем более «теоретическое обществоведение» или «общая социология»), к ведению которой должно было бы относиться то, что составляет предмет настоящей работы, пока не существует. Тому есть множество причин, из которых две наиболее важные отражают объективные и субъективные особенности, связанные со своеобразием данного объекта изучения.
Во-первых, общество – весьма сложный объект познания, едва ли не самый сложный из всех, которые нам сегодня известны. А это значит, что прежде, чем могла появиться реальная возможность обобщения, позволяющего сформулировать хотя бы в наиболее общем виде основные законы движения данного объекта, потребовались как огромный объем знаний в самых различных областях, так и высоко развитая методология познания. И то, и другое можно было приобрести только в результате длительного процесса накопления знаний о мире вообще и умений ими пользоваться. Только продолжительное накопление фактического материала и методологических приемов привело к тому, что появилась возможность более или менее успешного решения задачи создания основ науки об обществе как особом объекте.
При этом следует иметь в виду, что в обществоведении мы пока имеем дело практически с единственным таким объектом – в отличие, например, от социологии, где уже достаточно давно1 считается, что подвергающийся анализу объект – «социальные роли, институциональные модели, социальные процессы, особенности культуры, эмоций, характерные для данной культуры социальные нормы, групповая организация, социальная структура, методы осуществления социального контроля и т.д.» – «должен представлять стандартизованную (т.е. закрепленную и повторяющуюся) единицу»2. Наука о том или ином объекте всегда стремится к созданию универсальной системы знаний о нем, охватывая все доступные сведения о его частных проявлениях. Только расширение ее охвата до достаточно большого числа такого рода проявлений создает возможность вычленения действительно общих закономерностей из множества тех, которые выражают особенности всего лишь того или иного частного случая. И особенно сложной оказывается ситуация тогда, когда за отсутствием других случаев мы вынуждены пытаться отыскать всеобщие закономерности, исходя из изучения единственного конкретного случая их проявления.
Именно это положение и имеет место при изучении такого явления как жизнь, когда биология имеет дело с единственным ее проявлением – проявлением только в земных условиях. Такое положение накладывает весьма существенные ограничения на возможности данной науки. Дж. Бернал писал: «Истинная биология, в полном смысле этого слова, была бы наукой о природе и активности всех организованных объектов, где бы они не находились – на нашей планете, на других планетах солнечной системы, в иных звездных системах или галактиках во все времена, будущие или прошлые». Но такой возможности она сегодня не имеет. Соответственно снижаются и ее возможности по формулированию своих общих законов. Биология – одна из наиболее древних наук, однако, по словам Дж. Бернала, «крупные обобщения, лежащие в основе любой науки, в биологии были сделаны сравнительно недавно, причем многие из них установлены еще не окончательно»3. Но биология по крайней мере имеет дело хотя бы с широким разнообразием проявлений жизни в земных условиях. А как бы она развивалась, если бы ей вообще был известен всего один биологический вид? Так что обществоведение, объектом изучения которого в конечном счете является человечество как целое, в этом отношении оказывается в еще более неблагоприятных условиях, чем даже биология, будучи вынужденным искать общие закономерности развития своего объекта на основе изучения единственного известного случая его реализации, причем есть все основания полагать, что и данный конкретный объект находится еще только в самом начале своего развития. Даже надежное доказательство всего лишь существования еще хотя бы одного такого рода объекта произвело бы поистине революцию в данной науке, но и его пока нет. Поэтому здесь особую важность приобретают методологические моменты, базирующиеся на всем опыте развития науки в целом.
Не менее важным является и то обстоятельство, что, во-вторых, общество есть не только объект, но и субъект познания. Не некие инопланетяне, а мы сами стремимся познать то, частью чего при этом являемся. Тот, кто в тот или иной момент выполняет роль «познающего органа» общества, находясь как бы «внутри» его в процессе его познания (каковой процесс при этом и сам является одним из познаваемых процессов, причем влияющим на остальные), оказывается в существенно отличном положении сравнительно с изучающим природные объекты (в том числе и человека как биологическое существо) естествоиспытателем, получающим возможность взглянуть на объект познания «со стороны» (поскольку его объект исследования – разумеется, только в определенном смысле, – можно считать локализованным «вне» его). Являясь «частью» познаваемого объекта, познающий субъект не в состоянии в достаточной мере дистанцироваться от тех процессов, которые служат для него предметом изучения. Еще больше возможности объективного исследования общества ограничиваются тем обстоятельством, что во всей до сих пор имевшей место истории при наличии в обществе социальной дифференциации исследователь обязательно входит в ту или иную социальную группу и просто не может не отражать в полученных им результатах ее частные интересы.
Сказанное вовсе не означает, что попытки обнаружить некоторые общие закономерности функционирования общества предпринимать было бесполезно. Они регулярно предпринимались и часто были небезуспешными. Нередко именно заинтересованность определенных (прежде всего господствующих) социальных групп в идеологическом оправдании своих действий, приводила к множеству попыток понять и объяснить общественную организацию – хотя и всегда с определенных позиций. Что же касается объема знаний, то они постепенно накапливались, требуя уже хотя бы для их передачи, как, впрочем, и для практического использования какой-то систематизации. А главное, что определенной систематизации знаний требовал сам характер субъекта познания и действия. Если бы человек существовал в природе в определенном смысле «сам по себе», т.е. как животное действовал бы здесь и сейчас в качестве некоторой целостности, действия которой определяются ее потребностями и наличными условиями их удовлетворения, то ему, как и животному, не требовалось бы систематизации и обобщения получаемых из внешней среды сведений как особого процесса, хватило бы и выполняющих ту же роль условных рефлексов. Но человек как существо общественное – часть целого, распространенного во времени и в пространстве, и познает он в качестве органа этого целого, среда обитания которого – весь мир. Познаваемое здесь и сейчас одним не только вполне может пригодиться не ему (с чем, повторим, в животном мире вполне справляются условные рефлексы), а кому-то другому – в ином месте в иное время, но именно так в основном и происходит. Тут уж без определенной организации разрозненных сведений в какую-то систему обойтись просто невозможно. Но уровень обобщения имеющихся сведений, характер устанавливаемых между ними связей в значительной степени определялись их объемом, причем зависимость здесь была отнюдь не только количественной.
Объясняя малышу, что такое дождь, ему не рассказывают о круговороте воды в природе, испарении и конденсации влаги, движении воздушных масс, водоносных слоях, мировом океане и т.п. Ввиду ограниченности знаний и умений ими оперировать ему приходится удовлетворяться более простым, опирающимся на наличную у него сумму знаний, объяснением, которое вследствие этого неизбежно будет логически незавершенным, а в чем-то и фантастическим. Но это объяснение хотя бы попытаются привязать (пусть и не впрямую) к имеющейся более обширной системе познаний, даже если при этом нарушаются какие-то логические связи между сообщаемыми сведениями. Да ребенок еще и не требует строгой логичности в качестве непременного атрибута знаний. Взрослый же человек, на опыте познавший наличие в мире причинно-следственных связей, будет стремиться отыскать их и тогда, когда имеющийся объем знаний еще объективно не позволяет этого сделать.
Уже на заре человечества, при весьма малом объеме фактических знаний и их ограниченности достаточно узкими рамками существования, ощущалась сильнейшая потребность в приведении их в некоторую систему. Проще всего при этом оказалось наложить на весь известный ареал обитания и множество разнообразных процессов в нем те причинно-следственные связи, которые человеку были относительно хорошо известны в его непосредственном окружении (ближайшая, прежде всего связанная с обеспечением жизненными средствами, природная среда, и отношения внутри определенного локального сообщества). Такое «наложение» составило первый вид организации имеющихся сведений о мире в некоторую целостность – мифологию.
«Миф есть первое выражение сознания человеком причинной связи между явлениями»4. «Мифические и сказочные сюжеты – отнюдь не произведение большой фантазии. Они воссоздают уровень знаний и способ выражения своего времени»5. Первоначально мифологические представления базировались на персонификации сил природы и в таком виде служили для определенной организации представлений о мире, позволяющей связать разрозненные знания о конкретных предметах и явлениях в общую картину. Основой мифологических представлений являлся образ – структурный элемент этой общей картины мира, объединяющий в единое целое группу разнородных, но взаимосвязанных (в действительности или только в представлениях) явлений. На первом этапе общественного развития образы, составляющие указанную картину, базировались на знаниях о тех животных, которые имели для людей жизненно важное значение – позитивное или негативное. Такого рода зооморфные обобщения играли свою роль до тех пор, пока общество-племя противостояло природе в своей целостности и внутренней однородности. Но с началом деструктивных процессов, ведущих к внутренней стратификации племени, с конкретизацией определенных общественных ролей отдельных индивидов положение меняется. В соответствии с этим меняется и характер персонификации сил природы, все более отождествляющихся с людьми, приобретающими в обществе определенные специфические, социально дифференцированные функции. «В самой родовой общине нет ничего мифологического и нет ничего чудесного, волшебного или магического. Но стоило только перенести общинно-родовые отношения на природу (а не переносить их на природу первобытный человек не мог, поскольку они были для него единственно близкими и понятными), как природа вдруг становилась мифической и магической, вдруг наполнялась живыми существами, но по своей огромности и силе уже бесконечно превосходившими человека и потому часто получавшими вид всякого рода чудовищ и страшилищ»6.
В соответствии с этим изменяется и отношение к такого рода мифическим объектам. Если поначалу в представлениях о мире имеет место так сказать «стихийный детерминизм» (предполагалось, что в природе, как и в племени, процессы идут так, как они должны идти, они вечны и неизменны, независимы от чьей бы то ни было воли, ими нельзя управлять, их нужно знать и к ним необходимо приспособиться), то с началом стратификации, когда какая-то часть общественных процессов приобретает вариантность, появляется возможность изменения ситуации посредством воздействия на определенного индивида, от воли которого хоть в какой-то степени зависит выбор варианта. Соответственно возможность «договориться» переносится и на мифологические персонажи. Это весьма существенно меняет положение: если первобытное общество не нуждалось в религии и не имело ее, то с началом его разложения создаются условия использования все тех же мифологических представлений уже не только для объяснения тех или иных явлений, но и для попыток влияния на них. Другими словами, при появлении зачатков индивидуальной «свободы воли», связанной с частичным выделением индивида из жестких правил функционирования первобытного общества, появляется стремление к определенному взаимодействию с «высшими силами» с целью их благоприятного функционирования, представляющее собой основу любой религии. В свою очередь связь религии с мифологией способствовала укреплению последней.
С другой стороны расширение знаний о мире неизбежно приводило к тому, что он все менее удовлетворительно укладывался в жесткие рамки заранее заданных образов. Более детальные сведения открывали в разнообразных явлениях, относимых к разным системам образов, ряд сходных черт, заставляя предполагать наличие в них некоторых общностей структур и элементов, как и определенной изоморфности законов, которым они подчиняются, соответствующим образом организуя системное обобщение имеющихся сведений. Свое высшее выражение такая система организации знаний нашла в философии, представляющей мир в виде некоторой (иногда довольно сложной) комбинации ограниченного числа исходных элементов. Идеальное отражение этих элементов, равно как и принципы их соединения представляют собой элементы построения философской системы – философские категории. В качестве основных, базовых элементов7 категории не имеют четко определенных дефиниций, представления о них формируются на основе опыта интуитивно и развиваются в процессе применения к конкретным явлениям.
Предмет философии достаточно существенно менялся во времени. В виде натурфилософии она включала все положительное знание своего времени и в этом качестве играла исключительно важную роль в обобщении наличных знаний о мире (Маркс даже работу Энгельса «Диалектика природы» называл «натурфилософским сочинением»8). По крайней мере это касалось неких исходных моментов. Так, Аристотель считал, что философия изучает «начала и причины (всего) сущего … поскольку оно берется как сущее». По мере формирования научного отношения к миру от нее начали отпочковываться отдельные науки со своим предметом, все сужая ее сферу. Процесс этот шел очень неравномерно, в зависимости от развития положительного знания и общественной ситуации, но неуклонно. Пожалуй, последними уже в сравнительно недавнее время отпочковались от философии такие отдельные науки, как психология, а затем конкретная социология (предметом которой, как мы видели, является функционирование не общества как целого, но отдельных людей и их групп в обществе). Уже давно в философии практически остались методология и общая социология («социальная философия», «философия истории»), предметом которой является общество как целое. Создав их научные основы, два гения – Гегель и Маркс – нанесли философии последний, решающий удар. Хотя в философии и после них сохранялись еще положительные моменты, но как некоего целого «научной» философии не стало (недаром Э.Ильенков назвал Гегеля «автором последней (!) системы “мировой философии”»9).
Сам «Гегель, в своем качестве “абсолютного идеалиста”, объяснял деятельность общественного человека свойствами всемирного духа. Раз даны эти свойства – дана “an sich“ вся история человечества, даны ее конечные результаты»10. Оказалось, что это не так. Но сомнение в том, что философская система в свернутом виде («в себе») может содержать полностью всю истину, автоматически лишает смысла саму философскую систему как таковую. Поэтому «систематика (т.е. построение абсолютно законченной системы – Л.Г.) после Гегеля невозможна. Ясно, что мир представляет собой единую систему, т.е. связное целое, но познание этой системы предполагает познание всей природы и истории, чего люди никогда не достигают. Поэтому тот, кто строит системы, вынужден заполнять бесчисленное множество пробелов собственными измышлениями, т.е. иррационально фантазировать, заниматься идеологизированием»11. Если в свое время такое положение было вызвано необходимостью, то теперь время это закончилось: «Систематическая философия бесконечно далека нам в настоящее время; философия этическая закончила свое развитие»12. Так что «живая» философия фактически завершилась Гегелем. Сохранение же еще и сегодня ее «оболочки» связано с тем, что научные основы как методологии (развитые Гегелем), так и общей социологии (развитые Марксом) еще не могут быть сегодня принятыми всеми из-за упоминавшегося выше влияния групповых (классовых) интересов. Тем, кого они сегодня не устраивают, приходится изворачиваться, придумывая новые системы для каждого отдельного случая – порою весьма остроумные, с интереснейшими частными результатами, но в целом совершенно бесперспективные. Что касается так называемых «философских вопросов» естествознания и других наук, то вообще «философский вопрос есть только скрытое желание получить определенный ответ, уже заключенный в самой постановке вопроса»13.
Такая судьба философии, однако, определилась далеко не только постепенной ликвидацией ее познавательного синкретизма. Суть ее как специфической формы познания отнюдь не сводилась к нерасчлененности научного знания. Философия выполняла еще и свою, только ей свойственную задачу. Если бы мыслящий, познающий человек был только «машиной для познания», для отыскания «холодной истины», синкретичность философии при всей связанной с этим специфике не выводила бы ее на протяжении столь длительного периода на присущий ей особый статус. Но дело в том, что стремление к знанию, сколь бы часто не принимало оно форму «чистого» научного интереса, всегда проявлялось соотносительно человеку. И касается это всех сторон и отраслей знания, однако прежде всего относится к тем его отраслям, которые занимались непосредственно человеком в самых различных аспектах. И вот здесь-то философия играла свою совершенно особую роль.
Протагоровское «человек — мера всех вещей» красной нитью проходило через всю историю становления науки. Но для последовательного проведения этого принципа объективно существовало одно очень важное препятствие. Заключалось оно в том, что в качестве такого «человека» принимался человек как личность, которой имманентно присущи те или иные качества. И действия этой личности, ее связи с другими людьми и с природой представлялись как определяемые данными качествами. Но в том-то и дело, что в действительности сущность человека не сводится к его личностным свойствам, на каком бы уровне мы их не брали. Сущность человека – «сущность “особой личности” составляет не ее борода, не ее кровь, не ее абстрактная физическая природа, а ее социальное качество»14. Другими словами, сущность того, что принималось за «меру всех вещей», в нем самом не заключается. По отношению к человеку как личности эта сущность находится вне его, лишь отражаясь в нем, хотя и выражается только и исключительно через него: в этом смысле индивид является всего лишь акцидентальным проявлением социальной субстанции. И прямая подстановка того, что светит только отраженным светом, вместо самого источника, неизбежно и постоянно приводила к расхождению между теоретическими выводами и практическим опытом.
Такое положение не могло быть терпимым, приходилось искать выход. И выход всегда находился. Состоял он в наложении на действительные, но неизвестные закономерности природы других, сформулированных искусственно, но таким образом, что полученные следствия достаточно точно совпадали с реально имеющими место (феноменологический подход). Классический пример — система Птоломея. Геоцентрическая система мира в своем простейшем виде позволяла достаточно точно описать действительное видимое движение Солнца, Луны и звезд. Но она давала совершенно недопустимые сбои, когда дело касалось планет, получивших такое наименование именно потому, что они «блуждали», не желая подчиняться тем же законам, что и остальные небесные тела. Из такого рода затруднений всегда существует два выхода: либо найти частный, пригодный именно для данного конкретного случая способ связать и такие «отклоняющиеся» конкретные проявления с существующими общими представлениями (теория ad hoc), либо отказаться от последних и попытаться найти новые, такие, которые охватили бы единой закономерностью все известные факты. Поскольку для последнего необходим качественный скачок в познании, условием которого является накопление опытного материала, то первоначально обычно выбирается первый путь. Так поступили и применительно к системе Птоломея, определив для планет чрезвычайно сложные законы движения в рамках все той же, изначально достаточно простой системы. Практическим результатом стала возможность согласовать теоретические представления с практическим опытом — на данном этапе развития представлений о мире. Этой системой можно было весьма успешно пользоваться в практических целях, но теоретическим исследованиям она в силу своей принципиальной ошибочности сильно мешала. Чтобы освободить для них простор, понадобился Коперник, охвативший единой закономерностью все известные факты. Но для этого пришлось отказаться от старой системы и создать принципиально новую — гелиоцентрическую.
Соответствующую роль в познании человека на протяжении веков играла философия — с тем, однако, отличием, что объект изучения оказался не на один порядок сложнее. Прямая подстановка человека как личности в «центр мироздания», как и подстановка Земли в центр мира, не могла дать на каждом этапе результатов, достаточно длительное время согласующихся с общественным опытом. Потому нужда во всеобщей организации знаний заставляла на протяжении веков вновь и вновь создавать новые системы. Великие философы совершали научный подвиг, хотя бы временно приводя в соответствие общетеоретические представления с наличным объемом знаний, каждый раз с их учетом восполняя в новой системе ложность исходных мировоззренческих установок. Затем все повторялось, и очередная система входила в противоречие с опытом. И чем глубже становилось указанное противоречие, тем больше «систем» создавалось, и тем меньше они отвечали своей объективной цели, постепенно превращаясь в простую «игру ума», получающую все более широкое распространение. Как с иронией писал Энгельс, «самый ничтожный доктор философии, даже студиоз, не возьмется за что-либо меньшее, чем создание целой “системы”»15.
Собственно же философская проблематика начинается фактически со становлением категории идеального, само появление которой вызвано именно невозможностью понять явления, связанные с общественным человеком, исходя из свойств самого человека как индивида. В понятии идеального как бы конденсируется все то, что не вписывается в принятую «всеобщую парадигму» с человеком как личностью в «центре мироздания». Это одинаково относилось как к идеалистической, так и к материалистической философии. В системах объективного идеализма от Платона до Гегеля «общественная субстанция» во многом справедливо, хотя и в мистифицированном виде представлялась как «исторически развитая система культуры, противостоящая индивиду как иерархически организовавшаяся система всеобщих норм», как «особая, неприродная объективность, объективность социальных установлений и учреждений их охраняющих», которая детерминирует «деятельность индивида в любой сфере … его поведение и мышление в единичных ситуациях гораздо строже, нежели непосредственно-индивидуальные желания, мнения и импульсы»16. Домарксов же материализм отличался упрощенной «объективизацией» «общественной субстанции», тем, что «в категорию “объективной реальности” здесь попадает все то, что существует вне и независимо от индивидуальной души: в том числе и коллективный “разум” общественно-человеческого организма, исторически сложившиеся всеобщие формы деятельности самого мышления в том числе. Так что психологический анализ “души”, приводящий к выводу о существовании “всеобщих форм” вне этой души, не только не разрешает кардинальной проблемы философии, но как раз ставит ее во всей остроте»17. Поэтому раньше или позже системы, базирующиеся на таком подходе, приходили в противоречие с реальностью, и должны были заменяться новыми.
Однако суть дела не меняется и в том случае, если философия будет названа «диалектическим материализмом», а идеальное понято как «представленная в вещи форма общественно-человеческой деятельности»18, ибо при этом все равно не имеется в виду наличие некоторого, несводимого к индивиду целого, а только речь идет об «опредмеченных» результатах деятельности множества других индивидов, для реального функционирования «распредмечиваемых» все тем же индивидом; в таком понимании «общественный организм» есть не функционирующее целое, а всего лишь «”культура” данного народа»19. Именно из-за «компенсационной» роли философии в ней оказалось невозможным обойтись без этой особой, важнейшей для нее категории идеального как чего-то, что связывает единичного человека с его всеобщностью – как в геоцентрической системе мира нельзя было обойтись без эпициклов и деферентов. Соответственно и «за философией, изгнанной из природы и из истории, остается, таким образом, еще только царство чистой мысли, поскольку оно еще остается»20. Только с принятием верной точки отсчета в виде общества как исходного единого целого необходимость в таких компенсационных механизмах отпадает. Но тогда вообще полностью лишается всяких оснований философский подход, и появляется возможность столь же полностью поставить исследование «феномена человека» (как и всего того, что с ним связано) на естественнонаучную основу.
Итак, каждая новая философская система, действительно заслуживающая такого имени, временно разрешала противоречие между ложными исходными методологическими установками и опытом, но чрезвычайная сложность объекта раньше или позже приводила опять к их расхождению, приходилось создавать новую систему, в который раз снова — и опять же временно и частично — решающую эту важнейшую задачу. Возникновение марксизма как научной теории, покончившее с отрывом теоретического мышления от практической деятельности, сняло проблему, но одновременно покончило и с тем видом «общественного сознания», для которого эта проблема составляла основу. Однако это вовсе не значит, что предыдущие усилия философов пропали зря. Конечно, «философия … имеет склонность … замыкаться в свои системы и предаваться самосозерцанию… Но философы не вырастают как грибы из земли, они – продукт своего времени, своего народа, самые тонкие, драгоценные и невидимые соки которого концентрируются в философских идеях»21. Каждая новая система в определенных пределах давала временную основу для продвижения вперед в познании мира, попутно же решался ряд важнейших задач, наполняя сокровищницу знаний — так бессмысленные по своей сути поиски алхимиками «философского камня» нередко давали замечательные, подлинно научные результаты. Тем самым создавался фундамент для формирования науки как открытой системы знаний с относительно четким определением областей познанного и непознанного, принципиально исходящей из относительности и неполноты познаваемых истин, нередко противоречивой, но принципиально не ограничивающей решений возникающих задач наперед заданными рамками. С возникновением науки как системы (причем системы именно открытой) необходимость в специфической роли философии отпала — как в свое время именно благодаря ей отпала необходимость в мифологии как в предшествующем способе организации наличных знаний о мире. Но процесс познания сложен и противоречив. И как существует, говорят, еще где-то «Общество плоской Земли», так и те, кто в силу разных причин связал свою судьбу с философией, все еще пытаются находить всеохватывающие философские системы. Но к каким бы приемам они не прибегали, какой бы «современной» фразеологией не пользовались, сути дела это уже не изменит — философия как метод получения и организации положительного знания благополучно скончалась. Можно сколько угодно гальванизировать ее труп — к жизни ее уже не вернуть. Сегодня роль специализированного инструмента познания может выполнить наука и только наука, в этом отношении существенно отличающаяся от философии по своим основным характеристикам.
Вот как образно представляли себе соотношение между философией и наукой Маркс и Энгельс: «Философия и изучение действительного мира относятся друг к другу как онанизм и половая любовь»22. Обращение к научному познанию мира в обязательном порядке предполагает отход от философских спекуляций. Только «там, где прекращается спекулятивное мышление, — перед лицом действительной жизни, — там как раз и начинается действительная положительная наука, изображение практической деятельности, практического процесса развития людей. Прекращаются фразы о сознании, их место должно занять действительное знание. Изображение действительности лишает самостоятельную философию ее жизненной среды. В лучшем случае ее может заменить сведение воедино наиболее общих результатов, абстрагируемых из рассмотрения исторического развития людей. Абстракции эти сами по себе, в отрыве от реальной истории, не имеют ровно никакой ценности. Они могут пригодиться лишь для того, чтобы облегчить упорядочение исторического материала, наметить последовательность отдельных его слоев. Но, в отличие от философии, эти абстракции отнюдь не дают рецепта или схемы, под которые можно подогнать исторические эпохи»23.
Разумеется, классики марксизма, преодолевая веками укоренявшийся философский подход к изучению общества и заменяя его научным, не всегда сами представляли этот подход в последовательном виде – особенно вначале, тем более, что еще далеко не все хотя бы «наиболее общие результаты» были «абстрагированы из рассмотрения исторического развития», вследствие чего нередко приходилось пользоваться старым багажом, а тем более использовать старую терминологию, называя, скажем, методологию «диалектической философией»24; по той же причине Ленин (кстати, не имевший возможности прочесть «Немецкую идеологию», откуда взяты приведенные выше цитаты) писал, что Маркс и Энгельс применяли «материалистическую философию к области истории, к области общественных наук»25. Но в приведенных выше высказываниях этот подход выражен настолько четко, что лучше и не скажешь. Нынешние «философы-марксисты» (нелепейшее словосочетание!) предпочитают не упоминать о такой «нелюбви» классиков марксизма к философии (а многие, повидимому, даже и не подозревают, что речь шла именно о философии как таковой, а не о каком-то ее виде, скажем, конкретно о немецкой классической философии: «у немецкого идеализма нет никакого специального отличия по сравнению с идеологией всех остальных народов»26). Адепты «марксистской философии», погрязшие в том самом «спекулятивном мышлении», попросту игнорируют мнение самих классиков марксизма, на дух не приемлющих «философского шарлатанства»27, — но при этом почему-то продолжают считать себя марксистами.
Итак, объективно время философии как системы организации знаний о мире закончилось. Что же касается самих философов, то здесь все зависит от таланта. Талантливый человек и при неверном методе иногда может получить блестящие результаты (в свое время, например, до сих пор еще являющийся одной из основ термодинамики цикл Карно был сформулирован на основе давно уже признанной неверной теории теплорода). А сегодня те философы, которые одарены логической мощью, вследствие идеологической зашоренности не будучи в состоянии создать работающую «систему», находят все же некоторые, иногда очень существенные взаимосвязи между вещами, а другие, обладающие художественным даром, вращают калейдоскоп фактов и событий, создавая впечатляющие картины из достаточно произвольных (но иногда столь схожих с реальностью) их сочетаний. Большинство же философов, зациклившихся на внутренней проблематике, говоря словами Гегеля «рисуют своей серой краской по серому»28. Что касается самой современной философии, то она, в отличие от прежней, просто не в состоянии выработать систематический и последовательный взгляд на мир. Она окончательно превратилась в «любомудрие» – глубокомысленные рассуждения обо всем понемногу (главным образом, однако, о «проблеме человека», в частности, о «мышлении»).
Другими словами, философия уже давно – не в отдельных своих проявлениях, а в принципе – не только не средство познания, но вообще «философия не представляет собой систему знаний, которую можно было бы представить другим и тем самым обучить их»29. Философия превратилась в своего рода умственный культуризм, этакое поигрывание интеллектуальными мышцами. Если в свое время Шеллинг считал, что философия в целом находит свое «завершение в двух основных науках, взаимно себя восполняющих и друг друга требующих, несмотря на свою противоположность в принципе и направленности»30, а именно в трансцендентальной философии и натурфилософии, то сейчас считают, что в лучшем случае задача философии связана с той работой, «которую условно можно назвать человеческим самостроительством»31 (и как огорчительно, что на нее иногда «нарастает онтология» – как кора застывшей «лавы на живом огне»32!). «…Особенность философского знания – рефлективность. Это означает, что реальностью, анализируемой в философии, является не действительность в объективных ее расчленениях, а формы и способы ее отражения в сознании, в культуре»33. Или даже так: «предметом философии является философия же, как это ни покажется, возможно, парадоксальным»34.
Значит, в изучении общества как некоторой естественной реальности рассчитывать на философию не приходится, и у нас сегодня нет другого выхода, кроме как попытаться в рамках естествознания развивать дальше, с учетом огромного количества полученных новых знаний и практического опыта, те основы научной общей социологии, которые были заложены классиками марксизма, не забывая также о важности методологических проблем – как это и делали Маркс, Энгельс, Ленин, смотревшие на развитие общества как на «естественноисторический процесс», подлежащий исследованию на основе не философского, не «гуманитарного», а естественнонаучного подхода. Поскольку «подобно натурфилософии, философия истории, права, религии и т.д. состояла в том, что место действительной связи, которую следует обнаружить в событиях, занимала связь, измышленная философами»35, то и применительно к изучению общественных явлений «прогресс тут должен состоять именно в том, чтобы отбросить общие теории и философские построения … и суметь поставить на научную основу изучение фактов»36.
Но не менее важное, чем «изучение фактов», значение в обществоведении представляет использование эффективной методологии познания. Судьбы научной методологии (диалектики, теории развития) и общей социологии (исторического материализма, философии истории, обществоведения) не случайно оказались столь тесно связанными. Как мы уже отмечали, для такой сложной системы как общество как раз в силу ее сложности вопросы методологии имеют решающее значение. С другой стороны, именно конкретное изучение движения данной системы позволяет более четко представить себе некоторые закономерности развития в общем виде. Р.Фейнман в своих знаменитых «Фейнмановских лекциях по физике» говорил относительно применения математики к анализу явлений, изменения в которых носят количественный характер: «Почему мы можем пользоваться математикой для описания законов, не зная их причины? Никто и этого не знает. Мы продолжаем идти по этой дороге, потому что на ней все еще происходят открытия»37. Примерно то же имеет место и здесь. Мы не знаем, почему развитие сложных систем, связанное с качественными преобразованиями, в ряде случаев совершается в соответствии с законами диалектики, и только совпадение выводов, полученных на основе последних, с реальным ходом событий в самых различных областях действительности, служит основанием для использования этих законов в качестве инструмента анализа. И в обществоведении диалектика (а точнее теория развития) играет примерно ту же роль, что математика для теоретической физики. Ввиду такой их роли мы не можем, исследуя общественное развитие, не касаться этих вопросов, поэтому настоящая работа начинается с рассмотрения некоторых вопросов теории развития.
Главное, что всегда должно учитываться при научном (в отличие от философского) исследовании общества, это принципиальная неполнота наших знаний, в том числе и в том, что касается основных, базовых законов его функционирования и развития. Не только к физике относятся слова того же Р.Фейнмана: «нам известны не все основные законы… Каждый шаг в изучении природы – это всегда только приближение к истине, вернее, к тому, что мы считаем истиной. Все, что мы узнаем, – это какое-то приближение, ибо мы знаем, что не все еще законы мы знаем. Все изучается лишь для того, чтобы снова стать непонятным или, в лучшем случае, потребовать исправления. Принцип науки, почти что ее определение, состоит в следующем: пробный камень всех наших знаний – это опыт. Опыт, эксперимент – это единственный судья научной “истины”»38. Это тем более важно, что наука, в отличие от философской системы, не представляет собой целостного и завершенного сооружения, опирающегося на прочно установленный фундамент некоторых исходных положений. Она в своем развитии, безусловно, стремится к этому, но реальное «историческое развитие всех наук приводит к их действительным исходным пунктам через множество перекрещивающихся и окольных путей. В отличие от других архитекторов, наука не только рисует воздушные замки, но и возводит отдельные жилые этажи здания, прежде чем заложить его фундамент»39.
Та или иная научная теория на том или ином этапе опирается на ограниченное число известных фактов, позволяющих делать некоторые заключения о тех законах, которым они подчиняются. При появлении новых фактов неизбежно выявляются определенные их несоответствия установленным ранее законам, требующим иногда весьма существенной коррекции. О таком характере развития науки Энгельс писал: «Наблюдение открывает какой-либо новый факт, делающий невозможным прежний способ объяснения фактов, относящихся к той же группе. С этого момента возникает потребность в новых способах объяснения фактов и наблюдений. Дальнейший опытный материал приводит к отрицанию этих гипотез, устраняет одни из них, исправляет другие, пока, наконец, не будет установлен в чистом виде закон»40. Даже, казалось бы, совершенно четко установленные закономерности раньше или позже подвергаются сомнению и даже отрицанию – с сохранением имевшегося положительного содержания. Иного пути развития науки просто не существует.
Другой момент, который следует постоянно иметь в виду, – это цель, ради которой осуществляется познание социальных процессов. Целью любой науки в конечном счете является прогноз поведения тех объектов, которыми занимается данная ее область. Базироваться же он может только на изучении уже прошедших процессов. Однако, чтобы на основе движения того или иного объекта в прошлом можно было делать вывод о его поведении в будущем, необходимо, как минимум, быть убежденным в наличии объективных закономерностей. Не может существовать как наука, например механика, если на основе прошлого опыта с инерционными массами мы не будем иметь уверенности, что и в будущем любое физическое тело неизменно сохранит равномерное прямолинейное движение до тех пор, пока действие какой-либо силы не выведет его из этого состояния. Для такого простейшего случая это как бы само собой разумеется. Если же мы имеем дело со сложными системами, положение далеко не столь очевидно, но принципиально ничем не отличается.
Представим себе совокупность состояний какой-то системы, характеризуемых теми или иными параметрами – множество «точек» в некотором пространстве, определяющих во времени протекание какого-то процесса. В любой реальной достаточно сложной системе на сравнительно небольшом отрезке времени, благодаря влиянию массы случайных факторов, эти «точки» образуют чрезвычайно хаотичную и неопределенную картину, в которой выявить действительную траекторию процесса весьма трудно. Если дело касается технической (и даже природной) системы, в которой в рамках объекта анализа время и точность наблюдений адекватны ее уровню сложности, то здесь, по крайней мере в принципе, методы анализа достаточно отработаны. В основном они сводятся к выбору некоторых «типовых» траекторий и оценке в соответствии с определенной математической процедурой величины погрешности такой замены реальной, но неизвестной нам траектории. Понятно, что даже в этом случае метод дает только приближенные результаты, но их точность, во-первых, также поддается оценке, а во-вторых, существенно повышается, если наличествуют некоторые теоретические, в том числе основывающиеся на изоморфности действующих в объективном мире законов, соображения относительно вида данной траектории движения.
Но когда дело касается такой сложной системы, как общество, где «точки» эти располагаются в многомерном пространстве, имеют различный «вес», «мерцают», где даже само их наличие может признаваться или отрицаться в зависимости от занятых исследователем позиций, такие методы оценки неплодотворны. А коль скоро охватить всю совокупность сведений единой закономерностью не удается, обычно достаточно произвольно (и опять же в зависимости от взглядов и интересов) определяется некоторый ограниченный набор «точек», по которым гораздо проще провести желаемую траекторию. Нежелательные факты, в нее не укладывающиеся, объявляются либо несуществующими, либо несущественными. К науке, естественно, это имеет самое отдаленное отношение, зато чрезвычайно охотно используется в политике.
Единственный способ обеспечить научный прогноз – расширить рамки анализа. В этом случае, используя больший отрезок времени, гораздо легче обнаружить действительные закономерности движения данной системы. Применительно к изучению общества это значит, что понять направление его развития на основе изучения современного состояния невозможно; для этого анализ его развития необходимо начинать с самого его становления (а еще лучше взглянуть на него как на закономерный этап в развитии вообще всего живого). Только это может предохранить нас от произвольного толкования тех или иных этапов в отдельности, ибо потребует их анализа не самих по себе, а как звеньев единой цепи.
Другое дело, что сам такой анализ далеко не прост. Даже если удается обнаружить некоторые общие закономерности для того или иного явления на протяжении длительного отрезка времени, то это вовсе не означает, что их вполне достаточно для полноценного анализа. Если мы упустим из виду, что всякий достаточно длительный и сложный процесс включает в себя не только постепенные изменения, но и перерывы постепенности, узловые точки развития, в которых происходят существеннейшие изменения многих его характеристик, равно как и связь любого объекта с окружающей его средой, мы также далеко не уйдем. В целом же только охватывая с единых позиций тот или иной процесс возможно полнее (а желательно и с учетом предыстории), можно надеяться на адекватное определение траектории его движения, а тем самым и на действительно научный прогноз.
Еще одним важным методологическим принципом, положенным в основу настоящей работы, является принцип релятивности, относительности всех без исключения общественных институтов. Ведь «общество не твердый кристалл, а организм, способный к превращениям и находящийся в постоянном процессе превращения»41. Нет такого общественного явления, которое не возникало бы тогда, когда в нем появляется нужда, и не исчезало бы, когда эта нужда проходит. В страхе перед неизвестным будущим обыватель, даже украшенный академическими регалиями, склонен хвататься за те или иные общественные установления, объявляя их если не единственными, то уж во всяком случае наилучшими из возможных, выстраданными историей и дальше уж вечными и неизменными, подлежащими разве что некоторому улучшению. Жизнь же идет иначе: при наступлении нового этапа общественного развития появляются те или иные свойственные ему общественные установления; но проходит данный этап, как бы долго он не длился, наступает другой – и появляется необходимость в новых общественных установлениях. Оценка влияния любой силы на движение объекта в значительной степени определяется тем, как ее направление в данный момент соотносится с общим направлением его движения. Соответственно, чтобы определить влияние того или иного фактора на общественное развитие, нужно соотнести его с общим направлением развития. Тогда то, что было еще недавно прогрессивным, способствующим общественному развитию, со временем становится реакционным, тормозящим его. В этом постоянном изменении имеется только один инвариант, одна неизменная «точка опоры» – общественная сущность человека. Именно она создает основной стержень развития общества, ту нить, на которую нанизываются сменяющие друг друга общественные институты, – общечеловеческую интеграцию. Только постоянно имея в виду эту генеральную «нацеленность» общественного развития на все более полную интеграцию человечества в единое целое, можно более или менее успешно разбираться в многообразии общественных явлений, найти каждому из них законное место в общей системе представлений об обществе и характере его развития, понять причины их появления и исчезновения, а значит, и представить себе направление грядущих перемен.
Не менее важным методологическим принципом в изучении сложных систем является рассмотрение их в качестве некоторой целостности, подход именно с этих позиций к анализу их отдельных проявлений. Рассматривая многочисленные и многообразные общественные явления, бесполезно задаваться вопросом, что представляет собой каждое из них: «выискивать новые основания для каждого отдельного явления и бесполезно, и в высшей степени противно философии»42 – и не только ей. Единственно продуктивной является изначальная постановка вопроса об общественной функции этих явлений, о том, какую органичную роль играют они в общественной жизни, причем не сами по себе, а в комплексе всех остальных. И в этом отношении, в качестве базисной, первостепенное значение имеет проблема человека и общества как объектов исследования общественных наук. Независимо от желания приходится предварительно хотя бы в самом общем виде определять, что есть человек и что есть общество, как они взаимно соотносятся друг с другом, что взять за исходный пункт исследования, чтобы рассчитывать на сколько-нибудь успешное изучение общественных процессов.
Обратимся еще раз к «Фейнмановским лекциям». Их автор, вроде бы и в шутку, но достаточно серьезно ставит вопрос: в какой фразе можно было бы передать максимум физических знаний, и отвечает, что самое большое количество информации, из которого в принципе дедуктивным путем можно было бы вывести почти все современное физическое знание, является утверждение: «все тела состоят из атомов – маленьких телец, которые находятся в беспрерывном движении, притягиваются на небольшом расстоянии, но отталкиваются, если одно из них плотнее прижать к другому»43. Если рискнуть подобным вопросом задаться применительно к общественным наукам, то ответ, как представляется, должен гласить: «общество есть биологический организм, возникающий в качестве ступени биологической эволюции и последовательно проходящий закономерные этапы своего развития от отдельных локальных образований к обществу-человечеству». Такое положение подразумевает, что во главу угла обществоведческого анализа должны ставиться исследования общества как некоторого существующего в окружающей среде и непрерывно изменяющегося целостного образования, элементом которого является человек. Только на этой основе возможно подлинно теоретическое исследование общества. Конечно, то, что это положение действительно потенциально несет в себе максимум информации, нужно еще доказать (как, впрочем, и то, что оно вообще верно). Но, что несомненно, так это то, что трудно найти другое положение, которое встречало бы столь дружное неприятие, вызывая жуткий призрак «биологизации» общественных явлений у одних, и не меньшее нравственное негодование по поводу принижения роли личности у других.
Соответственно в трактовке автора обществоведение – не «общественная», не «гуманитарная», а естественная наука. В данной работе как раз и имеет место попытка обосновать естественнонаучное представление о становлении и развитии общества и человечества как составляющей части развития живого – эволюционного процесса в пределах биологической формы движения материи. Но при этом следует иметь в виду, что именно естественнонаучный подход по самой своей сути не допускает проведения прямых параллелей между теми или иными, внешне вроде бы аналогичными, явлениями в животном мире и в обществе (что, к сожалению, неизменно было свойственно соответствующим попыткам выдающихся естествоиспытателей – от Ч.Дарвина до К.Лоренца). Являясь частями единого процесса биологической эволюции, развитие животного мира и общества представляют собой различные этапы и уровни этого процесса, т.е. они качественно отличаются между собой, а значит, формальные параллели между ними чаще всего не несут содержательной нагрузки, и соответственно не разъясняют, а затемняют сложные вопросы становления и развития общества. Перенесение закономерностей животного мира на общество еще менее плодотворно, чем было бы, скажем, перенесение закономерностей растительного мира на животный, поскольку второй также не повторяет, а в известном смысле представляет собой следующий этап развития живого по отношению к первому.
Что же касается современной философии, то, как мы уже говорили, в рассуждении о «проблеме человека» она, в противоположность указанному подходу в центр своего анализа ставящая человека как личность и из присущих ему свойств стремящаяся вывести характер общественных явлений, в этих представлениях в определенном смысле действительно очень похожа на упоминавшуюся систему Птоломея. Принимая в качестве постулата вращение Солнца и планет вокруг Земли, умнейшие люди построили очень сложную (и чрезвычайно остроумную) модель системы, обладающую также и прогностическими возможностями. Совпадение результатов вычислений с явлениями реальной действительности были весьма вескими свидетельствами в пользу ее истинности. Это вообще была во всех отношениях замечательная система; у нее был только один недостаток – она была неверна. Но можно себе представить, как трудно было принять верную модель, предложенную Коперником, коль скоро ее основной постулат о вращении Земли вокруг Солнца не только противоречил очевидности, ежедневному опыту каждого человека, здравому смыслу, наконец, но и был направлен против такой, научно обоснованной и дающей практические результаты, многократно доказавшей свою полезность, внутренне стройной системы. Если при этом учесть еще очень важные вненаучные основания (религиозные при выборе Земли в качестве центра вращения Солнца и планетарной системы, нравственные и политические при выборе человека как личности в качестве «центра вращения» общественной жизни), то мы получим более или менее полную картину тех сложностей, которые возникают при попытке найти верные основания научного анализа общественного развития, для утверждения в качестве исходного постулата примата общества как целостного образования (равно как и обвинений против пытающихся это сделать).
Но появление Коперника неизбежно. В науке об обществе им стал Маркс, который показал, что рассматривать общество нужно как «органическую систему», как «законченное сущностное единство человека с природой», которое развивается по «естественно-историческим законам». Соответственно человек, при всей его сложности и самостоятельности, становится только элементом этой системы, но не ее «центром вращения». «Как Дарвин положил конец воззрению на виды животных и растений, как на ничем не связанные, случайные, “богом созданные” и неизменяемые, и впервые поставил биологию на вполне научную почву, установив изменчивость видов и преемственность между ними, – так и Маркс положил конец воззрению на общество, как на механический агрегат индивидов, допускающий всякие изменения по воле начальства (или, все равно, по воле общества и правительства), возникающий и изменяющийся случайно, и впервые поставил социологию на научную основу, установив понятие общественно-экономической формации, как совокупности данных производственных отношений, установив, что развитие таких формаций есть естественноисторический процесс» 44.
Естественно, несмотря на всю ее гениальность, теория Маркса, как и любая другая научная теория, не могла не быть определенным образом ограниченной потребностями и возможностями своего времени. Величайшая заслуга классиков марксизма прежде всего состоит в том, что они доказали определяющую роль материальных факторов в развитии общества. Во главу угла своей теории они поставили представление о ведущей функции материального производства в общественном развитии. «Материалистическое понимание истории, – писал Энгельс, – исходит из того положения, что производство, а вслед за производством обмен его продуктов, составляет основу всякого общественного строя»45. Признание примата производства средств к жизни дает фундаментальную основу для исследования общественных процессов, но только до тех пор, пока дело касается общественных формаций, в которых производство выделяется в особую (и ведущую) сферу общественных отношений, т. е. формаций классового общества.
Но при достижении обществом того уровня развития, когда на повестку дня объективно стал вопрос о коренном изменении его основных характеристик, не о модификациях, как ранее, а о ликвидации классового общества как такового, это положение уже не могло обеспечить в полной мере основу анализа социальных процессов. Потребовалось расширение его исходной базы, включение в нее тех моментов, которые прежде не играли заметной роли в теории марксизма – хотя сами классики марксизма всегда придавали им важное значение, вовсе не сводя производство только к производству средств к жизни. По этому поводу Энгельс писал: «Согласно материалистическому пониманию истории в историческом процессе определяющим моментом в конечном счете является производство действительной жизни. Ни я, ни Маркс большего никогда не утверждали. Если кто-нибудь искажает это положение в том смысле, что экономический момент является будто единственно определяющим моментом, то он превращает это утверждение в ничего не говорящую, абстрактную, бессмысленную фразу»46. В дальнейшем же еще больше становился необходимым анализ развития общества как определенным образом структурированного неразрывного целого, включающего не только производство средств к жизни, но и производство самой жизни, причем последнее в качестве не второстепенного, но полноправного, а если брать весь процесс общественного развития в целом, то и определяющего фактора общественного развития. Потребовался анализ не только внутриобщественных процессов, но и развития общества как некоторой качественной определенности в окружающей среде.
Итак, объектом исследований теоретической социологии является общество. Общество состоит из индивидов как материальное тело из атомов. Однако характеристики и того и другого вовсе не есть простая сумма характеристик их составляющих. Например, те параметры, которые характеризуют газ (объем, давление, температура) вообще не имеют смысла применительно к отдельным его элементам (молекулам). То же относится и к обществу. Причем когда мы говорим об обществе как объекте исследований теоретической социологии, в известном смысле можно сказать, что это такое общество, которое не существует и никогда не существовало в природе. Если это – «газ», то своего рода «идеальный газ» в обществоведении. Как в физике исследование в действительности не существующего идеального газа позволяет тем не менее раскрыть важные физические закономерности, не затеняя их «деталями», столь важными для реальных газов, так и в обществоведении изучение некоей «идеальной» схемы развития общества позволяет в общем виде понять его направление и законы. Но нужно постоянно иметь в виду, что реальная жизнь существенно отличается от теоретической схемы. И как нельзя понять ее вне этой схемы, выявляющей генеральные тенденции развития, так нельзя этого сделать и только на ее основе, вне анализа конкретных исторических условий, реализующих эти генеральные тенденции.
Мы уже говорили, что о научном исследовании любого объекта, в том числе и исследовании общества, речь может идти только в том случае, если в принципе признается наличие объективных законов его развития. Если предположить, что вообще не существует никаких объективных закономерностей развития общества, что в этой области торжествует чистая случайность, что воля отдельных людей или их групп, те или иные случайные факторы могут изменить не только конкретное течение исторического процесса, но и направление и результаты общественного развития, то это означало бы отказ вообще от какого бы то ни было научного исследования развития общества. Ни о каком прогнозировании как экстраполяции действия познанных закономерностей не могло бы быть и речи, и обществоведению оставалось бы только изучать прошлое как сумму уже свершившихся событий, случайно связанных между собой (история), а настоящее — как случайное же объединение и взаимодействие разнородных явлений («политология»). О будущем можно было бы разве что только гадать. Но с такой точкой зрения не согласуется все то, что нам известно о прошлом, где явственно прослеживаются линии, сходные для всего человечества. Воспользовавшись примененным по другому поводу выражением Энгельса, можно сказать, что наличие объективных закономерностей в общественном развитии доказывается не фокусническими фразами, а всем трудным и долгим развитием человечества. И если это кого-нибудь не убеждает, тут уж ничего не поделаешь. В конце концов для членов упоминавшегося выше «Общества плоской Земли» и сейчас нет убедительных доказательств ее сферичности. Но на нет и суда нет. Любое обсуждение в этом случае теряет смысл.
Изложенная в настоящей работе последовательность смены этапов развития социальных образований, общественно-экономических формаций, классов, отношений собственности является результатом более или менее успешного применения метода научной абстракции, позволяющего выделить ведущие, определяющие тенденции процесса. Но она представляет собой не более чем канву, на которой вышивает свой сложный и прихотливый узор история. Возможность же такого «узорообразования» связана как с тем, что даже на ранней стадии процесс в каждом отдельном, локальном общественном образовании не является полностью изолированным, а по мере развития все более и более становится общечеловеческим, так и с тем, что в реальном обществе ни один процесс никогда не протекает в чистом виде, не является цепью четко ограниченных этапов, – в каждом настоящем всегда существуют зародыши будущего и остатки прошлого, переплетенные самым причудливым образом.
Внешние влияния, заимствования, сочетание элементов различных ступеней развития, природные условия, наконец появление на исторической арене неординарных личностей, надолго накладывающих свой отпечаток на характер тех или иных общественных образований, равно как и другие случайные факторы, – все это сплетается в сложнейший конгломерат, расцвечивающий и неимоверно усложняющий, но тем не менее не меняющий принципиально характера развития общества, в конечном счете все же следующего все той же «абстрактной схеме». Во времени все становится на свое место, а что такое десятилетия, и даже сотни лет для общественного развития, ход которого измеряется тысячелетиями? Однако жизнь не только каждого отдельного человека, но и достаточно больших социальных образований, протекает в данных конкретных условиях, а следовательно, именно они-то и вызывают наибольший интерес. Соответственно на них прежде всего и направляются усилия исследователей. Да только мы ничего не поймем в кажущемся хаосе, противоречивости, непоследовательности конкретного исторического процесса, если не будем постоянно иметь в виду некий внутренний, малозаметный, но весьма жесткий стержень – общие законы общественного развития, действующие с непреклонностью и неотвратимостью, свойственными любым законам природы
Конечно, объективность хода общественного развития вовсе не означает нашей беспомощности, фатальной неизбежности исторических событий, как невозможность отменить закон всемирного тяготения не препятствует преодолению самого тяготения, вследствие чего «сознание необходимости прекрасно уживается с самым энергичным действием на практике»47. Знание и сознательное использование законов общественного развития может оказывать влияние на его конкретное протекание, облегчая и ускоряя наступление необходимых и неизбежных, и в этом смысле независимых от нас, стадий общественного развития, снижая тем самым цену, которую всегда приходится платить человечеству за прогресс. Конечно, «общество, если даже оно напало на след естественного закона своего развития, … не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни отменить последние декретами. Но оно может сократить и смягчить муки родов» 48.
И еще один важный вопрос. Любая научная работа, коль скоро она претендует на этот статус, обязана опираться на достижения предшествующих этапов развития, на достижения науки и практики вообще и определенных научных направлений в данной области в частности. В общей социологии имеется только одно направление, являющееся действительно научным и могущее быть основой дальнейших исследований в теоретическом обществоведении – марксизм. Автор полагает, что настоящая работа написана с позиций ортодоксального марксизма. Но «ортодоксальный» – не значит «догматический». Это значит, прежде всего, что классический марксизм рассматривается как прочное основание науки об обществе – но отнюдь не вся эта наука. Вообще «всякий догматизм, упрямо настаивающий на уже достигнутом, завоеванном знании, всегда и отвергает с порога любое новое знание на том единственном основании, что оно противоречит старому. А оно действительно формально противоречит, ибо аналитически не содержится там и не может быть “извлечено” из него никакими логическими ухищрениями. Одно должно быть присоединено к старому знанию, несмотря на то что формально ему противоречит»49. Наука – не божественное откровение и даже не философская система, содержащая уже по определению всю истину, пусть и в «свернутом», неявном виде. Наука (также по определению) всегда и неизбежно включает в себя как истину, так и заблуждение. Жизнь идет, растет объем знаний, общественный опыт ставит новые вопросы, на которые далеко не всегда можно найти адекватные ответы непосредственно в наследии классиков марксизма. Творческий марксизм как действительная наука ищет новые ответы, в то время как для вульгарной «науки» «характерно, что то, что на определенной исторической ступени развития было ново, оригинально, глубоко и обоснованно, она повторяет в такое время, когда это плоско, отстало и ложно» 50.
Вообще вследствие необходимости ответить на «вызов» истории, эпигоны в любой области делятся на две большие категории: догматиков, которые свято оберегают каждое высказанное классиками положение независимо от его объективной истинности, в упор не видя (и видеть не желая) неизбежно появляющихся несоответствий между ними и новыми данными общественной практики, и ревизионистов, которые, очумев от накопившихся несоответствий, начинают крушить сами основания. Все это не раз происходило и с марксизмом как наукой об обществе. Автор льстит себе мыслью, что не относится ни к тем, ни к другим, поскольку, полностью принимая указанные основания, считает, что без диалектического отрицания предшествующего ее этапа какое бы то ни было развитие науки об обществе, заложенной Марксом и Энгельсом, сегодня невозможно.
Теоретик-социолог, считающий себя марксистом, не должен забывать основных положений марксистской теории познания о роли практики в познании, об относительности знания, о развитии познания через отрицание с сохранением положительных моментов. Теоретик, внутренне не приемлющий идею прогресса в науке через отрицание ранее достигнутого (на словах-то ее приемлют все), неизбежно из ученого превращается в талмудиста – толкователя Священного писания. Вряд ли стоит уточнять, что речь идет не о «зрящном» отрицании, а об отрицании в том смысле, в каком колос «отрицает» породившее его зерно: «Материалистическая диалектика Маркса и Энгельса … признает относительность всех наших знаний не в смысле отрицания объективной истины, а в смысле исторической условности пределов приближения наших знаний к этой истине»51. Но без такого признания нет науки как поиска истины, «ибо всякую истину, если ее сделать “чрезмерной”…, если ее преувеличить, если ее распространить за пределы ее действительной применимости, можно довести до абсурда, и она даже неизбежно, при указанных условиях, превращается в абсурд»52.
Маркс полагал, что «всякое развитие, независимо от его содержания, можно представить как ряд различных ступеней развития, связанных друг с другом таким образом, что одна является отрицанием другой»53. Но, может, теория самого Маркса, представляя собой «истину в последней инстанции», в развитии вообще не нуждается? Ленин думал иначе: «Мы вовсе не смотрим на теорию Маркса как на нечто законченное; мы убеждены, напротив, что она положила только краеугольные камни той науки, которую социалисты должны двигать дальше во всех направлениях, если они не хотят отстать от жизни»54. Против развития, в общем-то, никто и не возражает; но сколько же есть «теоретиков», желающих «развивать», не «отрицая» при этом предыдущую «ступень развития», – и все же почему-то продолжающих считать себя марксистами. Со времени создания основ марксистской социологии прошло более ста лет, прогремели над планетой великие войны и революции, неизмеримо развились производительные силы, весь мир изменился неузнаваемо. Классики марксизма, впервые заложившие научные основы обществоведения, относили общие законы развития науки и к собственным достижениям, утверждая: «смешно было бы приписывать нашим теперешним воззрениям какое-либо абсолютное значение»55. И если даже сегодня, имея возможность использовать результаты такой «практики», ученый не в состоянии определиться с тем, что и в самой марксистской теории является инвариантным, а что связано с относительностью любого знания, то называть себя марксистом он просто не имеет морального права.
Современным обществоведам, считающим себя марксистами, как бы они не старались уйти от этого, все же раньше или позже придется ответить на вопрос: что же сегодня представляет собой марксизм? В свое время Ленин совершенно обоснованно включал в марксизм все, что было сделано Марксом и Энгельсом. Можем ли мы поступать так и сегодня, просто дополнив их работы работами самого Ленина (а также Сталина, Мао Цзедуна, Хо Ши Мина, Грамши – по выбору), – примерно так, как христиане в свое время «дополнили» Ветхий завет Новым заветом (неизбежные противоречия, которые при этом возникают, истинно верующих нимало не смущают)? Или же к марксизму следует отнестись как к научной теории развития общества, основы которой заложили Маркс и Энгельс? Но в последнем случае марксизм именно как наука должен развиваться по тем же законам, что и любая другая наука. Это значит, что он на каждом этапе своего развития неизбежно содержит как истину, так и заблуждения, и что это (о, ужас!) относится и к работам самих основателей. И тот, кто претендует на статус не просто «идеолога», но ученого, неизбежно должен определиться со своим собственным мнением, какие положения классического марксизма остаются истинными, а какие должны подвергнуться «отрицанию» с целью очищения от заблуждений, вызванных неизбежной ограниченностью знаний на каждом этапе развития любой науки – ибо «мы можем познавать только при данных нашей эпохой условиях и лишь настолько, насколько эти условия позволяют»56. Конечно, как и в любой другой науке, при этом будут иметь место различные, иногда прямо противоположные точки зрения, но здесь можно и нужно спорить. Однако никакая словесная эквилибристика не спасает от необходимости каждому ученому ответить на этот вопрос. Да только нынешние квазимарксисты не только не желают на него отвечать, но даже от самой его постановки шарахаются как черт от ладана.
Накопление новых фактов неизбежно ведет к весьма существенным последствиям для любой теории. Теория питается фактами как гусеница листьями. Но гусеница не набита листьями, теория состоит не из фактов – они составляют их содержание только в «снятом», переработанном виде. «Потребляя» факты, теория развивается и растет – до тех пор, пока «оболочка», в которую она заключена и без которой как нечто определенное существовать не может, не станет ей тесной. И тогда, как и гусеница, она должна пройти «линьку» – сбросить старую и образовать новую «оболочку». Через такие этапы проходит любая верная теория (неверная раньше или позже погибает, «объевшись» фактами). Этого мучительного процесса (пусть и с большим опозданием) не избежать и великой теории марксизма – сколько бы не лютовали в охранительном раже «верные марксисты-ленинцы». То, что этот процесс так затянулся, связано не с внутренними особенностями данной теории (ибо в этом отношении она не отличается ни от каких других), здесь играют роль очень важные вненаучные факторы, прежде всего политические. Противники именно по отражающим их идеологическим соображениям не могут принять основные положения марксистской общесоциологической теории, а потому любые – даже весьма значительные – их частные успехи в изучении общества так и остаются частными («средними социологическими теориями»), не приводя к необходимым обобщениям. Что же касается «верных марксистов-ленинцев», то необходимость в охранительных мероприятиях не позволяет им, даже располагая столь солидным фундаментом, решиться, наконец, на дальнейшее строительство самого здания общесоциологической теории. А тот, кто стремится развивать марксизм, сегодня вынужден считаться с необходимостью одновременно отстаивать его как перед научным миром в целом (включающим и не приемлющих марксизм), показывая его способность более успешно, чем любые другие теории, решать обществоведческие проблемы, так и перед его сторонниками, доказывая неизбежное наличие в нем (как и в любой другой науке) заблуждений, только постоянное избавление от которых обеспечивает его развитие как науки. Это единственный путь развития научного обществоведения, но указанные трудности пока не позволили заметно на нем продвинуться. Другие же пути (даже при значительных частных успехах) неизменно ведут в тупик. Поэтому ситуация в общей (теоретической) социологии многие годы являлась безвыходной. Сейчас положение стало совершенно нетерпимым.
И что еще важно: использование выводов социологической теории в практической жизни приводит к тому, что идеологические и политические соображения в ней играют весьма существенную роль. Общество для нас – отнюдь не только (и даже не столько) объект научных изысканий. Как уже говорилось, даже относительно мы не находимся вне данного объекта, мы – его часть, и не можем взирать на него с академическим спокойствием любознательных естествоиспытателей, для которых любой результат исследований равно приемлем. Тем более не смотрели на него так классики марксизма (вспомним знаменитый марксов «тезис о Фейербахе»). Стремление «переделать мир» неизбежно накладывает на марксизм как науку идеологический отпечаток. Но исследователи могут и должны к научному наследию классиков марксизма относиться именно как к научному, не позволяя никаким идеологическим соображениям искажать результаты научных исследований. Ибо, если наше стремление «переделать мир» мы хотим базировать на реальной основе, а не на утопиях, пусть и самых благонамеренных, мы заинтересованы именно в объективной истине, какой бы она не была.
Это касается любой науки. То, что, скажем, теория эволюции стала мощным оружием против поповщины, являлось уже делом соответствующей практики, а не самой теории. Сама-то теория была направлена только на поиск истины. То, что в марксизме исторически соединилась научная теория общественного развития и революционная идеология, выражающая стремление «преобразовать мир», ни в коем случае не значит, что теорию можно превратить в служанку пусть даже и революционной практики. Задачей теории, поскольку она может претендовать на это название, все так же остается поиск истины, открытие объективных закономерностей, а уж практика сама должна находить возможность использовать результаты научных исследований в своих целях. Все, что может здесь сделать наука, так это направить свои усилия на исследование наиболее актуальных для практики проблем. Но чего она ни в коем случае не может делать, так это сообразоваться в своих теоретических выводах с текущими потребностями практики. Это не только вообще недостойно науки, но неизменно оказывает дурную услугу практике, приводя к ошибкам в тактическом и дезориентируя в стратегическом плане, нанося таким образом не только себе, но и практической деятельности существенный вред. Различные политические силы считают те или иные явления полезными или вредными для их практических целей. Но теоретические результаты сами по себе не могут расцениваться как полезные или вредные – только как верные или нет. А верные результаты всегда полезны прогрессивным силам, заинтересованным в дальнейшем развитии, и вредны силам реакционным, стремящимся его затормозить, а то и повернуть вспять.
Ленин недаром сравнивал общесоциологическую теорию Маркса с эволюционной теорией в биологии Дарвина – и та, и другая открыла новые, еще невиданные горизонты в своей области. И произошло это почти одновременно: в одном и том же году Дарвин опубликовал свое «Происхождение видов», а Маркс – первое систематическое изложение своей теории в «Критике политической экономии». Но судьба созданных ими революционных направлений в своих областях науки оказалась различной. С тех пор эволюционная биология, созданная Дарвином, не меняя фундаментальных основ и выдержав яростные атаки противников, претерпела существенные изменения, вызванные накоплением новых знаний о живой природе. В нее было внесено ряд принципиально новых положений на основе сведений, которые не были и не могли быть известными ее основателю (например, основные положения генетики, но далеко не только они). Другими словами, эволюционная биология как наука развивается так, как и положено науке, – добывая новые истины и избавляясь от старых заблуждений. А основанную Марксом теорию общественного развития ее адепты по идеологическим соображениям старательно оберегают от любого соприкосновения с грубой действительностью (благо многочисленные противники по тем же идеологическим соображениям ее на дух не приемлют, так что «оберегать» приходится в основном от поползновений «своих»). В результате теория из движущей силы превращается в тормоз.
Поэтому принимая основные положения марксистской социологии, ее следует воспринимать как науку, а не откровение, когда простая ссылка на высказывание классиков уже является доказательством. Сколь бы ни был Маркс уверен в истинности законов гегелевской диалектики, он, по выражению Ленина, никогда ничего не доказывал ее «триадами». Каждое научное положение должно быть доказано само по себе в координатах определенной научной системы в соответствии с отработанной процедурой, а не ссылками на авторитеты (т.е. естественнонаучным, а не «гуманитарным» методом). Тем не менее, в настоящей работе читатель найдет немало ссылок на классиков марксизма. Но приводятся они вовсе не для доказательства истинности того или иного положения. Автор руководствуется другими соображениями. Во-первых, будучи классиками, Маркс и Энгельс, а затем и Ленин, много глубже своих последователей понимали основные принципы марксистской социологии, и еще до сих пор нельзя сказать, что глубина их научной мысли полностью освоена. Поэтому представлялось целесообразным обратить внимание на ряд их соображений, которые до сих пор либо мало принимались во внимание, либо вообще трактовались неверно. Во-вторых, по той же причине ряд положений у них обрел чеканные формулировки, и просто нецелесообразно давать их в пересказе – лучше все равно не скажешь. И, наконец, в-третьих, во многих случаях ссылки на классиков марксизма даны для того, чтобы наглядно представить и подчеркнуть преемственность излагаемых здесь идей с основными идеями марксистской теории. Кстати сказать, по этой же причине автор старался сохранить терминологию, хотя это и связано с определенными трудностями, ибо, как отмечал Энгельс, «в науке каждая новая точка зрения влечет за собой революцию в ее технических терминах»57.
Как теория действительно научная марксизм дает возможность на своей основе возводить, так сказать, «второй этаж» – в отличие от других теорий, которые, будучи сколоченными в виде временных бараков, такую «надстройку» попросту не выдерживают, в результате чего новые теории общественного развития тем, кто желает ими заниматься, всякий раз опять приходится начинать с «нулевого цикла». Этим преимуществом марксизм прежде всего обязан своему фундаменту – материалистическому взгляду на историю. Но Ленин, пожалуй, был слишком строг, полагая, что теория Маркса заложила только «краеугольные камни». Был не только заложен добротный фундамент научной теории, но и выстроено вполне законченное здание. Однако новые потребности вызвали настоятельную необходимость его расширения, возведения того самого второго этажа – благо, фундамент выдерживает. Следует только иметь в виду, что второй этаж никогда нельзя построить прямо на крыше одноэтажного здания: предыдущая часть постройки в обязательном порядке должна быть соответствующим образом преобразована – удалена крыша, где-то укреплены стены, в известной мере изменена планировка (хотя бы для того, чтобы устроить ход на второй этаж). Другими словами, первый этаж многоэтажного здания ни при каких условиях не может оставаться таким, каким было исходное одноэтажное – говоря словами Маркса, при дальнейшем развитии предшествующая ступень обязательно должна быть подвергнута диалектическому отрицанию. Хочется надеяться, что именно этим и отличается предложенный в настоящей работе подход от подхода как догматиков, мечтающих превратить марксизм в «памятник архитектуры» (желательно охраняемый государством), допускающий только так сказать косметический ремонт, да и то лишь с целью восстановления первоначального вида, так и ревизионистов, затевающих его коренные «перестройки» не ради возведения «второго этажа», но только лишь потому, что само «здание» им не очень по душе, да вот другого-то у них нет.
Но если теория Маркса представляла собой завершенное сооружение, то зачем вообще нужны еще какие-то дополнительные «этажи»? Затем, что за прошедшее с момента ее создания время расширились представления о всеобщей взаимосвязи. Классики марксизма смотрели на общество как на некий развивающийся организм, с полным основанием утверждая необходимость использовать в его изучении естественноисторический подход. Огромной их заслугой (и шагом вперед по отношению к Гегелю) явилось подчеркивание того факта, что данный организм для своего существования и развития должен питаться, для чего состоять в связи с окружающей средой, осуществляемой посредством средств производства. Материалистический взгляд на историю, признание ведущей роли за производительными силами – важнейшие достижения марксизма. Но при рассмотрении конкретной формы социального организма классики этой науки оставляли в стороне тот факт, что любой организм не только получает питательные вещества из окружающей среды, что он – звено во всеобщей «пищевой цепи». Соответственно и существует он не «сам по себе», а в составе биогеоценоза, и что характеризуют его не только его собственные анатомия и физиология, но и взаимосвязь с другими организмами как своего, так и других видов, что без «третьей составляющей» – этологических характеристик – представления об организме весьма неполны, а соответственно и результаты прогноза его развития будут неизбежно расходиться с тем, что произойдет в действительности. Разумеется, этот момент никак не может быть поставлен в вину классикам марксизма. Будучи ограниченными возможностями и потребностями своего времени, они тем не менее не только блестяще провели «анатомический» и «физиологический» анализ капитализма на современной им стадии развития, но и в значительной мере вышли за ограничительные рамки такого анализа. Однако такой «выход» (в отличие от упомянутого анализа) уже не имел системного характера, поскольку этого еще не допускали методологические взгляды естествоиспытателей того времени. Но ведь каждого ученого, даже самого гениального, нужно судить не по тому, что ему сделать не удалось, а по тому, что он сделал. А то, что сделали классики марксизма для изучения общества, имеет непреходящую ценность.
Базируя настоящую работу на марксистской теории, автор, однако, не считал необходимым более или менее подробно пересказывать в ней основы последней. Во-первых, из-за объема работы, заставляющего ограничиваться изложением только тех положений, которые необходимы для понимания общей схемы развития общества. Во-вторых же, потому, что их весьма подробное (хотя, к сожалению, и не всегда достаточно корректное) изложение можно найти в любом учебнике по историческому материализму. Ими вполне могут воспользоваться те, кто только начинает изучение проблем обществоведения – лучше бы с учетом тех коррективов, которые изложены в настоящей работе. А еще лучше пользоваться непосредственно работами классиков марксизма.
Дело в том, что классики любой науки отличаются от эпигонов двумя характерными моментами. Во-первых, классики всегда изначально исходят из целостности определенных представлений. Основная идея, даже не всегда еще четко сформулированная, пронизывает все их взгляды. Неясность или неизбежная вначале определенная нестыковка деталей не препятствуют их глобальному видению предмета исследований. И каждая деталь рассматривается с точки зрения этой общей идеи, являющейся органичной для их представлений. Во-вторых, самостоятельно заложив основы, они внутренне свободны в своих действиях, и при обнаружении в дальнейшем каких-то внутренних несоответствий (а в научной теории они неизбежны) достаточно легко могут отказаться от тех или иных частных положений, заменить их новыми, не нарушая указанной целостности видения объекта своей науки (и даже не очень частных, как это сделал, например, Маркс, заменив в качестве личностного фактора производства «труд» «рабочей силой»). Все это уже не свойственно эпигонам. Они воспринимают новую науку прежде всего через множество деталей, именно через них проникаясь основной ее идеей. Поэтому отдельные детали приобретают для них сверхценность, которой не имели у классиков. Потому же, кстати, и отказ от тех или иных конкретных частных положений зачастую психологически воспринимается ими как пусть и частичный, но отказ от самих основ данной науки.
Применительно к данному конкретному случаю отметим еще один важный момент. Основоположники марксизма в отношении научной логики также разительно отличаются от их нынешних последователей, достаточно часто с легкостью необыкновенной одновременно приемлющих взаимоисключающие положения (некогерентность мышления). Каждый, кто изучал Маркса, не может не восхищаться безукоризненностью его «железной» логики. Но наука тем и отличается от замкнутой философской системы, что логика является только одним из ее методов. Научные положения в любой области науки (даже в математике) вовсе не вытекают из некоторых раз и навсегда установленных исходных положений единственно посредством применения к ним логических операций. Конечно, на каждом определенном этапе своего развития наука в каждой своей части действительно основывается на некоторой системе базовых «постулатов», которые формируются всей предшествующей общественной практикой в качестве положений, не нуждающихся в доказательствах. Вот на их-то основании и строится логически непротиворечивая теория объекта данной отрасли науки. Но развивается общество, повышается общий уровень его знаний об объективной действительности, и это не может не сказываться на исходных положениях. И если указанное влияние оказывается достаточно существенным, если ставятся под сомнения хотя бы некоторые базовые «аксиомы», то та безукоризненная логика, которая была столь сильной стороной данного научного исследования, превращается в его слабость. И оказывается, что те факты, которые казались несущественными, случайными отклонениями от общих закономерностей, становятся основанием для пересмотра ряда выводов, а то и методологических положений. Пример такого отношения нам дали сами классики марксизма применительно к гегелевской диалектике, когда, скажем, глубокое уважение к «развитым всеобъемлющим образом» Гегелем законам диалектики не помешало им поставить в основу своей теории общественного развития упоминавшееся выше положение о ведущей роли в общественном развитии производительных сил – фактора связи общества как объекта развития с природой как некоторой внешней средой, хотя это положение вступило в прямое логическое противоречие с гегелевской теорией развития как следствия самодвижения изолированного объекта.
Научную общесоциологическую теорию (совместно с ее методологической базой) уже весьма длительный срок называют по имени ее основателя «марксизмом». Связь вновь возникающей теории с именем конкретного человека, которому главным образом она обязана своим появлением, на начальном этапе ее существования столь же важна, как связь зародыша с матерью. Она здесь играет ту конструктивную роль, которую пока что еще не может играть только формирующаяся система основных положений. Но в дальнейшем такая связь становится тормозом, ибо требует включения в круг несомненно истинных не только действительно непреходящих ценностей – научных положений, подтвердившихся общественной практикой, но и тех положений, которые имеют релятивный характер и на определенном этапе перестают соответствовать новому уровню развития теории и практики. Тогда новая наука, если она хочет оставаться таковой, при всем уважении к гигантскому вкладу основателей, должна оторваться от связующей их пуповины и начать жить самостоятельной жизнью. Эту мысль весьма лапидарно, хотя, пожалуй, излишне жестко и категорично, один из специалистов в области теории науки выразил так: «Наука, которая не решается забыть своих основателей, перестает быть наукой»58. Но, с другой стороны, ведь «ни в одной области не может происходить развитие, не отрицающее своих прежних форм существования»59. Соответственно «тесным» становится и ее наименование по имени основателя. Так, например, произошло с упоминавшейся выше эволюционной биологией, которую еще недавно с полным на то правом именовали дарвинизмом по имени ее гениального основателя. Представляется, что марксизм в своем развитии в качестве науки сегодня также достиг указанного уровня и нуждается в такой же – всегда столь болезненной, но совершенно необходимой – операции. Для этого должен быть четко определен объект исследования, не менее четко установлены исходные (материалистические) позиции, сформирован методологический инструментарий, «инвентаризованы» проверенные общественной практикой научные результаты. Тогда с полным правом можно будет говорить о наличии еще одного полноправного элемента в общей системе наук: науки об обществе, о его сущности, строении, возникновении и развитии – обществоведения.
Настоящая работа в лучшем случае представляет собой только введение в ту науку, которую можно было бы назвать теоретическим обществоведением. Как уже было сказано, такая научная дисциплина должна базироваться на использовании всего обширнейшего материала, которым обладает современная наука. Задача такого рода, разумеется, неподъемна для одного человека. Автор стремился по возможности использовать имеющиеся сегодня материалы, в том числе результаты исследований в тех или иных отдельных отраслях науки, для создания целостной системы взглядов на общество и характер его развития. Понятно, что при этом трудно избежать неточностей, вызывающих негативную реакцию профессионалов. Однако сам предмет требует широкого охвата, а никто не может быть подготовленным в столь различных областях настольно глубоко, чтобы не заслужить нередко достаточно обоснованных упреков узких специалистов. С этим приходится мириться, стремясь, однако, свести указанные издержки к минимуму. Практически каждая глава настоящей работы для адекватного решения поставленных в ней задач требует профессионального владения весьма различными разделами науки, что в целом под силу только коллективу специалистов. Только их совокупная работа со временем сможет дать достаточно полную картину общественного развития. Автор же такой цели перед собой и не ставил. Его задача – набросать обобщенный эскиз будущей картины, проследив по возможности главные связи между ее элементами и хотя бы в первом приближении соразмерив их между собой. Хотелось бы при этом надеяться, что то введение в теоретическое обществоведение, которое составляет предмет настоящей работы, явится все же определенным шагом в нужном направлении.
Раздел первый
ОЧЕРКИ ПО ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ
1.1. Объект развития
Изменение во времени сложного объекта с повышением уровня его организации принято называть развитием. Как показала общественная практика, развитие, именно как процесс повышения сложности того или иного объекта, имеет некоторые общие закономерности, которые не раз пытались вычленить в виде некоторой целостной теории – теории развития, охватывающей наиболее существенные общие закономерности этого процесса для различных объектов. В наиболее полном виде это было сделано Гегелем в развитой им «науке логики» – диалектике.
Гегелевская диалектика, в которой ее законы уже даны, по словам Маркса, «всеобъемлющим образом», поставленная марксизмом «с головы на ноги» и превращенная таким образом в «материалистическую диалектику», оказала влияние на исследования во всех областях науки, в том числе буквально революционизировала науку об обществе. Но впоследствии она, будучи рудиментом философии, именно вследствие своей философской «всеобъемлемости» превратилась, как и любая философская система, в такую же замкнутую систему, заключающую в смысле представлений о развитии всю «абсолютную истину», в которой ни убавить, ни прибавить, тревожимую разве что кое-какими мелкими усовершенствованиями (вроде, скажем, добавления некоей «поверхности» к прежним категориям «явления» и «сущности»1), не интересными никому, кроме их авторов. Поэтому «философы-марксисты» в трудах, посвященных теории развития, чаще всего раз за разом прилежно пересказывали одно и то же о «категориях» и «закономерностях», по мере сил украшая каноническое изложение всяческими «философскими вопросами» конкретных наук2 да ковыряясь в разных «тонкостях» на манер средневековых схоластов, заинтересованно выяснявших жгучий «научный» вопрос о количестве ангелов, могущих разместиться на конце иглы.
А больше ничего и не остается — до тех пор, пока в качестве методологии на место «материалистической диалектики» как замкнутой философской системы (повторим, по обыкновению, как и любая философская система, уже содержащей – по крайней мере в общих чертах – всю истину в целом), не станет открытая научная теория развития (обреченная на каждом этапе, как и любая другая наука, только на относительную истину с постоянным наличием заблуждений и столь же постоянным избавлением от них в процессе накопления знаний о мире и собственного развития), в которой, как это обычно и бывает в науке, великие достижения первой займут почетное место частного случая — теории развития изолированного объекта на основе самодвижения. Эта важная задача еще ждет своего решения. Изложенные же ниже соображения не претендуют даже считаться наброском будущей научной (а не философской) теории развития, и касаются только некоторых ее моментов с конкретной целью использования в последующем исследовании процессов общественного развития. Однако сама по себе теория развития возможна только в случае существования определенной изоморфности законов развития для всего материального мира, и стало быть по необходимости должна в той или иной мере быть приложимой к любым объектам, совместно составляющим глобальный объект изучения всей науки в целом – Вселенную, Универсум, весь этот материальный мир. Поэтому начнем с обобщенной характеристики этого всеобщего объекта.
Современный взгляд на мир предполагает, что последний представляет собой совокупность взаимосвязанных в пространстве и во времени материальных образований. Эти образования имеют определенную структуру, т.е. состоят из некоторых элементов, тем или иным образом связанных между собой и элементами других образований, причем данные элементы имеют собственную структуру, т.е. также в свою очередь включают элементы-составляющие следующего уровня с той же всеобщей взаимосвязью и собственной внутренней структурой. Другими словами, мы представляем себе «вселенную как систему, как взаимную связь тел»3. Уровень взаимосвязей элементов, имеющих всеобщий характер, существенно различен для различных их совокупностей. Совокупность элементов, внутренние взаимосвязи которых превалируют по отношению к их внешним связям, определим как систему, и вслед за Л.Берталанфи будем исходить из того, что «система есть комплекс элементов, находящихся во взаимодействии»4. Системы выделяются в зависимости от характера связей, которые лежат в их основе, и могут быть различными для одних и тех же элементов. С другой стороны, все системы определенного типа образуют всеобщую иерархическую систему, в которой системы низших уровней в своей взаимосвязи составляют системы высших уровней, и наоборот, системы высших уровней состоят из систем низших уровней.
У нас нет оснований для определения предельных — вверх и вниз — уровней систем. При движении «вверх» речь в этом плане могла бы идти только обо всей Вселенной-Универсуме, но сегодняшний уровень знаний не позволяет делать сколько-нибудь содержательных заключений на сей предмет. В направлении «вниз» можно было бы говорить о неких внутренне бесструктурных «элементарных частицах» (что и предполагается современной физикой), однако есть все основания сомневаться в их элементарности5, и скорее рассчитывать на то, что «электрон так же неисчерпаем, как и атом, природа бесконечна»6, чем на их «неразложимость» и внутреннюю бесструктурность. Таким образом, мир с этой точки зрения может быть представлен как открытая (и вследствие ограниченности наших знаний, и по существу) «система систем». И исследования, если они имеют целью не простую спекуляцию, а выяснение реально существующих закономерностей, по отношению к любым системам должны проводиться с учетом этого момента.
Другим моментом, который также обязательно должен приниматься во внимание, является то, что всеобщие связи между системами и их элементами реализуются в неограниченном пространстве, осуществляются во времени и отнюдь не мгновенно. Противоречием, внутренне присущим нашей Вселенной, определяющим характер ее движения, является противоречие между ее бесконечностью по пространственным и материально-количественным (в чем бы это количество не измерялось) координатам и конечной скоростью протекания в ней любых процессов. Вселенная едина по определению, но указанное обстоятельство делает ее единство относительным. Этой относительностью и определяются ее основные характеристики.
Единство Вселенной реализуется во взаимодействии составляющих ее элементов в бесконечном времени. Но следствием бесконечной множественности элементов при конечной скорости взаимодействия между ними является статистически неопределенный характер указанного взаимодействия, следствием чего является неоднородность структуры материальных образований, что, в свою очередь, влияет на характер взаимодействия между этими образованиями. Эти обстоятельства создают гетерогенность Вселенной и принципиальную возможность каких-либо направленных во времени материально-пространственных процессов в ней, в том числе и развития — устойчивого во времени повышения сложности организации локальных образований. В гипотетически конечной Вселенной, равно как и во Вселенной с бесконечной скоростью взаимодействия между материальными образованиями, неизбежно было бы установлено гомогенное равновесие статистически однородного характера, и ни о каких протяженных процессах во времени, тем более о развитии, не могло бы быть и речи. Таким образом, условие всякого развития — именно это противоречие между бесконечностью Вселенной и конечной скоростью протекающих в ней процессов.
Говоря о материальных образованиях, мы прежде всего имеем в виду их объективное, независимое от наших представлений существование. Как известно, само понятие (категория) материи, являясь наиболее общим, имеет определенный смысл только в рамках решения «основного вопроса философии» о первичности материи или сознания7. В онтологическом плане вообще предпочтительнее было бы говорить о субстанциональной основе всех такого рода образований, хотя в данном отношении понятия материи и субстанции могут считаться равносильными. Причем точно так же, как мы не можем определить, что такое материя, «на вопрос, что такое субстанция, ответа просто нет»8.
Если употреблять понятие материи в этом последнем смысле, то следует отметить, что его наполнение не оставалось неизменным — со временем оно менялось самым существенным образом. Первоначально в отношении материи имел место своеобразный монизм, когда понятие материи (субстанции) фактически отождествлялось с понятием вещества. И большим шагом вперед явилось представление о «движущейся материи», т.е. фактически о движении как форме бытия вещества, которое вообще создает возможность каких-либо взаимодействий и превращений в материальном мире, и движение выступает как «усилие, с помощью которого какое-нибудь тело изменяет или стремится изменить свое месторасположение, т.е. вступить последовательно в соответствие с различными частями пространства или изменить свое расстояние по отношению к другим телам»9. В результате было получено линейное представление о материи как о «движущемся» веществе. Физика как наука приложила немало усилий, чтобы абстрактное («философское») понятие «движение» наполнить реальным, конкретным содержанием, выходящим за рамки механического перемещения. Обобщением новых представлений стало понятие энергии. До второй половины XIX века понятие энергии растворялось в понятиях движения, силы, количества движения, притяжения и отталкивания и т.п. Избавиться от этого можно было не путем схоластических «философских» спекуляций, а путем развития механики и других областей физики. В результате научного обобщения полученных результатов как раз и появилось понятие энергии.
Введение понятия энергии привело к тому, что материя (субстанция) стала представляться не просто «движущейся», и даже не некоторым «смешением» двух «субстанций» – вещества и энергии. Эйнштейновское E = mc2 положило конец прежним представлениям10. Пришли к выводу, что материя состоит из вещества и энергии не как из неких своих составляющих, но что это две конкретные формы, в которых она пред нами предстает — все та же единая материя. В результате энергия была понята как фундаментальная сторона («ипостась») материи, а все физические явления стали представляться как следствие ее взаимодействия с веществом (другой стороной, «ипостасью») материи. Вместо линейного утвердилось плоскостное видение материи в координатах «вещество-энергия», что явилось огромным прогрессом в обобщенном научном представлении о мире, в котором мы живем. Однако чем дальше, тем больше появляется причин предполагать, что и такая (дихотомическая) картина мира является неполной, как неполным является вообще плоскостное изображение того, что по своей природе объемно. Все настойчивее пробивает себе дорогу мысль, что в наших представлениях о материи явно не хватает третьей координаты, ее третьей «ипостаси».
Такого рода недостаток в принципиальных представлениях всегда начинал ощущаться гораздо раньше, чем наука приобретала средства и методы для его ликвидации. Поэтому вопрос решался методами философии. Уже в однолинейных представлениях о материи, фактически отождествлявших субстанцию с веществом, столкнулись с признаками их неадекватности, с их неспособностью даже в первом приближении охватить в линейном измерении (т.е. в количественных характеристиках вещественных образований) наблюдаемые явления в самых различных областях действительности. Паллиативное решение было найдено философами путем введения понятия (точнее, категории) качества. Это понятие использовалось для характеристики объектов, представляемых в одной (вещественной) ипостаси материи с учетом в неявном виде влияния другой. Переход к плоскостному видению существенно расширил возможности анализа, но, как оказалось, принципиально положения не изменил. И теперь, вследствие отсутствия соответствующих методов, дававшие бы полное представление о пространственном объекте проекции на три различные плоскости заменяются в ряде случаев его условным аксонометрическим изображением на одной, выражающимся в фиксировании его качественной определенности.
Таким образом, сегодня при рассмотрении строения материи и процессов в объективной действительности принято пользоваться дихотомической схемой, предполагающей, что в основе любого явления лежит взаимодействие двух различных, не сводимых друг к другу начал. Но чем дальше, тем больше убеждаются в том, что такая схема не обеспечивает решения всех возникающих задач, что вызывает необходимость подумать об использовании для их представления трихотомии, т.е. представления материального мира и процессов в нем как основывающихся на трех различных началах. Однако искусственная замена дихотомической схемы на трихотомическую с введением дополнительно той или иной специально изобретенной координаты не дает положительных результатов (разве что «нагромождает бессмысленный набор величайших пошлостей в деревянных трихотомиях»11), нередко приводя к достаточно произвольному конструированию «триад», в том числе и там, где их на самом деле не существует, и к сомнительным предположениям о возможности и дальше увеличивать число «независимых переменных»12.
Вообще попытки тотальной замены диад триадами неплодотворны, поскольку в действительности имеют место и те, и другие, но сфера их действия жестко разграничена. Если первые связаны с динамикой, определяя направление движения («вперед-назад», «вчера-завтра», «больше-меньше»), то вторые — со строением материи, имеющим тройственную основу. Ощущение цвета базируется на трех составляющих, воспринимаемых тремя видами рецепторов нашего глаза, а интенсивность света имеет всего две характеристики — светлое и темное. Только три точки опоры обеспечивают устойчивое состояние – но в поле тяготения, характеризуемом понятиями «вверх-вниз». Мы имеем трехмерное пространство, но два направления на каждой из координатных осей (в сторону положительных, и в сторону отрицательных значений). Как видим, дихотомические характеристики имеют операциональный характер, а трихотомические — субстанциональный. Диалектическая триада «отрицания отрицания» вроде бы нарушает это правило, но на самом деле она также отражает субстанциональные изменения объекта и должна рассматриваться в системе с действием закона перехода количественных изменений в качественные, с которым неразрывно связана, и которое носит операциональный характер.
Какова же та «третья координата», которой не хватает нашим представлениям о материи (субстанции)? Все больше фактов свидетельствует, что таковой должна являться организация материи. Понятие организации сегодня используется не только при рассмотрении сложных самоорганизующихся систем, где без него обойтись просто невозможно, но все чаще применяется для характеристики любых материальных образований. Повидимому, и в общих представлениях о материи пришло время сделать следующий шаг — перейти от дихотомии к трихотомии, добавив третью сторону (ипостась) этой «святой троицы» — организацию. И представлять все явления как результат взаимодействия этих трех взаимосвязанных, но различных ее сторон — различных, разумеется, в анализе, но только в комплексе составляющих «единую и неделимую» субстанцию в действительности. Материя едина по существу и выступает в виде вещества, энергии и организации только в своих проявлениях. Вещество всегда определенным образом организовано, а организация имеет вещественный носитель, равно как и энергия воплощена во взаимодействии вещественных образований, изменение организации которых происходит под ее влиянием. При этом «организация – третья составляющая материи – так же качественно отличается от энергии, как энергия отличается от вещества. Используя аналогию, можно считать, что между энергией и организацией должна существовать взаимосвязь, которую можно представить в виде формулы, подобной формуле взаимосвязи между энергией и веществом»13. То же можно сказать и относительно связи организации с веществом. Это — триединый комплекс, единое целое, которое только исключительно в целях анализа можно «разъять как труп», этим же и умертвив. Поэтому любой раздельный анализ вещества, энергии или организации необходимо осуществлять при постоянном учете его принципиальной неполноты.
Таким образом, когда мы говорим об организации, речь идет не просто о некоторой внешней упорядоченности, в которой перед нами выступает любое вещественное образование, а именно о третьей форме представления все той же всеобщей субстанции (в которой упомянутая упорядоченность является только одной из форм ее представления). А потому те явления, которые в более значительной степени, чем другие, связаны с проявлением этой третьей «ипостаси» материи, рассматриваемой в дихотомических координатах, содержат как бы некий «скрытый фактор», что, в частности, в ряде случаев приводит к кажущемуся нарушению строгого детерминизма. В наиболее явном виде это отражается в квантовой механике с ее представлениями о принципиально вероятностном характере процессов в микромире. Но уже одно то, что кажущаяся «беспричинность» этих процессов, их «спонтанность» в отдельных случаях (например, распада конкретного нейтрона) в массе дает, тем не менее, статистически четко прослеживающуюся закономерность, заставляет думать, что в их основе, так же, как в основе случайных явлений макромира, лежат некие непознанные явления (действие «скрытых параметров»). Однако физики уже давно отказались от такого рода предположений. И в пределах существующих представлений они правы, поскольку обнаружить «скрытые причины» того, что, например, координата и импульс частицы не могут быть одновременно строго определены, путем изучения вещественных и энергетических характеристик материи попросту невозможно, нужно «выйти за пределы плоскости». А это вызывает необходимость не только нового взгляда, но и огромного объема экспериментальных и теоретических исследований, выполнение которых потребует еще немалых трудов.
Методологически же главная сложность заключается в том, чтобы перейти к рассмотрению взаимодействия не двух, как ранее, а трех начал. Это относится к самым различным областям действительности. Примерами могут служить, скажем, столь далекие друг от друга энергетическая энтропия и вещественно-пространственная симметрия. Имея значительную связь с организацией, они преимущественно отражают ее взаимодействие в первом случае с энергией, а в другом — с веществом. Наука постепенно вводит в свой обиход сведения и понятия, связанные с третьей координатой — организацией, но покамест все это не имеет ясности, сильно замусорено математикой (очень помогающей прояснить принципиально освоенные явления, но только затемняющей их суть различными — порой весьма сложными — формами представления одних и тех же явлений в противоположном случае, т.е. при отсутствии принципиального понимания). В области физики впервые за пределы классической науки, основывающейся на изучении двух «ипостасей» материи — вещества и энергии, вышел второй закон термодинамики, затронув третью фундаментальную основу мироздания — организацию. Энтропия — совершенно непостижимая вещь в дихотомических координатах «вещество-энергия». Поэтому второй закон термодинамики «невыводим из законов Ньютона и других фундаментальных законов физики. Это типичный результат “сборки”, возникновение новых системных свойств окружающего мира»14, т.е. связан именно с организацией. Масса сведений постепенно накапливается в таких науках как диалектика, общая теория систем, квантовая механика, термодинамика, синергетика, теория информации, эволюционная биология, кристаллография и др. И все ближе то время, когда сумма накопленных знаний приведет к качественному скачку в наших представлениях о мире, позволяя связать в единое целое вещество, энергию и организацию.
В настоящее же время еще нет достаточной научной базы даже для определения основных параметров этой «третьей составляющей», в том числе и нет способа ее измерения, хотя соответствующие попытки, естественно, существуют. В качестве меры сложности системы, состоящей из n элементов, У.Эшби предложил принять число возможных состояний Hm = logkn (где k — основание логарифма). Однако организацию системы обычно соотносят с введенным К.Шенноном понятием неопределенности (энтропии), под которой понимают величину H = —, где pi — вероятность принятия системой i-того состояния. Тогда абсолютная величина организации составит O = Hm— H, а относительная R = 1—(H/Hm).
Если сравнивать в этом отношении вещество, энергию и организацию, то можно увидеть здесь существенные различия. Нам известны методы сравнения в пределах первых двух «ипостасей»: «Мерой вещества любого материального объекта является его масса», а энергия, в рассмотрении которой прежде всего нужно иметь в виду «превращение одного вида энергии в другой», также измеряется одной из величин ее представления. В обоих случаях количественные параметры поддаются прямому измерению. Благодаря этому удалось сформулировать «закон эквивалентности массы-энергии… Тем самым удалось установить, что две составляющие любого объекта — вещество и поле, масса и энергия — могут переходить одна в другую»15. Однако что касается третьей составляющей, то здесь имеются существенные различия: во-первых, пока не предполагается прямого метода количественных измерений, а во-вторых, в само определение физической величины вводится неопределенность (вероятность принятия системой определенного состояния). Это результат обычного для кибернетики (теории информации) смешения понятий «организация» и «информация», когда фактически отождествляются объект и его отображение. Но при всем структурном сходстве, вызванном тем, что отображение в определенных аспектах как бы «повторяет» характеристики объекта, их отождествление совершенно недопустимо — это принципиально различные вещи. Таким образом, в настоящее время ни количественные характеристики организации, ни закономерности ее связи с веществом и энергией не могут считаться определенными даже в самом первом приближении.
Сейчас пока что по данному предмету могут быть высказаны только самые общие соображения. Первое из них относится к действию закона сохранения. «Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому» — так сформулировал этот закон в свое время М.В.Ломоносов. Но если предположить существование трех глобальных характеристик действительности, отражаемых в трех фундаментальных понятиях: вещество, энергия, организация, то естественно также предположить, что и ко всем этим трем взаимосвязанным характеристикам (свойствам, сторонам, ипостасям) материи в равной мере должен быть применим и основополагающий закон сохранения материи. Ни вещество, ни энергия, ни организация не возникают и не исчезают, происходят только их взаимосвязанные преобразования и превращения из одной формы в другую. Если, несколько упрощая дело, счесть материю как бы состоящей из вещества, энергии и организации, то есть принять, что М = aВ + bЕ + gО, то полный закон сохранения может быть представлен в виде: |М| = (aВ2 + bЕ2 + gО2) = const16.
Таким образом, как Универсум в целом, так и каждый объект, существующий в мире, должны рассматриваться с учетом того, что все их характеристики (свойства) определяются всеми тремя «ипостасями» составляющей его материи. Но применительно к отдельному объекту («вещи»), отличному от Универсума, возникает еще один важный вопрос: только ли ими (т.е. «составными частями» данного объекта) определяются свойства вещей, или же для их определения (учитывая, что каждый конечный объект существует не «сам по себе», а состоит в качестве некоторой системы из совокупности элементов, не отделенных от внешнего мира, а главное всегда сам является элементом некоторой более общей системы) следует выйти за его рамки, приняв во внимание также и другие объекты, с которыми он взаимодействует как в своем существовании в качестве данного объекта, так и в развитии?
Гегель определял свойство вещи как «ее определенные соотношения с другим; свойство имеется лишь как некоторый способ отношения друг к другу»17. Что касается классиков марксизма, то следует прямо сказать, что отношение к вопросу, являются ли свойства данного предмета его характеристикой, имманентно ему присущей, или же возникают во взаимодействии с другими предметами, было у них сложным и неоднозначным. В свое время в «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс явно отдавали предпочтение тому же подходу, утверждая, что «свойство, оторванное от отношения, в котором оно реализуется, превращается в чистую бессмыслицу»18. Но позже Маркс многократно и совершенно недвусмысленно связывал свойства («способности») той или иной вещи не с ее отношениями с другими вещами, а с самой этой вещью, полагая, что «свойства данной вещи не возникают из ее отношения к другим вещам, а лишь обнаруживаются в таком отношении»19. Он вполне определенно разделял отношения между вещами и их собственные свойства: «Отношение одной вещи к другой есть отношение этих двух вещей между собой, и о нем нельзя сказать, что оно принадлежит той или иной из них. Способность вещи есть, наоборот, нечто внутренне присущее вещи, хотя это внутренне присущее ей свойство может проявляться только в ее отношении с другими вещами. Так, например, способность притягиваться есть способность самой вещи, хотя эта способность остается “скрытой”, пока налицо нет таких вещей, которые могли бы быть притянуты»20.
По существу такой подход является рудиментом гегелевского подхода, когда в основе общих представлений лежит диалектика изменений одиночного, изолированного объекта. Однако для такого рода утверждений у Маркса, помимо общеметодологических, были также другие, и весьма веские причины. Эти утверждения имели у него большей частью не столько общий характер, сколько были связаны с рассмотрением функционирования капиталистической общественно-экономической формации, в частности, проблем обмена, и предназначались главным образом для того, чтобы подчеркнуть, что те «свойства» вещей, которые предопределяют возможность обмена, будучи свойствами «общественными», самым существенным образом отличаются от «природных» свойств вещей. Но ведь для него в этом случае речь вообще не шла об отношениях между вещами: «Как стоимости товары суть общественные величины, – следовательно, нечто абсолютно отличное от их “свойств” как “вещей”. В качестве стоимостей они предполагают лишь отношения людей в их производственной деятельности. Стоимость, действительно, “предполагает обмен”, но обмен этот есть обмен вещами между людьми, обмен, не имеющий абсолютно никакого отношения к вещам как таковым. Вещь сохраняет те же “свойства” независимо от того, находится она в руках А или В»21. По мнению Маркса, тот фаталист, кто «трактует стоимость, если и не как свойство отдельной вещи (рассматриваемой изолированно), то все же как отношение вещей между собой, тогда как она есть лишь выражение в вещах, вещное выражение отношения между людьми, общественного отношения, – отношение людей к их взаимной производственной деятельности»22. Однако, с другой стороны, казалось бы характеризующая саму вещь «потребительная стоимость выражает природное отношение между вещами и людьми, фактически – бытие вещей для человека»23. Но бытие вещей для человека – это еще не их свойства, хотя люди «приписывают предмету характер полезности, как будто присущий самому предмету, хотя овце едва ли представлялось бы одном из ее “полезных” свойств то, что она годится в пищу человеку»24. Да и характеристика вещи как потребительной стоимости «всецело зависит от ее определенной функции в процессе труда, от того места, которое она занимает в нем, и с переменой этого места изменяются и ее определения»25.
Но стремясь к этой важной и полностью оправданной цели, Маркс делает неоправданное общее заключение об источнике свойств вещей. Взять, например, приведенное выше выражение о «способности вещи к притягиванию». Если, скажем, речь идет о магнитном притяжении, то в том-то и дело, что эта способность проявляется вовсе не как свойство данной вещи по отношению ко всем вещам, а действительно только лишь по отношению к тем, «которые могли бы быть притянуты». Так что способность притягивать не заключается полностью и исключительно в свойствах данной вещи, но предполагает наличие особых свойств также у вещи, с ней взаимодействующей, и реализуется только в данном взаимодействии. При отсутствии соответствующих свойств у взаимодействующей вещи указанная способность нашего объекта рассмотрения так и останется потенциальной и не актуализируется. Еще лучше указанный момент виден на другом примере, где в качестве свойства, которым вещь «обладает от природы», называется такое свойство как тяжесть26, которое уже по самой своей сущности есть результат именно взаимодействия двух тел и определяется каждым из них в равной мере (т.е. тяжесть данной вещи в равной мере изменится при пропорциональном возрастании или уменьшении массы как одного, так и другого объекта, находящихся во взаимодействии, хотя традицией и принято относить эту характеристику к одному из них, поскольку в данном конкретном случае земного тяготения второй остается неизменным)27.
Другой момент. Неоднократно отмечалось, что каждая вещь имеет множество свойств (качеств), в пределе бесконечное их количество: «существуют не качества, а только вещи, обладающие качествами, и притом бесконечно многими качествами»28. Действительно, никто еще не предложил каких-либо способов наложить ограничения на количество свойств объекта. Но ни одна конечная структура с конечным числом элементов и связей между ними сама по себе по определению (т.е. именно как конечная) не может иметь бесконечного числа их различных сочетаний, а следовательно, бесконечного числа свойств. Это бесконечное число свойств может родиться только в одном случае – из бесконечного числа потенциально возможных сочетаний данного объекта с бесконечным же числом других объектов, из которых состоит Универсум.
Следует также учитывать тот смысл, который в данном случае вкладывается в понятие «бесконечный». В математике (в частности, в дифференциальном исчислении) указанное понятие соответствует не состоянию, а процессу, в котором бесконечно большая величина непременно превысит любое наперед заданное сколько угодно большое число, а бесконечно малая окажется меньше любого сколь угодно малого. И бесконечное число свойств для объекта возможно только в случае, если под свойством понимать результат взаимодействия данной конечной структуры с бесконечным, т.е. потенциально ничем не ограниченным в росте, числом других структур. Таким образом, если представить себе, что свойства вещи не только проявляются, но и появляются во взаимодействии с другими вещами, которых в бесконечной Вселенной действительно в принципе может быть неограниченное («бесконечное») число, то и свойств в этом (и только в этом) случае в принципе может быть неограниченное количество.
Итак, каждый предмет имеет не только те «свойства или качества или стороны», которые нас интересуют в данный момент и которые соответственно используются для его определения, «а бесконечное количество других свойств, качеств, сторон, взаимоотношений и “опосредствований” со всем остальным миром»29. Актуальные свойства объекта соответствуют его актуальным связям, остальные находятся в потенции, в латентном состоянии – как в потенции находится и возможность установления других связей. Эти свойства не остаются неизменными при изменении объекта, его развитии, причем в этом случае особенно меняется «связь его с окружающим миром»30. Другими словами, свойства объекта не непосредственно вытекают из его строения, его собственных структурных характеристик, но возникают на пересечении последних с соответствующими характеристиками взаимодействующих с ним объектов. Без взаимодействующих объектов данный объект вообще не обладает никакими свойствами. Даже в качестве потенциальных они отражают лишь потенциальное наличие объекта взаимодействия, т.е. являются латентными не для объекта, а для некоторой потенциальной системы взаимодействующих объектов.
Так что ясности в этом вопросе не было. Но наступил момент, когда Энгельс счел необходимым и возможным четко определиться в данном отношении, придя к выводу, что свойства вещей не только проявляются, но и появляются именно во взаимодействии с другими вещами. В 1873 году в письме к Марксу, посвященном данному вопросу, он свою мысль формулирует так: «о телах вне движения, вне всякого отношения к другим телам, ничего нельзя сказать»31, а «поэтому естествознание познает тела, только рассматривая их в отношении друг к другу, в движении». При этом и само «движение отдельно взятого тела не существует»32. Как видим, здесь уже достаточно определенно характеристики объекта связываются с его взаимодействием с другими объектами.
Для Маркса данный подход оказался достаточно неожиданным. Но он вовсе не отмел его сходу. Он отвечает осторожно: письмо «доставило мне большое удовольствие. Однако не рискну высказать свое мнение, пока у меня не будет времени поразмыслить над этим и вместе с тем посоветоваться с “авторитетами”»33 (под «авторитетом» имелся в виду химик-органик профессор К.Шорлеммер, друг Маркса и Энгельса, который, как пишет Маркс Энгельсу, «прочитав твое письмо, заявил, что в основном согласен с тобой, но воздерживается пока от более подробного суждения»34).
Чтобы рассматривать вопрос не только о свойствах отдельного объекта (предмета, вещи), но и о самом этом объекте, необходимо выделить его по составу и структуре именно как определенный объект из числа других объектов. Любая наука имеет в конечном счете дело с некоторыми объектами, в том числе в виде некоторых материальных предметов. С точки зрения физики – науки о неживой природе – каждый предмет (объект) есть сочетание определенных элементов с определенной взаимосвязью. Но даже при такой кажущейся определенности его не так-то просто строго и однозначно выделить даже в качестве некоторой совокупности материальных частиц. Вот что говорит по этому поводу известный физик: «…Что такое предмет? “Философы” всегда отвечают: “Ну, например, стул”.
Стоит услышать это и сразу становится ясно, что они не понимают того, о чем говорят. Что есть стул? Стул имеет определенную массу… Определенную? Насколько определенную? Из него время от времени вылетают атомы – немного, но все же! На него садится пыль… Четко определить стул, сказать, какие атомы принадлежат ему, какие – воздуху, а какие – лаку, невозможно. Значит, массу стула можно определить лишь приближенно. Точно так же невозможно определить массу отдельного предмета, ибо таких предметов не существует, в мире нет одиноких, обособленных предметов; любая вещь есть смесь множества других, и мы всегда имеем дело с рядом приближений и идеализацией»35.
Но ведь даже если представить себе фантастическую возможность четко ограничить количество атомов, относящихся к данному объекту, мы все еще не определим, «что есть стул». Ведь совокупность точно тех же самых атомов могла бы принять совершенно иную форму, и отдаленно не напоминающую стул (это же относится не только к некоторой вещи как макроструктуре, но даже и к материалу как микроструктуре – достаточно вспомнить, например, явление аллотропии). Коль скоро речь идет о свойствах качественно определенного объекта, то здесь, повидимому, требуется принципиально иной подход. Для начала должны быть учтены хотя бы основные структурные связи в нем. Но не только.
Возьмем некоторый предмет – «ну, например, стол». Что есть стол в функциональном отношении? Устройство с плоской горизонтальной поверхностью для расположения тех или иных предметов, которыми человек мог бы манипулировать. Его можно выполнить из самых различных материалов, при этом самой различной может быть и его структура, но она обязательно должна включать эту самую плоскость и поддерживающую ее опору. Представим себе такой «абстрактный» стол с «абстрактными» плоской поверхностью и опорой – в любом их «конкретном» исполнении. Достаточно ли их, чтобы речь могла идти о столе? Оказывается, нет. Дело в том, что стол, поскольку он именно стол, предназначен для человека, а следовательно, чтобы он был столом его размеры должны быть соотнесены с размерами человеческого тела. Представим себе, что мы имеем именно такую «абстрактную» структуру. Теперь представим себе, что мы начинаем данное образование пропорционально уменьшать. Сначала, даже уменьшаясь, это все еще будет стол; но при дальнейшем уменьшении данный предмет потеряет возможность выполнять прежнюю функцию, и мы уже получим некий новый предмет – «ну, например, стул» (точнее, табуретку). Что ж, ничего нового: количественные изменения объекта перешли в качественные – он превратился в иной объект. Но теперь попробуем поступить наоборот. Оставив неизменным полученный предмет, начнем – господи, благослови! – пропорционально уменьшать самого человека (фантастичность указанной процедуры для данного случая не меняет того положения, что для множества других объектов она как нельзя более реальна). В результате такого мероприятия с другим объектом наш объект (табуретка), сам по себе продолжая оставаться неизменным, опять превращается в иной объект (в стол). Таким образом, и одни только структурные характеристики объекта, безотносительно к его взаимодействию с другими объектами, еще не определяют не только какие-то его второстепенные свойства, но даже и те, которые придают объекту саму его качественную определенность.
При этом следует иметь в виду, что не только изменения в объектах, находящихся между собой в определенных отношениях, эти отношения изменяют; в ряде случаев тот же эффект может быть получен изменением казалось бы совершенно иных, посторонних для данного отношения объектов. Вот что писал по этому поводу Маркс: «Как бы ни был мал какой-нибудь дом, но, пока окружающие его дома точно так же малы, он (!) удовлетворяет всем предъявляемым к жилищу общественным требованиям. Но если рядом с маленьким домиком вырастает дворец, то домик съеживается до размеров хижины. … и как бы не увеличивались размеры домика с прогрессом цивилизации, но если соседний дворец увеличивается в одинаковой или еще в большей степени, обитатели сравнительно маленького домика будут чувствовать себя в своих четырех стенах все более неуютно, все более неудовлетворенно, все более униженно»36.
Таково положение с определением объекта как такового. Но для любого конечного (т.е. не совпадающего со всем Универсумом) объекта его так сказать «стационарное» состояние является относительным, преходящим; «естественным» состоянием объекта является состояние изменения, важный случай которого – повышение его уровня сложности, т.е. развитие. Важность данного случая заключается в том, что лишь развитие могло привести к образованию не только того объекта, который нас интересует в настоящей работе (т.е. общества), но и всего того множества объектов, с которыми имеет дело общественная практика. При всем разнообразии конкретных объектов просматриваются некоторые общие черты, присущие развитию каждого из них, что дает основания для попыток выделения таких общих закономерностей движения развивающихся объектов, которые могли бы составить некую общую теорию развития. Одним из главных положений, на которых она должна базироваться, является представление о закономерном характере изменений объектов в связи с взаимодействием их с другими объектами.
Начиная с так называемых «метафизических материалистов» в науке постепенно утверждался взгляд, согласно которому все в мире является следствием определенных причин, причем одинаковые причины приводят к одинаковым следствиям37. Такое представление о всеобщей взаимосвязи и взаимообусловленности принято называть детерминизмом. Наиболее полное выражение он нашел во взглядах Лапласа, считавшего, что все явления в мире имеют жесткую обусловленность вполне определенными причинами. По его мнению, даже «кривая, описанная легким атомом, который как бы случайно носится ветром, направлена столь же точно, как и орбиты планет»38.
Но Лаплас, как и другие представители механистического детерминизма, «смотрел на мир как на замкнутую систему, поведение которой можно, зная исходные условия, однозначно определить в любой момент времени»39. Поэтому он был уверен, что «если бы существовал ум, знающий все силы и точки их приложения в природе в данный момент, то и не осталось бы ничего, что было бы для него недостоверно, и будущее, так же как и прошедшее, предстало бы перед его взором»40. В дальнейшем оказалось, что достигнуть такого результата невозможно как по «субъективным», так и по объективным причинам.
И при наличии жесткой детерминации теоретическая возможность проследить указанные взаимосвязи даже в сравнительно небольшой системе в полном объеме практически нереализуема ввиду их быстрого возрастания с ростом количества элементов. «Чтобы действительно знать предмет, надо охватить, изучить все его стороны, все связи и “опосредствования”. Мы никогда не достигнем этого полностью»41. Как показал У. Росс Эшби, количество возможных состояний только информационного табло размером всего лишь двадцать на двадцать сигнальных лампочек таково, что оно превышает количество всех атомов в видимой части Вселенной42. Что же говорить о предсказаниях поведения? Другими словами, даже при сравнительно низком уровне сложности системы самое полное знание ее начального состояния и закономерностей функционирования принципиально не обеспечивает предсказуемость ее будущего в деталях, причем эти «детали» тем крупнее и существеннее, чем шире участок и долгосрочнее прогноз.
Конечно, отсюда вовсе не следует, что даже в мельчайших деталях возможно отступление от однозначной и жесткой причинно-следственной связи. Для материалиста вообще не подлежит сомнению, что каждое последующее состояние материи однозначно определяется предыдущим и действующими в объективной действительности законами движения. И тем не менее отсутствие возможности однозначно вывести последующее состояние того или иного объекта из предыдущего связано не только с технической, но и принципиальной невыполнимостью. Причиной такого положения является существование случайностей.
Случайность обычно определяют либо как комплексное «отражение в основном внешних, несущественных, неустойчивых, единичных связей», либо как «результат перекрещивания независимых причинных процессов»43. В первом определении как раз и отражается упоминавшаяся выше техническая невозможность однозначной «внешней» оценки движения системы вследствие ее сложности. Второе же определение отражает «внутренние» специфические особенности данного явления. Если мы рассматриваем какой-то процесс, протекающий в данном объекте, то он может быть полностью описан определенными закономерностями. Однако наличие других объектов приводит к тому, что взаимодействие с ними оказывает влияние также на этот процесс. Такое влияние не вытекает из закономерностей самого процесса, становясь по отношением к нему случайным явлением. «Случайность есть нечто относительное. Она является лишь в точке пересечения необходимых процессов. Появление европейцев в Америке было для жителей Мексики и Перу случайностью в том смысле, что не вытекало из общественного развития этих стран. Но не случайной была страсть к мореплаванию, овладевшая западными европейцами в конце средних веков»44. Поэтому, согласно Гегелю, нечто становится случайным не в силу беспричинности, а потому, что оно не может быть объяснено из самого себя45.
Разумеется, в связи с отмеченным выше «иерархическим» строением Вселенной противопоставление «внешних» и «внутренних» связей относительно: все, что внешне для системы более низкого уровня, может быть представлено в качестве внутреннего для системы более высокого уровня. Однако, как было сказано, вследствие конечной скорости распространения воздействий системы разного уровня как некоторые целостности не идентичны друг другу. И в этом смысле ряд воздействий можно действительно считать внешними для той или иной системы. Бесконечность Вселенной с одной стороны, конечная скорость распространения воздействия с другой делают некоторые из последних случайными не по возможностям их предвидеть или рассчитать, а по существу.
Что касается определения случайности как отражения несущественных для данного процесса и внешних по отношению к нему связей, то здесь случайность является только отражением нашего неумения выделить и проследить эти связи и их влияние на данный процесс. Однако в более или менее стабильных условиях влияние таких факторов также является более или менее стабильным, что отражается в их статистической повторяемости, позволяющей определить вероятность того или иного из них. Вероятность в обыденной жизни «выступает как мера субъективной уверенности, определяемой имеющейся в распоряжении данного человека информацией … о каких-то обстоятельствах, существенно влияющих на наступление или ненаступление данного события»; с математической точки зрения она является «объективной характеристикой степени возможности появления определенного события в каких-то заранее заданных условиях … является объективной характеристикой связи данного события с данными определенными условиями»46.
Однако в настоящее время концепцию, согласно которой «вероятность рассматривалась как мера правдоподобия», нередко считают «наивной», хотя у нее и «был онтологический базис: поскольку Вселенная считалась строго детерминистской, к вероятности приходится обращаться потому, что мы не знаем деталей (бог не пользуется вероятностью)»47. На самом же деле предполагается наличие принципиально вероятностных процессов (прежде всего в микромире), которые делают случайность объективной характеристикой материи.
«Если исходить из современных физических представлений, то основной источник случайности – квантовый характер явлений микромира. Случайными являются переходы атомов и молекул из одних энергетических состояний в другие, эти переходы сопровождаются поглощением или излучением света. Таким образом, световая стихия, окружающая нас всюду (электромагнитное поле) по своему происхождению случайна. Случайным образом происходят и ядерные реакции. Но именно эти реакции и есть источник энергии звезд и собственного тепла планет»48.
«Второй вид проявления случайности в микромире, влияние которого также очень существенно для большинства процессов, – броуновское движение. Это хаотическое тепловое движение, в котором пребывают ионы плазмы, молекулы газов и жидкостей, электроны в кристаллах. Броуновское движение поддерживается взаимодействиями между отдельными микрочастицами среды, и поскольку такие взаимодействия носят случайный характер, то и само броуновское движение по своей природе случайно49.
Роль броуновского движения в окружающих нас явлениях трудно переоценить. Благодаря ему происходят растворение одних вещей в других, химические реакции, все жизненные процессы в живых организмах. Броуновское движение электронов создает электро-и радиопомехи в различных технических устройствах. Ядерные реакции и броуновское движение в солнечной плазме приводят к появлению солнечных вспышек, вызывающих магнитные бури, полярное сияние и оказывающих влияние на погоду»50.
Таким образом, согласно данному представлению, в основе вероятностного характера мира лежат два вида вероятностей, отражающих вероятностную природу внутриатомных процессов и взаимодействия между микрочастицами. Оба вида вероятностей здесь представляются в качестве имманентной характеристики материи, т.е. случайный характер, например, энергетического перехода в атомах является таковым по своей природе, а вовсе не потому, что нам неизвестны вызвавшие этот переход причины. Но если предположить «неисчерпаемость атома», то есть все основания считать, что в основе кажущегося случайным энергетического перехода лежат более глубокие, относящиеся к следующему уровню материи, неизвестные нам процессы, а там, «где на поверхности происходит игра случая, сама эта случайность всегда оказывается подчиненной внутренним, скрытым законам. Все дело лишь в том, чтобы открыть эти законы»51.
Однако современные физические теории «не обладают преемственностью с теориями классической физики, отказываются от модельных представлений и от причинно-следственных связей, процессы микромира рассматривают не как следствия скрытых форм движения материи, а как некоторые вероятностные процессы, не имеющие физических причин». Другими словами, фактически «квантовая механика отказалась от дальнейшего рассмотрения структур микрочастиц». «Если волновая функция – это только “плотность вероятности”, то ни о каком внутреннем механизме, регулирующем положение электрона в атоме, не может быть и речи, такого механизма просто нет, и ни в чем разбираться не надо, потому что это все равно бесполезно. Такая трактовка абсолютизирует наше незнание микромира и накладывает ограничения на познавательные возможности человека»52.
Столь же принципиально случайными, но уже также и в макромире, представляются ряд процессов с точки зрения некоторых исследователей, опирающихся на последние работы в области синергетики. По их мнению «синергетика объективирует стохастическое поведение определенного типа детерминированных систем. Имеются в виду макроскопические, неквантовые системы, типа астероидов или комет, которые ведут себя принципиально стохастически и описываются странными аттракторами53. Их поведение непредсказуемо вовсе не потому, что человек не имеет средств проследить и рассчитать их траектории, а потому, что мир так устроен. … Поэтому вероятностное описание не есть показатель нашего незнания, так сказать, нашего невежества, или же вмешательства человека с его разумом и экспериментальными средствами в объективный ход процессов природы»54. «Классический детерминизм», в соответствии с которым «по причинным цепям ход развития может быть просчитан неограниченно в прошлое и будущее», считается устаревшим, поскольку он не учитывает имеющиеся в развитии моменты неустойчивости, в которых незначительные влияния могут достаточно резко (и неоднозначно) отклонить направление развития (точки бифуркации), и начиная с которых происходит расхождение возможных путей дальнейшего развития. Дело в том, что в точках бифуркации «настоящее состояние системы определяется не только ее прошлым, ее историей, но и строится, формируется из будущего, в соответствии с грядущим порядком»55. В результате считается, что «сегодня появляются материалистические объяснения совершенно парадоксальных явлений, таких, скажем, как будущее организует настоящее или, что будущее наличествует в определенных участках структур события». Но и от детерминизма при этом отказываться не хотят: «Конечно, если работает случайность, то имеют место блуждания, но не какие угодно, а в рамках определенного, детерминированного поля возможностей. … Поэтому здесь появляется в некотором смысле высший тип детерминизма – детерминизм с пониманием неоднозначности будущего и с возможностью выхода на желаемое будущее. Это – детерминизм, который усиливает роль человека»56. Здесь сказывается роль аттрактора – модели будущего состояния системы, к которому она стремится. Вот к чему приводит бездумная математизация: совершенно забывают, что любые «модели будущего состояния» в реальности (а не в абстрактных моделях) могут появиться только как результат прошлого. В такого рода представлениях «нестабильность в некотором отношении заменяет детерминизм … Сегодня наука не является ни материалистичной, ни редукционистской, ни детерминистической»57.
Что касается редукционизма, т.е. сведения всех законов движения материи к неким основным законам, то такого рода попытки при дихотомической картине мира в принципе бесперспективны, ибо в ней столь же принципиально отсутствует «полный набор» этих основных законов. Вообще в научных исследованиях (в отличие от философских систем) необходимо считаться с принципиальным существованием в любой момент в нашем знании лакун. Наука сегодня может претендовать на достаточно полное понимание оснований далеко не всех известных ей процессов; наши знания были и есть исторически ограниченными, и такое же положение будет сохраняться и дальше, как бы далеко не продвинулось познание. Всегда останутся процессы, механизм которых до поры остается скрытым, на поверхности проявляющимся только в распределениях вероятностей. Однако, как мы видели, современная физика принципиально отказывается (например, применительно к внутриатомным процессам) предполагать наличие таких механизмов, предпочитая устанавливать некие, утверждающие их вероятностную сущность, «принципы», которым природа почему-то обязана следовать.
Но если исходить не из предустановленных «принципов», а из изучения самой природы, то такого рода общеметодологические вопросы, как наличие или отсутствие в мире жесткого и однозначного детерминизма, не решаются в данных координатах, и их следует считать относящимися не к научным, а к мировоззренческим проблемам. Это, разумеется, вовсе не значит, что в данной сфере приходится полагаться исключительно на веру. Просто наличие в мире детерминизма доказывается, опять же говоря сказанными по другому поводу словами Энгельса, не «парой фокуснических фраз» (или абстрактных математических выражений), а длительным и трудным опытом человечества. Именно он позволяет априорно делать достаточно далеко идущие (хотя и предварительные) выводы в конкретных случаях.
Такого рода подход в обыденной жизни получил название «здравого смысла». На основании своего повседневного опыта с учетом опыта, переданного ему предшественниками, каждый человек устанавливает для себя определенные обобщенные представления, с которыми сверяет всякую вновь поступающую информацию. И если она не соответствует требованиям здравого смысла, или сама информация, или ее источник ставятся под сомнение, а то и вовсе отвергаются. В чем-то сдерживая восприятие нового, здравый (житейский) смысл обеспечивает столь необходимую стабильность и исключение случайных влияний. «Житейский смысл в ряде суждений устанавливает ясную, простую и доступную причину, не позволяя никаким метафизическим, псевдоглубокомысленным, псевдоученым и т.д. ухищрениям и премудростям совлечь себя с пути»58. Это, однако, касается именно обыденной жизни. «Но здравый человеческий рассудок, весьма почтенный спутник в четырех стенах своего домашнего обихода, переживает самые удивительные приключения, лишь только он отважится выйти на широкий простор исследования»59. Почему? Да именно вследствие ограниченности «четырьмя стенами» и возможностями конкретного индивида того опыта, на основе которого формируются соответствующие представления. Существенным образом меняется дело в науке с выходом на «широкий простор» и включением опыта всего человечества. Однако и в науке нередко бывает полезным «“наивный реализм” всякого здорового человека, не побывавшего в сумасшедшем доме или в науке у философов идеалистов». Тогда оказывается, что, скажем, «“наивное” убеждение человечества сознательно кладется материализмом в основу его теории познания»60.
Что же касается именно детерминизма, то длительная общественная практика в различных областях, в тех многократно повторяющихся случаях, в которых знания о состоянии объектов и законах их развития мы сегодня имеем основания считать достаточно полными, вырабатывает вполне определенные представления о причинности как фундаментальном явлении, присущем всей действительности. Это положение и становится одним из важнейших элементов современного научного мировоззрения – этого «здравого смысла» ученого, позволяющего ему противостоять различного рода «псевдоглубокомысленным ухищрениям». Поэтому до получения убедительных доказательств противоположного у нас нет никаких оснований ограничивать применение принципа детерминизма – уже хотя бы потому, что нам просто нечем его заменить.
В таком случае и задачей науки в конечном счете является установление жестких, «механических» взаимосвязей между предметами и явлениями, возможности чего, никогда не обеспечивая решения этой задачи полностью, постоянно расширяются с развитием научных знаний. Поэтому мы считаем вполне соответствующим действительности мнение И.П.Павлова, что «истинное механическое толкование остается идеалом естественнонаучного исследования, к которому лишь медленно приближается и долго будет приближаться изучение всей действительности, включая в нее и нас. Все современное естествознание в целом есть только длинная цепь этапных приближений к механическому объяснению, объединенных на всем их протяжении верховным принципом причинности, детерминизма: нет действия без причины»61. Поиск таких же взаимосвязей должен составлять и содержание исследований при естественнонаучном изучении развития общества.
1.2. Диалектика и общая теория систем
Как мы уже отметили выше, из результатов существовавших до нашего времени попыток построить теорию развития наибольшей стройностью и завершенностью обладает гегелевская диалектика. Поэтому именно она была использована классиками марксизма в качестве методологической базы исследования общества и построения его теории развития. Маркс считал Гегеля, давшего «всеобъемлющее и сознательное изображение всеобщих форм движения», своим учителем. Однако, с другой стороны, Маркс отмечает, что у Гегеля как идеалиста имеет место «мистификация диалектики». Для применения гегелевской диалектики к развитию реальных объектов, в частности, общества, необходимо было «поставить на ноги», сделать материалистической стоящую у идеалиста Гегеля «на голове» диалектику, что и было выполнено Марксом. Однако ряд особенностей того специфического объекта, который послужил Гегелю «моделью» для разработки его теории развития, настолько существенно сказался на принципиальных положениях этой теории, что без значительных коррективов она не может с необходимой полнотой описать процесс развития реальных объектов. Поэтому «гегелевская диалектика так относится к рациональной диалектике, как теория теплорода – к механической теории теплоты, как флогистонная теория – к теории Лавуазье»1.
Маркс отмечал, что «для Гегеля процесс мышления, который он превращает даже под именем идеи в самостоятельный субъект, есть демиург действительного, которое составляет лишь его внешнее проявление»2. Однако не менее важно и то, что гегелевская «абсолютная идея» представляет собой не только отмеченный Марксом «самостоятельный субъект», но и некий искусственно созданный объект развития. Такая «модель» не вызывала бы возражений, если бы не то обстоятельство, что данный объект у Гегеля был единственным и, следовательно, принципиально не предполагал каких-либо внешних взаимодействий с другими объектами – уже хотя бы по причине их отсутствия. Не удивительно, что при этом самодвижение становится не просто основным, но и единственным фактором развития - других взять неоткуда. Но, как уже говорилось, реальные объекты, составляя бесконечное множество, столь же принципиально находятся во всеобщей взаимосвязи, и на характер их развития не может не влиять также наличие вещественного, энергетического и информационного взаимодействия как с другими объектами, так и вообще с окружающей средой – а «в том обстоятельстве, что эти тела находятся во взаимной связи, уже заключено то, что они воздействуют друг на друга»3.
Более того, как отмечал Энгельс, такое взаимодействие является необходимейшим условием развития: «невозможно изменить качество какого-либо тела без прибавления или отнятия материи либо движения, т.е. без количественного изменения этого тела», и, следовательно, «изменение форм движения является всегда процессом, происходящим по меньшей мере между двумя телами… До сих пор еще никогда не удавалось превратить движение внутри отдельного изолированного тела из одной формы в другую»4, т.е. не удавалось сделать именно того, что предполагает гегелевская диалектика – обеспечить саморазвитие изолированного объекта. Другими словами, хотя и генетически связанная с гегелевской диалектикой единичного объекта, в своем реальном функционировании «диалектика Маркса, будучи последним словом научно-эволюционного метода, запрещает именно изолированное, то есть однобокое и уродливо искаженное, рассмотрение предмета»5.
Именно вследствие изолированности, а точнее единственности объекта развития гегелевская диалектика с необходимостью вынуждена делать саморазвитие не только ведущим, но и единственным механизмом развития. В этом случае причиной развития становятся только «внутренние импульсы к развитию, даваемые противоречием, столкновением различных сил и тенденций, действующих на данное тело или в пределах данного явления или внутри данного общества»6. Для «философского сознания» «только постигнутый в понятиях мир как таковой есть действительный мир»7; для Гегеля же «понятие для своего развития не нуждается ни в каком внешнем стимуле; его собственная, включающая в себя противоречие между простотой и различением и именно потому беспокойная природа побуждает его к самоосуществлению, она заставляет его развертывать и делать действительным различие, наличествующее в нем самом только идеально, т.е. в противоречивой форме неразличенности»8.
Вот этот гегелевский подход и был догматизирован в «официальном марксизме» (или так называемом «марксизме-ленинизме»), которым на протяжении длительного времени подменялся марксизм как научная теория. Считалось, что «источником самодвижения являются внутренние связи и противоречия в материальных системах», а внешние только представляют «условие реализации самодвижения»9, что совершенно не соответствует не только действительным причинам движения «материальных систем», но и приведенным выше высказываниям классиков марксизма. Не меняли дела по существу и предпринимавшиеся позже попытки уже для конкретных объектов вычленить «внешнее» и «внутреннее», в том числе и в самом объекте развития.
Так, например, по мнению Э.Ильенкова, «Маркс … показывает, что в противоречии внешнего порядка лишь внешним образом проявляется скрытое в каждой из взаимоотносящихся вещей внутреннее противоречие»10. Ссылается он при этом на анализ Марксом внутреннего противоречия для товара потребительной стоимости и стоимости: «Скрытая в товаре внутренняя противоположность потребительной стоимости и стоимости выражается, таким образом, через внешнюю противоположность, т.е. через отношение двух товаров, в котором один товар – тот, стоимость которого выражается, – непосредственно играет роль лишь потребительной стоимости, а другой товар – тот, в котором стоимость выражается, – непосредственно играет роль лишь меновой стоимости. Следовательно, простая форма стоимости товара есть простая форма проявления в нем противоположности потребительной стоимости и стоимости»11.
Но сделанный вывод вовсе не следует из приведенных соображений Маркса. Ведь если в анализируемом явлении товар «играет роль меновой стоимости» – «формы проявления стоимости»12, то ясно, что речь идет не просто о самом товаре, а о некотором акте взаимодействия (обмена), в котором он участвует, как о некотором целостном явлении. Вообще стоимость проявляться «может лишь в общественном отношении одного товара к другому»13. Ну, пусть стоимость есть собственное свойство данного товара как отдельной вещи, но вещь вообще становится товаром не сама по себе, а только применительно к актуальному или потенциальному акту обмена: «вещи … до обмена не являются товарами, товарами они становятся лишь благодаря обмену»14. Так что для данного акта как целого взаимоотношение товаров (действительно внешнее для каждого товара «самого по себе», когда он, стало быть, еще и не товар) вовсе не является внешним. А ведь Маркс неоднократно указывал «на мистифицирующий характер, превращающий общественные отношения, для которых вещественные элементы богатства при производстве служат носителями, в свойства самих этих вещей (товар)»15! И уж вполне понятно, что такой подход, использованный для данного особого случая, никак не может быть применен к взаимодействию (даже вполне закономерному) каких угодно двух и более объектов – уже хотя бы потому, что в общем случае они не являются столь же строго равнозначными и одинаковыми по существу данного отношения (а в данном отношении товары «суть вещи, имеющие одну и ту же природу», они «сведены к одному и тому же единству (!)»16), как в случае рассмотренном. Другими словами, для общего случая следовало бы по крайней мере показать, каким образом в одном «внешнем» противоречии «проявляется скрытое в каждой (?) из взаимоотносящихся вещей внутреннее противоречие» и каким образом возможно «из внутреннего (или все же внутренних? – Л.Г) вывести внешнее»17. Это, разумеется, не делается.
Другой вариант – взаимодействие не двух объектов, а объекта и некоторой «системы». Посмотрим, как это происходит в конкретном случае. «Органическая целостность не образуется мгновенно. Вначале возникают необходимые предпосылки, или, иначе говоря, начало объекта. При этом собственно самого объекта еще нет. Так, до появления капитализма возникают докапиталистические товарно-денежные отношения. На следующей стадии, или ступени образуется впервые собственно сам объект. Это есть первоначальное возникновение данного органического целого. Например, первоначальное возникновение капитализма состоит прежде всего в появлении товара “рабочая сила”. Первоначальное возникновение означает, что возникло собственно данное органическое целое, собственно данный объект. Затем начинается преобразование возникшим новым органическим целым той унаследованной системы (?), из которой и на почве которой оно возникло. Это – процесс формирования нового органического целого. Завершение преобразования унаследованной основы образующимся новым органическим целым представляет собой его зрелость. На этой ступени явственно обнаруживаются противоречия, ведущие к его преобразованию в иной предмет»18.
Здесь мы опять в результате имеем фактически изолированный объект развития. И если в других местах автор все же упоминает о неких «внешних» факторах, то их «внешность» фактически предполагается только по отношению к «новому органическому целому», зародившемуся в «унаследованной системе», но отнюдь не по отношению к самой этой «системе». В результате получается (если иметь в виду приводимые примеры), что объектом развития оказывается не общество как таковое (в данном случае капиталистическое), а сам по себе капитализм, будто бы капитализм – это не общественный строй, т.е. определенная организация определенного объекта – общества, а некий вновь возникающий самостоятельный объект в некоей вроде бы внешней для него среде – обществе-«системе». А ведь эта «среда» еще совсем недавно была (и остается некоторое время, пока не будет окончательно «преобразованной» «новым органическим целым») внутренней для «старого органического целого», а затем (после «преобразования») станет таковой же для «нового органического целого» в фазе его «зрелости».
При таком подходе развитие, скажем, того же нового общественного строя мыслится не как преобразование общества как целостного объекта, а как развитие в нем (и за счет него) некоего возникшего из «предпосылок» зародыша – видимо, примерно так же, как развивается зародыш в птичьем яйце (кстати, вовсе не возникающий из внутренних «предпосылок») за счет содержащихся в этом яйце питательных материалов. Но общество – не питательный материал для развития какого-то там «строя». И в начале, и в конце процесса именно оно-то само и есть объект развития. Вообще в действительном процессе развития даже в том случае, когда практически отсутствует связь (по крайней мере, вещественная) объекта с окружающей средой и все его развитие на определенном этапе осуществляется исключительно путем внутренних преобразований уже имеющегося в наличии «материала» (как, например, происходит превращение окуклившейся гусеницы в бабочку), то и в этом случае зарождение нового, как и его развитие, происходят не в виде возникновения и дальнейшего развития «зародыша» «нового органического целого», преобразующего свое непосредственное окружение, а в виде определенных структурных (т.е. количественных) изменений во всем объекте развития, приводящих в конечном счете к становлению нового качества. Однако же такое сугубо «внутреннее» (да и то относительно) развитие может иметь место исключительно в виде определенного этапа, не более. Весь же цикл развития любого реального объекта обязательно включает в себя взаимодействие с окружающими его объектами и вообще с окружающей средой, в результате которого изменение качества объекта как правило предполагает и изменение (в том числе количественное) его субстанциональной основы.
Другими словами, при рассмотренном подходе опять же в конечном счете теоретически не предполагается существования чего бы то ни было, кроме определенного объекта (в данном случае – все же общества)19. Так что и в данном случае рассмотрение развития как движения вполне определенного и изолированного объекта под воздействием внутренних противоречий не выходит за рамки гегелевской диалектики.
В реальности дело обстоит совершенно иначе. Например, известно, что в биологии эволюция как процесс развития осуществляется под действием двух взаимосвязанных факторов – изменчивости и отбора. Источники обоих в значительной степени являются внешними по отношению к объекту развития (биологическому виду). Разумеется, сам характер развития определяется внутренними характеристиками данного объекта, однако о саморазвитии как о результате преимущественно внутренних противоречий не может быть и речи. Даже если, скажем, проявлением таких внутренних противоречий в данном случае считать внутривидовую борьбу, которая, конечно, является важным фактором развития, определяющие стимулы все же являются результатом взаимодействия в системе «объект-среда», т.е. действия факторов (например, мутагенов), внешних по отношению к объекту развития.
Вообще-то Маркс и Энгельс под влиянием гегелевских теоретических установок в общем виде также соглашались, что именно саморазвитие на основе внутренних противоречий является тем, что определяет процесс изменения объекта, но применительно к конкретным случаям их выводы носили существенно отличный характер. Так, применительно к главному объекту их исследований – обществу они полагали, что его развитие осуществляется на основе противоречия между производительными силами и производственными отношениями. Но ведущей стороной здесь они считали производительные силы, которые ведь как раз и являются воплощением связи между обществом и природой, т.е. развитие общества в значительной степени определяется чем-то, что лежит вне его как объекта развития. Здесь уже имеет место явный фактический отход от гегелевской диалектики.
Этот отход «философы-марксисты» до сих пор не могут простить Марксу. Нередко даже в тех, кто считает себя правоверным «марксистом-ленинцем», против научного обществоведения бунтует философ-гегельянец (именно гегельянец, а не марксист, сколько бы не отрицалось первое и не утверждалось второе), горько сетующий, что согласно Марксу «источник развития общественного целого находится не во взаимодействии производительных сил и производственных отношений, а на одном полюсе, в производительных силах», и считающий, что «по сути дела здесь происходит отрицание исследования источника развития общества, внутреннее сводится к внешнему»20. Вот именно! В том-то и величие Маркса, что он как ученый преодолел замкнутость, изолированность объекта развития в философии Гегеля (его «абсолютной идеи»), что ведущей стороной (в этом дело, а не в «одном полюсе» или «сведении внутреннего к внешнему») становится среда, в которой существует объект развития (реальный объект!), ибо в конечном счете именно она создает его, а после связывает его с миром, делает его частью всеобщего целого (в чем гегелевская «абсолютная идея», сама будучи таким, бог весть откуда взявшимся целым, не нуждалась).
Но философ-гегельянец, сколь бы он не маскировался под ученого-марксиста, в своих схоластических мудрствованиях не может даже понять такой (научной) постановки вопроса: подавай ему «самодвижение», и все тут! Да пожалуйста: как раз вызванное причинами, внешними по отношению к противоречию производственных отношений и производительных сил, изменение последних обостряет это, теперь действительно внутреннее, противоречие, становящееся – уже вполне по Гегелю – источником самодвижения, имеющего, однако, по отношению к обществу, как и к другим реальным объектам, вторичный характер. Это и есть марксизм – наука, а не философия, открытая, а не замкнутая на себя система представлений, рассмотрение развития в общем виде, а не в частном случае, как у Гегеля. В обществоведении для марксизма «его предпосылками являются люди, взятые не в какой-то фантастической замкнутости и изолированности, а в своем действительном, наблюдаемом эмпирически, процессе развития, протекающем в определенных условиях»21. Соответственно тех, кто честно стремится довести гегелевский подход до логического конца, не устраивают и фундаментальные научные результаты, полученные марксизмом при изучении общества. Под сомнение фактически ставится именно то, что составляет «живую душу» марксизма, его инвариант – материалистическое понимание истории и формационный подход. И то, и другое пытаются «задушить в объятиях»22.
Таким образом, гегелевская диалектика, принципиально рассчитанная на описание развития единичного объекта, не исчерпывает описание развития реальных объектов, столь же принципиально находящихся во всеобщей взаимосвязи. И положение не спасается тем, чтобы данный предмет исследования представить себе частью некоторого их объединения. Гегелевская «абсолютная идея», включая весь мир, действительно представляла собой весьма сложный целостный объект (поскольку здесь «весь мир … интерпретируется как отчужденное (опредмеченное) и еще не пришедшее к самому себе мышление»23), состоящий из множества взаимосвязанных частей, взаимодействующих между собой и существенно изменяющихся в процессе ее развития именно как части целого. Однако эти изменения не имели самостоятельного значения, подчинялись собственным законам движения только в том весьма ограниченном смысле, в котором последние вытекали из противоречий, общих для всего объекта, т.е. в конечном счете были подчинены законам изменения объекта в целом. Поэтому объединение объектов в некоторую целостность просто дает новый целостный объект, в котором его составляющие по отдельности уже не подчинены непосредственно тем законам развития, которые справедливы для целого.
Но и такая операция была бы корректной только в том случае, если бы удалось найти некое реально существующее «окончательное целое». А это невозможно – каждый раз, объединив ряд объектов в некоторую целостную систему, мы будем убеждаться, что она, в свою очередь, также представляет собой всего лишь часть системы более высокого порядка. Такой «окончательной» системой мог бы считаться только Универсум в целом. Так это, по сути дела, и имело в определенном смысле место в гегелевской системе. Так же в ряде случаев положение обстоит и теперь, когда считают, что «“Вселенная в целом” – это такая достаточно большая система небесных тел, в которой процессы ее эволюции существенно определяются условиями, создаваемыми и изменяемыми самой этой системой»24. В этом случае «Вселенная в свете новых знаний и нового опыта предстает перед нами в качестве единой системы, которая эволюционирует как одно целое»25, и принимается «эмпирическое обобщение в духе Вернадского: “суперсистема “Вселенная” существует и непрерывно изменяется”»26. Но тогда приходится принимать и «гипотезу о начальном взрыве» (равно как и представление о «конце света») применительно ко всей Вселенной.
Однако, вследствие изложенных выше соображений, действительный Универсум, будучи всегда равным самому себе (а «у нас есть уверенность, что материя во всех своих превращениях остается вечно одной и той же»27), в отличие от «абсолютной идеи» (т.е. без предположения «внешнего толчка» и «конца света») в принципе не может представляться объектом развития. Вообще целостность осуществляется посредством определенного взаимодействия частей и элементов некоторой системы. Как мы уже упоминали, взаимодействие это происходит в пространстве и во времени. Поэтому применительно к Универсуму понятие целостности имеет совершенно другой характер. В упомянутом выше смысле говорить о целостности здесь не приходится ввиду его бесконечности и конечности скорости локальных пространственных и временных процессов в нем — по необходимости связанных со взаимодействием в каждый данный момент ограниченного числа его частей с ограниченной скоростью, вследствие чего указанное взаимодействие по определению не может быть конкретно-всеобщим.
Таким образом, представляя какую-то часть реальных предметов, составляющих определенное целое, в качестве отдельного и совершенно самостоятельного объекта развития, мы не избавляемся от необходимости считаться с тем, что внешние связи этого объекта, объединяющие его с другими в целостность высшего порядка, нами исключены из рассмотрения, а следовательно, не учитывается та реальная составляющая развития данного объекта, которая является следствием его функционирования в качестве элемента целого более высокого порядка, а того — еще более высокого (к тому же являющегося все менее и менее целостным в изложенном понимании по мере повышения уровня).
Итак, каждый объект, обладая собственной целостностью, которая только и могла бы сделать его объектом анализа посредством гегелевской диалектики (на основе саморазвития), в то же время является частью, элементом некоторого более высокого и более общего целого, к которому данный аналитический аппарат можно было бы применить на том же основании. Но тогда он оказывается неприменимым полностью к обоим случаям, так как в первом помимо внутренних противоречий как источника самодвижения действуют еще некоторые факторы, отражающие противоречия в более высоком целом, а во втором факторы развития высшего целого не могут всецело подчинить себе характер движения элементов по причине наличия в них собственных внутренних противоречий. Разрешить это – уже формальное – противоречие можно было бы только выводя противоречия «низшего» целого из противоречий «высшего» (или наоборот), но это как раз и значило бы лишить «выведенные» внутренней самодостаточности, т.е. фактически опять же поставить под сомнение определяющее значение законов гегелевской диалектики для развития данного объекта. При этом дополнительно следует иметь в виду еще взаимовлияние объектов того же уровня, существующих так сказать «параллельно» и предполагающих отношения не субординации, а координации.
Указанное обстоятельство накладывает свой отпечаток на рассуждения о развитии даже в том случае, когда строго придерживаются идеи саморазвития – как бы не открещивались от «внешних противоречий», которые «контрабандой» все же проникают в любую «замкнутую» систему, поскольку в реальной действительности «внутренние противоречия» отнюдь не полностью определяет движение объекта. Можно, конечно, в принципе отвергать «рассуждения вроде того, что “некоторый предмет является чем-то в одном, таком-то отношении, а другим (тем-то) и даже противоположным – в другом отношении”»28. Автор справедливо полагает, что это «типичная картина внешнего подхода с позиций внешних оснований» и называет «фальшивой диалектикой», считая, что «противоречивость в самой вещи» имеет «принципиальное значение» и что «не внешнее противоречие (которое не обладает значением источника самодвижения, не идет дальше противоречивости в разных отношениях и т.п.), а внутреннее противоречие в одном и том же отношении»29 является определяющим. Действительно, коль скоро источник движения – самодвижение, то никаких «в одном отношении – в другом отношении» в принципе быть не может. Но провести эту точку зрения последовательно не удается. Поэтому, например, при анализе качественного перехода (скачка) приходится отказываться от «в одном отношении» и пользоваться «фальшивой диалектикой» («в одном отношении – в другом отношении»). Вот как это выглядит.
Скачок «прерывает определенную конкретную, в каждом конкретном случае свою постепенность, подготовившую и породившую его из себя для прерывания себя. … Эта роль скачка присуща моменту разрешения противоречий и выступает как таковая лишь относительно к тем противоречиям, которые получают здесь разрешение. В других отношениях тот же самый скачок может выступать в роли постепенности, которая со временем, в ходе своего развертывания, потребует своего перерыва, завершающего уже эту постепенность. … Взятый во всеобщих универсальных связях любой такой момент, как любой процесс действительности есть всегда единство перерыва (скачка) и постепенности»30. Не соответствуя исходным посылкам, именно поэтому сам подход здесь оказывается безусловно правильным, ибо независимо от желания автора отражает включенность объекта в различные взаимоотношения с другими объектами (в том числе и с теми, с которыми он может входить в некий «суперобъект»). Характеристика вещи «всецело зависит от ее определенной функции …, от того места, которое она занимает…, и с переменой этого места изменяются и ее определения»31. Только различная роль в различных внешних отношениях (ибо целостность объекта, его внутреннее единство не допускают одновременного существования в нем нескольких независимых противоречий, определяющих качество данного объекта) является причиной существования различных «отношений», в которых оказываются внутренние процессы в объекте, обеспечивая таким образом единство скачка и постепенности.
Посмотрим, как диалектика в качестве теории развития – инструмента исследования могла бы быть применена в конкретном случае, например, при определении характера качественного скачка при переходе от животного к человеку. «Психика человека толкуется недиалектически мыслящими учеными как та же зоопсихика, только более разветвленная, усложненная и утонченная, так что никакой принципиальной, качественной грани установить, с их точки зрения, вообще нельзя»32. А ведь дело-то должно бы обстоять прямо противоположным образом. Именно согласно гегелевской диалектике при переходе от животного к человеку количественные изменения должны бы привести к качественным (к переходу в «свое иное») в том же объекте (т.е. применительно к данному случаю в индивиде, в структурно едином многоклеточном организме с центральной нервной системой). И прямым выходом за пределы «самодвижения», во «внешнюю диалектику» для данного объекта представляется вывод, что указанную грань нужно искать «не в организме индивида, а в организме “рода человеческого”, т.е. в организме общественного производства человеческой (специфически человеческой!) жизни, в лоне совокупности общественных отношений, завязывающихся между людьми в процессе этого производства»33. Так при чем тут диалектика? А ни при чем. Вот уж действительно: «теоретическое мышление, взявшее на вооружение гегелевскую логику, оказывается в положении буриданова осла, как только перед ним из гущи жизни вырастает действительно диалектическая проблема», поскольку «гегелевская диалектика (логика) вполне допускает», что в ней «не содержится критерия, позволяющего хотя бы теоретически разрешить реальное, остро назревшее противоречие» и она может только после другими способами найденного (хоть такого, хоть этакого) решения «задним числом вынести ему высшую – философско-логическую – санкцию»34. Вот тебе и «всеобъемлющее и сознательное изображение всеобщих форм движения»… Как говорится, благодарим покорно за такой «инструмент исследования»!
Но, могут возразить нам, в то-то и дело, что все сказанное выше касается именно гегелевской, т.е. идеалистической диалектики. Однако нас интересуют конкретные процессы в природе и обществе, а «в этом отношении гегелевская диалектика абсолютно ничем не отличается от материалистической – и там и тут речь идет именно о тех всеобщих законах, которые управляют одинаково и человеческим мышлением, и миром естественно-природных и социальных процессов» – в этом «ее реальное содержание». Ее источник – в реальном человеческом мышлении, а идеализм Гегеля «заключается в том, что он это реальное человеческое мышление обожествляет, т.е. изображает как силу и сущность некоторого иного нежели человек существа – “абсолютного субъекта” или “бога”»35. Вот как раз в силу такого обожествления, «канонизирующего» как положительные, так и отрицательные моменты, его диалектика не позволяет «хотя бы теоретически разрешить реальное, остро назревшее противоречие».
Что же касается материалистической диалектики, то для нее «характерным является объективность рассмотрения явлений, стремление постичь вещь саму по себе как она есть в совокупности ее многообразных существенных отношений к другим вещам»36. Очень характерное определение. Тут ведь дело не в том, чтобы сообразовать теоретические исследования с реальным состоянием объекта для устранения неизбежных погрешностей (практику как критерий истины признавал и Гегель37). Главное фактически оказывается в том, чтобы номинально оставив приоритет за рассмотрением движения объекта под влиянием внутренних противоречий, контрабандным путем протащить в него «многообразные существенные (!) отношения к другим вещам». Таким образом, если у Гегеля диалектика охватывала весь объект исследования во всех его (для нее только внутренних) связях, то «материалистическая диалектика» фактически ограничивает свою теоретическую функцию только частью связей, выведя остальные во внесистемное пространство. Но тогда что вообще остается от теории? Ведь «теория вообще существует только там, где есть сознательно и принципиально проведенное стремление понять все основные явления как необходимые модификации одной и той же всеобщей конкретной субстанции»38. Таким образом, вместо того, чтобы расширить возможности теоретического охвата, пошли на его ограничение. Если в свое время для классиков марксизма это было вполне естественно – в качестве первого шага и платы за «материализацию» диалектики (тем более, что основная задача у них была другой), то превращение данного момента из временного недостатка в постоянное как бы даже достоинство уже целиком на совести позднейших «философов-марксистов».
Второй момент, непосредственно вытекающий из первого, связан с ограниченностью не только объекта развития, но и самого этого процесса: «вследствие того, что система категорий строилась как замкнутая и завершенная, неизбежен был вывод, что противоречия завершаются раз и навсегда с достижением высшей ступени развития, в данном случае абсолютной идеи. В действительности же, конечно, такой окончательной ступени не может быть, следовательно, невозможно на любой ступени развития окончательное разрешение противоречий»39. Полный цикл развития «абсолютной идеи» представляет собой «триаду» – виток спирали, на котором весь процесс развития завершается. Полное самопознание абсолютного духа завершается в гегелевской философии, изначальная цель развития оказывается достигнутой и вопрос о возможности каких-либо дальнейших изменений его объекта вообще не ставится. Развитие в гегелевской диалектике принципиально «имеет абсолютный конечный пункт»40.
Адаптация указанного принципа развития по отношению к реальным объектам дает циклическое развитие, повторение процесса – хотя каждый раз и на более высоком уровне. Но в этом случае непонятно, что же это за «более высокий уровень» для данного объекта, коль скоро с ним уже к концу первого цикла произошли качественные изменения (иными словами он превратился в другой объект). У Гегеля «реальный смысл его диалектики конечного означал, что каждая конечная вещь имеет не только свою определенность, то есть качество, делающее ее данной вещью, но и содержит в себе свою отрицательность, которая “гонит” ее к своему концу, к переходу в нечто иное»41. Следовательно, если в каком-то отношении мы все же продолжаем смотреть на данный объект как на все тот же, то это может значить только то, что кроме некоторой «триады», в которой все ее последовательные этапы подчинены законам данного цикла процесса развития, имеют место другие связанные с ним циклы-триады самостоятельного характера, не являющиеся структурной частью данного процесса, выходящие так или иначе за его пределы. Но тогда имеет место то же, что и относительно более общего объекта развития, т.е. либо характер преобразований в «низших триадах» определяется законами «высших», либо наоборот, но опять же от внешних влияний избавиться не удается.
Внутри «триады» «звучащее на поверхностный взгляд схоластически положение Гегеля о том, что истинное, диалектическое противоречие есть “различие не от некоторого другого, а от самого себя”, имеет кардинальное значение для понимания объективной закономерности превращения вещей, их переходов в иное». В данном случае «отрицательность как свойство вещей имеет более глубокий смысл: другое, противоположное данному предмету, есть не внешнее другое, а его собственное другое, другое его самого»42. Поэтому для объекта его изменения имеют не произвольный, а вполне определенный вид: имеющиеся в самой вещи «противоположности … вытесняют одна другую… То день, то ночь. … То живой человек, то покойник». «Иными словами, день превращается в ночь, а не в стеариновую свечку или в дождь»43. Для гегелевского единственного и всеобъемлющего объекта иначе и быть не может. Но что касается объектов реальных, то это не решение вопроса, а уход от него. Ибо хотя в определенных пределах превращения реального объекта также определяются его собственными внутренними противоположностями, но за этими пределами положение коренным образом меняется. Через определенное время благодаря приливному (внешнему!) влиянию Луны ситуация с днем и ночью достигнет состояния, когда сама такая постановка вопроса не будет иметь смысла (как, скажем, сейчас относительно той же Луны). А уж во что превратится разложившийся на составные элементы покойник, исходя из его прежнего состояния вообще никто ничего определенного сказать не сможет (может быть, в ту же «стеариновую свечку»?). Во всяком случае, здесь мы имеем действительно другую качественную определенность объекта, переход в которую исключительно присущими прежнему объекту внутренними (для него) противоречиями объяснить уже невозможно.
Другими словами, еще один существенный вопрос, на который диалектика в ее классическом виде не дает ответа, это вопрос генезиса объекта развития. Не только ответа не дает, но даже вопроса этого не ставит. Адепты, как мы видели, говорят о зарождении не нового объекта, т.е. чего-то прежде действительно не существовавшего, а только некого нового качества уже существующего образования. Оно и понятно. Абсолютный дух на то и абсолютный, что он есть все, что есть. Если всегда (по крайней мере на рассматриваемом временном промежутке) наличествует что-то определенное (а не просто какой-то хаос), то вопрос генезиса объекта вообще не возникает. Но ни один реальный объект не вечен: он когда-то возникает, когда-то исчезает. Откуда же может взяться иной реальный объект? Либо опять же за счет качественного изменения уже существовавшего, либо из того же хаоса, из бесструктурной, аморфной (в пределе) среды (Маркс не даром говорил о производстве вещей как соответствующем преобразовании материала, данного природой). Однако первое (поскольку при качественных изменениях объекта речь идет о превращении его в свое иное) возвращает нас к предыдущей ситуации; второе при принятии в качестве движущего фактора исключительно (или хотя бы преимущественно) внутренних противоречий (уже определяющих качество некоторого объекта) вообще не имеет смысла. Так что остается разве что божественный промысел, акт творения…
Разумеется, изложенные выше формальные противоречия, внутренне присущие гегелевской диалектике как теории развития не имеющего реальных аналогов изолированного объекта на основе его самодвижения при ее применении к объектам реальным, вовсе не являются основанием для заключения о ее ложности. Они говорят только о том, что гегелевская диалектика неприменима в полной мере к исследованию развития реальных объектов. И, наоборот, она действительно весьма точно и с исчерпывающей полнотой описывает такое развитие, которое в некоторых частных случаях как раз и характеризуется отсутствием (относительным) упомянутых связей и движением в основном на основе внутренних противоречий. И результатом этого развития, как и в случае с «абсолютной идеей», является фактическое прекращение процесса развития с реализацией третьего этапа «триады», «затухание» изменений, т.е. с точки зрения развития достижение некоторого равновесного состояния. Но движение реальных объектов на этом никогда не заканчивается, ибо они никогда не существуют «сами по себе». Вот это-то обстоятельство и игнорирует гегелевская диалектика как в идеалистическом, так и в материалистическом «вариантах понимания этой науки»44.
Как показывает опыт изучения реальных объектов, развитие под действием исключительно внутренних сил в своих количественных характеристиках на каждом таком этапе описывается логистической (S-образной) кривой с медленным возрастанием функции вначале, со все ускоряющимся ростом в середине, и падением темпов развития в конце этапа45. В результате система стабилизируется, дальнейшее поступательное развитие прекращается, наступает квазистационарное состояние, применительно к обществу именуемое «загниванием». И только внешний (по отношению к данному объекту) «толчок» способен изменить положение, выведя объект из состояния «загнивания», опять возобновив процесс развития. Но это уже будет развитие другого объекта (в рамках принятого его ограничения). Причем этот внешний «толчок» — не некое божественное вмешательство, а взаимодействие объекта (в том числе и вызванное внутренними для него причинами) с вполне реальной «средой», включающее реализацию отношений как координации, так и субординации.
Дальнейшее развитие как саморазвитие может мыслиться только в более общей системе, куда предыдущая входит в качестве элемента. Тогда процесс саморазвития подразумевает взаимодействие элементов этой большей системы, отражающее присущие уже ей внутренние противоречия. Что же касается данного элемента, то его функции в большей системе требуют его изменений (по сравнению с самостоятельным существованием), являющихся следствием установления связей с другими элементами, поскольку «система – это совокупность элементов, организованных таким образом, что изменение, исключение или введение нового элемента закономерно отражается на остальных элементах»46. Так что теперь отдельный элемент должен рассматриваться уже не как самостоятельное образование, не как система, имеющая собственные внутренние противоречия и вследствие этого являющаяся объектом развития, а именно в качестве элемента другой системы. Соответственно и саморазвитие носит уже (для него) относительный характер, а следовательно, и управляется иными законами. Другими словами, и с этой точки зрения гегелевская диалектика описывает частный случай развития объекта на определенном этапе общего процесса его развития, а именно тот предельный случай, когда внешними влияниями можно пренебречь.
Другой предельный случай — абсолютизация отношений «объект (система) — среда», имеющий место в общей теории систем. В определенном смысле можно сказать, что гегелевская диалектика и общая теория систем рассматривают как бы два крайних случая функционирования объектов. Если, как мы видели, в гегелевской диалектике объект является всеохватывающим и принципиально не взаимодействует ни с чем вне себя самого, то в общей теории систем в основу положено рассмотрение определенного объекта (системы), окруженного в качестве некоторой среды чем-то таким, что системой уже не является. Для общей теории систем в общем-то безразлично, имеются ли другие, в том числе аналогичные системы: вся совокупность внешних объектов охватывается общим понятием «среда» — просто «часть реальности, не входящей в данную систему, но способная взаимодействовать с ней, образует среду этой системы»47. При этом взаимодействующие между собой система и среда в известном смысле остаются взаимно независимыми. Действует ли система в однородной или неоднородной среде, эта среда для нее — всего лишь «несистема», только условие существования, некая внешняя данность, без взаимодействия с которой ни система как некоторый объект, ни характер развития этого объекта не могут быть поняты.
Итак, другой подход как к объекту развития, так и к его движущим силам предлагает общая теория систем, рассматривающая объекты в качестве систем. Что же с точки зрения общей теории систем представляет собой система? Выше мы уже использовали это понятие, предварительно приведя самое общее его определение, в конечном счете сводящееся к тому, что «система – это множество взаимосвязанных элементов. … Каждый из элементов системы соединен прямо или косвенно с любым другим элементом»48. В этом качестве систему можно определить как «отношение, определенное на семействе множеств»49. Не менее важным является то обстоятельство, что такая связь элементов как раз и образует некий объект, который мы рассматриваем как единое образование. Поэтому «в самом общем виде систему принято понимать как комплекс взаимосвязанных элементов, образующих некоторую целостность»50.
Мы не будем приводить здесь других определений этого понятия, хотя их существует весьма большое количество. Нельзя не согласиться с А.Д.Уемовым (проанализировавшим около сорока существующих определений системы51), что удовлетворительное определение системы – дело не выбора наилучшего из существующих, и даже не «обогащения содержания этого понятия конкретными признаками, а его релятивизации, т.е. выяснения тех отношений, в которых тот или иной объект является системой и не является ею»52. А «релятивизация всеобщего понятия предполагает прежде всего выявление категориальной оппозиции, т.е. соотнесение с другим, также всеобщим понятием, которое является противоположностью системы»53. Таким понятием (в противоположность мнению самого Уемова) является понятие среды. В этом смысле «средой системы называется множество таких элементов с их существенными свойствами, которые не входят в систему, но изменение в любом из них может вызвать изменение в состоянии системы»54. То есть система не изолирована от среды, а находится с ней в определенной связи, в известном смысле составляя с ней некоторое единство. И, наконец, еще раз подчеркнем, что и элементы системы (которые также могут представлять собой некоторые системы), и она сама как целое имеют связи с другими элементами и системами, т.е. в определенным смысле и в определенном отношении «любая система может рассматриваться как часть другой большей системы»55, которая при самостоятельном рассмотрении входящей в нее отдельной системы (т.е. в другом отношении) представляет собой для последней среду (или ее часть). Что касается внутреннего строения системы, то она может включать как отдельные элементы, так и некоторые подсистемы. «Элементы системы – это ее части, внутреннее строение которых несущественно для поведения данной системы. Подсистемы – это относительно независимые друг от друга части системы, имеющие в этой системе определенное строение и выполняющие в ней функции, связанные с этим строением»56. С учетом изложенного, в дальнейшем мы будем исходить из того, что: «1) система представляет собой целостный комплекс взаимосвязанных элементов; 2) она образует особое единство со средой; 3) как правило, любая исследуемая система представляет собой элемент системы более высокого порядка; 4) элементы любой исследуемой системы в свою очередь обычно выступают как системы более низкого порядка»57.
Используя общепринятое представление о системе как «комплексе взаимосвязанных элементов», следует, однако, иметь в виду, что упоминаемая выше «всеобщая взаимосвязь» элементов в своем предельном виде («каждого элемента с любым другим») вовсе не есть упорядочение их совокупности, а скорее наоборот. Дело в том, что «большей частью термин “системы” употребляется там, где речь идет о чем-то собранном вместе, упорядоченном, организованном, но, как правило, обычно не упоминается критерий, по которому компоненты собраны, упорядочены, организованы и т.д.». На самом же деле это необходимый момент, причем «наиболее характерной чертой системного подхода является то, что в исследовательской работе не может быть аналитического изучения какого-либо частного объекта без того, чтобы не было точно идентифицировано место этого частного объекта в большой системе»58. Без соответствующего упорядочения, т.е. ограничения связей внутри системы, получится не порядок, а хаос. Например, у человека в мозгу 14 млрд. нервных клеток, в зависимости от приходящих импульсов каждая из них располагает 5 тыс. возможных состояний, да кроме того, имеется по крайней мере 5 возможных изменений в градации синаптического состояния59. Ясно, что всеобщее «взаимодействие и взаимовлияние» такого количества элементов ни к чему, кроме хаоса привести не может. «Что может вообще установить между всеми компонентами системы такие взаимоотношения, т.е. одновременной реализации всех степеней свободы каждого компонента? …Упорядоченность во взаимодействии множества компонентов системы устанавливается на основе их содействия в получении строго определенного полезного результата». Поэтому «не может быть понятия системы без ее полезного результата»60. Соответственно во всех дальнейших исследованиях именно результат мы всегда будем в явном или неявном виде иметь в виду в качестве критерия упорядочения системы.
Здесь же нас прежде всего интересует возможность использования общей теории систем в качестве теории развития. Строго говоря, в этом смысле она имеет весьма ограниченную применимость. Даже те, кто непосредственно занимается этой проблематикой, признают, что «вплоть до конца 60-х годов в методологии системных исследований доминировали проблемы равновесия, устойчивости, структуры и т.п., идея развития, эволюции не играла в них сколько-нибудь заметной роли»61. Собственно, ситуация в этом отношении изменилась мало, однако в дальнейшем идея развития привносится в теорию систем с синергетической проблематикой, касающейся вопросов неустойчивости, неравновесия, нелинейности, бифуркаций, катастроф и т.п.
В линейных системах имеется единственное стационарное состояние, достигаемое автоматически, в нелинейных системах положение существенно иное. «Более того, … в таких системах могут быть как устойчивые, так и неустойчивые стационарные состояния, и именно возможная их неустойчивость – причина сложного поведения таких систем, которые нельзя уложить в какую-либо одну теоретическую схему.
Все сложные системы, состоящие из большого числа подсистем, флуктуируют62, т.е. наблюдаемые параметры таких систем подвержены случайным отклонениям от средних значений. При этом, если в области устойчивости флуктуации уменьшаются с течением времени до нуля, то в области неустойчивости флуктуации могут стать благодаря положительной обратной связи настолько сильными, что приводят к разрушению данной системы или организации. В такой критический момент – в точке бифуркации – достаточно малых воздействий на систему для того, чтобы она скачкообразно перешла из одного ранее устойчивого состояния, ставшего неустойчивым, в новое устойчивое состояние – в более дифференцированный и более высокий уровень упорядоченности и организации, в диссипативную структуру, по терминологии И.Пригожина. При этом в точке бифуркации принципиально невозможно предсказать, в каком направлении пойдет развитие системы – к диссипативной структуре или к хаосу. В такой ситуации поведение сложной системы, функционирующей к тому же в условиях необратимости времени, становится непредопределенным – не существует множества правил, позволяющих по данному внутреннему состоянию системы и множеству внешних воздействий на нее однозначно или с некоторой вероятностью определить ее следующее состояние»63.
Но смысл теории в том и заключается, чтобы обеспечить возможность на основе знания прошлого предвидеть будущее. Если же даже полностью зная внутренне состояние системы и характер воздействий на нее мы в принципе не можем предсказать ее будущее состояние (а стало быть и повлиять на него определенным образом), ни о какой науке вообще не может быть и речи. В таком случае просто нет предмета для обсуждения.
Однако нужно отметить следующее. Возьмем пример с маятником, который любят приводить для иллюстрации разницы между устойчивой и неустойчивой системой: маятник в нижней точке устойчив и при любых малых возмущениях возвращается в равновесное состояние, а маятник в верхнем положении неустойчив, он теряет устойчивость уже при малых возмущениях, причем нельзя заранее определить, отклонится он при этом влево или вправо. Это верно, но упускают из виду, что маятник при всех условиях в конечном счете займет вполне определенное положение – придет все в ту же нижнюю точку. Поезд, вошедший на территорию железнодорожного узла, на каждой стрелке, как в «бифуркационной точке», может пойти в разных направлениях. Но, пройдя через ряд таких «точек», он выйдет из узла и проследует дальше все той же дорогой. Таким образом, возможно, что «малые возмущения», влияя неопределенным образом в отдельных точках, не меняют определенности конечного результата.
В художественной форме это отразил А.Азимов в романе «Конец вечности». Те, кто управлял со стороны процессами развития человечества, могли малыми воздействиями (например, всего лишь переставив некоторый предмет с полки на полку) вызывать крупные последствия (в частности, срыв программы освоения космоса). При этом все основные параметры, характеризующие состояние общества, существенно менялись. Но проходило время, и общество опять выходило в то же состояние, в котором оно оказывалось и без соответствующего воздействия. Собственно, фактически это вынуждены признать и те, кто отстаивает неопределенный характер развития сложных систем. Рассматривая вероятностное поведение и адаптивные стратегии у общественных насекомых, Г.Николис и И.Пригожин приходят к выводу: «Наиболее поразительным в сообществе насекомых представляется наличие двух моментов: один на уровне индивидуума, характеризуемого исключительно высокой степенью случайности, другой на уровне всего сообщества в целом. Во втором случае, несмотря на невысокую эффективность и непредсказуемость поведения отдельных особей, характерные для данного вида согласованные картины возникают в масштабе колонии в целом»64. Действительно, тот или иной вид муравьев как система несмотря на ее сложность (а фактически именно благодаря ей) сохраняет свою устойчивость на протяжении десятков миллионов лет не только при малых, но при чрезвычайно существенных изменениях (резкие колебания состава атмосферы и климата, весьма различные биоценозы и многое другое). Так что в этой области применительно не к абстрактным «сложным системам», а к реальным системам, взаимодействующим со структурированной средой, включающей также другие системы, остается еще много неясного.
Таким образом, диалектика и общая теория систем в своем классическом виде занимаются не реальными объектами, а некоторыми абстракциями, представляющими крайние случаи в реальном положении вещей: происходит либо отсечение воздействий внешней среды, ограничение рассмотрения развития самодвижением объекта, либо жесткое разграничение системы и среды, их абсолютное противопоставление друг другу, зачастую вообще без дифференциации среды (как несущественной для системы). И то, и другое, не соответствуя реальному положению вещей в общем виде, в анализе реальных процессов как раз и вызывает у исследователей стремление «контрабандой» протащить в анализ противоположный момент, не трогая, однако, теоретических оснований. Соответственно теория развития, описывающая действительные процессы в реальном мире, не может быть результатом простого соединения указанных принципиально различных методов, отражающих, как было сказано, частные случаи реальных процессов, а должна едиными закономерностями охватывать имеющееся в действительности разнообразие сложных взаимосвязей объекта развития как непосредственно с окружающей его средой, так и со всем миром в целом.
Вторым важным моментом является то, что ни диалектика, ни общая теория систем не сумели стать (хотя бы частично) действительным инструментом научного исследования. А ведь, скажем, общая теория систем (в отличие от диалектики) изначально претендовала на эту роль. Однако в действительности она «даже к настоящему времени практически еще не имеет стыка с конкретной исследовательской работой» — ввиду «ничтожного результата, который был получен при обсуждении “общей теории систем”»: «ни одного конструктивного шага в общей теории систем не сделали почти за двадцать лет ее существования»65. Через четверть века один из наиболее известных исследователей в данной области приходит к аналогичному выводу, считая, что общая теория систем именно как теория «как и 20-25 лет тому назад, представляет собой лишь проект»66.
Это вовсе не значит, что работа в этой области осталась невостребованной. Более того, ее результат оказался исключительно важным для науки. Не став инструментом научного исследования, общая теория систем тем не менее привела к существенному изменению в мировоззренческих установках ученых. «Полувековая история современных системных исследований действительно показала, что их главный вклад в науку, технику и практическую деятельность состоит во внедрении в эти сферы специфически системного мировоззрения и системной методологии»67.
Но если такое положение все же в чем-то не удовлетворяет тех системологов, кто рассчитывал на другой результат, и они надеются в дальнейшем его изменить, то с диалектикой дело обстоит существенно иначе, поскольку обычно заранее считается, что «диалектика не выступает и не может выступать в роли конкретно-научной методологии, и пытаться трактовать ее таким образом – значит объективно принижать ее методологическое значение. Философия диалектического материализма реально воздействует на научное познание прежде всего строем своих идей, а не популярными (?) очерками о категориях и законах диалектики… Поэтому для науки овладение методологическими идеями диалектики означает прежде всего то, что И.Т.Фролов назвал диалектизацией научного познания68, т.е. проникновение в науку диалектического способа мышления, а не просто популярную (?) пропаганду основных положений диалектического материализма… В отличие от диалектики системный подход, структурализм и структурно-функциональный анализ представляет собой специализированную методологию, хотя и имеющую общенаучное значение»69. Другими словами, диалектика представляет собой «философский уровень методологии, реально функционирующий не в форме жесткой системы норм и “рецептов” или технических приемов – такая его трактовка неизбежно вела бы к догматизации научного познания, а в качестве системы предпосылок и ориентиров познавательной деятельности»70.
Как мы видели, стремление сохранить внутренние противоречия в качестве единственной причины движения объекта, столь логически непротиворечивое применительно к гегелевской «абсолютной идее», для реальных объектов приводит к формальным противоречиям в самой теории. В этом, повидимому, состоит одна из главных причин яростного неприятия ее адептами формализации диалектики, которая только и могла бы превратить ее в действительный инструмент конкретных (а других и не бывает) научных исследований, но которая также наглядно показала бы несостоятельность некоторых исходных положений. Не последнюю роль в таком неприятии играет также смешивание понятий «формальный» (как что-то противоположное содержательному) и «формализованный» (т.е. с четко и определенно установленными взаимосвязями элементов и их преобразованиями) – хотя на самом деле «формализация вообще = выражению в языке, в “языке науки”, включая сюда и “модели”, и чертежи, и терминологию, и алгоритмы, и все остальное»71. Если из этого всеобщего «языка науки» исключать диалектику, то последней и вправду ничего и не остается, кроме «популярных очерков» и «диалектизации мышления».
Но при любых попытках формализации диалектики «начетчики от философии» (и прежде всего, разумеется, правоверные «философы-марксисты») видимо по-прежнему «будут просто ругаться, будут декларировать на тему о том, что именно диалектика есть более высокий, чем формализация, метод мышления (развитие понятий), и что думать наоборот – значит тащить мысль назад, лить воду на мельницу и т.д.»72. Разумеется, при формализации всегда существует опасность, что «общие формулы и принципы диалектики (в том числе “противоречия”) могут быть очень легко обращены в априорные схемы, в сфере которых и будет безвыходно вращаться теоретическое мышление, вместо того чтобы действительно исследовать окружающий мир»73. Ну да ведь волков бояться – в лес не ходить. Столь же справедливы опасения, что практическое использование диалектики может стать основой политических спекуляций, «формальным наложением тезиса о противоречии на совершенно конкретные политические ситуации, в результате которого … эти ситуации… начинают выглядеть как очередное “подтверждение” всеобщего закона, как его – всеобщего закона – реализация и “воплощение”»74. Но когда речь идет о научной формализации диалектики, имеется в виду использование ее эвристической функции, а не последующее «наложение» для «оправдания» чего бы то ни было. Не стоит выплескивать ребенка вместе с грязной водой, тем более, что «всеобщие формулы “диалектики вообще”»75 с последней целью все равно используются, а вот возможность их конструктивного использования ввиду вышесказанного существенно ограничена (в том числе и «домотканой», вульгарной формализацией).
Ученым в самых разных областях была бы весьма полезна общая теория развития, но такая, которую можно было бы с указанной целью и в соответствии с установленной процедурой практически «наложить» на реальные процессы в эвристических целях. Но вряд ли какого-нибудь естествоиспытателя заинтересует такая штука как «движение теории развития как сам себя конструирующий путь познавания развития»76 – ему эту мудрость просто некуда приткнуть. Да если бы и было куда, он об этом никогда не узнает. Один из очень немногих естественников, интересующихся философией, академик Н.Моисеев говорил о Гегеле: «для представителей естественных наук его язык и манера рассуждения – почти непреодолимое препятствие»77. Как видим, те из наших философов, уровень которых поднимается над общей массой, в этом успешно подражают великому предшественнику. Так что, видимо, философы и дальше будут развлекать друг друга, а ученым (которые вряд ли чувствовали бы себя «приниженными», если бы им предложили действенный набор «рецептов и технических приемов») придется обходиться «популярной диалектизацией», равно как и самыми общими системными представлениями, поскольку в диалектике, как и в общей теории систем, «в подавляющем большинстве исследователи не делают попытки проникнуть во внутреннюю архитектонику системы и дать сравнительную оценку специальных свойств ее внутренних механизмов»78, т.е. формализовать приемы анализа и синтеза, превратив их в действительно эффективный инструмент в добывании нового знания, предпочитая «лукавое мудрствование». А жаль. Инструмент, естественно, не заменяет талант, но очень облегчает работу – по словам Лагранжа, утверждавшего практическую полезность математического анализа, даже великий художник не проведет так прямую линию, как это может сделать всякий, пользуясь линейкой. Математика сегодня прекрасно выполняет эту роль инструмента исследования (хотя ею нередко и злоупотребляют, иногда превращая из инструмента в украшение, а то и вообще фактически заменяя математическими построениями объект исследования). Ни «формализации», ни «догматизации» она не боится79. Ее-то и используют. Только вот инструмент этот не универсальный – поскольку верно «классическое марксистское понимание математики как науки, связанной с количественным аспектом действительности»80, пригоден он исключительно в области количественных изменений. Однако другого пока нет.
Конечно, действенная теория развития будет создана, и в ней найдут себе место достижения как диалектики и общей теории систем, так и других методологических разработок. Но создание такой теории в ее общем виде – дело будущего. Как мы уже отмечали, автор настоящей работы не претендует на изложение даже ее начал. Далее обсуждаются только некоторые связанные с ней вопросы, а именно те, которые представляются важными для исследования объекта настоящей работы – общественного организма, да и то не все, некоторые из них будут затронуты в самом процессе исследования.
1.3. Взаимодействие системы и среды
Как мы видели, диалектика и общая теория систем свой объект рассматривают с разных сторон – диалектика со стороны «внутренней», общая теория систем – «внешней» (часто вообще в качестве так называемого «черного ящика»). Основной недостаток гегелевской диалектики – игнорирование внешних связей объекта (а как мы видели, «теоретически» «материалистическая диалектика» в этом ничем не отличается от гегелевской), без учета влияния которых в общем случае характер его развития определен быть не может. Главным недостатком как «классической» общей теории систем, так и ее более современного варианта, рассматривающего неустойчивые состояния нелинейных систем, является фактическое игнорирование наличия других систем. Хотя в отличие от гегелевской диалектики они, по преимуществу рассматривая так называемые открытые системы, принципиально признают наличие и роль среды, но последняя фактически представляется в виде некоторого «питательного бульона» и источника «возмущений». В действительности ни тот, ни другой случай в чистом виде места не имеет: первый — поскольку в мире реально существует всеобщее взаимодействие, и абстрагироваться от него, опираясь исключительно на саморазвитие, можно только в определенных случаях и относительно; второй — поскольку система в своих элементах не отделена от среды в абсолютном смысле. Под последним понимается, что, во-первых, отдельные элементы системы входят в нее с более или менее сильными связями, сохраняя достаточно существенные собственные связи с внесистемными элементами; во-вторых, имеет место включение системы в другие системы — как в целом в системы «высшего порядка», так и частью элементов в другие системы, так что понятия как системы, так и среды оказываются далеко не однозначными; и, наконец, в-третьих, неравнозначными оказываются взаимодействия между системой и отдельными элементами среды, в том числе и потому, что последняя содержит также другие системы, включая аналогичные. Таким образом, ни диалектика, ни общая теория систем, несмотря на их важнейшее общеметодологическое значение, и даже на особую, чрезвычайно важную роль в формировании научного мировоззрения, вследствие присущих им органических недостатков не могут служить в качестве теории развития.
Учитывая всеобщую взаимосвязь в мире с одной стороны, и структурирование материи с другой, главным моментом, с учетом которого должна строиться любая теория развития, основывающаяся хоть на диалектике, хоть на общей теории систем, хоть на обеих вместе, является все же отношение «система-среда». Система (или объект – в философской терминологии) вообще может быть понята не как некий феномен (онтологического, теоретико-множественного или иного характера), существующий «сам по себе», а исключительно в окружении среды (в том числе включающей и другие системы) и во взаимодействии с ней. Даже в тех случаях, когда удается выделить систему, в которой определяющими на том или ином этапе являются именно внутренние процессы, полностью абстрагироваться от внешних воздействий не удается.
В «неживой» системе исключительно важную роль играют энергетические процессы взаимодействия данного материального образования с его окружением. Повышение энергии тела, взаимодействующего с другими телами, есть потенциальная возможность повышения уровня разнообразия и снижения энтропии. Даже просто наличие разности температур при взаимодействии двух тел вносит элемент организации в данную систему, ибо появляется ненулевая составляющая в движении всех частиц и более нагретого, и менее нагретого тела, определяющая направление переноса тепла, т.е. движение становится уже не строго хаотичным, появляется вектор упорядочения, тем больший, чем больше этот перепад. Начиная с мемуара Сади Карно «Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развить эту силу» известно, что даже циклический процесс обязательно предполагает необратимое «протекание» потока энергии через данный объект, т.е. что объект в данном случае включен в некоторые процессы, происходящие в мире вне его. В указанном случае поток тепла от его источника к холодильнику должен проходить через рабочее тело тепловой машины. Таким образом, данная система по существу не является замкнутой (хотя иногда и считается таковой, поскольку в ней нет обмена со средой веществом). Тем не менее в определенных условиях она может рассматриваться как некая отдельная целостность, и тогда к ней вполне применимы те законы гегелевской диалектики, которые разработаны для изолированной системы. Анализ такого рода систем не входит в задачи данной работы, однако для полноты картины рассмотрим классический пример, столь любимый философами для демонстрации качественного скачка, — переход воды из жидкого в газообразное состояние и обратно, который в известном смысле может быть представлен в виде стационарного процесса – хотя, разумеется, и в этом случае в обязательном порядке по меньшей мере должен наличествовать внешний подвод или отвод тепла. Но здесь также имеют место и другие внешние воздействия, существенным образом влияющие на процесс.
При подводе (или отводе) тепла агрегатное состояние воды скачкообразно изменяется и она приобретает ряд новых, существенно отличных от прежних, свойств. Но между этими двумя крайними состояниями (жидким и газообразным) еще существует целая область так называемого влажного пара. И это вовсе не простая смесь жидкости и пара, влажный пар имеет ряд особенностей, не присущих ни той, ни другому. Конечно, если рассуждать о переходе жидкости в пар «вообще», ограничиваясь представлениями о вытеснении «старого» «новым», все это можно считать не столь уж существенным, и физики в свое время имели полное право так поступать. Но это только до тех пор, пока не доходит дело до решения практических задач. А вот если бы инженер-теплотехник при конструировании или эксплуатации соответствующих устройств решил считать влажный пар «еще жидкостью» или «уже паром» (пусть даже с «родимыми пятнами» того агрегатного состояния, из которого он произошел), ничего, кроме конфуза, не получилось бы. Ибо в практическом отношении это и не жидкость, и не пар, равно как и не «смесь» того и другого, а совершенно специфическое состояние воды, причем отнюдь не неизменное на протяжении всего перехода.
Это можно представить наглядно, если изобразить соответствующий переход, например, на так называемой PV-диаграмме1. На ней ясно видно, что речь идет далеко не о «постепенной замене старого новым», а о довольно сложном и специфическом процессе, имеющем свою внутреннюю структуру с «переходами второго порядка», на той же диаграмме фиксируемыми в виде особых линий, именуемых спинодалями (в закритическом состоянии дело обстоит сложнее, но и там существуют аналогичные линии перехода – квазиспинодали). Область влажного пара слева (в области меньших давлений и температур) от спинодали, говоря несколько упрощенно, предполагает состояние воды в виде жидкости, в которой имеют место паровые включения. Справа от спинодали, наоборот, имеет место пар с жидкостными включениями. В пределах этих областей состояние воды, хотя и оказывается неустойчивым, при определенных условиях может меняться вдоль линий, являющихся продолжением участка гиперболической изотермы соответственно жидкого или газообразного состояния и имеющих экстремумы, в своей совокупности как раз и образующие спинодали. Линии, гипотетически соединяющей нижний и верхний экстремумы изотермы в области между спинодалями, фактически не существует, так как в реальных условиях система в данной области даже относительной устойчивостью не обладает. Важнейшее отличие данного состояния от других заключается в том, что его существование и характеристики кроме внутренних процессов и упомянутого выше внешнего подвода или отвода энергии в весьма существенной степени определяются еще и другими внешними влияниями, прежде всего тем, что данный объект существует в поле земного тяготения. В начале «сжижения» влажный пар имеет структуру «жидкость в паре», в конце – «пар в жидкости», определяемые соотношением этих фаз и поверхностным натяжением. В «средней части» при близких значениях относительного содержания обеих фаз поле земного тяготения приводит к неустойчивости структуры данной среды и разделению влажного пара с образованием границы (уровня «жидкости») между псевдожидкостью и псевдопаром.
Данный пример вследствие относительной простоты и «однозначности» процесса позволяет сделать некоторые общие выводы о внутренней структуре такого типа качественного перехода. Во-первых, здесь состояние второго этапа диалектической «триады» («антитезиса») в отличие от первого и третьего не является внутренне однородным (т.е. в процессе развития не сводится к чисто количественным изменениям), он сам состоит из трех этапов, также составляющих некоторую «триаду». Во-вторых, первый этап этой «внутренней триады» имеет определенное «сродство» с первым этапом «большой триады», а соответственно третий – с третьим. В-третьих, состояние объекта во «внутренней триаде» не отличается устойчивостью. И, наконец, в-четвертых, если вообще весь процесс не может быть понят без учета внешних связей, предполагающих взаимодействие с другими объектами (в данном случае без внешнего подвода или отвода энергии), то характер «среднего» этапа самым непосредственным образом зависит еще и от других внешних влияний (в данном случае – земного тяготения). Этот пример конкретного качественного перехода, с одной стороны, наглядно показывает принципиальную невозможность с достаточной полнотой рассмотреть любые процессы в объекте без учета внешних связей, а с другой – не менее принципиальную внутреннюю структурированность диалектического скачка.
Не развивая дальше эту тему, заметим только в данной связи, что такой характер перехода свойствен также и другим случаям. В них «средняя» стадия сама по себе состоит из трех этапов. Мы уже упоминали о превращении гусеницы в бабочку. В момент окукливания гусеница вроде бы еще остается гусеницей со свойственными ей морфологическими особенностями, однако характер ее функционирования изменился: она не делает того главного, что составляло «смысл жизни» гусеницы – не питается, т.е. не преобразует «внешние» вещества во «внутренние», а значит гусеницей она уже как бы не является. Объект еще относится к предыдущему этапу своего развития, но уже к нему и не относится. Соответственно к концу стадии куколки уже все структуры будущей бабочки сформировались, это уже не куколка, и тем не менее еще не бабочка. Чтобы ею стать, необходимо расправить крылья (а это весьма специфический процесс), предварительно скинув оболочку куколки. Те же преобразования, которые специфичны для состояния куколки, совершаются в некой «средней» фазе ее развития. Аналогичный пример можно взять, скажем, из области изменения структуры вещества при изменении температуры и давления. Здесь можно выстроить ряд от газообразной плазмы, в которой электроны теряют связь с ядрами, до сверхплотного вещества, где опять же нарушено движение электронов по орбитам. Между этими крайностями находится вещество в своем «обычном» виде с характером движения электронов, обуславливающим наличие химических свойств. В этих условиях атомы различных веществ обладает способностью образовывать молекулы, а вещество может находиться в состояниях газа и твердого тела, в чем-то аналогичных крайним, а в чем-то отличных от них, но имеет еще и этап особого, только данному случаю свойственного состояния – жидкости.
Эта попытка исследования обобщенной внутренней структуры процесса отрицания отрицания – один из примеров того, как можно было бы рассматривать, говоря словами П.К.Анохина, «внутреннюю архитектонику» и «внутренние механизмы» процесса развития, формализуя их и получая таким образом действенный инструмент исследования с эвристическими функциями, позволяющий «накладывать» выявленную закономерность на неизвестный процесс – разумеется, с последующим конкретным изучением его специфических особенностей. Нас здесь этот момент интересует постольку, поскольку, как мы далее убедимся, формально аналогичный характер имеет также процесс развития общественного организма.
Мы здесь не будем останавливаться на сущности того различия, которое имеется между «неживыми» системами, подверженными действию закона повышения энтропии, и системами «живыми» – самоорганизующимися, способными к самостоятельному существованию (включая и самовозобновление) в конкретной энтропийной среде, осуществляя антиэнтропийный процесс функционирования. Примем в качестве факта существование систем, которые в условиях дезорганизующего воздействия среды стремятся не только сохранить, но и повысить уровень своей организации, обеспечив тем самым устойчивость (гомеостазис) системы. Повышение уровня организации живых систем составляет процесс, именуемый эволюцией.
Однако когда дело касается развития, возникает вопрос: «Какой смысл в самом факте эволюции организмов? Отчего органическое вещество представляет собой не однородную коллоидную массу, а разбито на множество своеобразных носителей жизни, имеющих строго определенные формы?». Энергия, получаемая Землей от Солнца, в конечном счете «превращается в тепловую и, благодаря лучеиспусканию, уходит в мировое пространство, теряясь для Земли навсегда. Энергия бессмертна, но она способна обесцениваться, и это обесценивание все растет. … Превращая часть имеющейся в ее распоряжении химической энергии в энергию деформации и расходуя последнюю на образование наследственно повторяющихся форм или, специальнее, на морфологические признаки, “живое” образует стойкие системы энергии. При этом задерживается обесценивание и удлиняется весь цикл превращений, испытываемых данным количеством энергии. … Смысл эволюции – замедление энтропии по отношению к источнику жизни – солнечному лучу»2.
Рассмотрим, каким образом в процессе сохранения и развития самоорганизующейся (кибернетической) системы происходит ее взаимодействие со средой, и как это сказывается на самой системе. Представим себе возникновение в среде (независимо от того, как это произошло) некоего образования с определенной внутренней структурой – кибернетической системы, фундаментальной целью которой является противодействие процессам энтропии. Как будут развиваться события дальше? Существенным здесь является то обстоятельство, что несмотря на специфические антиэнтропийные свойства системы как целого, процесс нарастания энтропии, как явление всеобщее, идет не только в среде, но и в самой системе. Если исходить из всеобщности законов сохранения, то, следовательно, для противостояния этому процессу система должна обладать возможностью выведения энтропии во внешнюю среду – независимо от особенностей того механизма, которой эту возможность обеспечивает. «В открытых системах, которые обмениваются со средой веществом и энергией, второй закон термодинамики выполняется столь же строго, как и в изолированных системах. Однако благодаря взаимодействию с внешней средой открытые системы могут повысить степень своей организованности за счет роста энтропии окружающей среды»3. «Все, чем отличается этот мир от серого, однородного хаоса, возникло и существует вследствие оттока энтропии в окружающую среду. Отрицательной энтропией питается все живое и все созданное жизнью»4. Живой организм «остается живым, только постоянно извлекая из окружающей среды отрицательную энтропию… Существенно в метаболизме то, что организму удается освободиться от всей той энтропии, которую он вынужден производить, пока жив»5.
Но энтропия – не некая особая субстанция, она связана с характером организации материи. Следовательно, ее вынос в среду может осуществляться не сам по себе, но только одновременно и посредством выноса ее субстанционального носителя, что, естественно, в свою очередь предполагает также предварительный ввод в систему некоторой субстанции из среды. «Самоподдержание некоторой структуры – сохранение системы с тем же уровнем энтропии в целом, возможно, в принципе, только за счет привлечения ВНЕШНЕЙ энергии (а также вещества и информации), а не за счет каких-либо изощрений во ВНУТРЕННЕЙ структуре»6. Другими словами, именно антиэнтропийный характер кибернетической системы предполагает, что ее первым и необходимым свойством является материальный обмен со средой, без которого система как антиэнтропийное образовании функционировать не может. Понятно, что для такого рода систем о развитии как саморазвитии вообще не может быть и речи. Здесь, как и всюду, действуют законы сохранения, благодаря чему, в частности, «закон сохранения энергии оправдывается вообще над животным и растительным организмом, объясняя нам связь между деятельностью организма и тратой его вещества»7.
Это обстоятельство уже по самой своей сути предполагает два важных момента. Во-первых, обмен системы со средой может осуществляться только через некую границу раздела «система-среда», физически существующую в виде некоторого ограничительного барьера. Но во всех случаях должна существовать некоторая «поверхность», физически ограничивающая локализацию системы, которая для существования в этом качестве обязательно должна иметь пространственную компактность и возможность противостоять неконтролируемым процессам взаимодействия со средой, т.е. должна обладать целостностью. Во-вторых, для противостояния энтропии система должна обладать также некоторым уровнем организации, что предполагает и определенный уровень ее количественных характеристик. Только имея количество составляющих элементов и связей между ними, превышающее некоторый критический уровень, система способна функционировать как самостоятельное образование. При этом, учитывая вероятностно-статистический характер среды, приводящий к нарушению обменных процессов, для надежного сохранения и развития системы процессы ассимиляции должны превалировать над процессами диссимиляции, а это значит, что любая жизнеспособная система должна постоянно возрастать в количественном отношении. Но эти моменты неизбежно приходят в противоречие.
Указанное противоречие имеет своей основой то, что при количественном (а следовательно, в конечном счете и геометрическом) возрастании различные характеристики данного образования меняются непропорционально, а именно: при возрастании линейных геометрических размеров образования при прочих равных условиях его объем (или масса, или количество элементов и т.п.) растет пропорционально кубу, а ограничивающая поверхность – квадрату линейных размеров. В этом случае понятно, что рост числа элементов (или других количественных характеристик) будет опережать рост возможностей взаимодействия со средой, определяемых (опять же при прочих равных условиях) величиной поверхности раздела. Процессы ассимиляции и диссимиляции начинают тормозиться, что ставит под вопрос эффективность функционирования системы. Указанное противоречие разрешается путем совершенствования механизмов взаимодействия со средой, а также путем развития поверхности обмена, но происходит это только в определенных пределах и только в длительном процессе эволюции. В рамках данного образования оно разрешается путем его деления. В предельном случае это – деление на два отдельных образования, что, уменьшая массу каждого нового образования в два раза, одновременно увеличивает в нем примерно на треть суммарное отношение поверхности к объему8.
Мы упомянули выше еще один процесс, неизменно имеющий место в самоорганизующейся системе. При количественном росте в ней идут процессы не только повторения имеющихся структур, но и их совершенствования с точки зрения возможностей взаимодействия со средой. Этот процесс протекает весьма медленно (по сравнению с другими процессами в системе), и приводит к повышению эффективности противостояния росту энтропии, в том числе эффективности обменных процессов. Тогда при той же величине разделительной поверхности может обеспечиваться обмен для системы с большим числом элементов. Возникает возможность снижения необходимой величины отношения поверхности к объему, что соответственно допускает количественный рост системы, и как следствие, создает условия для повышения ее сложности, т.е. развития.
В принципе взаимодействие системы и среды осуществляется системой как целым со средой как целым, но в непосредственном конкретном взаимодействии принимает участие прежде всего та часть системы, которая входит в непосредственный контакт со средой, и уж конечно только та часть среды, которая так или иначе (непосредственно или опосредованно) контактирует с системой. Указанный характер взаимодействия неизбежно влияет как на структуру системы, так и на состав и строение ближайшего участка среды.
Следовательно, уже само наличие взаимодействия системы и среды определенным образом воздействует на систему, а именно таким образом, чтобы последняя могла наиболее полно адаптироваться в среде. Поскольку адаптация осуществляется путем определенных изменений в системе, стремящейся в то же время сохранить свою качественную определенность (т.е. система одновременно должна и сохранять стабильность, и изменяться), то для системы оказывается целесообразным «дифференцироваться на две сопряженные подсистемы; одну убрать ”подальше” от среды, а вторую выдвинуть “поближе” к среде»9. Соответственно на каждом уровне живых систем – «нуклеопротеида, клеточного ядра, клетки, организма и популяции … можно увидеть четкую дифференциацию на две сопряженные подсистемы»10.
С другой стороны, система уже в силу своего функционирования преобразует состояние ближайшей части среды, становящейся в результате неким промежуточным образованием между системой и остальной средой, характеризующимся по меньшей мере повышением уровня дезорганизации. Но в чистом виде такая ситуация могла бы иметь место только в случае единичности системы. Мы, однако, отмечали невозможность такого положения уже хотя бы потому, что система в процессе своего функционирования вынуждена делиться. А это создает другую ситуацию – ситуацию существования в среде не одной, а ряда систем, что кардинально меняет положение.
Сначала увеличение числа систем мало что изменяет в их отношениях со средой, – до тех пор, пока возможности их рассредоточения в среде существенно превосходят радиус реального влияния системы. В этом случае практически каждая система действует так, как будто является единственной. Но по мере увеличения количества систем, они неизбежно оказываются в радиусе действия друг друга. На деле это означает, что среда для системы меняется, ибо теперь в качестве среды для каждой системы она включает в себя другие системы. Если считать, что «с выделением любой материальной системы автоматически появляется соответствующая “среда”, в которой существует эта система»11, т.е. если принять положение, согласно которому все то, что не система, является средой, то для данной конкретной системы среда довольно явственно распадается как бы на две различных среды. Первая из них представляет собой ту среду, с которой система взаимодействует как с чем-то действительно ей противостоящим в антиэнтропийных процессах. Что касается той части окружения, которая состоит из аналогичных систем, то она по отношению к данной системе также выступает в качестве «среды», однако взаимодействие с ней имеет своеобразный, меняющиеся в процессе этого взаимодействия характер.
Итак, результатом функционирования любой системы неизбежно являются изменения среды в ее непосредственном окружении, сказывающиеся на характере этого функционирования. Появление аналогичных систем поначалу не меняет принципа функционирования самой системы в среде. В случае идеального баланса между системами так могло бы продолжаться до тех пор, пока возможности выведения системой дезорганизации не пришли бы в состояние равновесия с уровнем дезорганизации среды (как это имеет место в искусственных ситуациях, скажем, в случае разведения культуры микробов в ограниченном пространстве или размножения определенного вида рыб в небольшом замкнутом водоеме). На деле же в реальности имеют место флуктуации, которые нарушают баланс между отдельными системами. Вот здесь-то и начинают сказываться факторы, связанные с упомянутым выше повышением сложности и внутренней дифференциацией систем.
Но прежде, чем произойдут соответствующие изменения в системе, множество сравнительно идентичных систем должно сосуществовать друг с другом. В этом случае для успешного функционирования они должны строить его программу в соответствии с фактом существования этого множества, т.е. приспосабливаться не только к среде как таковой, но и друг к другу. В процессе эволюции, т.е. повышения уровня организации систем с целью более полного приспособления и развития, это требование реализуется в программе поведения каждой системы с учетом существования других систем, а следовательно, теперь уже все они совместно осуществляют целесообразное поведение по отношению к среде – без специального управляющего центра, через программу поведения каждой системы в отдельности. Соответствующие изменения закрепляются, поскольку при согласовании функционирования взаимодействующих систем возможности такого конгломерата по сохранению и развитию в окружающей среде повышаются, в известной степени компенсируя невозможность (сверх определенного предела) количественного роста каждой так сказать «элементарной» системы в отдельности. Имеет место, таким образом, самоорганизация, приводящая к образованию более сложной интегральной системы, имеющей более высокий уровень адаптации к окружающей среде, более широкие возможности противостояния энтропийным процессам дезорганизации.
Однако самоорганизация – только первый этап развития системы более высокого уровня. Происходящее одновременно с процессами самоорганизации (и благодаря им) повышение сложности каждой отдельной системы, еще не ставшей полностью элементом системы следующего уровня, приводит к тому, что поначалу относительно однородные ее элементы начинают все больше дифференцироваться как по функции, так и по структуре, в том числе и по функциям как воздействия на внутрисистемные процессы, так и взаимодействия со средой. В зависимости от сочетания различных факторов, а также благодаря действию обратных связей, эти процессы идут с разной скоростью в разных системах, соответственно создавая разное положение тех или иных систем в конгломерате. В результате они начинают играть в нем различную роль, прежде всего в организации общего взаимоотношения со средой – с соответствующей дифференциацией. А это значит, что внутри конгломерата постепенно возникает центр организации, определенным образом воздействующий на остальные системы, входящие в конгломерат, т.е. так или иначе управляющий этими системами – сначала косвенно, а затем и непосредственно.
Благодаря наличию такого управления взаимодействие данного центра со средой начинает все в большей степени опосредоваться его связью с ней через другие системы, входящие в конгломерат. Образуется управляющее ядро, ставящее себя «в центр» данного конгломерата в том смысле, что взаимодействует со средой не только непосредственно, но и через входящие в него системы, уже становящиеся таким образом частью вновь образующейся системы более высокого уровня. Все образование в целом благодаря повышению уровня организации обладает более высокой устойчивостью по отношению к среде. «Центр», «ядро» этого образования оказывается в определенном смысле разделенным со средой окружающей его «сферой», «оболочкой», и его процессы обмена частично осуществляются уже не непосредственно, а через данную «сферу». Следовательно, указанная «оболочка» должна иметь структуру и характер функционирования, обеспечивающие не только взаимодействие со средой системы как целого, но и некоторые обменные процессы «центра».
Другими словами, при образовании системы более высокого уровня, те системы более низкого уровня, которые составляют ее в качестве элементов, уже хотя бы поэтому неизбежно должны измениться в соответствии с функцией, выполняемой данным элементом в новой системе. Это относится как к тем элементам, которые включены в «ядро», так и к тем, которые составляют «периферию» новой системы. Во всех случаях «компонент при вхождении в систему должен немедленно исключить все те степени своей свободы, которые в той или иной мере не содействуют получению конечного положительного результата данной системы», ибо «в функциональной системе результат представляет ее органическую часть, оказывающую решающее влияние как на ход ее формирования, так и на все ее последующие реорганизации»12, а результат ближайшим образом задается «интересами» центра. Причем следует иметь в виду, что в такой системе центр может эффективно воздействовать на периферийные образования не столько непосредственно, сколько через соответствующие «региональные центры», что в значительной степени определяет «последующие реорганизации». Указанные моменты, важные в общем виде, особое значение имеют, в частности, при анализе такой конкретной системы как социум, поскольку она представляет собой едва ли не самую сложную из всех известных систем, а следовательно, именно в ней общие процессы проявляют себя наиболее полно и последовательно.
Следует при этом иметь в виду, что поскольку элементы, входящие в состав «ядра», несут на себе «печать» своего происхождения из самостоятельных систем, их отделение от среды не может быть абсолютным. Часть своих функций они осуществляют через окружающую их «оболочку» из других элементов, а часть – в непосредственном взаимодействии со средой. При достаточном усложнении системы, когда непосредственное взаимодействие со средой становится затруднительным, система включает часть среды в себя (от мирового океана в нашей крови до сохранения газового состава древней атмосферы в термитнике).
Таким образом, если система как нечто целостное в антиэнтропийных процессах всегда противостоит «первичной» окружающей среде, то по отношению к среде «вторичной» (состоящей из аналогичных систем), наличие которой является предпосылкой формирования новой целостности более высокого порядка, она может оказываться в одном из двух существенно различных положений. Первое положение является положением координации, когда система в своем взаимодействии с другими системами корректирует свое поведение соответственно факту наличия других систем, что предполагает и определенное взаимодействие между системами. Результатом углубления координационного взаимодействия является новая целостность. Однако неравномерность развития (вследствие наличия флуктуаций и действия положительной обратной связи) приводит к изменению этого положения с установлением между системами отношений субординации. Вследствие установления указанных отношений такая экс-система опять же может оказаться в одном из двух положений: либо стать координирующим центром (или войти в состав «ядра»), либо войти в состав окружающей центр периферии. При этом в «больших» системах и центр отличается сложным строением, и периферия имеет определенные градации и внутреннее строение (в том числе соответствующие «ядра», «центры» более низкого порядка). В ряде случаев между ними может быть выделена своего рода «субпериферия», представляющая собой некоторое промежуточное образование между «ядром» и «периферией».
В процессе такого развития сложная система приобретает как бы некоторую сферическую (иногда структурно, всегда − функционально) слоистую конструкцию. Эта конструкция, во-первых, включает ряд относительно однопорядковых систем-элементов, «на равных» взаимодействующих между собой; во-вторых же, она имеет некоторый центр-ядро, дополнительно управляющий функционированием всего конгломерата-системы как единым целым, как бы «надстроенным» над первым уровнем организации. Естественно, процесс агрегации систем на этом не заканчивается. Образовавшиеся новые системы более высокого уровня также взаимодействуют между собой, повторяя тот же процесс агрегации теперь уже более крупных систем в конгломераты с последующим выделением управляющего центра, в известном смысле защищенного от непосредственного взаимодействия со средой. Таким образом, в результате в идеале получается многослойная сферическая конструкция, состоящая из чередующихся слоев самоорганизации и управления13. Однако это именно в идеале. В действительности же все тот же статистически неоднородный характер среды приводит к существенной неоднородности взаимодействующих между собой разноуровневых систем (в том числе с наличием «включений», в принципе могущих иметь ту же структуру), создавая таким образом сложнейшее переплетение их взаимосвязей и взаимовлияния.
Такой «слоистый» характер организации неизбежно вытекает из конечных возможностей системы в ее взаимодействии со средой и другими системами. Управление из одного центра можно было бы счесть более эффективным при организации взаимодействия частей, но при определенном уровне сложности такой организации, прежде всего сложности самих частей, имеющих собственные весьма сложные взаимоотношения со средой и друг с другом, ограниченные возможности взаимодействия начинают снижать его эффективность: «Сила организма заключается в точной координации его частей, в строгом соответствии разделенных и взаимосвязанных функций. Это соответствие сохраняется при постоянно идущем возрастании тектологических разностей, но не безгранично: наступает момент, когда оно уже не может вполне удерживаться и начинает идти на убыль»14. При налаживании непосредственного взаимодействия частей, эффективность повышается, но последняя опять же имеет экстремальную зависимость от сложности и раньше или позже начинает снижаться при увеличении их количества. Поэтому при повышении сложности системы эти два принципа организации – самоорганизация и управление – поочередно сменяют друг друга в различных «слоях» структуры системы и ее элементов.
Следует отметить еще один существенный момент. Если бы только лишь уровень организации самой системы определял ее отношение к «изначальной» среде, то возникновение систем более высокого уровня приводило бы к исчезновению систем более низкого уровня как менее эффективных. Однако это не так. Поскольку системы более высокого уровня взаимодействуют со средой не непосредственно (вернее, не только непосредственно), но и через системы более низких уровней организации, также создавая в известном смысле некоторую систему, последние представляют собой необходимый момент существования первых в этой, более высокой системе. Поэтому такие системы с более низким уровнем организации, не теряя самостоятельного существования, вынуждены принимать на себя еще функции посредника, проводника воздействия «ядра» (систем более высокого уровня) на среду и обратно. Выполняя такую роль, они и сами изменяются – именно потому, что через них осуществляется связь более высокоорганизованных систем со средой. Таким образом создается некая связанная со средой всеобщая «сверхсистема», которая, в частности, в биологии называется биогеоценозом. В основе его все так же лежит взаимодействие со средой простейших организмов – продуцентов и деструкторов, на которое «наслаиваются» все остальные – сначала растения, затем растениеядные животные, и, наконец, хищники различного уровня.
Пока что, рассматривая функционирование системы, мы исходили из ее динамического равновесия со средой, т.е. некоторого квазистатического ее состояния. На самом же деле указанное равновесие постоянно нарушается, вводя систему в динамический режим функционирования. Другими словами, само приспособление системы к среде в принципе является динамическим, т.е. по сути дела переходным процессом. Однако существует еще один тип собственно переходного процесса, существенно отличающегося от данного. Как мы уже отмечали, для своего функционирования любая жизнеспособная система должна из внешней среды потреблять вещество и энергию. Вещество идет на строительство системы, энергия на преодоление «сил деформации» и «сил трения», и то и другое на выведение вовне энтропии. Система, находящаяся в динамическом равновесии со средой, потребляет этих внешних агентов ровно столько, сколько требуется для ее функционирования. При их количественном изменении в сторону увеличения или уменьшения происходит нарушение динамического равновесия системы со средой.
Если такое нарушение по тем или иным причинам сохраняется достаточно длительное время, то, если только эти нарушения не ведут к разрушению системы, раньше или позже система, соответственно изменившись, переходит на новый уровень динамического равновесия со средой (происходит переходный процесс первого типа). Но до тех пор, пока этого не произойдет, функционирование системы приобретает особый характер, собственно и именуемый переходным процессом (происходит переходный процесс второго типа). Сущность такого переходного процесса состоит в том, что в нем происходит компенсация изменения подачи того или иного внешнего агента относительно необходимого уровня за счет внутренних сил инерции (энергии) или за счет емкости (вещества), т.е. положительное или отрицательное приращение подвода агента (возмущение) в первый момент ведет не к изменению параметров системы, а к повышению или расходованию запаса данного агента (энергии или вещества), за счет чего и происходит компенсация данного изменения до перестройки системы на новый режим. Поскольку возможности компенсации для любой системы ограничены ее соответствующими характеристиками, переходный период может быть только относительно кратковременным, причем кратковременность в данном случае понимается именно с точки зрения инерционных и емкостных свойств системы. И для сохранения и развития системы необходимо, чтобы указанная перестройка уложилась в тот временной отрезок, который определяется допустимой величиной нарушения баланса и свойствами системы.
Поэтому при прочих равных условиях существенное значение приобретает то, когда именно система начнет «компенсационные мероприятия». Реакция системы на внешнее воздействие раньше или позже следует за самим воздействием, которым она и определяется, а потому не может быть начата до этого воздействия. Однако сам характер воздействия может быть различным, и отнюдь не всегда имеет скачкообразный характер. А относительно медленное нарастание во времени величины воздействия позволяет системе более эффективно к нему адаптироваться. Более того, существенному (т.е. существенному для ее сохранения в данном качестве) для системы воздействию может предшествовать связанное с ним другое воздействие, относительно безразличное для системы, но дающее возможность определенным образом реагировать на существенное еще до его наступления. Именно со способностью кибернетических систем реагировать на такого рода воздействия в значительной степени связано их развитие. Поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать только те системы, которые способны в своем функционировании использовать этот особый вид взаимодействия со средой (включая другие системы такого же вида).
Рассмотрим этот момент подробнее. Любые взаимодействия между материальными образованиями, составляющими Вселенную, имеют материальный же характер, выражаясь в происходящих между ними тех или иных физических процессах. При этом различные процессы имеют различные интенсивность, скорость протекания и радиус действия. Некий внешний объект, взаимодействующий с данной системой, может оказывать на нее различные воздействия. Для системы, стремящейся к уравновешению со средой, к своему сохранению и развитию, для адекватного реагирования с этой целью на возможные воздействия данного объекта важны характеристики оказываемых воздействий. Условно говоря, множество, составляемое совокупностью этих воздействий, по их интенсивности ограничено «снизу» возможностью их обнаружения системой, а «сверху» – их разрушающей способностью по отношению к ней. Ниже и выше этих границ характеристики воздействия для системы интереса не представляют. Данное множество явственно распадается на два пересекающихся подмножества. Непосредственное значение для системы представляет то из них, которое включает воздействия, способные сами по себе существенным образом повлиять на ее функционирование, а следовательно, само по себе требующие адекватного реагирования со стороны системы («сильные» воздействия). Другое же подмножество содержит воздействия, которые по своему собственному влиянию на функционирование системы такого реагирования не требуют, и в этом смысле для системы безразличны («слабые» воздействия).
И те, и другие вытекают из определенных характеристик и процессов внешнего объекта и, следовательно, даже если они имеют различную природу, являются взаимосвязанными. Для данного конкретного образования (системы) последствия такого влияния других образований наступают (или не наступают) в определенной последовательности. Если указанные влияния связаны между собой некоторыми закономерностями, то при наличии возможности их восприятия и анализа, по тем явлениям, которые наступают раньше, можно заранее судить о тех, которые могут произойти позже. Стало быть, для системы, обладающей такой возможностью, появляется принципиальная возможность предвидеть те явления, которые наступят позже уже произошедших. Поскольку в ряде случаев слабые воздействия могут предшествовать сильным, то в принципе система имеет возможность по уже наступившим слабым воздействиям судить о возможности появления и характере сильных, и соответственно реагировать на них еще до их наступления, что существенным образом повышает эффективность реакции. В этом случае можно сказать, что используемые системой с этой целью слабые воздействия объекта несут для данной системы информацию о данном объекте.
Понятие «информация» достаточно многозначно. Поэтому необходимо применительно к данному конкретному случаю ограничить область его значений. Это намного продуктивнее, чем споры о том, что такое информация вообще. Если предыдущие воздействия на систему в физическом отношении оказываются незначительными (т.е. непосредственно не оказывают существенного воздействия на ее функционирование), но могут быть поставлены в соответствие с последующими, более значительными, то они и воспринимаются системой не столько сами по себе как физические явления, сколько как информация о последних. Само по себе такое воздействие выполняет роль только материального носителя информации. То есть, чтобы какой-либо физический агент можно было считать выполняющим для данной системы роль носителя информации, необходимо, во-первых, чтобы он был известным ей образом связан с некоторыми существенными для нее (т.е. существенным образом влияющими на ее состояние) явлениями, и, во-вторых, желательно, чтобы он был слабым (т.е. сам по себе как физическое явление влиял на это состояние несущественно).
Иначе говоря, те воздействия, которые окружающая среда оказывает на систему, это еще не информация, в просто некоторые собственно физические (или химические и т.п.) воздействия, являющиеся результатами того, что система оказалась в радиусе влияния процессов в тех или иных образованиях окружающей среды. И только в результате вполне определенного взаимодействия с системой они превращаются в информацию, становятся сигналами указанных процессов. Другими словами «информация – это обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему наших органов чувств»15. Отсюда следует, что «объем, а зачастую и наличие воспринимаемой информации зависят от отражающей системы, от ее “подготовки” к использованию получаемой информации»16. Следовательно, «информация возникает в процессе управления, т.е. в процессе приспособления к внешнему миру»17. В зависимости от этого «приспособления», т.е. от имеющихся уже сведений, от возможности восприятия и обработки сигналов, последние несут для системы различную информацию. Если информация прямо зависит от возможностей восприятия и обработки, то что касается имеющихся уже сведений, зависимость от их количества в системе, именуемого тезаурусом, носит экстремальный характер.
Таким образом, как система для среды, так и среда для системы выступают в определенном качестве не столько непосредственно, сколько во взаимозависимости. Характер и успешность функционирования системы в среде в значительной мере зависит от того, каким образом воспринимается среда данной системой, т.е. какой является данная среда для данной системы.
1.4. Живая система в вероятностной среде
Итак, при анализе более или менее сложных явлений получить адекватные результаты можно только используя системный подход, когда объект исследования представляется не просто как соединение взаимодействующих между собой частей, обладающих определенными свойствами, а как нечто такое, что несводимо к сумме своих частей, как система – такая совокупность элементов, которая, стремясь сохранить свою качественную определенность, во взаимодействии с внешней для нее средой выступает по отношению к ней как организованное множество, образующее органичное целостное единство, как единое целое1.
Таким образом, представление о системе неизбежно включает в себя понятие целостности. Из этого представления следует, что система может быть понята как нечто целостное лишь в том случае, если она в качестве системы противостоит своему окружению – среде. Расчленение же системы приводит к понятию элемента – такой ее части, характеристики которой определяются в рамках целого. Хотя системными признаками обладают многие образования, системы с высоким уровнем гомеостазиса, способные эволюционировать, мы пока находим только в области живого, причем «деятельность всех особенностей живой системы, в конечном итоге, направлена на лучшее приспособление к среде»2.
Живая система, взаимодействующая со средой, организует свои действия таким образом, чтобы, несмотря на наличие дестабилизирующих воздействий среды, сохранять свою целостность. Эта объективная направленность функционирования на повышение устойчивости, сохранение своего качества является фундаметальным свойством сложной самоуправляющейся системы, и прежде всего это относится к живым системам. И.М.Сеченов писал о поведении животного: «Все без исключения инстинктивные движения в живом теле направлены лишь к одной цели – сохранению целостности неделимого»3. У человека, по его мнению, любая жизнедеятельность проявляется в рефлексах (отраженных движениях), а «все отраженные движения целесообразны с точки зрения целости существования»4.
Любая сложная система для сохранения себя в этом качестве должна адекватно реагировать на воздействия, получаемые из внешней среды, по выражению И.П.Павлова, уравновешивать себя с окружающей средой. Для обеспечения такого равновесия система должна обладать сведениями о необходимости действия (потребностью в действии) и о его будущем результате (предвидеть последствия). Результаты действий системы, кроме характера этих действий, определяются начальными условиями и законами движения, действующими в среде. Зная начальные условия (т.е. состояние и характер изменения среды и анализируемой системы в заданный момент), а также характер динамического равновесия, существующего в этот же момент между ними, и зная в полном объеме законы изменения и превращения, действующие в объективном мире, в принципе можно было бы точно определить ту программу, которую должна была бы реализовать система для сохранения себя в данном качестве.
Но, кроме упоминавшихся выше моментов, связанных с бесконечностью Вселенной и конечной скоростью распространения и переработки информации, вообще ограниченная сложность любой системы соответственно ограничивает ее реальные возможности по моделированию среды, а следовательно, и ее аналитические и прогностические возможности, возможности предсказаний на основе точного состояния даже ограниченного, имеющего непосредственное практическое значение для системы, участка среды.
Вот в таких условиях и вынуждена система решать задачу сохранения и развития. Поэтому любая система в своих действиях должна руководствоваться такой программой, которая бы давала возможность в определенных рамках разрешать противоречие между бесконечной сложностью жесткого однозначного определения состояния среды и причинных связей в ней – с одной стороны, и собственной конечной сложностью – с другой.
Ограниченность информационного ареала, многообразие связей, сложность и ограниченная познанность законов движения позволяют любой кибернетической системе оценивать явления только с некоторым приближением, без учета подавляющего большинства действующих факторов. В зависимости от обстоятельств, эти факторы могут являться определяющими, а могут и не иметь существенного значения для системы с точки зрения ее функционирования, т.е. в разной степени сказываться на точности оценки данной системой той или иной ситуации. Если неучтенные факторы не мешают (в известных пределах) системе вырабатывать определенную линию поведения и предвидеть с практически достаточной точностью результаты своих действий, то в этом случае наблюдаемые явления мы можем считать не только абсолютно, но и относительно детерминированными. Если же неучтенные факторы не позволяют системе установит жесткую связь между причиной и следствием (хотя в действительности она и существует), оставляя существенную роль элементу случайности, то процесс для этой системы следует считать относительно недетерминированным.
Чем ниже сложность кибернетической системы, тем более недетерминированными (для нее) являются воздействия среды, и тем сильнее, следовательно, выступает наружу случайный характер этих воздействий. «Можно сколько угодно утверждать, что многообразие существующих бок о бок на определенной территории органических и неорганических видов и индивидов покоится на нерушимой необходимости, – для отдельных видов и индивидов оно остается тем, чем было, т.е. случайным … при всей извечной, первичной детерминированности его»5. С ростом сложности системы роль знания законов движения «в чистом виде» и точной оценки обстановки существенно растет, однако, в силу принципиальной невозможности ни при каких условиях руководствоваться исключительно ими, по отношению к любой системе конечной сложности среда никогда не является полностью относительно детерминированной. Любая кибернетическая система вынуждена действовать в условиях дефицита (в указанном смысле) информации, а «везде, где отсутствует полная информация, появляется случайность»6. Даже для такой сложной системы как человечество процесс преодоления этого дефицита – процесс познания – бесконечен, что приводит к противоречию: с одной стороны деятельность человека и общества в каждый данный момент протекает в конкретной обстановке, а с другой – только «бесконечная сумма общих понятий, законов ets. дает конкретное в его полноте»7.
Случайные факторы, которые не учтены при определении программы поведения системы, могут быть для нее как полезны, так и вредны. Не вдаваясь специально в вопрос о соотношении этих моментов, отметим, что последнее значительно более вероятно, так как обычно появление неучтенного фактора нарушает планируемое равновесие между системой и средой8. Жизнеспособная система должна обладать возможностью адекватно компенсировать действие таких факторов, что и обусловило формирование различных приспособительных механизмов у живых существ в процессе их развития.
Основой для выработки поведения живой системы, в частности, организма в его взаимодействии со средой является полученная им информация, которая перерабатывается по сложившейся в фило-и онтогенезе программе. Неоднозначно детерминированный по отношению к данному организму характер среды не гарантирует, как известно, адекватных ответных действий по системе «стимул-реакция», так как одинаковая реакция на одинаковые сигналы в различных ситуациях (т.е. при различии неучтенных факторов) часто приводит к различным, в том числе и неблагоприятным, результатам. Поэтому любая жизнеспособная система обязательно должна иметь компенсаторный механизм, позволяющий учесть относительно-детерминированный характер среды.
Итак, характер окружающей среды потребовал формирования в процессе эволюции у всего живого специальных механизмов компенсации, позволяющих эффективно функционировать в условиях относительной недетерминированности многих жизненно важных явлений. Возникает вопрос: каким же образом могла развиться жизнь, как может быть в этих условиях защищен живой организм от неблагоприятных случайных воздействий? Видимо, на этот вопрос можно ответить следующим образом. Отдельный организм (мы пока говорим о самых ранних ступенях развития) никак не может быть гарантирован от неблагоприятных случайностей. Можно с уверенностью утверждать, что раньше или позже он станет их жертвой. Другое дело, если речь идет о виде. Здесь неблагоприятные случайные воздействия среды «наталкиваются» на законы больших чисел.
Единичные случайные явления принципиально непредсказуемы. Каждое отдельное случайное явление (событие) может наступить, а может и не наступить. Точно определить, наступит ли данное событие, или нет, невозможно, поскольку это как раз и зависит от неучтенных факторов. Но дело качественным образом меняется, как только от рассмотрения отдельных случайных событий мы переходим к их массе. Случайные особенности факторов (или их набора), вызывающих данное событие, «в массе взаимно компенсируются; в результате, не смотря на сложность и запутанность отдельного случайного явления мы получаем достаточно простую закономерность, справедливую для массы случайных явлений»9. Благодаря массовости выделяется влияние неизвестных (или, может быть, чрезмерно сложных для анализа), но всеобщих факторов, закономерность которых становится доступной наблюдению и анализу. Появление закономерности позволяет, в отличие от случайности, осуществить эволюционную адаптацию, накапливание полезных для приспособления к данным условиям особенностей.
Но осуществление такого приспособления достижимо только для вида, а не для отдельного организма. Предположим для простоты, что конкретное неблагоприятное событие сопровождается гибелью данного организма. В таком случае организм имеет дело не с массой случайных событий, в которой статистически просматривается указанная закономерность, а с отдельным случайным событием, которое, раз уж оно случайно произошло, заканчивается гибелью организма, для которого существование общей закономерности уже не имеет никакого значения. Другое дело вид. Гибель отдельных индивидов еще не означает гибели вида. Существование же вида в целом обеспечивается характеристиками индивидов. «В борьбе за существование гибель отдельной особи определяется случайностью, однако в массе она определяется меньшей приспособленностью к жизненным условиям данного места и данного времени»10. С «точки зрения» вида уже можно говорить о вероятности явления по отношению к отдельному организму, которая будет повышаться или понижаться в зависимости от тех или иных эволюционных изменений. При этом «процесс прогрессивной эволюции … предполагает … переживание особей, обладающих преимуществом в борьбе за существование. В большинстве случаев это означает уменьшение истребляемости»11.
Поэтому с самого начала развития живого объектом, на который направлялось формирование адаптивных реакций, стал вид. Такое представление получило в биологии господствующее положение благодаря Дарвину. Произошел переход от концепции организмоцентризма к концепции видоцентризма: если додарвиновская биология считала исходным «атомом» живой природы организм, то Дарвин в качестве исходного взял понятие биологического вида12. И действительно, только сохранение вида, гарантируемое числом особей, достаточным для размножения в благоприятных условиях более быстрого, чем гибель их от неблагоприятных случайностей, обеспечивает преемственность и непрерывность процессов развития. Поэтому и формирование приспособительных механизмов в процессе развития объективно направлялось на сохранение вида, а не отдельного организма (более того, как известно, исключение из системы продолжения рода менее приспособленных особей положительно сказывается на судьбе и популяции – некоторого количества организмов данного вида, существующих в более или менее одинаковых условиях и достаточно тесно взаимодействующих друг с другом, – и вида в целом)13. Этой цели подчинены все механизмы развития; именно с точки зрения сохранения и развития вида и следует рассматривать формирование и функционирование того или иного приспособительного механизма, в том числе и механизма компенсации вероятностно-статистических воздействий среды.
Исторически первым и наиболее простым механизмом компенсации вероятностно-статистических воздействий среды является количественный. Как единая система по отношению к внешней среде при этом в пределе выступает весь вид в целом. Эволюционное развитие раньше или позже должно было нарушить такое положение. Основой дифференциации (в отношении недетерминированных воздействий) явилась интенсивность размножения, непосредственно связанная с индивидом. В вероятностных условиях непрерывность развития потомства данной особи в течение многих поколений в значительной степени обеспечивается ее плодовитостью; естественно, что этот признак из поколения в поколение закреплялся. Так было положено начало формированию частных механизмов компенсации вероятностно-статистических воздействий среды, которые, будучи связаны с организмом, могли и не быть полезными ему, но обеспечивали сохранение и развитие вида. В этом случае «жизнь особи у растений и животных не имеет самостоятельного значения и охраняется лишь постольку, поскольку она обеспечивает оставление потомства»14. Первый из таких организмов, таким образом, был также количественным. Он и не мог быть иным при том уровне развития отражательного аппарата (внутренних механизмов живой системы, сформировавшихся для получения и переработки информации, отражающей свойства и состояние среды), который характерен для организмов на начальном этапе. В дальнейшем становление и развитие различных компенсаторных механизмов непосредственно связано со степенью развития отражательного аппарата.
На этом этапе и в данном отношении произошло дальнейшее разделение растительного и животного царств. Растительные образования в виде клеток, первоначально имевшие пассивную (а затем в некоторых случаях и активную – но только в стабильной водной среде) мобильность, в виде многоклеточных организмов ее лишились. В дальнейшем их сохранение и целостность могли быть обеспечены методами количественной компенсации только при относительной стабильности окружающей их среды. Животные же образования пошли по пути выделения и развития специализированных средств анализа окружающей среды. Это было вызвано необходимостью повышения их мобильности с целью эффективного поиска пищи при гетеротрофном характере питания – без существенно отрицательных последствий изменений при этом в определенных пределах внешних для конкретного организма условий.
Отражательная способность животных организмов развивалась и совершенствовалась в процессе их эволюции, поднимаясь от элементарных актов ассимиляции и диссимиляции у простейших организмов к сложнейшим психическим актам у человека. На определенном этапе эволюции выделяется специальная нервная система, а затем специфический орган, координирующий работу всего аппарата отражения – головной мозг, по словам И.П.Павлова, «орган животного организма, который специализирован на то, чтобы постоянно осуществлять все более и более совершенное уравновешивание организма с внешней средой, – орган для соответственного и непосредственного реагирования на различнейшие комбинации явлений внешнего мира»15, – и в дальнейшем отражательная деятельность живого существа в основном связывается с его деятельностью. Степень приспособления отдельного организма к окружающей среде и возможность его совершенствования в этом отношении в значительной степени зависит от тех структур мозга, которые определяют возможности анализа внешних раздражений, характер образования связей между ними и реакциями организма16.
Увеличение сложности отражательного аппарата прежде всего приводит к расширению сферы относительно-детерминированных явлений; следствием повышения уровня сложности является изменение детерминации, поскольку неоднозначные связи на первом уровне превращаются для второго в однозначные (связи между распределениями). По отношению к относительно-недетерминированным явлениям живое еще длительное время остается защищенным только одним механизмом – механизмом количественной компенсации. Только значительное усложнение отражательного аппарата приводит к появлению нового качества – нового механизма компенсации вероятностно-статистических воздействий среды.
Прежде, чем перейти к рассмотрению этого механизма, необходимо отметить относительность противопоставления количественного механизма компенсации вероятностно-статистических воздействий среды за счет числа особей в популяции или генерации другим механизмам компенсации, связанным, как мы увидим, с отдельным организмом. Строго говоря, в конечном счете на любом уровне развития механизм компенсации вероятностно-статистических воздействий носит количественный характер и определяется развитием абстрактных характеристик организма и вида (масса, размеры, степень развития отражательного аппарата, количество особей в популяции, генерации, сверхорганизме и т.п.). Структура в определенном отношении также выступает как выражение количества (количество элементов и степень их связей в системе и др.). Что же касается соответствия организма определенным (в смысле осуществимости их анализа и однозначной приспособляемости) условиям существования, то здесь приспособление носит характер изменения качественных характеристик организма (форма, окраска, характер двигательных функций, программы инстинкта и т.д.), которые не могут быть выражены (и сравниваемы) количественно.
Характер участия отражательного аппарата в компенсации вероятностно-статистических воздействий среды существенно менялся на различных этапах эволюции. Как известно, на определенном этапе эволюции управление деятельностью организма главным образом осуществлялась в строгом соответствии с генетически заложенной программой. Несколько упрощая дело, можно сказать, что здесь в чистом виде действует система «стимул-реакция». Даже на сравнительно высоком этапе эволюции, например, у насекомых, главная особенность деятельности мозга заключается в том, что существует «возможность анализа и образования связей лишь в отношении определенных воздействий на животное свойств среды или последовательных цепей отдельных раздражителей»17. Здесь не может быть речи о сколько-нибудь существенной компенсации вероятностно-статистических воздействий среды на уровне отдельного организма из-за жесткой заданности инстинктивных реакций на внешние воздействия. Компенсация в основном остается количественной, однако уже на данном уровне развития отражательного аппарата возможен и другой вид компенсации. Он осуществляется у так называемых «общественных» насекомых.
В принципе существовало два пути дальнейшего развития способов компенсации, и соответственно два пути эволюции. Первый путь – становление количественно-структурной компенсации, без дальнейшего существенного развития отражательного аппарата, за счет внутриструктурной морфологической дифференциации. Другой – развитие отражательного аппарата каждой особи до такой степени, когда становится возможной индивидуальная компенсация на уровне каждого отдельного организма. На место статистической гибели при этом становится статистическая обработка полезных и вредных признаков с внесением соответствующих коррективов в деятельность организма. Естественно, в реальной действительности можно говорить лишь о преимущественном развитии того или иного способа компенсации.
Эволюция «общественных» насекомых пошла по первому пути. У них средство компенсации вероятностно-статистических воздействий среды – количественный состав и структура коллективного организма (семьи насекомых), построенного по принципу, который Дж.Нейман определил как «надежная система из ненадежных элементов»18. Эта система такова, что за счет разделения функций19, создания микросреды и запасов пищи, за счет поддержания на определенном уровне количественного состава семьи гибель отдельных особей не сказывается в конечном счете на ее функционировании в целом. Потеря даже значительного количества пчел или муравьев не выводит из строя всю систему – семью. Здесь вследствие «большого числа событий статистическая закономерность поведения всего коллектива в целом имеет тенденцию превращаться в динамическую»20, то есть в такую, в которой «зависящие друг от друга события связаны строго однозначным соотношением»21.
Таким образом, здесь мы имеем развитую систему компенсации вероятностно-статистических воздействий. Коллективный организм по отношению к среде действует как единое целое. В этом случае, по словам известного французского биолога Р.Шовена, «только улей, только муравейник представляет реальную отдельность, одна же пчела, или одиночка-муравей становятся как бы абстракцией»22. Даже «и при изобилии корма пчела погибает, если она лишена возможности обмениваться веществами со своими сородичами»23. Эта система весьма устойчива, но компенсирует лишь определенный класс воздействий. Скажем, лесной пожар – событие, случайное для всей семьи. Такие события не укладываются в упомянутый класс и на данном уровне скомпенсированы быть не могут. Компенсация такого рода воздействий на любом этапе развития осуществляется на уровне вида, для которого в его целостности они опять же носят не случайный, а вероятностно-статистический характер.
Такие способы компенсации, обеспечивая статическую приспособляемость (стабильность), тем самым существенно затрудняют динамическую приспособляемость к меняющейся обстановке. Действительно, в этом случае под случайным воздействием внешней среды гибнут не столько менее приспособленные особи, сколько те, которым просто «не повезло», которые попали в менее благоприятные условия – действия в «нестандартных» условиях все равно не могут быть успешными. В этом случае, по мнению Ч.Дарвина, эволюционный отбор ведется скорее на уровне всей семьи, на обеспечение стабильности которой направлен механизм компенсации24. Ясно, что это затрудняет эволюционную приспособляемость, тем более, что в имеющих сложную структуру объединениях непосредственному и наиболее интенсивному воздействию среды подвергаются как раз те особи, которые играют далеко не главную роль в накоплении и наследственной передаче полезных признаков. Если же в определенных условиях это может произойти, то опять же в действие вступает специальный механизм25. Поэтому эволюция «общественных» насекомых, если сейчас она вообще имеет место, протекает чрезвычайно медленно. Муравьи, термиты, пчелы практически не изменились за десятки миллионов лет. Достигнута идеальная компенсация вероятностно-статистических воздействий – по свидетельству того же Р.Шовена, даже человек целенаправленными воздействиями не в состоянии уничтожить мешающий ему вид муравьев, – но биологический прогресс был остановлен.
Как уже было отмечено, второй путь эволюции – формирование специального компенсаторного механизма, предназначенного для регулирования поведения в вероятностно-статистической среде каждой отдельной особи. Действительно, если компенсаторный механизм связывается непосредственно с каждым отдельным организмом, то выживание животного уже в меньшей мере будет определяться случайностью, а в большей – его приспособленностью к данным условиям существования. При этом полностью действует принцип, согласно которому «имеют наибольшие шансы достичь зрелости и размножаться те особи, которые обладают какой-либо хотя бы и незначительной, но выгодной в борьбе за существование индивидуальной особенностью»26, причем не только в морфологическом строении, но и в механизме компенсации, действующем посредством определенной модификации поведения. Появляется возможность интенсивного накопления полезных признаков в потомстве и в этом отношении. Существенный признак такого компенсаторного механизма состоит в том, что он служит сохранению и развитию вида не непосредственно, а опосредованно, через приспособление, сохранение каждого отдельного индивида. Но для обеспечения функционирования такого компенсаторного механизма необходим отражательный аппарат достаточно высокой сложности.
На этой стадии развития происходит качественное изменение характера отражения. У позвоночных в отличие от насекомых «нервная система … позволяет не только осуществить анализ отдельных последовательных воздействий … но и образовать связи в ответ на сложные комплексы одновременно действующих раздражителей. Развивается способность ориентироваться не только на основные свойства среды, но и на их сочетания, характеризующие те или иные целостные объекты»27.
На этой основе и формируется индивидуальный компенсаторный механизм, вначале из-за низкого уровня развития являющийся вспомогательным по отношению к количественному (рыбы, земноводные и т.д.). Например, количественный механизм компенсации у рыб доминирует, особенно на начальной стадии онтогенеза, поскольку оплодотворенные яйца, зародыши и личинки истребляются различными врагами. Необходимость в количественном механизме связана с тем, что «в море … молодь составляет основную пищу взрослых особей. … Большая часть зоопланктона, в частности, состоит из яиц и зародышей более крупных морских животных»28. Развитие отражательного аппарата, позволяющее осуществлять более сложное поведение, дает возможность, например, уменьшить количество яиц у птиц в связи с развитием инстинкта охраны потомства, что создает благоприятные условия развития в начальной стадии онтогенеза.
Той же цели служит и механизм компенсации, направленный непосредственно на сохранение взрослой особи. Последнее стало тем более необходимым, что само развитие отражательного аппарата и, прежде всего, головного мозга, требовало увеличения его объема и, как следствие, увеличения размеров всего животного. Это, в свою очередь, требовало более совершенного механизма компенсации воздействий вероятностно-статистической среды – природа не может позволить себе быть расточительной. Ясно, что организм, имеющий бóльшие размеры и массу, уже в силу самого этого обстоятельства менее зависит от случайных неблагоприятных воздействий среды – для него несущественным может оказаться такое воздействие, которое стало бы гибельным для организма меньших размеров. «Следовательно, возросшие размеры означают также возросшие возможности адаптации к внешней среде»29. Однако большие размеры не только обеспечивают преимущества, но в свою очередь связаны с существенными затруднениями: «бóльшие размеры обуславливают в некоторых случаях, как это заметил Оуэн, более быстрое исчезновение, так как при этом требуется большее количество пищи»30. Поэтому «опыт» компенсации вероятностно-статистических воздействий по преимуществу количественным методом путем увеличения размеров организма без соответствующего усложнения отражательного аппарата в конечном счете оказался неудачным (о чем, повидимому, свидетельствует история гигантских рептилий).
Таким образом, вторым направлением эволюции в отношении неблагоприятных вероятностно-статистических воздействий среды явилось дальнейшее развитие отражательного аппарата, позволяющее расширить для организма ее относительную детерминированность. Расширение возможностей оценки окружающей среды осуществлялось как за счет расширения возможностей в получении информации, так и за счет повышения возможностей ее обработки. С точки зрения последней информация, получаемая живой системой из окружающей среды, с повышением сложности отражательного аппарата явственно разделяется для данной системы на два вида.
Часть информации, полученной системой из внешней среды, позволяет установить жесткую, строго определенную и однозначно детерминированную для системы данной сложности связь между характеристиками того или иного предмета или явления, ими и окружающим миром, и определить, в конечном счете, соответствующую ситуации однозначную же линию поведения. Эта часть общей информации может быть названа семантической информацией. Семантическая информация приводит к действиям после соответствующей ее переработки. Это могут быть автоматические реакции простейших организмов на раздражения; обусловленные жесткой программой инстинкта сложные действия насекомых в ответ на получаемые сигналы; реакция высших животных, формируемая условно-рефлекторным путем; и, наконец, развернутая разнообразная реакция человека на основе сознательной переработки информации при помощи аппарата формально-логического мышления.
Другая, значительно бóльшая часть информации, не может быть использована с этой целью, так как степень сложности и программа системы не позволяют установить закономерности, отражаемые этой информацией, точно определить ее значение для системы. Что касается человека, то эта часть информации не может быть использована для переработки посредством рационально-логического (формального) мышления, как информация семантическая, что и определяет значение и роль аппарата формального мышления у человека. «В развитом сознании современного человека, – говорил А.Н. Колмогоров, – аппарат формального мышления не занимает центрального положения. Это скорее некое “вспомогательное вычислительное устройство”, запускаемое по мере надобности»31. А потому значение этой части информации для системы устанавливается не при помощи формально-логического «вычислительного устройства», а статистически. (Имеется в виду неосознанная вероятностная оценка. Познанная нами вероятность есть «необходимость, получившая количественное определение и соотнесенная со случайностью»32. Знание вероятностной закономерности также является одним из видов относительной детерминации и дает возможность формировать строго определенную программу действий.)
Статистически обрабатываемая информация не позволяет однозначно детерминировать реакции системы, так как автоматические действия в этом случае неизбежно приводили бы к ошибкам. Поскольку, во-первых, непосредственная оценка статистической информации в силу ее обилия и разнообразия сложна, а во-вторых, из-за флуктуаций не отличается всеобщностью, то опираясь на нее система не может выработать жестко детерминированную линию поведения. Поэтому статистическая информация не может служить основой для четко определенной последовательности действий, но только для обобщенного определения ценности ситуации или явления для данной системы, отвлекаясь от конкретного характера этой ценности.
Сразу отметим, что, применяя здесь слово «ценность», мы несколько сужаем его значение по сравнению с общепринятым: в аксиологии ценность – обычно более широкая категория, чем полезность, и включает в себя последнюю в качестве одного из своих видов, становясь, таким образом, слишком расширенной, а следовательно, неопределенной и лишенной конкретного научного содержания. Мы же здесь под полезностью и ценностью понимаем прагматические свойства объектов, суждение о которых (отношение к которым) базируется соответственно на информации об относительно детерминированных и относительно недетерминированных (для данной системы) явлениях. И если первая позволяет определить конкретную программу действий, то вторая используется для выработки стимула к действию, «указывающего» общее направление действия и служащего побуждением к нему. Такого рода информацию определим как аксиологическую.
Если у животного, с одной стороны, существует некоторая потребность, а с другой его инстинкт и прошлый опыт позволяют в данной ситуации с гарантированным успехом предпринять действия, направленные на удовлетворение этой потребности, то такие действия будут выполнены автоматически. У человека сфера автоматических реакций по сравнению с животным сужена, однако целый ряд действий мы также осуществляем автоматически (скажем, когда дышим, когда обжегшись отдергиваем руку, при ходьбе и т.п.). Животное, стремящееся к удовлетворению своих потребностей в более или менее сложной ситуации, должно выполнить какой-то набор действий. Прежде, чем эти действия реализуются физически, они должны быть психически «проиграны» с тем, чтобы определить, приведут ли они к желаемым результатам. В каждой ситуации животное зачастую может совершить с этой целью целый ряд различных комплексов действий. Эти-то «параллельные» пути и проверяются, чтобы найти последовательный ряд возможных в данной ситуации действий, с минимальной затратой сил приводящих к результату. Если находится точно определенный набор таких действий, то действие будет совершено автоматически. Оно включится, когда в мозгу животного замкнется цепь, отражающая последовательность таких возможных действий.
Положение меняется, когда ситуация не позволяет животному однозначно определить необходимый для удовлетворения потребности набор действий. Возникает противоречие: действие должно быть совершено (этого требует потребность), но в то же время его характер до конца не определен. Здесь и вступает в действие механизм компенсации – эмоция, которая «представляет реакцию, включающую непосредственную, можно сказать, инстинктивную, положительную или отрицательную оценку тех или иных объектов или процессов объективной действительности»33. В этом качестве эмоция побуждает животное действовать по одному из реально возможных путей, несмотря на то, что он непосредственно не замыкается на цели (вследствие «логического» разрыва). Этот путь выбирается как предпочтительный на основе анализа аксиологической информации. При этом такая информация определяет не порядок действий, а только дает импульс к действию, направляя его по определенному пути. Если движущей силой является в конечном счете потребность (как напряжение при возбуждении тока в электрической цепи), а предпочтительный характер действия в зависимости от обстановки определяется на основе переработки семантической информации (как основной ток направляется по пути наименьшего сопротивления), то эмоция определяет выбор пути и воплощает в себе концентрацию потребности в виде усиленного – для преодоления возникшей неопределенности – импульса к действию (как пробой изоляционного промежутка в наиболее «слабом» месте в случае, если в существующих параллельных цепях имеются разрывы).
С этой точки зрения эмоция может быть определена как «компенсаторный механизм, восполняющий дефицит информации, необходимой для достижения цели (удовлетворения потребностей)»34 и представляет собой «систему оценок, которая, оставляя в стороне многие другие свойства предмета, давала бы предварительный ответ на вопрос: полезен предмет или вреден, даже в том случае, когда животное встречается с этим предметом впервые»35. Отметим, однако, что термин «информация» П.В.Симонов, которому принадлежат приведенное выше определение, здесь употребляет, по его словам, «с учетом ее содержательной ценности», т.е. фактически применительно к ее роли в обеспечении автоматических действий в системе «стимул-реакция». Принятое нами выше определение информации включает в себя все сведения о среде, так или иначе воспринимаемые кибернетической системой и используемые ею в том или ином виде для определения своего поведения.
В зависимости от конкретных обстоятельств соотношение рационального и эмоционального может быть различным. При точном знании пути наружу выступает «разумный» характер действий; при сильных побудительных мотивах даже значительная неопределенность не может сдержать действия; при этом оно приобретает характер аффекта. И.П.Павлов, рассматривая этот вопрос, делал следующий вывод: «Таким образом имеется два способа действования. После так сказать предварительного обследования (пусть происходящего почти моментально) данной тенденции большими полушариями и превращая ее, в должной степени в соответствующий момент в соответствующий двигательный акт или поведение – разумное действие, и действие (может быть, даже прямо через подкорковые связи) под влиянием только тенденции без конкретного контроля – аффективное, страстное действие»36.
Итак, применительно к живой системе аксиологическая информация вызывает эмоциональную реакцию. Это относится и к животному, и к человеку. Естественно, говоря об аксиологической (ценностной) информации применительно к животному, мы не имеем в виду наличия у него представления о ценности, а только его соответствующее «отношение» к предметам и явлениям – ее источникам, эмоциональную реакцию на эту информацию. Эмоциональная реакция, как и «автоматическая», является условнорефлекторной, однако, ввиду ее статистической основы, условные связи образуются сложнее, на основе статистического отбора признаков, характеризующих данное свойство с прагматической стороны. Статистически формируемый условный рефлекс реализуется в соответствующей эмоции (стимуле к действию) посредством механизма ассоциаций. Набор ассоциативных связей образует замкнутую цепь, «включающую» соответствующую эмоцию. Характер же двигательной реакции, последовательность ее элементов, определяются получаемой при этом семантической информацией.
Эмоциональная реакция, основанная на переработке аксиологической информации, является механизмом компенсации вероятностно-статистических воздействий среды для высокоорганизованного животного; исключительно важное место она занимает и в жизни человека. «Эмоция, – писал И.П. Павлов, – это то, что направляет вашу деятельность, вашу жизнь – это эмоция»37. Ряд эмоций животного и человека имеет идентичный характер; такие, скажем, эмоции, как страх или ярость, у них сами по себе мало чем отличаются. Но по разнообразию и глубине эмоций человек на порядки превосходит самое высокоорганизованное животное. Особую роль в жизни человека играют, если можно так выразиться, «социальные» эмоции, связанные с тем, что он – существо общественное. И рассматривать особенности человека, его взаимоотношение со средой и механизм приспособления к ней вне общества, не только без учета общественного бытия человека, но и не рассматривая его в качестве основного фактора, бесперспективно. Однако именно проблем социальной организации и составляют предмет настоящей работы.
Раздел второй
ПРИРОДА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ОРГАНИЗМА
2.1. Общество как организм
Вряд ли у кого-нибудь вызовет сомнение то, что люди – существа, имеющие весьма значительные отличия от всех других живых существ на Земле. Но никакое своеобразие не исключает их из такого общего явления, как жизнь. Человек, общество, человечество, равно как и другие социальные системы, независимо от своих специфических особенностей входят в число многообразных живых систем. И понять сущность этих социальных систем можно только в том случае, если рассматривать их возникновение и развитие как закономерный результат, как естественное продолжение общей линии развития живого.
А развитие осуществлялось по мере усложнения организации соответствующих систем с выделением их определенных структурных уровней. При этом последовательные наборы структурных уровней можно различать по различным принципам. Так, иногда уровни организации выделяются с точки зрения такого усложнения систем, когда системы каждого нижестоящего уровня представляются теми «кирпичиками», из которых непосредственно строятся системы более высокого уровня, а системы более высокого уровня, в свою очередь, как бы «распадаются» на системы низших уровней. Например, из молекулярных элементов составляются клеточные образования, из этих последних состоят органы, органы в качестве составных частей входят в организм, организм – в вид, вид же, с одной стороны, через популяции входит в определенные биоценозы, а с другой (с точки зрения систематики) – в более крупные таксономические единицы, вплоть до растительного и животного царств, и в конце концов все живые образования нашей планеты представляют собой части биосферы в целом. Группируя их несколько иным образом, различают три основных структурных уровня живой природы: микросистемы (молекулярный, органоидный и клеточный), мезосистемы (тканевый, органный, организменный) и макросистемы (популяция, вид, биоценоз, биосфера)1.
«Однако такого рода движение “вверх” по уровню иерархии далеко не всегда соответствует повышению уровня организованности. Так, клетки организма в известном смысле более совершенно организованы, чем некоторые многоклеточные организмы в целом. В то же время можно говорить о более высокой организованности целостного организма по сравнению с входящими в него клетками в том отношении, что организм в целом обладает рядом свойств, абсолютно недоступных для клеточного уровня. Однако на более высоком уровне иерархии мы видим уже своего рода потерю организованности. Вид, составленный из отдельных особей, обладает некоторыми преимуществами по сравнению с организмом (например, пластичностью и долговечностью), но по своей структуре является более простым. Если его рассматривать как систему отдельных организмов, то он, несомненно, проще, чем организм как система клеток и органов»2.
Несколько иначе дело обстоит в том случае, если повышение структурных уровней рассматривать применительно к процессу развития того биологического образования, на которое ложится функция непосредственного взаимодействия со средой. По современным представлениям все приспособительные механизмы, выработанные в процессе эволюции, направлены на сохранение вида, т. е. «атомом» живой природы является вид. Однако вид в своем взаимодействии со средой как единое целое, наделенное динамической, эволюционной приспособляемостью, выступает только в конечном счете. Выступать по отношению к ней как нечто конкретно-целостное он не в состоянии, ибо, будучи составленным из отдельных особей (каждая из которых взаимодействует с конкретной средой в конкретных условиях), по своей сути таковым не является. Фундаментальным свойством живого, главной внутренней потенцией, играющей важнейшую роль во всех его основных проявлениях, воплощенной во внешней направленности развития всех без исключения живых систем, является безудержная экспансия. Это свойство живого, прежде всего воплощенное в виде, так же фундаментально, как свойство газа расширяться, но в данном случае по мере «расширения» не снижается «давление» на стенки ниши – вследствие увеличения количества живой субстанции посредством размножения, ограничить которое могут только противостоящие ему внешние факторы. Это означает также расширение ареала локализации вида, что приводит с одной стороны к увеличению разнообразия среды для различных его частей (популяций) и даже отдельных особей, а с другой к ухудшению возможностей взаимодействия его элементов. Все это соответствующим образом сказывается на взаимодействии со средой вида как целого.
Поэтому вид не может выступать по отношению к среде как непосредственно взаимодействующая с ней целость. Непосредственно по отношению к среде вид оказывается представленным отдельными организмами, обладающими непосредственной целостностью по отношению к конкретным внешним условиям. И в этом смысле именно животный организм есть последнее неразложимое целое по отношению к среде, то целое, части которого вне его теряют свою качественную определенность. И хотя в конечном счете единым целым, выделившимся из среды и противостоящим ей в своей целостности, является вид, его взаимодействие со средой опосредуется взаимодействием с ней организма, в чем и состоит сущность, смысл и назначение последнего. Соответственно особой роли организма совершенствование взаимодействия вида со средой в процессе эволюции осуществляется прежде всего путем изменения и развития именно организма, в том числе путем усложнения его организации, включая переход ее на новый уровень. Последний означает также новый уровень развития приспособительных механизмов.
Приспособительные механизмы, будучи связанными с организмом, выполняют свою задачу, когда через сохранение организма обеспечивают сохранение и развитие вида. Они развивались путем приобретения организмами новых свойств, полезных для достижения указанной цели. При этом явственно можно различить, что в развитии имели место как периоды совершенствования тех или иных приспособительных механизмов, так и узловые моменты, в которых осуществлялась смена самого их характера, причем последняя обусловлена изменениями возможностей организмов, происходящими в связи с повышением уровня организации последних. Поскольку механизмы сохранения и развития вида связаны с организмом, то именно совершенствование организма – магистральное направление развития живого.
Разнообразие организмов чрезвычайно велико, в том числе и по уровню организации. Организм как целостная живая система, имеющая внутренние связи и способная в этом качестве поддерживать самостоятельное существование благодаря приспособительному взаимодействию со средой, начинается уже на клеточном уровне. Вследствие относительно низкой сложности его возможности приспособления к среде весьма ограничены. Поэтому объективной направленностью развития организмов в процессе эволюции было повышение их сложности. Но происходил этот процесс весьма специфично. «В процессе своего распространения по поверхности планеты, постоянно меняясь, простейшие макромолекулярные комплексы включались в состав более сложных, а те в свою очередь – в состав еще более сложных макромолекулярных комплексов. В конце концов возникла целая иерархическая система уровней организации»3. Этот процесс интеграции в живых системах начинается еще на границе с неживым, на суборганизменном уровне. А.И.Опарин, ссылаясь на Ганса Ривса и Мережковского, считал возможным предположить, «что образование клеток шло по пути постепенной агрегации симбиотических компонентов»4. В дальнейшем объединение клеток дало многоклеточный организм, в котором клетки, сохраняя многие функции, свойственные одноклеточному организму, таковыми по отношению к среде уже не являются. При этом и сами клетки не остались прежними. Чтобы эффективно выполнить свои функции в многоклеточном организме, им пришлось существенно измениться.
Естественно предположить, что эта линия развития не кончается на многоклеточном организме, что повышение сложности организма, обеспечивающее ему возможность лучшего приспособления к среде, может и дальше продолжаться таким образом, когда «бывший» организм, соответственно изменяясь, становится элементом нового целостного образования – «сверхорганизма». Таким образом обеспечивается повышение возможностей приспособления нового целого, но «бывшие» организмы, соответственно изменяясь, теряют при этом самостоятельность по отношению к среде и, следовательно, перестают быть организмами в полном смысле слова. И действительно, в семье «общественных» насекомых, представляющей такой «сверхорганизм», каждая особь в этом смысле уже не является самостоятельным целым. Изучение экологии и поведения общественных насекомых приводит к однозначным выводам: «семья общественных насекомых – это организм. Она закладывается, растет, созревает и воспроизводится. Она столь же обособлена и так же хорошо регулируется, как и любая другая живая система»5. Известный энтомолог Р. Шовен прямо представлял себе семью пчел как организм нового типа. По его мнению, эти живые существа, место которых на одной из верхних ступеней эволюции, могут быть сопоставлены с животными класса губок, занимающими одну из нижних исходных ступеней ее6.
Такое сопоставление весьма показательно для изложенного представления о путях повышения сложности организма, поскольку в обоих случаях мы имеем дело с аналогичными узловыми моментами развития – моментами перехода от одного структурного уровня к другому, хотя сами эти уровни различны. «Рассмотрим колонию термитов. Разумеется, члены этой колонии не связаны друг с другом чем-либо хоть сколько-нибудь напоминающим столон; физически все это независимые организмы. И тем не менее биологическая целостность обеспечивается в данном случае деятельностью всего коллектива, отдельные особи которого принадлежат к различным структурным и функциональным типам»7. Так что такое сопоставление (с учетом различий) весьма показательно для изложенного выше представления о путях повышения сложности организма, поскольку в обоих случаях мы имеем дело с аналогичными узловыми моментами развития – моментами перехода от одного структурного уровня к другому.
Таким образом, объективная направленность эволюции на повышение сложности структурного и функционального элемента вида – организма, приводит к последовательному образованию организмов с существенно повышающимся уровнем организации: организм-клетка, многоклеточный организм, «сверхорганизм». В этом процессе организм следующего уровня образуется путем объединения соответственно модифицирующихся организмов предшествующего уровня. Вначале это объединение является факультативным, «старые» организмы еще могут существовать в среде и вне «нового» целого. Но дальнейшее развитие по пути консолидации элементов организма более высокого структурного уровня, имеющего лучшую приспособляемость, происходит за счет снижения индивидуальной приспособляемости этих элементов вплоть до полной утраты самостоятельности по отношению к среде.
Линия развития организмов с узловым повышением уровня их организации достаточно четко прослеживается на том пути эволюции, который связан с количественно-структурной компенсацией вероятностно-статистических воздействий среды. Другой путь, как мы отмечали выше, связан с развитием отражательного аппарата, существенно повышающего возможности индивидуальной компенсации посредством анализа свойств среды. Благодаря эффективности этого механизма компенсации и объективной его способности к развитию, длительное время существовала возможность эволюционного повышения приспособляемости организма к среде именно этим путем, т.е. путем повышения сложности отражательного аппарата каждой особи.
Наличие высокоразвитого индивидуального отражательного аппарата не меняет сути дела, хотя и создает определенные особенности. Высокоразвитый аппарат отражения обеспечивает животному организму весьма совершенный механизм индивидуальной приспособляемости. Но, с другой стороны, сама сложность отражательного аппарата требует значительных размеров организма и больших затрат времени на воспроизводство, а значит, большего количества пищи и длительной заботы о потомстве, что создает ряд отрицательных следствий для организма и вида.
Углубление данного противоречия с развитием отражательного аппарата неизбежно приводит к моменту, когда уже отрицательные следствия развития не в достаточной мере компенсируются получаемым при этом выигрышем. По мере развития отражательного аппарата все большее число видов попадает в эволюционный тупик и все меньшее их количество оказывается в семействе. Наиболее развитый отражательный аппарат в животном мире имеют наши ближайшие «родственники» – высшие приматы, но они же и обнаруживают исключительную бедность видов. Целый же ряд видов человекообразных давно исчез, ибо вид, переступивший определенную черту уровня развития отражательного аппарата, оказывается перед дилеммой: специализация, повышенная приспособленность к определенным условиям обитания, а следовательно, в результате деградация, постепенное вымирание даже при незначительных вариациях этих условий, или же переход к более высокому структурному уровню организации организма – «сверхорганизму»8. Обычно это тупик, ибо, чтобы получить потенциальную возможность стать элементом «сверхорганизма», вышедшие на этот рубеж животные должны иметь весьма специфическое сочетание особенностей; а это, видимо, результат почти столь же редкой счастливой случайности, как и возникновение живого из неживого. «Повезло» нашим человекообразным предкам, на основе первобытного стада которых образовался «сверхорганизм» – общество, а они в этом процессе стали людьми. Homo sapiens – единственный вид семейства гоминид. Обычно малое число видов в семействе свидетельствует о его биологическом угасании. Однако благодаря новому структурному уровню «человек в этом отношении представляет очевидное исключение, так как будучи единственным видом в семействе, он не только не обнаруживает биологического угасания, но являет собой пример неслыханного биологического прогресса»9.
Сразу отметим главное возражение, которое вызывает представление общества в качестве «сверхорганизма», аналогичного (хотя и базирующегося на совершенно другом уровне развития) «сверхорганизмам» «общественных» насекомых. Исходят из того, что в последних «бросающейся в глаза особенностью их является биологическая специализация их членов. Если обычное животное способно выполнять все функции, которые необходимы для существования как его самого, так и вида, то в такого рода “объединениях” существует разделение функций между индивидами. … В результате все функции, необходимые для обеспечения существования индивидов и вида могут выполнять только все члены такого “объединения”, вместе взятые. … Иначе говоря, такая группировка представляет собой по существу не что иное, как составной биологический организм, биологический сверхорганизм, а отдельные входящие в его состав индивиды и группы индивидов представляют различного рода органы этого сверхиндивида»10. Все это, несомненно, верно, но суть дела ведь не в «бросающейся в глаза» особенности известных сверхорганизмов, а в том, что они в этом качестве (т.е. как целое) принимают на себя основную роль во взаимодействии со средой. Как именно это происходит – хотя и чрезвычайно важный, но уже второстепенный вопрос.
Если же не учитывать этот момент, то логичным кажется вывод, что дальнейшее повышение «уровня сплоченности объединения в принципе возможно в рамках биологической формы движения материи, но только при условии превращения объединения полноценных в биологическом отношении существ в сверхорганизм, что неизбежно предполагает биологическую специализацию составляющих его особей»11. Однако вывод этот некорректен. Безусловно, повышение эффективности требует при объединении определенной специализации функций элементов нового целого, а следовательно, и определенной потери «полноценности в биологическом отношении». Но из этого вовсе не следует принципиальная необходимость их морфологической и физиологической специализации. В том-то и отличие общества как биологического сверхорганизма, что вследствие исключительно высокого уровня развития отражательного (управляющего) аппарата входящих в него индивидов специализация функций может носить в нем главным образом поведенческий характер, вовсе не требуя «биологической» специализации отдельных элементов «сверхорганизма». И уж тем более нельзя согласиться, что «превращение стада поздних предлюдей в сверхорганизм с неизбежностью означало бы превращение подавляющего большинства его членов в бесполые существа»12. Разумеется, наличие репродуктивной функции у каждого из элементов «сверхорганизма» накладывает определенные ограничения на их функционирование, но и эта проблема решается на поведенческом уровне и, как мы увидим ниже, при определенных условиях отнюдь не препятствует (а в чем-то и способствует) целостности всего образования.
При отрицании определения общества как сверхорганизма признается, однако, что в процессе социогенеза прежде самостоятельные организмы, став элементами нового целого («социального организма»), как и при образовании сверхорганизма «превратились в такие существа, которые не могли жить вне рамок … социального организма». Однако оказывается, что при этом каким-то образом «в биологическом отношении они остались совершенно полноценными существами»13. Но каким же это образом может идти речь о биологической полноценности организмов применительно к существам, которые все же «не могут жить» отдельно как «обычные животные»? Только потому, что каждый индивид биологически в состоянии принимать участие в репродуктивных процессах? Тогда плоский червь, совмещающий в одном организме оба пола, оказывается еще более «биологически полноценным»… Полностью же выполнять «все функции, необходимые для существования как его самого, так и вида» отдельный человек как биологический индивид так же не в состоянии, как и муравей. Более того, несмотря на свою предполагаемую индивидуальную «биологическую полноценность» человек даже онтогенетически стать человеком вне нового целого (как его ни называть – «биологическим сверхорганизмом» или «социальным организмом») не может, ибо «ребенок в момент рождения лишь кандидат в человека, но он не может им стать в изоляции: ему нужно научиться быть человеком в общении с людьми»14. Многочисленные факты вскармливания детей животными (многие из них собраны в книге французского ученого Мезона «Дикие дети») достаточно наглядно иллюстрируют это положение.
Одним из давних возражений против представления общества в виде особого организма было предположение о специализации в области функций управления, причем в данном случае возражения касались не столько прошлого, сколько будущего. Считали, что уж коль скоро оно представляет собой организм, то «в конце концов общество должно дойти до идеального типа организма с резко выделяющейся специализацией частей (разделение труда), с служебным положением всех общественных групп и единиц общества по отношению к целому. А так как здесь, как и в биологической эволюции индивидуума, являющегося, по составу своему из отдельных клеток, так же как бы “обществом”, в конце концов должен образоваться центр, в котором сосредоточится вся умственная и волевая деятельность организма», и функционирование других его частей «практически будет подчинено уже не “целому”, а этому умственному и волевому центру»15. Вывод этот неверен уже по отношению к многоклеточному организму (не подчиненные части здесь служат «умственному и волевому центру», а сам этот центр – организму как целому). Тем более, как мы увидим ниже, это неверно по отношению не только к обществу вообще (хотя в некотором смысле достаточно точно отражает положение вещей на определенных этапах его развития), но и к другим надорганизменным уровням организации, не имеющим центрального регулятора16.
В связи с изложенным отметим, что представление об обществе как целостном образовании, элементом которого является человек, далеко не полностью соответствует представлению об общественной сущности человека. При внешнеем сходстве (в обоих случаях подразумевается, что ни общества без человека, ни человека без общества быть не может), они различаются вопросом о первичности. Обычно считается, что общественная природа человека заключается в его связях с другими людьми, генетически в становлении человека, в невозможности существования человека вне общества и т.п. Иными словами, общество рассматривается как форма бытия человека. Естественно, все это верно, но суть дела заключается в том, что единым организмом, отличным от природы, выделившимся из природы и противостоящим ей в своей целостности является общество, а не человек – «часть должна сообразоваться с целым, а не наоборот»17. Именно с этой точки зрения и должны рассматриваться сущностные характеристики человека, поскольку в целостной системе ее части «лишь в своей связи суть то, что они суть. Рука, отделенная от тела, лишь по названию рука»18. И если человек как индивид является элементом общества как целостной системы, то и его индивидуальные качества могут быть поняты только в том случае, если будет выявлена их роль в обеспечении функционирования общества как целого, а не наоборот.
«Если бы социальная жизнь была лишь продолжением индивидуального бытия, то она не возвращалась бы к своему источнику и не завладевала бы им так бурно. Если власть, перед которой склоняется индивид, когда он действует, чувствует или мыслит социально, так господствует над ним, то это значит, что она есть продукт сил, которые превосходят его и которые он не может объяснить. Это внешнее давление, испытываемое им, исходит не от него; следовательно, его невозможно объяснить тем, что происходит в нем». Отсюда следует, что «объяснения социальной жизни нужно искать в природе самого общества», что общество, являясь первичным по отношению к индивиду, «в состоянии навязать ему образы действий и мыслей, освященные его авторитетом»19. Естественно, с другой стороны, что и специфический характер функционирования общества как системы, его развитие, могут быть поняты только на основе знаний о человеке как его элементе.
Само собой разумеется, что определение общества как единого целого по отношению к внешней среде, т. е. как биологического организма, вовсе не означает какого-либо «сведения» социального к биологическому. Здесь речь идет просто о разных вещах. Специфика общества, повторяем, никоим образом не выводит его из сферы проявления жизни, т. е. из сферы биологического. Рассматривая общество как некоторое единое целое, которое не может без потери качества быть разделено на более мелкие (относящиеся к предыдущему уровню) жизнеспособные единицы, мы его тем самым с необходимостью должны считать биологическим организмом. Однако с возникновением этого нового биологического организма, в своем единстве осуществляющего взаимодействие с вероятностно-статистической средой и развивающегося в ней (по отношению к ней) по биологическим законам, появляются специфические закономерности его внутреннего развития – закономерности социальные. В целом же при анализе общества следует иметь в виду отстаиваемое Марксом и Ленином материалистическое понятие об общественно-экономических формациях как особых социальных организмах и рассматривать социальную эволюцию как естественноисторический процесс, в котором «экономическая жизнь представляет из себя явление, аналогичное с историей развития в других (!) областях биологии», и который только «гг.субъективисты» выделяют из процесса развития всего живого20.
Сопоставление общества с организмом – идея далеко не новая (некоторые исследователи появление идеи социального организма относят ко временам древнеиндийских Вед и «Махабхараты»21). Но в истории социологической мысли практически всегда существовало два противоположных подхода, согласно одному из которых «исходной реальностью» является индивид, а согласно другому – общество. Достаточно подробно эти подходы, называемые им соответственно «сингуляризмом» и «универсализмом», в историческом аспекте представил С.Л.Франк22, причем сам он считал, что общество есть «подлинная целостная реальность … в которой нам дан человек. Изолированно мыслимый индивид есть лишь абстракция»23. Такой же точки зрения придерживался длинный ряд мыслителей, и «воззрение на общество, как на организм, развиваемое, как известно, Спенсером, а за ним Шэффле, Лилиенфельдом, Вормсом, Изулэ, Новиковым и отчасти де Грефом, уже встречается в зародыше у Конта… Первый зародыш учения, согласно которому различные социальные классы и соответствующие им учреждения признаются частями единого целого, восходит к Платону», а затем Аристотелю. «Но Аристотель признавал это сопоставление только сопоставлением; у Спенсера же речь заходит уже о параллелизме. … Лилиенфельд доводит последствия таких поисков за уподоблением до конца, говоря, что общество не только похоже на живой организм, оно и есть живой организм»24. Р.Вормс же вообще прямо говорит об «общественном организме»25, во всем подобном организму биологическому.
Вопрос, однако же, в том, что именно имели в виду под обществом, когда его сравнивали или отождествляли с организмом. Опять же со времен Платона существует тенденция применять понятие «организм» к самым различным социальным образованиям. Наиболее четко выраженным структурным социальным образованием на протяжении всей писаной истории было государство. Его-то и пытались прежде всего представить в качестве организма. Такую тенденцию нельзя признать плодотворной, поскольку структура государства, в известной степени напоминающая структуру организма, только частично определена внешней средой, главным же образом – внутриобщественными отношениями. Однако аналогичную точку зрения отстаивал ряд философов, в частности, Г.Спенсер26, понимавший выделение административных органов как аналог разделения функций между органами живого тела (хотя он и отмечал, что индивиды как элементы в «общественном организме» отличаются гораздо большей самостоятельностью, чем клетки многоклеточного организма). Р.Вормс шел в проведении такого рода параллелей еще дальше, распространяя их на все «органы». Об этом говорят даже названия частей его книги: «Анатомия общества», «Физиология общества» и т.д. Он указывает, например, что в «кровообращении» и биологический, и общественный организм «обладает также и центральным регулятором. В организме это – сердце с его автономными нервными узлами. В обществе сердцу должна соответствовать биржа»27.
Такая тенденция формальных сопоставлений сохранилась и позже, причем паралель с организмом распространилась на более широкую группу социальных образований. «Отец» «философской антропологии» М.Шелер считал, что «любая группа, как бы она ни именовалась – семья, род, клан, народ, нация, община, культурный слой, класс, профессиональное сообщество, сословие, разбойничья банда, воровская шайка … как таковая обнаруживает глубокую аналогию с живым организмом… Каждый многоклеточный организм обладает необходимыми для жизни органами различной ценности: существует иерархия руководящих, ведущих и обслуживающих, исполнительных органов и функций»28. Такая параллель построена на попытках сугубо формально выявить «органы» данного «организма», и именно наличие различных функций указанных «органов» дает основание для аналогий.
Отметим, кстати, что противоположный подход, в основу анализа ставящий человека как личность, главным образом выливался в так называемую «проблему человека», когда делается «акцент не на общем понятии человека, а на “каждом человеке”, т.е. на реальном лице, на котором должна со всей серьезностью основываться настоящая философская антропология»29. «Антропологический вопрос» «Что есть человек?» (человек как таковой, «сам по себе») с особой остротой встает в те времена, «когда человеком овладевает чувство сурового и неизбежного одиночества», «когда как будто расторгается исконный договор между человеком и миром и человек обнаруживает себя в этом мире чужым и одиноким»30. Так что «проблема человека» имеет не столько философский, а тем более научный, сколько социально-психологический характер. В связи с этим «индивидуалистическая антропология» вообще «в сущности, занимается только связью человека с самим собой»31. При постановке же в центр анализа общества как целостного образования, принимающего на себя функцию организма, «проблема человека» в качестве самостоятельной проблемы теряет какой бы то ни было смысл. В той же мере, в какой особенности человека как элемента общества определяются последним и в свою очередь влияют на характер его функционирования, этот вопрос будет рассмотрен в следующей главе.
Начиная с конца XIX века «организменная» теория в социологии завоевала немало сторонников. Однако грубо механистическое отождествление общества с организмом (естественно, только многоклеточным, и примерно в том же смысле, в котором механистические материалисты отождествляли организм с машиной), основывающихся на определенном внешнем сходстве, вызывали также и резкое неприятие взглядов органицистов, особенно возражения против тех выводов, которые следовали из такого отождествления. Вот пример: «Если общество – организм, социология должна непосредственно примыкать к биологии в иерархическом ряду основных наук: человеческое общество – только частный случай живого агрегата, называемого организмом. Это раз. Если общество – организм, изучаться оно должно по тем же категориям, как и всякий другой организм: нужны будут разные социальные анатомии и физиологии, социальные эмбриологии и патологии, вместо теперешних политики (в смысле государствоведения), юриспруденции и политической экономии. Это два. Если общество – организм, то оба подвергаются одинаковым законам эволюции, и все, что историки должны сделать для социологии, будет заключаться лишь в иллюстрации на примерах общих положений органической школы. Это три»32. Выше мы видели, что такие соображения не были лишены основания. Но, повторим, они имели смысл именно в случае прямого, прежде всего морфологического, отождествления общества с многоклеточным организмом, которое столь же непродуктивно, как прямое сопоставление многоклеточного организма с простейшими (составлявшими и составляющими основу жизни на Земле). На самом же деле отнюдь не морфологические, и даже не физиологические особенности, весьма существенно различающиеся для различных организмов (тем более относящихся к различным структурным уровням), должны быть положены в основу определения любого организма. Как мы пытались показать выше, в его основу может быть положен только один принцип – принцип целостности биологического образования при его непосредственном взаимодействии со средой.
Если мы принимаем павловское положение о единстве организма и среды, то должны обнаружить такое единство для любого образования, которое считаем организмом. Но единство отдельного человека с природным окружением относительно и ограничено. Только «общество есть законченное сущностное единство человека с природой»33, а потому именно общество выступает по отношению к ней в качестве целостного образования – организма.
Однако говоря об обществе как едином организме, необходимо четко определить это понятие как образование, обладающее качеством ступени в эволюции живого, как очередной организменный структурный уровень, отделив его от понятия общества как некоторого количества людей, объединенных по каким бы то ни было другим признакам (связанный общими целями коллектив, государство, экономическая система и т.д., и т.п.). Классики марксизма, дав замечательное общее определение общества как сущностного единства человека с природой, никогда не конкретизировали этого понятия применительно к определенной совокупности людей. В этом смысле речь здесь должна идти не о большем или меньшем количестве как-то связанных людей и даже не обо всем человечестве, но только о том органическом целом, которое в своем единстве противостоит окружающей среде, стремясь сохранить свою целостность. Соответственно этому и необходимо определять, что такое общество. Но, понятно, здесь дело не в той или иной дефиниции. Дефиниции вообще «всегда оказываются недостаточными. Единственно реальной дефиницией оказывается развитие самого существа дела»34. В дальнейшем как раз и будет предпринята попытка по существу рассмотреть данный вопрос, а даваемые ниже определения общества имеют предварительный характер.
Ясно, что общество, как оно до сих пор гам известно, не может быть отождествлено со всей совокупностью людей на Земле. Но если его отождествлять хотя бы с той или иной определенной группой людей, то что это за группа? В частном случае, на определенном историческом этапе, общество может совпадать с определенным коллективом – это как раз и имело место в первобытном обществе (если, конечно, под коллективом понимать все племя). Последнее и сформировалось-то из своих элементов именно как целостный организм, как «это имеет место в любой органической системе. Сама эта органическая система как совокупное целое имеет свои предпосылки, и ее развитие в направлении целостности состоит именно в том, чтобы подчинить себе все элементы общества или создать из них недостающие ей органы. Таким путем система в ходе исторического развития превращается в целостность. Становление системы такой целостностью образует момент ее, системы, процесса, ее развития»35. Становление общества как «органической системы» (социогенез) как раз и явилось результатом предшествующих, имевших место уже в животном мире, интеграционных тенденций.
Если принять гипотезу, согласно которой функциональное объединение многоклеточных организмов в конечном счете приводит к новому уровню эволюции – сверхорганизму (как и сам многоклеточный организм также в качестве уровня эволюции возник из организмов одноклеточных), то следует признать, что вообще биологические объединения различных уровней представляют собой некоторые ступени предшествующей этому этапу эволюции. Соответственно этим ступеням развились и механизмы, обеспечивающие достигнутый уровень целостности живой системы и успешность ее функционирования – как морфологические, так и, в особенности, поведенческие.
Видимо, не следует смотреть на путь, по которому шли в своем развитии наши предки, как на уникальный. Уникален не путь, а достигнутый результат. Что же касается пути, то это был общий для всего живого путь повышения структурной организации для лучшего приспособления к среде с вероятностно-статистическими свойствами. Мы уже отмечали, что этот путь успешно прошли много миллионов лет назад так называемые «общественные» насекомые. По этому же пути, когда внешние связи между организмами, составляющими некоторое (как иногда говорят, «пресоциальное») объединение, превращаются в конечном счете во внутренние связи между элементами сверхорганизма, в который превратилось данное объединение, шли и идут и другие виды. Другое дело, что они находятся только в начальной стадии процесса.
В этой начальной стадии имеют место сначала случайные, затем спорадические, временные объединения, которые можно было бы назвать стаей. Выдающийся этолог К.Лоренц писал: «Понятие стаи определяется тем, что отдельные особи некоторого вида реагируют друг на друга сближением, а значит, их удерживают вместе какие-то поведенческие акты, которые одно или несколько отдельных существ вызывают у других таких же»36. Здесь объединение позволяет входящим в него индивидам решать некоторые частные задачи своего существования. Воспроизводство в данном случае осуществляется на основе временного соединения для этой цели самца и самки в «семью». Уже такое объединение как стая с одной стороны дает определенные преимущества входящим в него животным (в частности, если животные объединены в стаю, то «хищники, охотящиеся на одиночную жертву, неспособны сконцентрироваться на одной цели»37, что уже само по себе повышает шансы выживания каждого отдельного животного), а с другой диктует некоторые «правила поведения», связанные именно с вхождением в объединение. Первоначально в стае «нет ничего похожего на структуру»38. Но со временем происходит определенное структурирование объединения. В частности, одним из важнейших механизмов, на сравнительно высокой степени развития обеспечивающих существование объединения как относительного целого, становится иерархическая организация и система доминирования.
Система доминирования развивалась и усиливалась в процессе перехода от стаи — временного объединения, способствующего в некоторых аспектах и условиях сохранению индивида и развитию вида, к стаду – постоянному объединению, становящемуся непременным условием выживания и развития. Образование стада — первый механизм разрешения противоречия между положительными моментами развития отражательного аппарата и отрицательными его следствиями. Для выживания «недостаток способности отдельной особи к самозащите надо было возместить объединенной силой и коллективными действиями стада»39. Пребывание в стаде дает преимущества всем входящим в него животным, а не только доминирующим. Скажем, известно, что даже животные низшего ранга в стаде орангутангов живут дольше, чем в одиночку. Выживание объединений такого рода обеспечивается также тем, что каждый его член защищает не только себя или стадо как целое, но и входящих в него других животных. Так, больше подпадающая уже под определение стада, «волчья стая добывает себе пропитание на огромных пространствах северных лесов как некая замкнутая, связанная круговой порукой банда, каждый член которой готов защищать другого до самой смерти»40. Более того, «у общественных животных одно только присутствие и активность сородича служит для другого животного стимулом, способным sui generis вызвать целую совокупность реакций, совершенно невозможных у одиночного животного»41.
Система доминирования обычно рассматривается как механизм, обращенный вовнутрь биологического объединения. Но это не в меньшей степени и механизм, обращенный вовне, определяющий характер связей данного объединения со средой. Если бы существование доминирующих животных было выгодно только им самим, а в стаде это ограничивалось бы только снижением интенсивности конфликтов (за счет системы подчиненности), то вряд ли бы оно сохранялось. Но доминирующие особи нужны и объединению как целому, обеспечивая в значительной степени его выживание за счет своих особых свойств. И передача этих их свойств по наследству также выгодна стаду с точки зрения выживания и развития. Именно эти особи находятся «на острие» отношений стада со средой – как в обеспечении питанием, выборе места обитания, так и в защите от опасностей.
Развитие элементов сверхорганизма – действие того же эволюционно-приспособительного механизма, что и в случае других изменений. При этом данные элементы, оставаясь именно отдельными элементами, не требуют еще слишком высокого уровня развития отражательного аппарата. Поэтому не существует прямой зависимости между стадной организацией и положением данного вида на эволюционной лестнице. Их нельзя рассматривать как последовательные ступени эволюции, ибо они — на разных ее ветвях, и выступают как всеобщая тенденция биологического развития, позволяющая достичь достаточно совершенного (в том числе и за счет уровня стадной организации) приспособления к данной окружающей среде, и, следовательно, ведущая в эволюционный тупик. Только одна ветвь млекопитающих избежала тупика, именно та, которая привела в конце концов к человеческому обществу.
Процесс становления общества и человека, как и характерные особенности сформировавшегося в его результате общества будут рассмотрены ниже. Здесь же следует подчеркнуть, что результатом социогенеза было не возникновение некоего «общества вообще», но общественного организма в его конкретной форме – в форме первобытного племени. Первобытное племя и стало первым общественным организмом, конкретным «сверхорганизмом», в своем единстве противостоящим окружающей природной среде. И становление человека (индивида) происходило как становление члена именно этого общества. Сформировавшись, общество стало между средой и индивидом, исключив его дальнейшую эволюцию как биологического существа, приняв на себя функцию приспособительной изменчивости. Те же качества, которые потребовались элементу общества для обеспечения целостности последнего, оказались настолько универсальными, что, оставаясь сами неизменными, обеспечили широкие возможности реализации этой изменчивости.
Хотя вообще по своей сути «общество не состоит из индивидов, а выражает сумму тех связей и отношений, в которых индивиды находятся друг к другу»42 как элементы общества, все эти связи тем не менее образуются только между элементами общества – людьми, и именно их характер определяет характер общества. Как раз благодаря особым, уникальным свойствам этих элементов, эволюция не заканчивается образованием общества как некоторой целостности на уровне племени. История с несомненностью показывает наличие реальных процессов дальнейшей общественной консолидации, вплоть до глобального масштаба. В результате этих процессов логично ожидать образования следующего структурного уровня общественного организма. Действительно, если экстраполировать в будущее ту же линию интеграции, то есть все основания полагать, что процессы в общественных образованиях и во взаимодействии последних неизбежно раньше или позже доведут ситуацию до образования глобального сверхорганизма, включающего в себя все человечество. В марксизме такое будущее состояние общества, когда оно представит собой всеобщую «ассоциацию индивидов», принято называть коммунизмом.
Но здесь именно специфика элементов приводит к различию в образовании системы следующего уровня в этих двух случаях – при образовании племени (рода) и при интеграции человечества в единое целое при коммунизме. Различие между ними состоит в том, что в первом случае «бывшее» целое (соответственно измененное и сохраняющее относительную целостность и самостоятельность) образует в качестве составляющего новую целостность более высокого уровня, а во втором – нет. Здесь предыдущее целое – племя – в конечном счете расторяется в человечестве, а не становится ни в каком виде его структурным элементом. Им является все тот же элемент – индивид. Именно его относительная самостоятельность позволяет «раздробить» одно целое и из тех же «кирпичиков» собрать другое, более высокого уровня.
Итак, при коммунизме общество как организм приобретет глобальный характер и совпадет со всем человечеством. Специфика же классового периода, как периода переходного от одной целостности к другой, породила такое особое положение, когда общество потеряло свою структурную определенность – по отношению к внешней среде, внутренне оно, наоборот, весьма сильно структурировалось. Соответственно общество как организм растворилось во внутренних частных структурных образованиях, в различных формах объединения людей, когда его функции опосредованы разнообразнейшими общественными связями – от любви до общественного разделения труда, и выражены иногда даже в полярных формах – от эгоизма до абстрактного гуманизма.
Что касается структурной организации общества, то на данном (переходном) этапе, как мы увидим ниже, она оформляется в некоторые социальные организмы, отличающиеся только относительной целостностью, поэтому эти организмы, в отличие от целостных общественных организмов первобытного племени с одной стороны, и коммунистического общества с другой, уже могут иметь иерархически образованную централизованную управляющую систему. Фактически здесь на более высоком витке спирали повторяется тот же цикл развития, который рассмотрен нами выше (клетка, многоклеточный организм, сверхорганизм), причем первый член этой «триады» (первобытное племя) совпадает с последним членом предыдущей («большой биологической триады»). Таким образом, в тот период развитии общества, социальные образования которого органицисты, как мы видели, используют в своих параллелях с организмом, общество как раз и не представляет собой «истинного» организма, и существующие в это время социальные образования являются таковыми не в прямом смысле (как общества первобытное и коммунистическое), а только относительно (в отличие от целостных общественных организмов мы будем называть такие образования социальными организмами). Что касается их характера, то его определение может иметь смысл лишь как следствие анализа процесса развития общества, а потому мы вернемся к этому вопросу в другом месте. Здесь же отметим только следующее.
Характер развития общества определяется тем, что по своему бытию оно является двойственным. Общество одновременно представляет собой и некоторое целостное образование, новый уровень в биологической эволюции, и в то же время, поскольку единство общества основывается на соответствующем поведении каждого его элемента-индивида, оно – содержание сознания человека, своего элемента. Его становление осуществлялось именно в этой двойственности, где одна сторона существует и выражается через другую. Со становлением классовой организации общество и исчезло, и сохранилось. Оно исчезло как некоторое целостное образование, как четко локализованный биологический организм, но сохранилось как внутреннее содержание человека, сохраняя тем самым также потенцию к воссозданию этой целостности. Но и его исчезновение в первом смысле не могло быть абсолютным, ибо при этом было бы потеряно диалектическое единство его сторон и, стало быть, его качественная определенность. Исчезнув как четко оформленная целостность, оно временно воплотилось в разнообразии более или менее определенных связей, создав самим их разнообразием и неопределенностью принципиальную возможность перехода от одной целостности к другой. Этот-то процесс фактически и составляет содержание всей до сих пор имевшей место истории человечества. А чтобы понять этот процесс, необходимо сначала посмотреть, каких же особых свойств потребовало общество как организм от своего элемента – человека.
2.2. Человек и общество
Когда Маркс говорил о человеке как совокупности общественных отношений (поскольку «сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений»1), имелась в виду личность как индивидуальное, конкретное воплощение человека в его отношениях с другими людьми, поскольку «именно личное, индивидуальное отношение индивидов друг к другу, их взаимное отношение в качестве индивидов создало – и повседневно создает – существующие отношения»2. Речь шла о неповторимо своеобразном отражении и общего, и непосредственного человека в его индивидуальных характеристиках, а не о человеке как «родовом существе». Человек – любой конкретный человек – результат влияния определенной среды, и его личностные характеристики определяются этой средой. Но мы называем человеком и члена первобытного племени и нашего современника, ребенка и старика, мужчину и женщину, великого гуманиста и злобного человеконенавистника, гения и дебила, низкорослого пигмея и гиганта скандинава – при всех их огромных индивидуальных различиях. Мы делаем это потому, что «если человек есть некий особенный индивид и именно его особенность делает из него индивида и действительно индивидуальное существо, то он в такой же мере есть и тотальность как тотальность человеческих проявлений жизни»3. С другой стороны, нельзя согласиться и с тем, что «в человеке нет ничего константного, кроме анатомии и физиологии его тела (включая сюда, разумеется, и мозг), общего для всего вида на всем протяжении его существования»4. Все же родовое понятие «человек» – это нечто большее, чем идентичность анатомии и физиологии. А коль скоро это так, то «мы должны знать, какова человеческая природа вообще и как она модифицируется в каждую исторически данную эпоху»5. Природа же эта заключается в том, что человек – «клетка» общественного организма: «сущность “особой личности” составляет не ее борода, не ее кровь, не ее абстрактная физическая приролда, а ее социальное качество»6.
Роль общества для человека была замечена давно. Однако признание того, что человек – «животное общественное», еще не означало, что при характеристике его качественной определенности данному обстоятельству придавалось должное значение. Чаще поиски «сущности человека» происходили в несколько иных направлениях. Уже биологическое название вида – линнеевское Homo sapiens (человек разумный) – показывает, в каком направлении главным образом они велись. В определении человека как особого существа на первый план прежде всего выдвигались аналитические способности человеческого мозга, отличающие его от животного своим более высоким уровнем. Соответственно и был, скажем, для Ламарка «человек не центр мира, а улучшенное животное»7. Обычно считается, что это «улучшение» прежде всего касается именно возможностей переработки информации, что специфическую особенность человека составляет разум, связыва-ющийся, как правило, с высоким развитием мозга, что «все то, что связано с представлением о разумной деятельности, возникает лишь тогда, когда мозг начинает обладать достаточным количеством нейронов при резком усложнении связей между ними. Вот только тогда мозг приобретает все те атрибуты, которые отвечают нашим представлениям о мышлении»8. Однако такая, с позволения сказать, «вульгарная диалектика» разделяется далеко не всеми, и качественный переход здесь многими исследователями связывается не с уровнем развития отражательного аппарата самого по себе, но с обществом как с определяющим фактором.
Особый характер интеллектуальных способностей человека по отношению к животным обычно видят в том, что человек способен к мышлению. По словам Гегеля, «человек отличается от животного именно тем, что он мыслит»9. В противоположность этому, рассуждая об отличительных особенностях человека, Фейербах отмечал: «Человек отличается от животного вовсе не только одним мышлением. Скорее все его существо отлично от животного. Разумеется, тот кто не мыслит, не есть человек, однако не потому, что причина лежит в мышлении, но потому, что мышление есть неизбежный результат и свойство человеческого существа»10. Если уж продолжить сравнение человека с животным, то особенно наглядно оно в отношении отражательного аппарата, явившегося результатом эволюции в водной среде, где существенно меньше, чем на суше, влияние случайных факторов, и где, следовательно, среда более детерминирована по отношению к организму («наиболее стабильным местообитанием во многих отношениях является океан»11) и соответиственно большую роль играет собственно вычислительный аппарат. В этих условиях эволюция привела к такому высокоорганизованному аналитическому аппарату как мозг дельфина, способному к эффективной обработке информации, но без каких-либо призщнаков разума, поскольку здесь не потребовался переход к более высокой ступени организации. Недаром все попытки обнаружить у дельфинов речь или же научить их человеческому языку не дали результатов.
Несомненно, что появление специфически человеческого свойства – разума – потребовало весьма высокого уровня развития мозга, поскольку «действительно существенные и активные явления жизни и обучения начинаются лишь после того, как организм достигнет некоторой критической ступени сложности»12. Однако разум – это не просто степень сложности отражательного аппарата вообще и мозга в частности, а характер его функционирования. М.Шелер не без основания заявлял: «Я утверждаю: сущность человека и то, что можно назвать его особым положением, стоит высоко над тем, что называют умом и способностью выбора, ее не достигли бы даже и тогда, когда представили бы себе этот ум и способность выбора в количественном отношении как угодно возросшими, даже до бесконечности». И далее: «Между умным шимпанзе и Эдисоном, если рассматривать последнего лишь как техника, существует только различие в степени, конечно, очень большое»13. (Правда, при этом «особое место человека обосновывается только через принцип духа, который абсолютно превосходит весь интеллект и вообще находится вне всего того, что мы называем жизнью»14). Качественная же особенность функции человеческого мозга заключается в ее общественной направленности, в том, что каждый индивидуальный мыслящий мозг есть орган общества. Разум, мышление – явления общественные, и человеку они присущи не просто как существу с высокоразвитым «вычислительным устройством», а как существу общественному, как элементу (естественно, обладающему указанным высокоразвитым «устройством») единого целого – общества, а потому «по существу подлинным субъектом выступает человек не как отдельно взятый индивид, а как общество»15. Но и такой подход не решает задачи в целом, ибо «общество как субъект существует лишь в деятельности отдельных людей»16, хотя мышление каждому индивиду присуще именно как элементу общества. «Есть ли это мышление отдельного единичного человека? Нет. Но оно существует только как индивидуальное мышление многих миллиардов прошедших, настоящих и будущих людей»17.
Мышление в догегелевской философии считалось функцией мыслящего мозга человека как индивида. Гегель в этом отношении делает значительный шаг вперед (хотя и в несколько специфическом направлении). У него логические формы развития науки и техники противостоят сознанию как объективные для индивида, в качестве таковых определяющие все его действия, в том числе и мышление. «Согласно этим определениям мысли могут быть названы объективными мыслями, причем к таким объективным мыслям следует причислять также и формы, которые рассматриваются в обычной логике и считаются обыкновенно лишь формами сознательного мышления. Логика совпадает поэтому с метафизикой, с наукой о вещах, постигаемых в мыслях»18. Иными словами, действительность представляет собой реализацию деятельности людей, в том числе их мышления, на протяжении всей истории, и «этот мир есть опредмеченное – реализованное в продукте – мышление человечества, есть отчужденное мышление вообще. А индивиду надо его распредметить, присвоить те способы деятельности, которые там реализованы»19. Только тогда человек может мыслить, что он, однако, также выполняет именно как элемент общества как целого и в интересах последнего.
«Животное непосредственно тождественно со своей жизнедеятельностью. Оно не отличает себя от своей жизнедеятельности. Оно есть эта жизнедеятельность. Человек же делает самоё свою жизнедеятельность предметом своей воли и своего сознания. Его жизнедеятельность – сознательная. Это не есть такая определенность, с которой он непосредственно сливается воедино»20. Разумеется, каждый человек представляет собой некоторую отдельность как биологическое существо, но то, что делает его человеком как существом социальным, вносит в него общество. «Та сумма производительных сил, капиталов и социальных форм общения, которую каждый индивид и каждое поколение застают как нечто данное, есть реальная основа того, что философы представляли себе в виде “субстанции” и в виде “сущности человека”»21. Соответственно «очевидно, что мышление надо исследовать как коллективную, кооперативную деятельность, в ходе которой индивид с его схемами сознательного мышления исполняет лишь частичные функции. … Реально участвуя в общей работе, он все время подчиняется законам и формам всеобщего мышления, не осознавая их в этом качестве»22. Однако, опять же, справедливо подчеркивая общественный характер мышления, было бы совершенно неверно забывать, что оно в то же время конкретно осуществляется только индивидом, а потому может быть понято лишь в диалектическом единстве этих моментов.
Таким образом, можно утверждать, что конкретно отличие человека от животного выражается в его двойственной, биосоциальной природе. Представление о биосоциальной природе человека достаточно широко распространено. Однако обычно согласно этому представлению человек относится к биологическому как природное существо, имеющее биологические потребности (потребность в пище, комфортных условиях, половая потребность и т.п.), роднящие его с животными по своей сути, хотя удовлетворение этих потребностей уже носит не животный, а «очеловеченный» характер. Социальное же оказывается чем-то «привитым» к биологической основе, стоящим над ней и в необходимых случаях подавляющим ее в своих интересах. По сути дела именно такое «иерархическое» представление отражает и павловская теория двух сигнальных систем.
Как известно, согласно этой теории первая сигнальная система человека однородна с сигнальной системой животного; локализована она в основном в подкорке мозга. Вторая сигнальная система, основанная на «сигнале сигналов» – слове, локализуясь в коре головного мозга, представляет собой высшее, сугубо социальное образование. Выделение двух сигнальных систем является важным вкладом И.П.Павлова в изучение природы человека. Однако в его модели системы высшей нервной деятельности человека нет места сознанию – тому явлению, которое наряду с мышлением считается специфическим свойством человека, нет и необходимости в нем. Единственно мыслимая в этом случае для него роль – «выделять и усиливать одну мысль среди множества других, одновременно идущих в коре», что «осуществляется за счет механизма внимания»23. Тогда, как писал Павлов, «сознание представляется мне нервной деятельностью определенного участка больших полушарий, в данный момент, при данных условиях обладающего известной оптимальной (вероятно, это будет средняя) возбудимостью»24. На современном жаргоне это звучит так: «”Сознание” – обеспечение выделения и активизации наиболее значимых моделей, отражающих положение “Я” в пространстве, времени и в системе отношений»25 (при этом «Человек является продуктом эволюции мозга, обеспечившей его Разум удлинением памяти и программой творчества»26). Но вряд ли корректно связывать сознание человека только с локализацией зоны возбуждения («активизацией моделей»): ведь выделение одного нервного процесса отнюдь не специфично для человека, оно имеет место и у животных.
Но в том-то и дело, что попытка определить сознание просто как свойство высокоорганизованного мозга, заранее обречена на неудачу. Результатом оказывается только порочный логический круг в определениях. Вот некоторые примеры: «Сознание – высшая форма психической деятельности человека, относящегося к миру, к другим людям и к самому себе не только как существо, имеющее переживание, но и, что самое главное, как осознающее свою деятельность»27. «Понятие сознания характеризует социально детерминированное, идеальное отражение объективной реальности и вместе с тем высшую ступень в развитии психики. … Вместе с тем сознательными называют такие психические явления и поведенческие акты человека, которые проходят через его понимание и волю»28. Вряд ли стоит умножать примеры – дальше этого существующие определения не идут. Вполне справедливо Е.В.Шорохова (сама определяющая сознание не мудрствуя лукаво: «сознание – это высшая, связанная с речью функция мозга, представляющая собой специфически человеческую форму отражения объективного мира»29) пишет: «В некоторых учебниках и учебных пособиях понятие “сознание” не употребляется совсем, а иногда в определении сознания, кроме тавтологии, ничего не содержится»30. Воистину так. Только «иногда» – это слишком мягко сказано, хотя, разумеется, не все столь явно демонстрируют тавтологичность определения сознания. Но пусть и более длительным путем, все равно в конце концов приходят к тому же: человек обладает сознанием, ибо он осознает действительность, а осознает он ее потому, что обладает сознанием. Все признают, что сознание – весьма важная вещь, а вот приткнуть ее некуда. Недаром известный специалист в области психологии и кибернетики У.Росс Эшби не находил в своей модели мозга места сознанию и субъективным элементам, поскольку, по его словам, «ни разу не испытал необходимости вводить их в наш анализ»31.
Так чем же все-таки различаются психические процессы человека и животного? Как мы видели, сами по себе количественные различия не решают дела. Но не позволяет решить проблему и та точка зрения, согласно которой «не анатомия и физиология отдельного человеческого тела, а “анатомия и физиология” общественно производящего свою жизнь коллектива есть то “целое”, та “система”, частями и органами которой является человечески мыслящий мозг и человечески видящий глаз»32, – указанные органы непосредственно являются все же органами индивида, а не «коллектива», и что бы не представляли собой эти процессы, идут они в индивидуальной нервной системе, в частности, в конкретном мозгу каждого индивида, обслуживая также его индивидуальные нужды. Разумеется, здесь имеются весьма существенные количественные отличия, без которых об отличиях качественных не могло бы быть и речи. В качественном же отношении мышление как функционирование мозга человека от функционирования мозга животного безусловно отличается его общественным характером. Но что же создает сами эти качественные отличия, приводящие к возникновению мышления и сознания, благодаря чему, будучи индивидуальным по локализации, у человека данный процесс становится общественным? Одним из важнейших явлений, позволяющих разобраться в данном вопросе, является язык, вне которого ни мышление, ни сознание невозможны.
Сама по себе специфика сигналов второй сигнальной системы, связанная со слышимым или видимым словом, дела не решает – глухонемой, даже не овладевший специальным «языком» знаков, все же несомненно является человеком. И, тем не менее, здесь имеет место весьма важный момент. Действительно: «В развивающемся животном мире на фазе человека произошла чрезвычайная прибавка к механизмам нервной деятельности. Для животного действительность сигнализируется почти исключительно только раздражениями и следами их в больших полушариях, непосредственно приходящими в специальные клетки зрительных, слуховых и других рецепторов организма. Это то, что и мы имеем в себе как впечатления, ощущения и представления от окружающей внешней среды как общеприродной, так и от нашей социальной, исключая слово, слышимое и видимое. Это – первая сигнальная система действительности, общая у нас с животными. Но слово составило вторую, специально нашу, сигнальную систему действительности, будучи сигналом первых сигналов»33.
Так что слово как «сигнал сигналов» имеет к сознанию самое непосредственное отношение. Но здесь для нас важно не то, что в первой сигнальной системе сигналы приходят в мозг от явлений внешнего мира в своем «естественном» виде, а во второй они опосредуются «сигналом сигналов» – словом. И не то, что в цепь между рецептором и мозгом, в которой происходит передача и перекодировка информации, включается еще одно звено (слышимое или видимое слово), т.е. не то, что в цепи формирования условных рефлексов появился еще один промежуточный (высший, «надстроенный») элемент и что здесь образуется сложная система условных рефлексов с заменой одних сигналов другими. Существенным является то обстоятельство, что это дополнительное звено вводится в данную цепь обществом, т.е. что внесенный код не имеет генетически ничего общего с первичным сигналом (т.е. отсутствуют общие, «естественные», в самом организме заложенные «правила» автоматической перекодировки), зато обладает общезначимостью. Следовательно, теперь «восприемником» информации извне может быть уже и другой человек, равно как и другому могут быть переданы результаты ее переработки. Разумеется, в наиболее выраженном и завершенном виде указанный момент имеет вербальный характер, но аналогичную роль играют также любые другие знаковые (а не «естественные») сигналы. Слова (равно как и другие знаки) заменяют в качестве сигналов внешние воздействия именно потому, что только их посредством это воздействие социализируется, т.е. отвлекается от конкретного психического акта данного индивида и становится явлением общественным.
Информация, получаемая и перерабатываемая организмом, всегда будучи связанной с определенными материальными носителями, существует на каждом этапе получения и переработки в виде некоторых, специфических для каждого звена общей цепи сигналов, т.е. с изменением своей материальной основы на каждом этапе подвергается определенной трансформации по форме представления – перекодированию. Те «правила», согласно которым происходит такая трансформация (коды), частично заложены в составе безусловных рефлексов, но в основном вырабатываются организмом условно-рефлекторным путем в процессе накопления «жизненного опыта». В той мере, в которой они определяются наследственно и, следовательно, являются общими для животных данного вида, результаты переработки информации, отражающиеся в поведении животного, воспринимаются другими животными в виде особых сигналов, отражающих внутреннее состояние «отправителя сообщения» (например, брачное поведение, акты агрессии, реакция на опасность и т.п.). Но основная часть информации получается и проходит обработку по «правилам», сформировавшимся на основе индивидуального опыта данного животного и соответственно имеет строго индивидуальный характер. Поэтому и использоваться они могут только данным конкретным индивидом, и совершенно бесполезны (не несут смысловой нагрузки) для других. Да другим это и не требуется, ибо именно животный организм и есть то последнее неразложимое целое, которое взаимодействует с конкретными же (во времени и пространстве) условиями окружающей среды. Поэтому «животные не обладают языком в истинном смысле этого слова. …Все звуки и телодвижения животных выражают только их эмоциональное состояние и не зависят от того, есть ли поблизости другое существо того же вида. …Существуют также врожденные способы реакции на эти сигналы, причем реакция наступает всякий раз, когда животное видит или слышит другого представителя своего вида»34. А вот целенаправленно «сказать» друг другу животным просто нечего – поскольку незачем.
Человек-индивид в этом своем качестве также продолжает сохранять высокую степень самостоятельности и его система переработки информации (в частности, коды) также формируется в результате его неповторимого индивидуального опыта, а следовательно, имеющаяся у него информация также не может быть в своем непосредственном виде воспринята другим. Ее смысл не может быть воспринят не только посредством наблюдения со стороны как-то внешне выражаемых результатов работы мозга данного индивида, но даже в том случае, если бы имелась техническая возможность непосредственного восприятия сигналов, вырабатываемых мозгом, например, в виде каких-либо излучений, – любые результаты работы данного мозга для другого представляли бы собой не более чем бессмысленный набор импульсов (кстати именно поэтому, т.е. по причинам не технического, а принципиального характера, невозможна и телепатия). И уж конечно ни о каком общественном характере мышления не могло бы быть и речи. Но, с другой стороны, человек как элемент более высокой («надорганизменной») целостности для функционирования в данном качестве обязан принимать участие также и в получении и переработке необходимой для этой цели информации, в том числе совместно с другими индивидами.
Разрешение данное противоречие находит в том, что «последнее» перед получением результатов, пригодных для внутреннего использования (сознание) или передачи другим (речь) перекодирование некоторой части информации выполняется в общезначимых кодах, которые формируются уже посредством не только индивидуального, но и коллективного (а по сути общественного) опыта. В результате таким образом осуществляется связь индивидуального и общественного опыта, и агентом этой связи является естественный язык, по сути дела представляющий собой совокупность таких кодов в их «внешнем» выражении.
Язык у человека сформировался в основном в звуковой форме, но это результат эволюционной предыстории в конкретных земных условиях – в принципе он мог бы иметь и другой материальный носитель, и другую форму воплощения. Даже естественный язык только сейчас, вследствие длительного развития его письменного выражения, представляется как бы исключительно звуковым (или «видимым» на письме); на самом же деле, в своем реальном бытии (в том числе на первоначальном этапе индивидуального становления человека) он имеет в качестве органических составляющих ряд других элементов, в частности, специализированные жесты: указать на что-то или поманить пальцем, пожать плечами, покачать головой, нахмуриться – все это коммуникационные жесты, входящие в общественно-значимую систему перекодирования между «внутренней» и «внешней» информацией, всеобщую знаковую систему связи между людьми как элементами некоторой целостности (по некоторым оценкам в принципе можно четко различить до 700 тыс. жестов).
Поскольку локальные объединения дополнительно имеют еще и значительное количество частных знаков, то и, скажем, лишенный слуха человек хотя и при исключительно сильном обеднении его коммуникационных возможностей не выпадает все же полностью из общей системы коммуникации; специализированные же коммуникационные системы вообще компенсируют данный недостаток, заменяя слово слышимое «словом» видимым. Вообще человек становится человеком (т.е. элементом общества) еще до того, как получает возможность пользоваться собственно речью в узком смысле этого слова, в ее вербальном виде – но обязательно с использованием общественно значимых (пусть и в локальных рамках) знаков – начиная с первой улыбки ребенка. Ребенок осознает и тем или иным способом выражает нужду во взаимодействии с другими людьми раньше, чем освоит соответствующие словесные эквиваленты. «Можно привести пример, как происходит это развитие общественного человека. Ребенок в доречевом периоде хочет получить мяч, который от него спрятали на шкаф. Он тянет за руку мать или отца из другой комнаты, показывает пальцем и выражает этим, что ему нужен мяч. Вы видите, что до того как сформировалась речевая функция, как функция общественного взаимодействия, которую мы по праву считаем специфически человеческой и общественной, вся архитектура поведенческого акта в целом, отражающая сложные взаимодействия с окружающим, уже готова. Речь только пристает к этой архитектуре, как компонент, который облегчает, делает экономным общение и обеспечивает все абстракции»35.
Суть не в том, в каком именно виде осуществляется экстериоризация, т.е. введение «внешних» общезначимых кодов, а в самом этом факте. Причем раз процесс начался (произошел качественный скачок от «биологического» к «социальному»), то он пойдет и дальше – никогда не заканчиваясь и постоянно нуждаясь в «поддержании» через взаимодействие с другими людьми (не просто как другими индивидами, а как воплощающими в себе общество как особую целостность), необходимое человеку не только для того, чтобы стать, но и чтобы оставаться человеком. Возможность этого обусловлена наличием каких-то, пока неизвестных, нейродинамических церебральных структур, которые биологически отличают человека от животного и активизацию которых необходимо начать в раннем возрасте (нечто вроде импринтинга у животных). Если время упущено, актуализовать их уже невозможно. Но и без их наличия никакие воздействия также результатов не принесут (это хорошо показал опыт по совместному воспитанию ребенка и дитеныша шимпанзе36).
Только с добавлением таких общезначимых «внешних«» кодов (независимо от формы их выражения) мозг человека, оставаясь органом индивидуальным, становится органом общественным. Потому и сознание, появляющееся «на пересечении» индивидуального и общественного, неразрывно связано с языком, являясь как бы его субъективным воплощением, равно как язык (прежде всего в своем высшей, словесной форме, «обеспечивающей абстракции») – объективизацией сознания: «мысль и слово – общее»37. Общественный, а не личный опыт индивида, связывает слово и его значение. Слово делает информацию, «внешнюю» для индивида, «внутренней» для общества. Соответственно мозг, оперирующий «сигналами сигналов», не просто перерабатывает информацию (как мозг животного), но мыслит (т.е. перерабатывает информацию как орган не индивида, а общества). Поэтому «слово относится к сознанию как малый мир к большому, как живая клетка к организму, как атом к космосу. Оно и есть малый мир сознания»38.
Сказанное позволяет понять природу мышления как общественного процесса переработки информации, но еще не решает вопрос о том, что же собой представляет сознание человека как специфическое явление. Общественный характер сознания признается практически всеми. Другое дело, что под этим понимается. Обычно в таком признании отражается только то общее положение, что человек – существо общественное. Однако сознание все же связывается именно с индивидом как конкретным воплощением этого «общественного существа», несмотря на то, что «хотя сознание зародилось, существует и развивается как индивидуальная способность отражения объективного мира в головах бесчисленного количества прошедших, настоящих и будущих поколений людей, мы берем его как всеобщее человеческое качество, где отдельные индивиды выступают как простые его носители»39. Тем не менее, даже будучи связанной в своем реальном бытии с каждым конкретным мозгом, способность осознавать не есть свойство мозга самого по себе, как бы сложно он не был организован. Сознание есть специфическое свойство человеческого мозга, а «специфические человеческие способности и свойства отнюдь не передаются людям в порядке биологического наследования, но формируются у них прижизненно, в процессе усвоения ими культуры, созданной предшествующими поколениями»40.
Но и «распредмеченная» культура общества еще не есть сознание. Сознание может быть понято только исходя из наличия общества как некоторой особой целостности. «Обойти» необходимость в некоем новом целом пытаются за счет представлений о совместной, коллективной деятельности людей. Скольких: двух, десяти, миллиона, всего человечества? Судя по всему, на меньшее, чем человечество, да и еще в его развитии, не согласны: чтобы он мог стать человеком, индивидом должна быть усвоена «духовная культура человеческого рода, внутри которой и посредством приобщения к которой индивид просыпается к “самосознанию”», и которая «противостоит индивиду как мышление предшествующих поколений, осуществленное (“овеществленное”, “опредмеченное”, “отчужденное”) в чувственно воспринимаемых образах, в книгах и статуях, в дереве и бронзе, в формах храмов и орудий труда, в конструкциях машин и государственных учреждений, в схемах научных и нравственных систем и проч. и проч.»41. Должен ли человек чтобы стать человеком обязательно усвоить гегелевскую философию, или он с этой целью может ограничиться «»человеческим» правилами употребления ложки? И можно ли назвать человеком члена меленького затерянного племени, которое не только не пользуется результатами всеобщей деятельности человечества, но и не подозревает о его существовании? Или же в этих случаях мы имеем дело с «недоделанным», «частичным» человеком, человеком низшего сорта? Во всяком случае, в обоих примерах не видно того количественного порога, за которым появляется новая качественная определенность.
Общество несомненно является исходной причиной появления сознания. Но такое, верное в общем виде положение, столь же мало дает для понимания сущности сознания, как и представление (в общем виде также верное) его функцией развитого мозга. Взятый сам по себе, ни тот, ни другой подход проблемы не решает. Это чувствуют даже некоторые представители «философской антропологии», когда пытаются по-своему решить проблему человека: «Критика индивидуалистического метода берет свое начало обычно от коллективистской тенденции. Но если индивидуализм охватывает только часть человека, то коллективизм берет только человека как часть: ни тот, ни другой не постигают целостность человека, человека как целое. Индивидуализм видит человека только в связи с самим собой, а коллективизм же человека вообще не видит, он видит только “общество”. Там лик человека искажен, здесь он скрыт»42. Однако и они даже в поиске «не индивидуального, не социального, а чего-то третьего»43 не в состоянии осознать, что сущность человека именно как особого существа, наделенного сознанием, лежит не в каком-то там «третьем» а в характере взаимодействия индивида и общества. Если бы можно было гипотетически представить себе общество как совокупность элементов с единой управляющей нервной системой, в каковой совокупности как целостности эти самые элементы ничем иным, кроме как элементами, не являются, то ни о каком сознании ни при каком уровне развития нервных процессов и речи бы быть не могло – в нем просто не было бы необходимости. Только взаимодействие двух целостностей – человека как биологического существа и общества как сверхорганизма – вызывает необходимость в сознании. При этом необходимость в «субъективных элементах» и сознании становится понятной тогда, когда взаимоотношение биологического и социального в человеке (прежде всего в его высшей нервной деятельности) мы будем искать не в способе их осуществления, а в выполняемой функции. Именно здесь и находится сущность того, что представляет собой сознание.
Мы уже отмечали различие, которое существует между многоклеточным организмом и «сверхорганизмом», заключающееся в более высоком уровне относительной самостоятельности элементов последнего. Будучи несущественным для определения организма как целого, оно приобретает существенное значение при рассмотрении специфических особенностей составляющих его элементов. В данном отношении «сверхорганизм» как раз и отличается от многоклеточного организма тем, что он биологически не имеет центрального управляющего органа, как это имеет место в последнем, когда существует центральная нервная система, управляющая организмом. Это хорошо видно уже на таком сравнительно простом «сверхорганизме», как семья «общественных» насекомых. При наличии морфологической дифференциации особей, создающей подобие органов, иерархия управления отсутствует. И хотя каждое насекомое в конечном счете выполняет программу поведения, сформировавшуюся в интересах семьи как целого, однако эта программа является его собственной, заложенной в его инстинкте.
В человеческом обществе морфологическая дифференциация практически ограничена половым диморфизмом и биологически связана лишь с продолжением рода. Таким образом, в отличие от семьи насекомых общество как организм не имеет не только морфологически выделенного управляющего центра, но и органов. Каждый человек в известном смысле представляет собой и то, и другое. Второе отличие заключается в том, что общество возникло в результате интеграции организмов, уже имеющих высокоразвитый отражательный аппарат, который еще более развился в процессе антропосоциогенеза. Оба эти момента привели к весьма высокой степени относительной самостоятельности элемента общества – человека. Поэтому если в семье насекомых каждая особь только частично самостоятельный организм (только питается и передвигается самостоятельно, да и то не всегда), а в остальном – прежде всего с точки зрения компенсации вероятностно-статистических воздействий среды – орган семьи, то у человека его неразрывная связь с обществом как целым замаскирована весьма высоким уровнем самостоятельности. Человек как индивид – почти во всем отдельный организм, хотя характерным для него именно как для человека является то, что он – элемент (но не “орган”) системы более высокого уровня, т.е. другого организма – общества.
Вот здесь-то и создается то особое положение, которое выделяет человека из животного мира: с одной стороны он – целостная система, организм, имеющий собственные высокоразвитые адаптивные механизмы, а с другой – элемент иного целого (общества), которое для сохранения своей целостности в качестве организма также должно иметь соответствующие адаптивные механизмы, но не имеет для их формирования специального отдельного органа, а потому «пользуется» с этой целью тем же – мозгом каждого человека. У человека в одном мозгу одновременно существуют две разнонаправленные приспособительные системы – индивидуальная, направленная на сохранение и развитие многоклеточного организма (каждого отдельного индивида), и общественная, направленная на сохранение и развитие «сверхорганизма», элементом которого является этот индивид, – общества.
Наличие двух адаптивных систем должно приводить в каждом случае к двум принципиально различным двигательным реакциям, которые могут совпадать, а могут быть и диаметрально противоположными друг другу. Будучи же единым структурным целым, индивид может осуществлять только один вид реакции, и, следовательно, взаимодействие двух систем должно привести к выработке единой программы поведения. Такое положение совершенно уникально и не имеет прецедентов в животном мире44. Конечно, любому животному достаточно часто приходится решать задачу формирования программы поведения в противоречивых условиях (например, стремление к пище может противостоять стремлению избежать опасности), но тем не менее программа поведения здесь строится для достижения в конечном счете одной цели – самосохранения. В этом смысле данные стремления однопорядковые, и их можно соотнести между собой количественно. Человеку же действительно постоянно приходится выбирать между различными по природе стремлениями. И вот субъективное переживание этого выбора в процессе переработки получаемой извне информации и представляет собой то, что мы называем сознанием. Сознание оказывается той сценой, на которой разыгрывается драма двуединства человека.
Формально к пониманию общественной сущности сознания, оказывается, можно прийти и другим путем. Как уже отмечалось, первоначально кибернетики однозначно предпочитали «количественный» подход к проблеме сознания и мышления, а «постороннему» влиянию отводили в лучшем случае факультативную роль: «Спору нет, общение людей между собой сильно повлияло (!) на формирование мышления человека. Отсюда, однако, вовсе не следует, что у машины, имеющей достаточно высокую начальную организацию, мышление не может развиться в результате индивидуального решения все более сложных задач»45. Однако со временем такого рода энтузиазм поубавился. Препятствия, обнаруженные попытками создать полную кибернетическую модель мозга, заставляют некоторых исследователей уже по этой причине предполагать, что сознание (как и мышление) как таковое в принципе выходит за границы индивида, что в противоположность классическому представлению о сознании как «внутреннем» для мозга феномене, на самом деле сознание, являясь индивидуальным, возникает только во взаимосвязи с другими людьми46.
В связи с тем, что сознание есть субъективное переживание взаимодействия двух систем целенаправленной переработки информации в интересах двух целостностей, для человека в психологическом отношении одним из важных моментов является то, что одна из этих целостностей во времени бесконечна (по крайней мере, в обозримых пределах), а другая ограничена. Человек воспринимает общество, социальную среду как нечто относительно постоянное, неизменно сущее, не имеющее ни начала, ни конца. В то же время он знает, что его собственная жизнь имеет и то, и другое. И если первое (начало) сглаживается (не снимая, однако, всех связанных с этим проблем) постепенностью становления индивидуального сознания и «распредмеченной» «родовой памятью», и благодаря этому субъективно не имеет четких временных очертаний, то второе (конец) однозначно фиксируется моментом смерти, что и создает существенные психологические проблемы, на которых спекулирует масса религиозно-философских систем.
При прекращении индивидуального существования не только угасает, лишившись непосредственного носителя – функционирующего мозга – само сознание (что тоже принять нелегко как гибель целого особого мира), но, что субъективно оказывается еще более важным, оно уже заранее, в представлениях об этом, теряет саму свою двуединую основу, ибо сохраняется только одна из двух целостностей. То, что человек знает, что такой момент неизбежно наступит, но обычно заранее не знает когда, позволяет в определенной мере снять актуальность вопроса – в норме он является таковым либо в ранней юности, когда только что в полном объеме завершилось становление сознания индивида, и перед ним в полный рост встали так называемые «вечные» вопросы, либо к старости, когда этому способствует близость финала. Предвидимая смерть, тем не менее, просто не может быть принята сознанием в полном объеме (логическое признание ее неизбежности дела не меняет). Поэтому, с одной стороны, с древних времен существовали попытки разрешить проблему введением представления о бессмертии – если не индивида как такового (что все труднее было согласовать с расширяющимся рациональным знанием), то некоей существенной его субстанции (например, души), где спекулятивно вопрос решается легче. Поэтому многие религии в качестве идеологического элемента включали то или иное положительное решение проблемы бессмертия, снимая таким образом этот мучительный вопрос.
Следует отметить, что вопрос, связанный с исчезновением со смертью индивидуального сознания, существенно различно решался в родовом и классовом обществе, т.е. в случаях, когда человек ощущал свое единство с продолжающимся во времени родом, и когда он оставался один на один с данной проблемой. Хорошо видно это на двух частях христианского священного писания – Ветхом и Новом заветах. В первом случае еще нет и намека на загробное существование. Вся жизнь заключена в роде (библейские десять заповедей – нормы родовой жизни, которые их составителям и в голову не приходило применять за пределами рода). Укладывая завет с «избранным народом» бог за ненадлежащее его исполнение знает для индивида только одно наказание: «смертью умрешь». А в качестве поощрения – «умножая умножу тебя»: многочисленность потомства – это реальное бессмертие рода. Долгая жизнь индивида в известном смысле – лишь средство убедиться в бессмертии рода и насладиться этим обстоятельством. Вот судьба праведника: «Иов жил сто сорок лет, и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода; и умер Иов в старости, насыщенный днями»47. Во втором же случае интересы индивида сосредоточены на собственной личности. Ни о какой «насыщенности днями» и речи быть не может, и каждая личность вынуждена индивидуально решать вопрос своего бессмертия – уже в загробном мире, куда отнесено и воздаяние.
Когда с развитием культуры вообще и науки в частности логическая, рациональная линия превозмогает, и индивиду не удается спрятаться от немыслимого за веру в бессмертие, во весь рост встает философская проблема смерти (которая решалась бы элементарно, если бы речь шла всего лишь о прекращении функционирования того или иного биологического объекта) – великая загадка жизни, которую стремятся, но до сих пор не в состоянии разрешить поколения философов. Не в состоянии, ибо в рамках представлений об индивидуальной сущности человека она просто не имеет и не может иметь решения. С пониманием же общественной сущности человека, сознания (индивидуального сознания!) как принципиально общественного явления сама проблема объективно снимается (что не исключает, естественно, проблемы субъективной, психологической для каждого индивида).
Наличие у человека двухъ рядов адаптивных механизмов идеально соответствует объективному требованию направленности всего приспособительного поведения индивида в конечном счете на сохранение вида. Действительно, направленность на сохранение общества, соответствующая общей тенденции к усложнению (а значит, более совершенному приспособлению к среде), не отменяет необходимости индивидуального приспособительного механизма, так как сложность каждого элемента – индивида, возростание затрат на воспроизводство (включающих не только вскармливание и защиту, но и воспитание и обучение), а вместе с тем его ценность для всей системы исключительно высоки.
Необходимость в таком механизме как сознание возникает только со становлением общества, а потому «сознание с самого начала есть общественный продукт и остается им, пока вообще существуют люди»48. Но представляя собой по своей природе и направленности явление общественное, сознание в своем реальном бытии связано только и исключительно с индивидом. Поэтому выделение общественного и индивидуального сознания, как это зачастую делается, чрезвычайно относительно. Другое дело, что в известном смысле можно говорить об общественном сознании как общих чертах сознания той или иной группы людей49. Однако диалектический материализм как философская система под «общественным сознанием» понимает нечто совершенно иное. Для него «общественное сознание вовсе не есть просто многократно повторенное индивидуальное сознание…, а представляет собой исторически сложившуюся и исторически развивающуюся систему совершенно независимых от индивидуальных капризов сознания и воли “объективных представлений”, форм и схем “объективного духа”, “коллективного разума” человечества… Все эти структурные формы и схемы общественного сознания недвусмысленно противостоят индивидуальному сознанию и воле в качестве совершенно внешних форм его детерминации»50. Другими словами, то, что называется «общественным сознанием», сознанием вообще не является, а является «объективированным», «опредмеченным» во вне сознания находящихся вещах результатом функционирования предыдущих поколений, т.е. представляет собой культуру в ее различных проявлениях. Это положение – как и терминология – полностью заимствованы из гегелевской системы, и отличаются только тем, что здесь отсутствует «обожествление реального человеческого мышления»51.
Но это уже нечто иное, чем сам феномен сознания, связанный с конкретным мозгом, мозгом непосредственно функционирующим. При этом посредством сознания (в сознании) человек перерабатывает информацию как существо «двойной природы». Имея две стороны (диалектически взаимосвязанные и только в своем противоречивом единстве его составляющие), сознание перерабатывает информацию как «биологическую» (в интересах индивида как отдельного организма), так и «социальную» (в интересах другого целого более высокого уровня – общества). Роль сознания именно как механизма согласования действий разнонаправленных адаптивных механизмов приводит к сравнительной ограниченности его функций в переработке информации, получаемой индивидом, вследствие чего только несколько процентов ее проходит через сознание, остальная (хоть «биологическая», хоть «социальная») перерабатывается на подсознательном уровне.
Становление общества и его функционирование – процессы объективные, не зависящие от сознания, осознанных желаний и намерений отдельных личностей. «Из того, что люди, вступая в общение, вступают в него как сознательные существа, ни коим образом не следует, что общественное сознание было тождественно общественному бытию. Вступая в общение, люди во всех сколько-нибудь сложных общественных формациях …не осознают того, какие общественные отношения при этом складываются, по каким законам они развиваются и т.д.»52. Субъективно потребности общества для индивидов – внешняя сила, «о происхождении и тенденциях развития которой они ничего не знают»53. Поэтому поступая тем или иным образом, человек далеко не всегда может осознать общественный смысл своих поступков. Это же относится и к взаимодействию человека с природой. И здесь человек далеко не всегда осознает даже непосредственные (не говоря уж о более отдаленных) общественные последствия своих действий по отношению к естественной среде.
Существенное значение здесь имеет также следующее обстоятельство. Специфика общества как «сверхорганизма» заключается в функциональной, а не структурной целостности, что вызывает его рассредоточение в пространстве и протяженность во времени. Поэтому если животное, действуя «здесь и сейчас», в принципе может определить нужные действия на основе непосредственной оценки среды, и эта оценка действительно в конечном счете определяет прагматическое значение среды и действий для сохранения целостности, то у человека дело обстоит значительно сложнее. Ведь конкретная среда, в которой действует, и которую соответственно оценивает индивид, – это еще не та среда, в которой действует общество как «сверхорганизм», и от правильной оценки которой зависит его целостность и развитие.
Выполняя только часть необходимых для общества действий, человек как правило не представляет себе их совокупного характера, а тем более всего многообразия их последствий. Хорошо, если он хотя бы был в состоянии оценить место своих действий в общем процессе, однако и это в большинстве случаев недостижимо, в результате чего «действующие в истории многочисленные отдельные стремления в большинстве случаев вызывают не те последствия, которые были желательны, а совсем другие, часто прямо противоположные тому, что имелось в виду»54. Поэтому характер требуемых от человека действий, их место в общем процессе устанавливаются исторически под воздействием множества факторов.
Общество требует, таким образом, от человека действий, общественный смысл которых для него неочевиден. Эти действия, как правило, вообще дают только промежуточный результат, который сам по себе, без соотвесения (в пространстве и во времени) с действиями других людей, может и не иметь смысла. Смысл же их во взаимодействии может быть настолько сложно усмотреть, что он практически не поддается определению. Возникает противоречие: чтобы осуществлять целесообразные (в интересах общества) действия, человек должен видеть конечную их цель; и в то же время сложность общественных процессов не позволяет ему в каждом конкретном случае ее увидеть. В значительной степени указанный момент относится и к целям индивидуальным (опосредованных обществом). Выход из этого положения может быть только один: промежуточный результат должен восприниматься человеком как цель. В процессе общественного развития образуется сложная иерархическая система промежуточных целей, вследствие чего общественный смысл действий человека определяется уже не по отношению к действительной конечной цели – сохранению и развитию общества, – а по отношению к какой-либо из промежуточных, имеющих гораздо более непосредственную и более явно усматриваемую связь с действиями индивида.
Такое положение возникает сразу же с возникновением общества. Уже на самой ранней его ступени удовлетворение даже индивидуальных потребностей опосредуется обществом, в том числе принимает форму технологического (но не социального!) разделения труда. Для удовлетворения потребности в пище человек мог идти на охоту, а мог изготовлять охотничьи орудия. Изготовление орудия становится непосредственной целью, хотя достижение этой цели и не приводит прямо к удовлетворению первоначальной потребности. Конечная цель достигается путем выполнения действий, которые не сразу и не сами по себе, но лишь совместно с действиями других людей и со временем ведут к достижению цели. Поэтому практически по отношению к любому действию человека можно сказать, что общество исторически определяет систему целей, а человек выбирает в каждом конкретном случае последовательность действий для их достижения, только в конечном счете направленную на сохранение и развитие общества как целого.
Рассмотренные моменты представляют собой необходимые условия общественно-полезных действий индивида. Но остается вопрос, что же заставляет человека эффективно осуществлять свои функции элемента общества, чем обеспечивается в конечном счете общественная полезность его действий. Вопрос о согласовании общественных интересов с индивидуальными действиями по их обеспечению при рассмотрении общества как всего лишь некоторого объединения людей очень часто решается следующим образом: «Общество есть фиктивное тело, состоящее из индивидуальных лиц, которые рассматриваются как составляющие его члены. Что же такое есть в данном случае интерес общества? – сумма интересов отдельных членов, составляющих его»55. Выходит, что преследуя свой собственный, отдельный интерес, каждый человек тем самым удовлетворяет и интересы общества. Это типичная философия, дальше которой фактически не продвинулись и до сих пор буржуазные исследователи, исходящая из представлений о человеке как отдельном, «суверенном» существе, которое только по собственному желанию и для своего удобства входит в объединение людей – общество, а также из представлений о «естественности» существующих в буржуазном обществе отношений. По этому поводу Маркс писал: «Сфера обращения, или обмена товаров, в рамках которой осуществляется купля или продажа рабочей силы, есть настоящий эдем прирожденных прав человека. Здесь господствуют только свобода, равенство и Бентам. … Бентам! Ибо каждый заботится лишь о самом себе. Единственная сила, связывающая их вместе, это – стремление каждого к своей собственной выгоде, своекорыстие, личный интерес. Но именно потому, что каждый заботится только о себе и никто не заботится о другом, все они в силу предустановленной гармонии вещей или благодаря всехитрейшему провидению осуществляют дело лишь взаимной выгоды, общей пользы, общего интереса»56.
Конечно, с такой интерпретацией стимулов к действию трудно согласиться. Но если идти в обратном направлении и рассматривать интересы индивида (по крайней мере в значительной их части) как отражение интересов общества, являющихся первичными, то необходимо выяснить, каким образом общественные потребности становятся личными, ибо «у отдельного человека для того, чтобы он стал действовать, все побудительные силы, вызывающие его действия, неизбежно должны пройти через его голову, должны превратиться в побуждения его воли»57. Чтобы общество как определенная целостность сохранялось и развивалось, человек должен как минимум знать, что нужно обществу, и хотеть поступать соответствующим образом.
Оценку обстановки человек осуществляет на основе рационально-логической обработки поступающей информации. Эта обработка позволяет установить более или менее однозначную связь между условиями, характером действий и их результатами. Высшей формой рационально-логического мышления является мышление научное. Наука не является чем-то принципиально отличным от повседневной познавательной деятельности человека, она является только специализированным инструментом познания (т.е. в принципе «вся наука является не чем иным, как усовершенствованием повседневного мышления»58). Однако будучи принципиально специализированной на познании, наука, как область деятельности человека, опирающаяся на научное мышление, создает развернутую систему логически связанных сведений о природе, обществе, человеке. Наука позволяет охватить анализом не только конкретные условия жизни того или иного человека или группы людей, но всю действительность, т.е. совокупную среду, в которой существует общество. Сведения об объективной действительности, добытые совместными усилиями множества людей, используются обществом через отдельных же, в общем случае уже других, людей для обеспечения его функционирования, сохранения и развития. Объем информации, перерабатываемой наукой, расширяется по мере развития общества. Однако всегда остается огромный массив жизненно важной информации, которая в данный момент не может быть обработана рационально-логическим способом.
Если сказанное справедливо по отношению ко всему обществу, то тем более это касается каждого отдельного индивида. Здесь в силу более ограниченных возможностей гораздо большая часть информации не может быть использована для переработки посредством рационально-логического (формального) мышления, т.е. как семантическая информация. Это обстоятельство определенным образом ограничивает значение и роль аппарата формального мышления (ума) у человека. Не говоря уж о том, что вообще «ум остается бездействующим, пока страсти не приведут его в движение»59.
Что же касается критериев полезности, то существовали различные точки зрения на то, как может быть определена общественная полезность действий индивида. Например, полагали, что в качестве критерия общественной полезности следовало бы принять наибольшую суммарную пользу для людей, затрагиваемых данным поступком. Казалось бы, определив эту пользу при помощи рационального анализа, можно дать и адекватную оценку поступку. Такой наивный рационализм в свое время нашел воплощение в теории «разумного эгоизма», согласно которой человек должен делать то, что ему выгодно – но уже, однако, не в «бентамовском» смысле, а с учетом того, что ему выгоден и собственный душевный комфорт как результат его действий, полезных окружающим. Тогда «надобно бывает только всмотреться попристальнее в поступок или чувство, представляющееся бескорыстным, и мы увидим, что в основе их все-таки лежит та же мысль о собственной личной пользе, личном удовольствии, личном благе, … лежит чувство, называемое эгоизмом»60. Но относительная прогрессивность для своего времени этой теории не отменяла ее беспомощности в объяснении побудительных мотивов действий человека. Возражая сторонникам теории «разумного эгоизма», Ф.М.Достоевский говорил: «Господи, какой плохой расчет с вашей стороны: да когда же человек делал то, что ему выгодно? Да, не всегда ли, напротив, он делал то, что ему нравилось, нередко сам видя во все глаза, что ему это невыгодно»”61.
Рационально-логическая обработка даже всех сведений, необходимых для оценки поступка с точки зрения его общественной полезности (если бы она была возможной, а это, повторим, не так), еще не гарантировала бы сама по себе, что человек будет поступать согласно этой оценке, а не так, «как ему нравится», согласно своему «хотению». Да и нельзя смешивать два различных момента: познаваемость, т.е. принципиальную возможность осознания явлений природы и общества (и даже наличный общественный уровень знаний о них), с осознанием данным конкретным индивидом (как, впрочем, и их группой) мотивов своего непосредственного поведения. Если характер самих действий (их программа) более или менее адекватно определяется на основе рационально-логической оценки обстановки, то выбор программы из числа возможных не может быть осуществлен таким образом. Как и у животных, это осуществляется посредством эмоций, но эмоций «социальных». При этом, естественно, у человека есть и «биологические» эмоции, аналогичные в известном смысле (по выполняемой функции) тем, которые имеются у животных, и которые обеспечивают выбор индивидуально-полезных действий.
Отражение человеком общественного значения свойств действительности (как и их индивидуального значения) осуществляется на основе аксиологической информации. Не теряя механизма, обеспечивающего сохранение в вероятностно-статистической среде отдельного индивида, человек, как составляющий элемент общества, как общественное существо, приобретает особые «социальные» эмоции, обеспечивающие направленность индивидуальных действий на сохранение общества как целого (общественно-значимые действия) и, стало быть, обеспечивающих существование общества как единого организма. Они представляют собой дальнейшее развитие аппарата ценностного (теперь уже в собственном смысле ценностного) отношения к действительности. В условиях, когда функционирование общества невозможно иначе, чем через поступки отдельных людей – с одной стороны, а с другой когда так же невозможно для каждого человека однозначно оценить общественное значение своих поступков, и возник механизм «социальных» эмоций, позволяющий формировать отношение к предметам и явлениям соответственно их общественной ценности. Они-то и направляют действия человека на общественно-значимые цели.
Мы видим, таким образом, что действия человека направляются сложной системой целей, что приводит к тому, что они определяются не одним, а целым рядом стремлений различной силы и направленности, причем между ними есть такие, которые направляют деятельность на достижение целей различных уровней. При этом чем ближе данная цель к конечной, тем меньше она может стать непосредственной целью индивида, но в то же время тем большее обшественное значение имеет ее достижение. Поэтому и социальная ценность человека тем выше, чем более высокими (в этом смысле) целями определяются его поступки. Деятельность по достижению различных целей требует весьма различных затрат сил и времени, и приносит существенно различное удовлетворение имеющихся потребностей при их достижении. Испытывая соответствующие потребности, человек будет стремиться к достижению всех стоящих перед ним целей, но чаще всего это невозможно сделать одновременно и в одинаковом объеме, что заставляет тем или иным образом ранжировать имеющиеся цели. Разумеется, чем сильнее потребность, тем больше стремление к ее удовлетворению и тем более высокий ранг она займет при определении очередности и возможной затраты сил. Но, как правило, более близкие цели требуют меньших усилий для их достижения, а побудительные мотивы, благодаря большей конкретности и непосредственности, более ярки и действенны. И нередко они, вследствие своеобразной эмоциональной перспективы, заслоняют более фундаментальные жизненно важные цели, достижение которых в результате может оказаться под сомнением. Чтобы не допустить этого, у человека развился специальный психический механизм преодоления отдаленными, но более важными в конечном счете стремлениями, действия непосредственных, хотя и менее важных, но сильных своей близостью – воля.
Волю достаточно часто представляют себе как некий имеющийся в человеке внутренний стимул, понуждающий шевелиться его строптивое, упирающееся и действовать не желающее естество62. Но человек действует, если имеет потребность и возможность ее удовлетворения. Правда, при этом действия по удовлетворению одной потребности могут усугублять другую, и тогда действие является результатом определенного их баланса. Так, например, «степень напряжения труда в семейном хозяйстве обычно устанавливается своего рода подвижным равновесием между тягостностью труда и тягостностью отказа от дальнейшего удовлетворения потребностей»63. Однако никаких других стимулов, кроме потребностей, человеку для того, чтобы он действовал (когда имеется такая возможность) не требуется. Есть потребность – человек действует, нет – значит, не действует.
Все было бы так просто, если бы действующая потребность была единственной, или если бы несколько потребностей появлялись поочередно. Однако это не так. Обычно одновременно существует целый ряд потребностей, и действия, которых они требуют для своего удовлетворения, могут быть не только разными, но и противоречивыми, причем действия, направленные на удовлетворение одной потребности, могут усугублять другие. Конечно, можно исходить из того, что когда «известная потребность развилась в человеке так сильно, что удовлетворять ей приятно для него даже с пожертвованием другими, очень сильными потребностями»64, более сильная потребность будут иметь приоритет перед теми, которые послабее. Проблемы, однако, появляются в связи с временным фактором. Как быть, если действия, требуемые для удовлетворения той или иной потребности, ведут к ее удовлетворению только в отдаленной перспективе, зато немедленно усугубляют другую потребность? В этом случае ведь более слабая потребность может получить приоритет перед более сильной. Однако если это случится, то потребность, более важная и сильная, но требующая продолжительных усилий с отдаленными результатами, останется неудовлетворенной – со всеми вытекающими последствиями. Вот тут-то и вступает в действие упомянутый выше специальный механизм – воля. Следовательно, «то явление, которое мы называем волею, само является звеном в ряду явлений и фактов, соединенных причинною связью»65.
С этой точки зрения «воля вообще есть, повидимому, просто-напросто способность удерживать цель, т.е. неуклонно строить свои действия в направлении цели. Безвольный человек как раз этого-то делать и не умеет: он идет вперед под влиянием ежеминутно меняющихся обстоятельств – как внешних, так и “внутренних” – и при этом способен проявлять огромную витальную силу – “эффект”, напористость”. Соответственно “свобода воли” представляет “способность осуществлять всю совокупность действий вопреки отклоняющим воздействиям ближайших обстоятельств, т.е. “свободно” по отношению к ним, сообразуя действия с универсальной зависимостью (необходимостью), идеально выраженной в форме цели”, а следовательно, “несвободная воля … есть нонсенс, иллюзия, скрывающая реальную рабскую зависимость от ближайших обстоятельств»66.
Это, разумеется, не значит, что нарушается принцип, согласно которому человек делает то, что приносит ему наибольшее удовлетворение. «Собственно говоря, прямым предметом желания всегда является удовлетворение известной потребности и связанное с тем удовольствие или освобождение от страдания. Но эта основная цель может в процессе волевого развития создать и прямую желательность того, что первоначально являлось лишь средством для достижения этой основной цели … в котором первоначальная цель – прямого удовлетворения потребностей – вполне отступала на задний план»67. Очень важно то, что и само по себе волевое усилие в данный настоящий момент в состоянии обеспечить то удовлетворение, которое может превысить отрицательные следствия данного действия – в этом и состоит компенсаторная функция рассматриваемого механизма.
Наконец, следует также иметь в виду и еще одно обстоятельство. Мы уже неоднократно отмечали, что организм – это не просто элементы, из которых он построен, это еще и организация, характер связи и взаимодействия между элементами, обеспечивающие единство, целостность организма. Без организации нет организма. В биологических объектах, где существует перманентная сменяемость эжлементов, именно передаваемый характер их взаимодействия, т.е. организация, придает организму качественную определенность и сохраняет его во времени. Именно организация передается во времени, обеспечивая непрерывность существования организма в данном качестве. Изменение характера данного организма – это изменение характера его организации. Это особенно существенно для «сверхорганизма», где отсутствует морфологическая специализация и «естественное» структурное единство. Важность организации в обеспечении целостности общественного организма с одной стороны, и невозможность изолированного существования индивида с другой закреплялись в сознании человека как ценность социальной организации самой по себе, как внутренняя необходимость входить в организованную структуру. В первобытном обществе-организме каждый элемент общества практически сам без какого бы то ни было внешнего влияния определял характер своих действий. Конечно, поведение человека первобытного общества определялось родом, но не в том смысле, что его действия направлялись теми или иными институтами и установлениями рода. Последние только создавали для этих действий определенную технологическую канву. Каждый же человек выполнял то, что нужно роду, только потому, что он сам этого хотел, потому, что таким образом он удовлетворял свои собственные потребности, т.е. он был при этом полностью свободен. Только после начала разложения родового строя появляются те или иные формы принуждения (первоначально морального характера), возникают какие-то ограничения свободы (например, такие как табу).
Соответственно этому возникают и определенные общественные институты, предназначенные для этой цели. На тех этапах общественного развития, когда происходит социальная дифференциация, когда функциональная структура общества приобретает иерархический характер, поддержание определенной его организации в значительной степени оказывается функцией некоего управляющего центра, который стремится поддерживать данную организацию и осуществляет это при помощи особого общественного механизма – власти.
Воздействия центрального управляющего органа не могут здесь гарантированно вызывать неизменно адекватные «автоматические» реакции исполнения у физически отдельных элементов (являющихся относительно самостоятельными организмами по отношению к внешней среде) или их групп, оказавшихся в положении периферийных (как это происходит у органов многоклеточных организмов при воздействиях центральной нервной системы). Поэтому осуществление власти центральным управляющим органом предполагает – по крайней мере в принципе – возможность применения им с этой целью насилия, т.е. направленного воздействия на доступные ему процессы удовлетворения некоторых собственных потребностей этих элементов-индивидов для управления их деятельностью, связанной с удовлетворением других потребностей, управления таким образом, который наиболее соответствует достижению целей данного управляющего органа, в конечном счете детерминированных целью сохранения и развития общества в его конкретной реализации. В социальном смысле насилие по отношению к человеку есть организация выполнения им действий, не соответствующих тем, которые он выполнял бы в данный момент под действием собственной «свободной воли». Осуществляется оно посредством воздействия на процесс удовлетворения человеком тех или иных потребностей, переориентирующего волевые импульсы индивида. Другими словами, насилие есть внешний контрагент внутреннего агента – воли в определении приоритетов потребностей. Если воля ведет к внутреннему «подавлению» одних потребностей ради удовлетворения других, то при насилии воздействие на удовлетворение потребностей осуществляется по отношению к данному человеку другим человеком как органом общества, но через ту же индивидуальную волю.
С другой стороны, выполнение задач по обеспечению сохранения и развития общественного организма в условиях отмеченной выше значительной их неопределенности, при которой ни один человек, ни одна группа людей не может иметь монополии на истину, требует от каждого индивида в его общественно-значимых действиях все же руководствоваться прежде всего собственными представлениями о должном. Это обстоятельство делает такую возможность – свободу – субъективно одной из высших ценностей для человека, а объективно – важным условием эффективного развития общества. Противоречивая необходимость входить в организованное целое, в чем-то детерминирующее действия человека (т.е. подвергаться хотя бы потенциальному насилию), и в то же время иметь возможность самостоятельно определять характер своих общественно-значимых действий, становясь сущностной характеристикой человека, в значительной степени определяет его поступки на всем протяжении существования общества, когда оно не является целостным образованием. И только достижение новой целостности, на этот раз в общечеловеческом масштабе, т.е. в коммунистическом обществе, опять вернет человеку полную и неограниченную свободу – возможность руководствоваться в своих действиях только и исключительно собственными потребностями.
Таким образом, выше мы попытались вкратце рассмотреть как те особенности, которые характерны для человека как элемента общества, так и основные моменты взаимосвязи этих двух целостностей. Однако все эти факторы, совместно определяющие поведение индивида как самостоятельного образования и как элемента общества, должны рассматриваться не абстрактно, а применительно к конкретному характеру развития общественного организма, и осуществляться в процессе конкретной деятельности индивида.. Причиной же этой деятельности является упомянутая выше движущая сила любых поступков живого существа вообще, и человека в частности, которая вызывает необходимость «включения» в работу аппаратов формально-логической и эмоциональной обработки информации и создает изначальный стимул любого поведения – потребности. От понимания их природы и характера в значительной мере зависит понимание функционирования и человека, и общества.
2.3. Потребности человека
Представляя собой необходимую предпосылку общественно-значимого действия, «социальные» эмоции, как и эмоции «индивидуальные», «биологические», ведут к этому действию в соответствии с программой, определенной условными рефлексами на относительно детерминированные воздействия среды, и посредством рационально-логического мышления. Но движущей силой, внутренним стимулом любого действия, его так сказать «энергетической базой» является потребность: «Лишенный потребностей человек не имел бы действенного начала»1.
Любое действие – результат потребности и средство ее удовлетворения. Еще Гегель писал: «Действия людей вытекают из их потребностей, их страстей, их интересов и способностей и притом таким образом, что побудительными мотивами в этой драме являются лишь эти потребности, страсти, интересы и лишь они играют главную роль»2. Классики марксизма в этом отношении были не менее категоричны: «Никто не может сделать что-нибудь, не делая этого вместе с тем ради какойлибо из своих потребностей и ради органа этой потребности»3. Что же представляют собой потребности человека?
Человек, как биологический организм, как и любая «замкнутая вещественная система … может существовать до тех пор, пока он каждый данный момент уравновешивается с окружающими условиями»4. Для нормального функционирования система нуждается в постоянной корректировке своей деятельности в соответствии с внешними воздействиями; в организме такая возможность заложена как важнейшее условие его существования. Организм вынужден постоянно принимать меры к восстановлению равновесия, нарушаемого воздействием среды.
Мы уже неоднократно отмечали, что общество, сохраняя функциональное единство, действует не иначе, чем через своих членов – индивидов. Следовательно, и общественные потребности, потребности общества как некоторого целого, в качестве психологического феномена существуют также исключительно в виде потребностей отдельного индивида. Поэтому и об общественных потребностях человека можно говорить только как о соответствующих его собственных потребностях, в которых, однако, опосредуются и выражаются нужды общества, а не отдельного индивида. Субъективно же потребности (нужды) общества для индивидов – внешняя сила, «о происхождении и тенденциях развития которой они ничего не знают»5.
Для обеспечения равновесия организма со средой существенным является то обстоятельство, что никакие изменения в самом организме в конечном счете не в состоянии компенсировать внешние воздействия, как никакие внутренние силы не могут изменить положение центра тяжести механической системы. Чтобы компенсировать неблагоприятные внешние воздействия, организм должен организовать с этой целью другие, но опять же внешние силы. Причем к нужному результату часто невозможно прийти, просто устранив нарушающие указанное равновесие внешние воздействия. Во-первых, некоторые воздействия вообще могут оказаться неустранимыми либо по своей природе, либо по возможностям организма; во-вторых, их может быть значительное число и они могут выступать в неявном виде; и, наконец, в-третьих, за время от начала воздействия до его устранения равновесие уже может быть существенным образом нарушено, так что одно лишь его устранение проблему не решает. Поэтому во всех этих случаях необходима не ликвидация (или не только ликвидация) воздействий, но их компенсация, т.е. восстановление равновесного состояния системы воздействием посредством факторов, в общем случае отличных от тех, которые вызвали нарушение равновесия. Необходимость в компенсации воспринимается системой как необходимость в этих факторах (или их носителях), т.е. как потребность. Так что, говоря словами Гераклита, «природа потребностей суть не только выражение внутренних, естественных процессов, она в то же время и результат воздействия на живой организм среды существования»6.
Понятно, что для успешного решения задачи при прочих равных условиях компенсирующее (регулирующее) воздействие должно быть тем большим, чем больше отклонение, вызванное вредным (возмущающим) воздействием. В технических системах такой характер организации регулирующих воздействий называется регулированием по пропорциональному закону. Это наиболее простой, но не очень эффективный закон регулирования. Чтобы избежать значительных отклонений, и в то же время не допустить (вледствие излишнего воздействия) отклонения регулируемого параметра в противоположную сторону, применяют другие, более сложные законы регулирования, в частности, такую организацию регулирующего воздействия, при которой величина последнего зависит не только от величины отклонения параметра, но и от скорости и направления его изменения (пропорционально-дифференциальный закон регулирования). Это позволяет усилить регулирующее воздействие до того, как отклонение регулируемого параметра достигнет значительной величины, и прекратить или уменьшить его (чтобы избежать перерегулирования) еще до полной ликвидации отклонения. Аналогичный характер регулирования имеет место и при поддержании гомеостазиса организма.
Возникшее нарушение вызывает ощущение неудовлетворенности – тем более сильное, чем больше данное нарушение. Ощущение это негативное, что вызывает стремление от него избавиться, а еще лучше приобрести позитивные ощущения. Но устранение возникшего нарушения еще не достаточно для получения ощущений позитивных. Последние являются следствием самого процесса удовлетворения возникшей потребности. Это прекрасно выразил Джордано Бруно: «…Что дает нам наслажнение, так это движение от одного состояния к другому. Состояние любовного пыла мучит нас, состяние удовлетворенной страсти угнетает, но что дарит нам удовольствие, так это переход от одного состояния в другое. Ни в одном настоящем положении нельзя было бы найти наслаждения, если бы нам прошлое не стало в тяжесть»7. Удовлетворение потребности в результате вызывает чувства удовлетворенности (в чем-то аналогичное чувству от сброшенного груза) и наслаждения. При этом удовлетворенность определяется степенью, а наслаждение – скоростью удовлетворения потребности. Полная компенсация приводит к полной удовлетворенности (своеобразной расслабленности), но наслаждение исчезает. В процессе удовлетворения потребности его скорость, а следовательно, наслаждение, не остается постоянным. Скорость удовлетворения определяется прежде всего двумя факторами: движущей силой, т.е. степенью неудовлетворенности потребности, и сопротивлением воздействию. Последнее, в свою очередь, зависит от величины компенсирующего фактора и тех препятствий, которые ему приходится преодолевать.
Удовлетворенность – не только следствие равновесного состяния самого по себе, она определяется величиной компенсированной потребности, являясь результатом пережитого наслаждения, а потому простое уменьшение потребности к ней не приводит, как не доставляет удовольствия пропавший аппетит, даже если это избавляет от гнета чувства голода. Рассматривая аналогичные вопросы Э.Бёрк писал: «чувство, проистекающее из прекращения или уменьшения страдания, не имеет достаточного сходства с положительным наслаждением, чтобы мы могли признать в нем ту же природу и обозначить его тем же наименованием»8. Повидимому, такой характер чувства удовольствия связан с его регулятивной функцией. В случае уменьшения потребности нет необходимости корректировать действия, как это необходимо при ее удовлетворении (компенсации).
Что же лежит в основе потребностей человека? Как мы видели, в свое время рассматривая те силы, которые движут поступками человека, Н.Г.Чернышевский приходил к заключению, что «эгоизм – единственное побуждение, управляющее действиями каждого». «Но вот именно в том и состояло затруднение, что гипотеза о бескорыстном стремлении человека служить чужому благу, … повидимому, подтверждалась довольно многочисленными фактами бескорыстия, самопожертвования и т.д.». Однако это его не смущало: «Камень падает на землю, пар летит вверх … оба эти движения, происходящие по противоположным направлениям … происходят от одной причины, по одному закону»; «надобно бывает только всмотреться попристальнее в поступок или чувство, представляющееся бескорыстным, и мы увидим, что в основе их все-таки лежит та же мысль о собственной личной пользе, личном удовольствии, личном благе, лежит чувство, называемое эгоизмом». Другими словами, в основе данных представлений лежал своеобразный монизм: «В побуждениях человека, как и во всех сторонах его жизни, нет двух различных натур, двух основных законов, различных или противоположных между собою, и все разновидности явлений в сфере человеческих побуждений к действованию, как и во всей человеческой жизни, происходит из одной и той же натуры, по одному и тому же закону»9. Однако в том-то и дело, что двойственная природа человека накладывает отпечаток как на его потребности, так и на характер их удовлетворения, и не позволяет в определении исходных оснований потребностей базироваться на одном и том же «законе».
Исследование любого явления предполагает рассмотрение не только его функциональных, но и структурных особенностей. Это относится и к потребностям. Потребности человека чрезвычайно разнообразны и не менее изменчивы. Однако это, конечно, не значит, что нельзя найти такие их черты, которые позволили бы определенным образом свести в систему и классифицировать эти потребности.
Попыток классифицировать потребности человека существует чрезвычайно много и их рассмотрение потребовало бы специального исследования10. Однако все они, как правило, имеют «внешний» характер, когда классификации подлежит тот или иной достаточно произвольный их набор, который пытаются сгруппировать по некоторым не менее произвольно определенным разделам. Поэтому «для существующих классификаций характерны произвольность и отсутствие четко сформулированного принципа их построения. Стоит ли удивляться, что каждый автор называет свое число потребностей: американский психолог А.Маслоу – 15, его соотечественник Мак-Дугалл – 18, французы Меррей и Пьерон – 20. Польский психолог Обуховский насчитал свыше 120 классификаций потребностей человека, ни одна из которых не стала сколько-нибудь общепринятой»11.
Так что группирование существующих потребностей, как правило, имеет эмпирический и достаточно произвольный характер. Вот, например, в американском учебнике «Экономика потребления» потребности человека группируются следующим образом. Основная часть потребностей – это «индивидуальные физиологические потребности и врожденные инстинкты, которые принимают форму нужды в: а) пище, б) защите от внешней среды (кров, одежда), в) половых связях и семье и г) общественной деятельности. Эта часть потребностей удовлетворяется и в “примитивных обществах”. Другая часть потребностей, созданных общественным или групповым развитием, состоит из: а) желаний, порождаемых обычаями; б) желания выделиться среди окружающих накопленным богатством; в) желаний, порождаемых модой, и г) желаний, внушенных предпринимателями, т.е. рекламой и технологическими успехами»12. Здесь, как видим, все же делается попытка выделить коренные, «естественные» потребности человека и те, которые характерны для определенного общества. С самой идеей такого разделения нельзя не согласиться, однако характер разделения вызывает существенные возражения. Здесь мы имеем дело с «открытой системой», т.е. перечень конкретных потребностей достаточно произвольный, и может быть продолжен без какого-либо ограничения. Не говоря уж о том, что здесь в потребностях коренных учитываются преимущественно нужды организма человека, следует отметить, что, как мы постараемся показать ниже, речь должна идти не о появлении в процессе исторического развития новых потребностей, отличных от «естественных» или надстроенных над ними, а о проявлении последних в разных условиях в различных, иногда даже диаметрально противоположных формах, но неизменных по своей сути, как неизменна сама биологическая и социальная сущность человека как такового независимо от условий его существования (противоположная точка зрения приводит к совсем уж абсурдному выводу, что в наше время «сама физиологическая природа человека имеет иные запросы, чем естественные потребности первобытного человека»13).
В марксистской литературе принято первичное деление потребностей на материальные и духовные. Несмотря на множество вариаций, сущность этого деления в принципе почти не меняется. Поэтому ограничимся его представлением в Большой советской энциклопедии, из которого видно, что «у человека … потребности подразделяются на тесно связанные между собой материальные и духовные. Исторически более ранними являются материальные потребности людей: потребности в пище, одежде, жилище и т.п. Материальные потребности людей имеют не только биологический, но и прежде всего социально-исторический характер; они существенным образом отличаются как по способу их удовлетворения, так и по своей осознанности от аналогичных потребностей у животных14. У человека в ходе его общественно-исторического развития «сложились и усовершенствовались не только материальные, но и духовные потребности: потребность в эстетическом нслаждении, например, в музыке, живописи, художественной литературе и т.п.; моральные потребности, например в заботе о человеке, взаимопомощи, дружбе и т.п.»15. Другими словами, здесь мы также имеем некоторый «открытый», ничем не ограниченный набор отдельных потребностей, которые пытаются возможно полнее перечислить. Ну, а чем же все-таки различаются между собой материальные и духовные потребности?
Может ли здесь служить критерием предметность удовлетворения потребности? Иногда утверждают, что «потребности человека опосредованы процессом его воспитания в широком смысле, т.е. приобщением к миру человеческой культуры, представленной как предметно (материальные потребности), так и функционально (духовные потребности)»16. Но и для поддержания биологического существования индивида, и для развития общественного человека используются материальные предметы. Чем в этом смысле отличается, скажем, украшение от одежды? Ведь любой предмет используется человеком ради его функции, хотя функции при этом могут весьма существенно различаться. Поэтому «все потребности характеризуются прежде всего предметным содержанием, т.е. направленностью на определенный объект»17, и «удовлетворение потребностей человека есть в сущности процесс присвоения им определяемой общественным развитием формы деятельности, представленной предметно»18. Ясно, что это отличие нельзя искать также в необходимости (или отсутствии такой необходимости) значительных затрат на удовлетворение потребности. Нередки случаи, когда как со стороны общества, так и со стороны индивида материальные затраты на удовлетворение духовных потребностей существенно превышают таковые на удовлетворение потребностей материальных. Более того, «чем выше развиты духовные потребности, тем больше материальных затрат должно иметь общество для их удовлетворения»19.
Неубедительность деления потребностей на материальные и духовные нередко вызывала в марксистской литературе попытки найти другие основания для классификации. Так, например, отмечалось, что «деление потребностей на материальные и культурные (?) и в терминологическом отношении нельзя считать точным», поскольку «всякая “материальная” потребность (т.е. потребность в материальных благах) заключает в себе существенную долю культурных запросов», а «духовные потребности удовлетворяются с помощью вещей», и со ссылкой на Маркса предлагалось различать «физические, духовные и социальные потребности»20. Хотя в таком разделении и есть рациональное зерно, полностью с ним согласиться нельзя. Если «физические» потребности определяют условия физического существования человека – даже кроме непосредственного «обмена веществ» он должен «отдыхать, спать, … удовлетворять другие физические потребности, поддерживать чистоту, одеваться и т.д.», то и духовные, и социальные потребности уже отражают его общественное бытие, и различие между ними – в том числе то, входят они в сферу индивидуального потребления или нет – с этой точки зрения несущественно. Так что о различии «материальных» и «духовных» потребностей человека никто пока ничего вразумительного не сказал: ведь и то, и другое – психологический, «духовный» феномен, а затраты на их удовлетворение всегда «материальны». Дело раньше или позже сводится к перечислению двух достаточно произвольных наборов потребностей.
Это обстоятельство иногда заставляет приходить к выводу, что вообще «повидимому, перечисление и классификация всех потребностей человека – дело совершенно бесплодное, потому что исходные (первичные) потребности (коль скоро их наличие признается) трансформируются во множество производных и производных от производных, которые швейцарский психолог Курт Левин назвал квазипотребностями. Например, биологическая потребность сохранения определенной температуры тела порождает потребность в одежде; та в свою очередь формирует потребность в производстве материалов для изготовления этой одежды, в создании соответствующей технологии, в организации производства и т.п. Значит, классифицируя потребности, мы должны ограничиться только теми из них, которые не выводятся друг из друга и не заменяют друг друга, т.е. любая степень удовлетворения одной группы потребностей не означает автоматического удовлетворения других»21. То, что попытки как-то организовать в некое структурное целое достаточно произвольно выбранный набор потребностей, не могут дать положительного результата, совершенно справедливо. Это же относится и к положению о существовании разных уровней потребностей. Но в то же время данный отрывок достаточно явно демонстрирует саму суть неверного подхода к рассмотрению потребностей.
Во-первых, здесь достаточно явственно смешиваются два различных явления – нужда человека в чем-то как объективная необходимость организма, и его потребность, как отражающее данную нужду субъективное состояние. Организм действительно нуждается в поддержании температурного гомеостазиса, а вот потребности человека в «сохранении определенной температуры тела» не существует – обычно эту температуру человек вообще не ощущает как таковую. В виде потребности, отражающей эту необходимость, он ощущает необходимость в определенных внешних условиях, что заставляет его избегать повышения сверх допустимого подвода или отвода тепла, т.е. жары или холода как неких комплексных показателей нарушения теплообмена со средой, и стремиться к комфортным условиям. А потому, во-вторых, «потребность в соответствующей технологии» на самом деле не является не только «исходной», но и вообще потребностью конкретного человека. И если какой-то человек стремится все же создавать эту самую «соответствующую технологию» производства одежды, то можно с полной уверенностью утверждать, что уж для него-то эта «потребность» никоим образом не является производной от потребности сохранить определенную температуру своего тела – он, может быть, и одежды, производимой по этой технологии, носить не собирается. И все же его действия по достижению данной цели, как и любые другие действия, несомненно будут направляться именно его собственными потребностями, но уже совершенно другими, имеющими к поддержанию температуры его тела, как, впрочем, и вообще к защите от холода кого бы то ни было как нельзя более отдаленное отношение. Так что «потребность в соответствующей технологии», отражающая определенную общественную необходимость, не существуют непосредственно в виде соответствующего психологического феномена, только опосредованно отражаясь в потребностях отдельного человека, поскольку «потребности социальных групп и общества в целом, представляя собой особые “системы”, тем не менее не существуют вне потребностей конкретных людей»22.
Поэтому не дает положительных результатов и классификация потребностей, в которой к их объектам добавляется еще и субъект, т.е. разделяются потребности личностные, групповые, общественные – с одной стороны, материальные, нематериальные (духовные), в деятельности – с другой23. В этом случае исходят из того, что «основу потребности составляет определенное объективное отношение между субъектом (будь то биологический организм, личность, социальная группа или общество в целом) и средой, образующей условия его существования, – такое отношение, которое возбуждает активность субъекта, направленную на среду или на самого себя»24. Вроде бы все правильно, но игнорирование вопроса целостности как выхолащивает понятие субъекта потребности (вводится «коллективный» субъект: группа, общество), так и лишает определенности цель активности субъекта. В том-то и дело, что субъектом человеческих потребностей может быть только личность, отражающая нужды индивида, группы людей или общества, противостоящая в этом качестве окружающей среде в стремлении к сохранению индивида или общества как соответствующих целостностей.
Представление о возможности иного субъекта потребностей, кроме индивида, достаточно широко распространено. И тогда «субъектом потребностей выступают: отдельная личность, та или иная человеческая общность (семья, производственный коллектив, класс, нация и т.д.), исторически определенное общество. В результате можно говорить о личных, групповых и общественных потребностях»25. Рядоположенными оказываются «потребности индивида и потребности общества, к которому он принадлежит». При этом, правда, признается, что «общественные потребности независимо от того, каков их субъективный носитель (общество, рабочий коллектив, иная человеческая общность), всегда находят свое непосредственное выражение в потребностях отдельных личностей, образующих этот коллективный субъект»26, но тут же добавляется: «Иначе – коллективные потребности только тогда могут быть удовлетворены, когда они преломляются (!) через личные потребности, т.е. когда необходимость их удовлетворения осознается если не всеми, то по крайней мере большинством членов данной общности, и они совпадают (!) с личностными потребностями индивидов, составляющих это большинство»27. Но то, что нужно коллективу, не «преломляется», а выражается в потребностях индивида; «преломляться» же попросту нечему, поскольку «коллективных потребностей» какой бы то ни было «человеческой общности» как качественно определенного явления попросту не существует. А предположение о его наличии неизбежно вытекает из исходных положений, согласно которым потребность – «это нужда, надобность субъекта в чем-либо»28. Здесь опять же происходит онтологизация потребностей, т.е. отождествляется «нужда» (объективная необходимость «в чем-либо» некоторого «субъекта») с «потребностью» (психическим отражением этой необходимости субъектом, которым, следовательно, может быть только индивид).
Действия человека действительно направляются огромным количеством потребностей, внешне вроде бы мало связанных между собой, а иногда вообще противоречащих друг другу. Тем не менее нередко признают, что сфера человеческих потребностей обладает внутренним единством29. Вообще единство человека как личности настоятельно требует рассматривать имеющиеся потребности не как случайный набор, а как определенную систему, обладающую внутренней структурой с органически необходимыми элементами30. Без внутренне целостной системы здесь, как, впрочем, и в других областях науки, не обойтись: «Философствование без системы не может иметь в себе ничего научного; помимо того, что такое философствование само по себе выражает скорее субъективное умонастроение, оно еще и случайно по своему содержанию. Всякое содержание получает оправдание лишь как момент целого, вне которого оно есть необоснованное предположение, или субъективная уверенность»31. В соответствии с изложенными выше соображениями первым структурообразующим фактором системы потребностей следует считать их направленность. Другими словами, классификация потребностей должна основываться не на том или ином внешнем упорядочивании того или иного их достаточно произвольного эмпирического набора, а на различении тех необходимых функций, которые ими выполняются.
Если человек, представляя собой биосоциальное существо, действует одновременно и как целостная система, и как элемент другой целостной системы более высокого порядка, причем последняя только через него и осуществляет свою активность, то и потребности человека, определяющие его действия, должны отражать соответственно нужды обеих систем. Это дает нам право первоначально разделить потребности человека на две большие группы: «биологические», обеспечивающие направленность действий на самосохранение, и «социальные», которые формируют общественно-значимые действия, направленные на сохранение и развитие общества как целого (еще раз подчеркнем, что речь идет именно об отдельном человеке, об индивиде, в «социальных» потребностях которого отражаются также нужды общества, а не об обществе – или коллективе – как субъекте этих потребностей).
Такого рода тенденции в классификации потребностей также неоднократно возникали в истории философской и естественнонаучной мысли. Так, Эдмун Бёрк считал, что «большинство понятий, способных произвести сильное впечатление, будь то просто страдание или наслаждение или их видоизменения, – может быть довольно точно сведено к следующим двум разделам: самосохранения и общественности»32. С другой стороны, на основе изучения условнорефлекторной деятельности И.П.Павлов приходит к выводу, что «инстинктивные рефлексы подвергаются в настоящее время лишь грубому подразделению на половые, пищевые и самосохранения… Следовало бы делить их на индивидуальные, видовые и общественные и уж эти группы разбивать на более мелкие»33. Повидимому, именно этим (дедуктивным) подходом к классификации потребностей в конечном счете и следует руководствоваться.
Указанное деление является наиболее общим. В таком виде потребности могут быть выделены в некоторый абстрактный первый уровень предполагаемой общей системы потребностей. Наличие этих двух подсистем потребностей и соответствующих им двух потенциальных линий поведения, как уже говорилось выше, обусловливает появление сознания. Вслед за Павловым определим их соответственно как индивидуальные потребности (обеспечивающие функцию самосохранения, гомеостазиса индивида как биологического организма) и общественные потребности (обеспечивающие целостность общественного организма, его сохранение и развитие). При этом последние не есть насилие, совершаемое обществом над человеком, не есть «неестественная» надстройка над «естественными» индивидуальными потребностями. Это выражение столь же органичных, отражающих самую его сущность, собственных (хотя и выражающих нужды общества) потребностей человека.
Второй уровень в системе потребностей представляет собой их частичную конкретизацию, которая, однако, находится еще на довольно высоком уровне абстракции, достаточном, чтобы потребности этого уровня также не ощущались человеком непосредственно (т.е. второй уровень представляет собой по отношению к первому то же, что и особенное по отношению ко всеобщему). Это некоторый промежуточный уровень. На втором уровне индивидуальные потребности представляются потребностями, исчерпывающе отражающими объективные нужды биологического организма: а) потребностью в регенерации, постоянном самовозобновлении организма человека, регулирующей собственно потребление (точнее, обмен веществ); б) потребностью в комфортных условиях, устанавливающей оптимальное взаимодействие организма с непосредственной обстановкой в зависимости от параметров среды; в) потребностью в физической и психической активности, в деятельности, в умеренной физической и психической нагрузке, поддерживающей тонус и жизнеспособность организма как динамической системы: «в природе человеческого духа заложена потребность быть деятельным самому и побуждать к деятельности свое тело»34.
Общественные потребности могут быть первоначально конкретизированы также в соответствии с условиями, в своей совокупности обеспечивающими сохранение общественного «сверхорганизма» через деятельность индивида. А успешная деятельность индивида как элемента общественного организма в качестве необходимых и достаточных предполагает выполнение трех условий: 1) наличие материальных условий существования общества; 2) контакт с обществом; 3) регулирование обществом поведения индивида. Соответственно этим трем условиям в качестве обеспечивающих их выполнение определяются и три первичных подразделения общественных потребностей человека: а) «идеальная» потребность в общественно-необходимых объектах; б) потребность в общении; в) потребность в общественном самоутверждении. Эти потребности представляют как бы конкретизацию потребностей первого уровня.
Для полноты картины следует учесть наличие у человека еще одной потребности, а именно половой. У всех высших животных половая потребность по ее функции является внешней по отношению к организму; она не играет никакой положительной роли в сохранении данного организма и «навязана» ему видом, непосредственно служит сохранению и развитию последнего (тот самый отмечавшийся И.П.Павловым «видовой рефлекс»). Это в определенном смысле относится и к человеку – как биологическому организму ему данная потребность «не нужна». И для общества как организма она также не связана с непосредственным обеспечением его устойчивости в данный момент, но является важной для продолжения его во времени и обслуживает его не как организм, а как часть вида, как популяцию. Собственно говоря, по своей сути это также потребность первого уровня, но как и у животных, половая потребность у человека носит в известном смысле факультативный характер и определяет его действия только в очень ограниченном объеме; это единственная из фундаментальных потребностей человека, неудовлетворение которой не приводит к потере им как индивидом качественной определенности (кстати, для снятия в этом случае психической напряженности природа «предусмотрела» механизмы ее ингибирования и «сброса»).
Второй уровень, включающий (если к нему условно причислить половую потребность) семь указанных основных потребностей, представляет собой их исчерпывающий набор, однако в этом качестве он конкретизирует только цели, но не средства их достижения, которые как раз и являются объектом стремлений, вызываемых уже непосредственными потребностями третьего уровня. Другими словами, третий уровень системы потребностей представляет собой конкретизацию потребностей второго уровня до уровня их предметности (единичности). Только здесь уже можно говорить о собственно потребностях. В отличие от первых двух уровней, отражающих сущностные характеристики человека и поэтому имеющих вполне определенный состав, третий уровень, конкретно их воплощающий, не обладает такой определенностью, представляя собой неограниченную, «открытую» систему. Он относится ко второму как форма к содержанию, как средство к цели. Его структура изменчива и определяется конкретными историческими условиями. Особенности опыта каждого конкретного человека приводят к превращению средства в цель, т.е. конкретный способ удовлетворения той или иной потребности превращается в самостоятельную потребность и как бы утрачивает функциональную связь с первичным стимулом35.
Таким образом, потребности высших уровней не удовлетворяются непосредственно, но только через удовлетворение потребностей третьего уровня. Имея непосредственный характер и подчиняясь цели удовлетворения, потребности этого уровня выражаются как потребности в вещах и действиях. Однако «каждая такая вещь есть совокупность многих свойств и поэтому может быть полезна различными своими сторонами»36. В силу того, что, обладая конкретной многосторонностью («каждая вещь обладает многочисленными свойствами и потому пригодна для различных способов использования»37), одни и те же вещи и действия могут удовлетворять различные потребности (второго уровня), на третьем уровне происходит пересечение этих потребностей на одних и тех же объектах (что, между прочим, приводит к маскированию их сущности и затрудняет классификацию). Вещи и действия в отношении потребностей приобретают полифункциональный характер – они практически никогда не могут быть связаны исключительно с удовлетворением какой-то одной потребности, разве что по ведущей, определяющей функции (и то только в определенных условиях). Например, одежда одновременно удовлетворяет (может удовлетворять) и потребности в комфортных условиях, и, через характеристику владельца, – потребность в самоутверждении. Последняя удовлетворяется также в общественно-полезном труде (вот здесь-то для конкретного человека иногда и «прописана» упоминавшаяся выше «потребность в технологии одежды»); труд же, являясь необходимым условием существования общества, удовлетворяет потребность в сохранении общества; он же в виде физического труда удовлетворяет потребность в нагрузке. Половой акт удовлетворяет половую потребность (представляющую потребность в определенной функции собственного организма) через контакт с индивидом другого пола, одновременно удовлетворяя потребность в другом человеке вообще, потребность в общении, а через выбор конкретного партнера – потребность в самоутверждении. И таких примеров можно привести сколько угодно.
С другой стороны, потребности второго уровня вовсе не жестко привязаны к конкретным объектам их удовлетворения. Если сами они не могут не удовлетворяться без потери человеком своей качественной определенности, то средства их удовлетворения в значительной степени определяются наличными условиями общественного бытия человека. Если указанные выше шесть потребностей второго уровня носят абсолютный характер, то непосредственные потребности в конкретных объектах, в которых они выражаются, – характер исключительно ситуативный. Это относится как к качественной, так и к количественной стороне удовлетворения потребностей. Следовательно, «наши потребности и наслаждения порождаются обществом; поэтому мы прилагаем к ним общественную мерку, а не измеряем их предметами, служащими для их удовлетворения»38. В связи с полифункциональностью объектов по отношению к потребностям, они редко осознаются как объекты определенных потребностей в так сказать чистом виде. Поэтому обычно в зависимости от конкретных условий потребности соединяются в некий конгломерат и в таком интегративном виде выступают в качестве интересов.
Из-за пересечения разных потребностей на одних и тех же объектах, потребности третьего уровня могут быть только весьма условно, по преимущественной функции, поставлены в непосредственную связь с потребностями второго уровня. Но даже эта определяющая функция не является неизменной, и в свою очередь зависит от конкретных исторических условий. Если любое действие есть результат потребности, то и оно, оказывая то или иное воздействие на объект потребности для ее удовлетворения, тем самым не может не сказываться также на других потребностях, связанных с данным объектом вследствие его разносторонности, удовлетворяя или обостряя их. В зависимости от условий на первый план может выдвигаться одна из ранее второстепенных сторон.
То обстоятельство, что удовлетворение одной потребности, в силу разнообразия конкретных свойств объекта, удовлетворяет (или усугубляет) одновременно и другие потребности, в том числе и относящиеся к различным их типам, является, в частности, причиной того, что индивидуальные («физические», «биологические», «материальные») потребности человека отличаются от аналогичных потребностей у животных. Это отличие заключается не в самих потребностях, а в способе их удовлетворения. Человек точно так же нуждается в пище, как и животное, но он не может удовлетворять голод так, как животное, ибо он при этом не может не учитывать другие аспекты этого процесса, связанные с другими его потребностями, например, нравственные или эстетические моменты. «Голод есть голод, однако голод, который утоляется вареным мясом, поедаемым с помощью ножа и вилки, это иной голод, чем тот, при котором проглатывается сырое мясо»39. У общественного человека форма удовлетворения потребности, зависящая от необходимости удовлетворения также второстепенных (но только по отношению к данному объекту) потребностей, независимо от сохраняющейся «биологической» сущности, принимает человеческий вид, присущий удовлетворению любой потребности до тех пор, пока человек остается человеком, – в любой области «снижение поведения человека до уровня животного связано с распадом социально обусловленных импульсов»40. А поскольку речь здесь также идет о собственных потребностях человека, то не только сами общественные потребности, но и их влияние на индивидуальные не есть насилие, совершаемое обществом над индивидом, не есть «неестественная» надстройка над «естественной» потребностью (в данном случае в пище), а выражение столь же «естественных», хотя и других его потребностей. Именно поэтому форма удовлетворения потребности, зависящая от необходимости удовлетворения также второстепенных (но только по отношению к ней!) других потребностей, независимо от сохраняющейся «биологической» сущности индивидуальных потребностей, принимает «человеческий» вид.
Регуляторная роль потребностей основывается на том, что их удовлетворение приносит удовольствие и наслаждение, к достижению которых человек и стремится. Но для него не менее важно избежать усугубления потребностей, их фрустрации, связанных с так сказать «отрицательными воздействиями» среды. В результате у человека как и у животного существует «движение ко всему, захватывание всего, что сохраняет, обеспечивает целостность животного организма, уравновешивает его с окружающей средой, – положительное движение, положительная реакция; и наоборот, движение от всего, отбрасывание, выбрасывание всего, что мешает, угрожает жизненному процессу, что нарушало бы уравновешивание организма со средой, – отрицательная реакция, отрицательное движение»41. Здесь показатели нарушения равновесного состояния – неудовольствие и боль. Эти ощущения касаются прежде всего индивидуальных, преимущественно параметрических потребностей и являются реакцией на механические, тепловые и другие воздействия. Что же касается потребностей общественных, то аналогом здесь выступает «духовная боль» – стыд.
«Отрицательные» воздействия в известном смысле аналогичны «положительным», взятым с обратным знаком. Однако здесь есть и существенное различие. «Положительное» воздействие, удовлетворяющее имеющуюся потребность, по преимуществу организуется самым субъектом потребности и по его величине и интенсивности этим субъектом контролируется в самом процессе ее удовлетворения. «Отрицательное» воздействие по преимуществу является результатом внешних влияний, которые субъект сам не организует, а может только попытаться их предотвратить или уменьшить. Следовательно, необходим механизм не только предвидения, но и упреждающего побуждения к действию, своего рода «предварительная отрицательная потребность», понуждающая индивида предпринять соответствующие меры для предотвращения такого рода воздействий. Такими механизмами для индивидуальных и общественных потребностей являются соответственно страх и совесть. Эти механизмы, как и воля, осуществляют своего рода «внутреннее насилие». Дело в том, что предотвращение предвидимых (и иногда достаточно отдаленных) «отрицательных» воздействий достаточно часто требует немедленного отказа от удовлетворения имеющихся ближайших потребностей.
Таким образом, чтобы дальше иметь возможность адекватного анализа функционирования индивида как биологического и общественного существа, мы в основных чертах рассмотрели характер его потребностей, на удовлетворение которых направляется (осознано или нет) любое действие человека, – хотя «люди привыкли объяснять свои действия из мышления, вместо того, чтобы объяснять их из своих потребностей»42. Удовлетворение потребностей осуществляется предметно, посредством действий и вещей (что, кстати, также обычно влияет на результаты попыток классификации потребностей). С целью удовлетворения потребности человек направляет свои действия на природные объекты, на предметы, созданные людьми, на другого человека и на самого себя. Все эти объекты имеют бесконечное число сторон и качеств, вследствие чего непосредственно усмотреть их связь с конкретными потребностями индивида как биологического и общественного существа и человеку, и обществу удается далеко не всегда. Поэтому для ориентации в мире объектов с целью удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей у человека вырабатывается определенное отношение (сложнейший «коктейль» множества потребностей) к этим «комплексным» объектам, которое в значительной степени и определяет человеческую деятельность.
2.4. «Социальные» эмоции
Итак, сознание человека представляет собой результат взаимодействия двух рядов его отношения к действительности. Каждый из рядов («биологический» и «социальный») включают составляющие, которые основываются соответственно на переработке семантической и аксиологической информации. В «социальный» ряд при этом входят две составляющие: отношение рационально-логическое, определяющее общественную значимость явлений и дающие основу для формирования программы связанных с ним действий, и отношение эмоциональное, «социальные» эмоции, на основе обобщенной оценки общественной значимости явления формирующие стимул к общественнî-значимому поведению, к действиям, в конечном счете обеспечивающем сохранение целостности и развитие общественного организма.
При исследовании рационального и эмоционального мы имеем дело со своеобразным «принципом дополнительности». Рационально-логическая характеристика, и характеристика посредством «социальных» эмоций, будучи различными по функции, исключают, но в то же время, являясь характеристиками одного и того же объекта, предполагают, обуславливают и «дополняют» друг друга. Они находятся в разных плоскостях нашего отношения к миру, и плоскости эти не совпадают, но пересекаются, и на линии их пересечения лежит действие, носящее общественно-значимый характер (так же, как и «вообще» действие лежит на линии пересечения результатов обработки семантической и аксиологической составляющих всей полученной информации).
Формирование программы поведения производится в результате рационально-логического мышления: выкладок, рассуждений, доказательств. Но полученные данные сами по себе не приводят к действию. Они представляют собой только результат идеального «проигрывания» вариантов, доведение их до логических следствий, которые становятся программой действия, а иногда составляют часть оснований для эмоциональной оценки. Последняя же является причиной импульса к действию, направленному по одной из программ в сторону «эмоционального максимума». Стендаль в свое время формулировал это так: «Человек не волен не делать того, что доставляет ему большее наслаждение чем все другие возможные действия»1. Это же касается и эмоций со знаком «минус». И если человек поступает против веления своих эмоций, то только и исключительно под влиянием еще более сильных (даже пусть менее ярко выраженных) эмоций.
Рационально-логическое отношение наиболее полное и последовательное выражение находит в научном (теоретическом) отношении, хотя, конечно, отнюдь к нему не сводится. В научном отношении мы имеем рационально-логическое отношение в наиболее развитой форме, когда логические операции по установлению связей между явлениями действительности имеют четкую определенность (и сами по себе являются предметом исследования). В так называемом обыденном сознании рационально-логическое отношение базируется на опытным путем устанавливаемых и обычно не осознаваемых критериях («здравый смысл»). Неосознанно-диалектическом видом мышления, помогающим как бы непосредственно усматривать логические связи, является интуиция.
Представляется, что для характеристики переработки семантической информации с изложенной точки зрения фактически достаточно указать на ее роль в обеспечении функционирования общественного организма и индивида. Этим можно ограничиться, поскольку проблемы рационально-логической переработки информации, в том числе и в области науки, сегодня весьма подробно разработаны, а результатам этих разработок излагаемая здесь точка зрения в главном не противоречит. Несколько иначе обстоит дело в области переработки информации аксиологической.
Если мы согласимся, что существование общественного организма обеспечивается кроме рационально-логического отношения еще и наличием у человека особых «социальных» эмоций, то необходимо выяснить, что собой представляют эти последние. Человек обладает большим разнообразием эмоциональных реакций, связанных с его общественным бытием, аналогичных которым нет у животных. Можно предположить одно из двух: либо существует несколько несводимых друг к другу видов «социальных» эмоций, либо имеется только один их основной вид, по-разному проявляющийся в различных случаях. Нам представляется, что второй ответ более полно отражает действительное положение вещей.
Если такой основной вид «социальных» эмоций существует, то он должен обладать двумя главными свойствами. Во-первых, эти эмоции должны быть универсальными, т.е. участвовать в выработке отношения человека ко всем без исключения явлениям действительности, и к природной, и к социальной среде во всех их проявлениях. Во-вторых, отражая саму сущность человека, они должны быть в известном смысле внеисторическими, т.е. иметь место на любом этапе общественного развития, в том числе и в любой общественной формации. По нашему мнению, такими свойствами обладает только один вид «социальных» эмоций – эмоции эстетические, в которых реализуется особое эстетическое отношение человека к среде; все же остальные виды «социальных» эмоций являются производными от них.
Известно, что при любой интерпретации системы ценностей эстетическое является ее составной частью. В истории философии именно с эстетическим отношением человека часто сопоставляется научный подход к действительности. Еще Кант считал логическое и эстетическое суждения различными по своей природе. Он утверждал, что «суждение вкуса не есть познавательное суждение; значит оно не логическое, а эстетическое»2. При этом многие философы представляли эстетические эмоции как воплощающие в различных модификациях функцию побуждения к действию. Так, например, рассматривая соотношение разума и вкуса, Д.Юм писал: «Первый дает знание истины и лжи; второй дает понимание красоты и безобразия, греха и добродетели. Один рассматривает предметы, как они есть на самом деле в природе, ничего не преувеличивая и не преуменьшая; другой же обладает творческой способностью и украшает или пачкает все естественные предметы теми или иными красками, заимствованными из внутреннего чувства, создавая в известной мере новые творения. Разум, будучи холодным и незаинтересованным, не дает повода к действию… Вкус, поскольку он приносит радость или страдание и тем самым составляет счастье или несчастье, становится причиной действия»3. Если бы не то, что эстетическое отношение человека объясняется внутренними, а не внешними причинами, можно было бы считать, что здесь весьма точно выражена излагаемая точка зрения на отношение рационального и эмоционального (эстетического). Не углубляясь дальше в то, как в истории философии рассматривалась взаимосвязь этих категорий, перейдем к непосредственному рассмотрению эстетического отношения.
Эстетическое отношение присутствует практически в любом акте оценки человеком природных и искусственных предметов и явлений, явлений общественной жизни и самого человека. Это отношение проявляется во всех видах деятельности, в том числе и в процессе создания всех вещей, формируемых человеком не только в соответствии с их непосредственной утилитарной функцией, но и, по известному выражению Маркса, «по законам красоты». Существует особая область человеческой деятельности, где красота является непосредственным атрибутом – искусство. Столь широкое пронизывание эстетическим отношением человеческой жизни неизбежно приводит к предположению о его исключительной важности, о выполнении им каких-то весьма существенных общественно-необходимых функций.
Но эти функции отнюдь не очевидны. Вслед за Кантом многие философы вообще отстаивали тезис о «незаинтересованности» эстетического отношения. Однако личная незаинтересованность субъекта эстетического отношения, бескорыстность индивида в непосредственном акте этого отношения отнюдь не противоречит идее его общественной полезности. Приведем в этой связи слова Н.Г.Чернышевского: «Эстетичекое отношение всегда бывает бескорыстно, только в том смысле, что я любуюсь, например, на чужую ниву, не думая о том, что не мне она принадлежит, что не в мой именно карман пойдут деньги, вырученные за хлеб, на ней растущий, но я не могу не думать: “слава богу, чудный будет урожай; чудно поправятся мужички от нынешней жатвы! Боже мой, сколько человеческого счастия, сколько радости людям зреет на этом поле”. И надобно сказать, что эта мысль, может быть смутно, неясно для меня самого действующая на меня, более всего и настраивает меня к эстетическому наслаждению нивой»4.
Эстетическое отношение, которое наряду с рационально-логическим мышлением является высшей, сугубо человеческой формой отражения, позволяет эмоционально оценивать тот или иной предмет, явление, ситуацию с точки зрения их общественного значения. Более того, оно обуславливает отношение каждого отдельного человека к общественно-значимому в эмоциональном плане столь же личностно, как и «биологически», индивидуально значимому. Именно такой характер эстетического отношения и определяет его роль в сохранении «сверхорганизма», когда полезное для общества воспринимается как нечто доставляющее наслаждение индивиду, благодаря чему «индивид может совершенно бескорыстно наслаждаться тем, что очень полезно роду (обществу)»5.
Итак, эстетическое отношение – это индивидуальное выражение общественного отношения. Если человек определенным образом относится эстетически к данному объекту, то это значит, что через его посредство соответственно относится к этому объекту общество. И эстетическая оценка соответствует действительной общественной роли объекта в общем случае в той степени, в которой ей соответствует общественное представление о нем. «Природа человека делает то, что у него могут быть эстетические вкусы и понятия. Окружающие его условия представляют собой переход этой возможности в действительность: ими объясняется то, что данный общественный человек (т.е. данное общество, данный народ, данный класс) имеет именно эти эстетические вкусы и понятия, а не другие»6.
Эстетическая информация, на основании которой человеком производится оценка явлений с точки зрения общественной значимости, представляет собой вид аксиологической информации. В качестве таковой она дает основания для выработки стимула к действиям, в конечном счете направленным на общественно-полезные цели. Следует отметить, что в связи с многоступенчатым опосредствованием целей общественно-значимой деятельности эстетическая реакция гораздо менее жестко связана с действием, чем «вообще» эмоциональная. Будучи высшим уровнем в развитии приспособительных механизмов, этот механизм еще дальше отошел от жестко обусловленных реакций. В этом качестве эстетическое отношение определяет, как правило, только общую направленность деятельности человека, его стремления.
Исходя из сказанного, эстетическое отношение можно определить как основанную на оценке относительно недетерминированной информации часть механизма для разрешения противоречия между необходимостью для общества функционировать в качестве единого организма, противостоящего среде в своей целостности, – с одной стороны, и возможностью для него функционировать только через отдельных индивидов, – с другой. Как же действует этот механизм?
В представлении индивида общественная практика формирует (с некоторыми вариациями, зависящими от особенностей личного опыта) идеальное представление о предмете или явлении с точки зрения их общественной значимости. Оно образуется в результате многократного восприятия ряда объектов одного класса. Предметы или явления, относящиеся (в определенном смысле) к одному классу, в зависимости от их частных особенностей могут иметь большее или меньшее общественное значение. Эти частные признаки, воспринимаемые субъектом в процессе общественной практики с соответствующей общественной оценкой, статистически обрабатываются в его голове, и на основе этой обработки в ней складывается образ «усредненного» (с точки зрения его общественного значения) объекта данного класса, принимаемого в качестве его «естественного» состояния. В качестве такового этот образ может служить эталоном для оценки реальных объектов данного класса. И если оценка осуществляется на основе аксиологической информации, то сравнение с этим образом дает эмоциональную, эстетическую оценку. Определим такой «усредненный» образ предмета как его исходный эстетический образ.
Исходный эстетический образ в известной степени можно было бы сопоставить с категорией меры. Однако мера обычно связывается преимущественно с онтологической характеристикой объекта, в то время как исходный эстетический образ представляет субъективное отражение его общественно-значимых свойств, а потому зависит не только от природы самого объекта, но и от его отношения к обществу и, более того, от представления (не осознаваемого на рационально-логическом уровне) субъекта об этом отношении и, следовательно, не может адекватно интерпретироваться как отражение им меры объекта как чего-то присущего исключительно собственно объекту и независимого от отношения к нему. С психологической точки зрения понятие исходного эстетического образа оказывается достаточно близким понятию динамического стереотипа, но в последнем случае мы имеем дело скорее с определенным поведением человека, чем с его отношением. Исходный эстетический образ не может быть также представлен и как идеал, поскольку в данном случае речь идет не о наилучшем, а только о наиболее характерном.
Исходный эстетический образ в общем случае не является образом какого-то конкретного, реально существующего объекта. Будучи образованным из характерных элементов, присущих различным предметам или явлениям данного класса, он (в этом смысле) является полной абстракцией. Если продолжить сравнение с рационально-логическим («научным») мышлением – не упуская из виду относительности аналогии, – то этот образ можно определить как своеобразный аналог понятия. Эстетическое отношение предполагает оценку соотношения этого, созданного на основе общественной практики индивида, исходного эстетического образа с образом данного единичного явления, возникающего в результате его непосредственного восприятия.
Как мы уже отмечали выше, исходный эстетический образ имеет индивидуальный характер, и может не совпадать у различных людей. Однако он в конечном счете детерминирован общественными условиями существования индивида и зависит от характерных для данной социальной группы представлений. Степень соответствия исходного эстетического образа общественно-необходимому (зависящему только от интегральных общественных условий и в качестве такового не являющего индивидуальным, складывающимся из суммы оценок, а потому реально не существующего ни в какой конкретной голове), определяющаяся характером и степенью эстетического воспитания индивида, известна под названием эстетического вкуса. Следует отметить, что понятие «эстетический вкус» имеет еще и другое значение, а именно, значение критерия эстетической «чувствительности», то есть степени развития способности обнаружения отклонений реального объекта от того, который является идеальным «прообразом» исходного эстетического образа.
Говоря, что исходный эстетический образ является как бы образом нейтрального, индифферентного в эстетическом отношении объекта, мы в данном случае не обозначаем понятием «нейтральный» такой объект, который не имеет значения (безразличен) для общества. Наоборот, такой предмет является жизненно необходимым. Имеется в виду та его модификация (повторяем, нередко не имеющая реального бытия), которая как бы сама собой разумеется, которая не нарушает (ни в сторону улучшения, ни в сторону ухудшения) установившееся динамическое равновесие, условия взаимодействия данной социальной группы с окружающей средой. Однако она жизненно необходима для поддержания этого равновесия. Нейтральность исходного эстетического образа – следствие своеобразной адаптации. Как необходимость увеличения чувствительности и диапазона действия органов чувств привела к формированию механизма приспособления их к данному уровню интенсивности воспринимаемой величины сигнала (например, адаптации зрения к среднему уровню освещенности), так и в данном случае нейтральность исходного эстетического образа вызвана необходимостью чувствительной реакции на признаки отклонения от привычного, «среднего», что, нарушая установившееся равновесие общества и среды, требует выработки немедленной и точной оценки, выработки определенного отношения, то есть ввиду повышенного общественного значения требует повышенной чувствительности «социальных чувств».
Исходный эстетический образ, разумеется, не может быть чем-то застывшим. Он динамичен, составляющие его элементы находятся в непрестанном движении, вызываемом изменениями как в самих объектах, так и, главным образом, в их отношении к обществу и в общественном представлении об этом отношении. Он как бы постоянно приспосабливается к изменениям объективной действительности (как глаз к общему уровню освещенности), отражая новые положения в соответствующем классе объектов как непосредственно, так и в их отношении к обществу, а также новые представления человека об объектах.
Следует иметь в виду, что классификация объектов, бессознательно осуществляемая человеком при формировании исходного эстетического образа, далеко не однолинейна. Предмет, благодаря своей разносторонности, может одновременно входить в несколько классов, занимая при этом различное положение. Да и сами классы, входя в классы более широкие, могут по своей значимости занимать в них различное положение по отношению к обществу. Все это делает эстетическую оценку чрезвычайно сложной, не поддающейся логической интерпретации. Поэтому и сравнение исходного эстетического образа с образом, являющимся результатом непосредственного восприятия, не может быть осуществлено посредством рационально-логического анализа, так как ни тот, ни другой не могут быть воспроизведены человеком в полном объеме в виде логической конструкции. Сравнение (процесс которого не осознается) вырабатывает эмоциональную оценку, причем оценка эта будет положительной при отклонении образа непосредственно воспринимаемого объекта от исходного эстетического образа в сторону большего общественного значения, и наоборот. Понимаемое таким образом эстетическое есть эмоциональный критерий степени соответствия образа непосредственно воспринимаемого объекта его «абстрактному» образу, возникающему у человека в процессе общественной практики на основании представления об общественно-нейтральной (в изложенном выше понимании) модификации объекта данного класса. На основе этой оценки человек воспринимает предметы или явления как прекрасные или безобразные.
Эстетической оценке подлежат не только те предметы или явления, которые непосредственно касаются человека. В эстетическом отношении для общественного человека в принципе нет объектов безразличных. Все они имеют (или могут иметь) общественную значимость, так как их совокупность образует среду существования общества и, следовательно, с каждым из них может быть связано представление об их общественно-индифферентном состоянии, то есть образован исходный эстетический образ. Именно своей общественной функцией отношение человека к миру отличается от «отношения» животного. «Животное “видит” только то, что непосредственно связано с его физиологически врожденной потребностью, с органической потребностью его тела. Его “взором” управляет только физиологически свойственная его виду потребность»7. Поэтому, говорил Фейербах, животное равнодушно к звездам.
Для человека дело обстоит иначе – именно вследствие его общественной природы. Здесь существенным становится уже не индивидуальное, а общественное отношение. «С природой как таковой люди вообще имеют дело лишь в той мере, в какой она так или иначе вовлечена в процесс общественного труда, превращена в материал, в средство, в условие активной человеческой деятельности. Даже звездное небо, в котором человеческий труд реально пока ничего не меняет, становится предметом внимания и созерцания человека лишь там, где оно превращено обществом в средство ориентации во времени и пространстве, в “орудие” жизнедеятельности общественно-человеческого организма, в “орган” его тела, в его естественные часы, компас и календарь. Всеобщие формы, закономерности природного материала действительно проступают, а потому и осознаются именно в той мере, в которой этот материал уже реально превращен в строительный материал “неорганического тела человека”, “предметного тела” цивилизации, и потому всеобщие формы “вещей в себе” выступают для человека непосредственно как активные формы функционирования его “неорганического тела”»8.
Закономерно возникает вопрос: а что же будет в случае, если мы встречаемся с предметами или явлениями впервые, если сталкиваемся с объектами, которые нам не известны и относительно которых, следовательно, общественная практика не могла нам дать представления об их общественно-нейтральном состоянии? Вопрос тем более существенен, что именно для новых явлений их оценка имеет особо важное значение. На это можно ответить так. Во-первых, все явления или предметы включают в себя известные нам элементы и отношения, по которым мы их и оцениваем, сравнивая со знакомыми предметами или явлениями. «Все в мире мы узнаем не иначе, как через сравнение, – говорил К.Д.Ушинский, – и если бы нам представился какой-нибудь новый предмет, которого мы не могли бы ни к чему приравнять (если бы такой предмет был возможен), то мы не могли бы составить об этом предмете ни одной мысли и не могли бы сказать о нем ни одного слова»9. На неизвестные предметы через их известные свойства, на все явление через часть его эстетическое отношение распространяется ассоциативным путем, когда эстетически весь предмет или явление оцениваются по тем качествам, которые известны. Особую роль в силу их всеобщей применимости, повидимому, играют абстрактные характеристики (такие, например, как симметрия и ритм, роль которых в эстетическом восприятии издавна служила объектом пристального внимания). Во-вторых, если этих элементов почему-либо не достаточно, то эстетическая оценка на данном этапе отсутствует. Например, Стендаль отмечал, что если в произведении искусства обычаи, заимствованные из истории, превышают уровень знаний большинства зрителей, зрители им удивляются, не замечая красоты, и лишь после того, как длительная привычка устранит удивление, сможет зародиться симпатия10. По словам Альберти, «в большинстве случаев пренебрежение обычаем уничтожает искусство»11.
Сложность и противоречивость общественных явлений приводит к тому, что зачастую суммарная оценка, охватывая множество разнополярных эстетических оценок, не носит явно выраженного эстетического характера. С другой стороны, эстетическая оценка в явном виде имеет место только при определенном уровне сложности оцениваемого объекта. Понижение сложности сначала делает эстетическую оценку элементарной, а затем уничтожает ее совсем вследствие повышения удельного веса относительной детерминации. Увеличение же сложности не позволяет (на данном уровне, без перехода к другому качеству) охватить в восприятии объект в целом, что препятствует его общей эстетической оценке. Мы тонем в противоречиях, не умея найти того, что их объединяет. Это касается даже такого простейшего случая как геометрические размеры. Последнее заметил еще Аристотель. По его мнению, «ни чрезмерно малое существо не могло бы стать прекрасным, так как обозрение его, сделанное в почти незаметное время, сливается, ни чрезмерно большое, так как обозрение его совершается не сразу, то единство его и целостность его теряются для обозревающих»12.
Восприятие прекрасного доставляет нам наслаждение, причем наслаждение самого высокого порядка, ни с чем не сравнимое. Мы видели, что наслаждение возникает в процессе удовлетворения потребности. Следовательно, и здесь мы вправе ожидать, что прекрасное удовлетворяет какую-то (причем важнейшую) потребность человека. Что же это за потребность? Ставшая личной потребностью индивида необходимость в сохранении и развитии общественного организма. Отражая общественную значимость предметов и явлений, превращая общественно-значимое в индивидуально-необходимое (причем без «корыстной» заинтересованности, так как не подлежит непосредственному индивидуальному потреблению), эстетическое отношение тем самым обеспечивает общественно-полезную (в конечном счете) направленность действий человека. Эти-то действия в своем интегральном результате и способствуют обеспечению целостности общества, его сохранению и развитию. Таким образом, положительно эстетическое, прекрасное, будучи критерием положительной общественной ценности, удовлетворяет одну из важнейших потребностей человека как общественного существа.
Когда человек непосредственно ощущает свою общественную сущность, когда он находится в состоянии непротиворечивости с социальной средой, эстетическое отношение является одной из главных причин его общественно-значимых действий. Но мы живем в тот исторический период, когда общественная сущность человека затушевана классовой организацией общества и опосредована массой разнообразных противоречивых связей, отношений, побуждений, для которых их конечная общественная природа не только не видна, но нередко даже представляется антиобщественной по своей сути, – как трудно себе представить, что яхта, идущая против ветра, гонима все тем же ветром. В этих условиях появляются дополнительные формы регулирования поведения человека, имеющие ту же природу, что и эстетическое отношение, но приспособленные к деформированному характеру потребностей.
Рассматривая регулятивную функция «социальных эмоций» мы утверждали, что основным их видом являются эстетические, все же остальные представляют только конкретные проявления эстетического отношения в зависимости от условий, объекта, взаимоотношения с рационально-логическим («научным») отношением и т.д. Такое утверждение, естественно, не может быть признано верным баз рассмотрения отношения к эстетическим эмоциям хотя бы важнейших проявлений «социальных чувств». И прежде всего это относится к чувствам, непосредственно определяющим сегодня поведение человека – нравственным чувствам, тем чувствам, которые, как и эстетические, связаны с общественной оценкой, ибо «добродетель и порок, моральное добро и зло – во всех странах определяются тем, полезно или вредно данное явление для общества» (Вольтер).
Проблема взаимосвязи эстетического и этического неоднократно ставилась в истории философии. Мы не будем здесь рассматривать различные варианты ее решения13. Отметим только, что при рассмотрении соотношения эстетического и этического, как правило, исследуются области их совпадения и различия. При этом обычно сфера действия эстетического признается более широкой, чем сфера действия нравственного. Этот момент отмечается практически всеми исследователями, в той или иной мере касающимися взаимоотношения между ними. Если предметом нравственных чувств считаются только явления общественной жизни, то объект эстетических чувств составляют также явления природы и материальные результаты человеческой деятельности. Получается в конечном счете, что эстетическое отношение, будучи шире нравственного, включает последнее в себя в качестве одного из своих проявлений. Таким образом, рассматривать взаимоотношение прекрасного и нравственного имеет смысл только в общественной жизни.
Общность эстетической и нравственной оценок при этом распространяется не на все общественно-значимые объекты (тем более, что других вообще не бывает) и даже не на любой вид деятельности человека. Практически любое действие человека может оцениваться с двух точек зрения: как некое объективно существующее явление, как сумма физических движений, и как результат, как выражение внутреннего мира человека, его внешнее проявление. Первое относится к технической стороне деятельности, второе – к ее социально-психологическому содержанию14. Нравственной оценке подлежат лишь вторые; эстетически же мы оцениваем как их, так и «технические» действия.
Прежде всего отметим еще раз, что под нравственной оценкой мы здесь понимаем оценку эмоциональную. Именно потому и говорим о нравственных чувствах, а не о нравственных нормах. Нравственный принцип, сформулированный в общем виде, столь же отличен от нравственного чувства, как отличен от непосредственного эстетического отношения общий эстетический принцип, выраженные в логических построениях эстетические взгляды. Конечно, мы можем оценивать поведение того или иного человека как соответствующие или не соответствующие каким-то нравственным нормам; но такая (рациональная) оценка – нечто иное, чем гордость или стыд, вызванные его действиями. Точно так же можно сказать, что, например, «три единства» классицистической драмы не соответствуют эстетическим нормам современного искусства, но такая оценка не будет проявлением живого эстетического отношения к конкретному произведению, выражаемого в эстетических эмоциях. Еще раз подчеркнем, что эмоциональное отношение, в том числе и в виде отношения морального, – особый вид отношения, не сводимый к отношению рациональному: «объективная реальность морального закона не может быть доказана никакой дедукцией и никакими усилиями теоретического, спекулятивного или эмпирически поддерживаемого разума … и все же она сама по себе несомненна»15.
Не следует забывать также, что при сравнении эстетической и нравственной оценок речь должна идти об одном и том же объекте. Безосновательно, например, сравнивать нравственную оценку поступков человека с эстетической оценкой его внешнего облика. Но если оценка относится действительно к тому же предмету или явлению, то мы не найдем такого, которое, будучи объектом нравственной оценки, не было бы в то же время объектом оценки эстетической, причем расхождения («плюс» или «минус») в этих оценках невозможны: положительная нравственная оценка никогда не сочетается с отрицательной эстетической, и наоборот. Разделить эти два вида оценки без потерь для обеих нельзя. Нравственный поступок не может быть безобразным; поступок, прекрасный с эстетической точки зрения, всегда нравственен. Другими словами, получается, что когда мы оцениваем поступки другого человека, разделение на нравственную и эстетическую оценку условно, это единая – эстетическая – оценка16.
И все же недаром существует не одна, а две категории эмоциональной оценки человека как функционирующего элемента общества. Необходимость такого разделения возникает в особом случае оценки человека – самооценке. Оценивая окружающую действительность, в том числе и других людей, их качества и поступки с эстетической точки зрения, человек сам в свою очередь становится объектом эстетической оценки, и не только со стороны другого человека, но и своей собственной. Остальных людей человек фактически оценивает только как элементы общества, себя же еще как некоторую отдельную целостную систему. В связи с этой своей «двойственной природой» человек по-разному относится к окружающим и к самому себе. Эмоциональная оценка других людей безотносительно к себе самому производится им с точки зрения исходного эстетического образа общественного человека (имеющего исторически обусловленный характер). По отношению к себе самому, как занимающему в собственном восприятии особое место, эта оценка существенно модифицируется, превращаясь в оценку посредством нравственных чувств, также базирующихся на некотором «усредненном» (но уже иначе) образе.
По «законам красоты» человек как личность оценивает только результаты своих действий: наше «Я», отчуждаясь, переходит в «неЯ», и только таким образом превращается в объект собственно эстетической оценки. Эстетическая же (с точки зрения общественной значимости) оценка самих действий (то есть по сути дела функционирующей личности) может быть дана только другим человеком, самооценка выражается в нравственных чувствах.
Необходимость трансформации эстетической оценки своей личности в особое нравственное чувство связана с непосредственно активной ролью этой оценки. Ее направленность не вовне, а на самого себя предполагает возможность непосредственной коррекции функционирования объекта оценки, чего нет в случае собственно эстетической оценки объекта внешнего. Стремление к положительной нравственной самооценке есть стремление к удовлетворению потребности в общественном самоутверждении – одной из фундаментальных потребностей человека. Нравственная оценка (самооценка) человека побуждает его согласовывать свои действия с возможной эстетической (т.е. с позиций общественной значимости) оценкой этих действий другими людьми. Причем оценка эта через оценку совершаемых действий переносится на совершающего их человека, действия эти фактически оцениваются не сами по себе, а как определенная характеристика совершающего их человека.
Если бы можно было представить человека «самого по себе», то нравственная оценка самооценкой и ограничивалась бы. Но человек потому и человек, что входит в целую систему общественных связей. При отсутствии общества как определенного целостного образования, именно эти связи, отражающие вхождение человека во множество разноуровневых социальных образований, возмещают его человеку в классовом обществе. Общественный антагонизм классового общества взывает определенный сепаратизм, и даже противопоставление этих образований в различных отношениях. И человеку как нечто отличное от простого элемента общества приходится оценивать не только себя, но и частично и в определенных отношениях также и членов тех общественных образований, в которые он входит и с членами которых в данных конкретных отношениях себя отождествляет в противопоставлении всем остальным – «мы» и «они». Таким образом, нравственной оценке действия других людей подлежат только в том случае, когда речь идет о тех, кто принадлежит к той же более или менее узкой общественной группе, к которой (неважно, сознательно или нет) причисляет себя данный индивид. Происходит как бы расширение нашего «Я» с включением в него «мы», превращение оценки в самооценку. Если же такого расширения нет, то и нравственные эмоции отсутствуют. Гордость или стыд (нравственные аналоги прекрасного и безобразного, играющих ту же роль в эстетическом отношении) человек испытывает за других только отождествляя этих других с собой в противопоставлении в том или ином отношении общему социальному окружению.
Из сказанного следует, что нравственная оценка применительно к другим людям играет свою роль только в том случае, когда существует принципиальная возможность противопоставления интересов личности как «частного человека» и общества. Эта возможность появляется со становлением классового общества. Соответственно тогда же развивается и нравственное чувство: с исчезновением классовой организации оно также должно исчезнуть, уступив полностью сферу оценки всех общественных явлений эстетическому отношению. Эстетическое не только предшествовало нравственному, но вообще «нравственное может развиться только через эстетическое» (Шиллер). Само по себе действие как физический акт не может быть ни хорошим, ни дурным. Таковыми его делают только соответствующие побуждения совершающего их человека, и их нравственная оценка зависит от соотношения эгоистического (которое, по словами Маркса, также есть форма самоутверждения человека) и альтруистического. С полным исчезновением одного из элементов (эгоистическое как форма самоутверждения в бесклассовом обществе просто не нужно), исчезают и основания для нравственной оценки. Как «сверхчеловек» Ницше, полностью противопоставив себя обществу, оказался «по ту сторону добра и зла», так и человек коммунистического общества, гармонически слившись с обществом, и таким образом вновь полностью обретя согласие со своей общественной сущностью, потеряет критерий для нравственной оценки и будет руководствоваться в своих поступках исключительно эстетическими эмоциями. Повидимому, именно так следует понимать слова Горького: «Эстетика – этика будущего».
Но это – действительно дело будущего. Нравственные чувства оказывали, оказывают и еще долго (вплоть до полного исчезновения деления людей на «мы» и «они») будут оказывать сильнейшее и весьма важное влияние на поведение человека. И в этом качестве они представляют собой весьма важный объект изучения для обществоведения. Что же касается в значительной мере пытающейся принять на себя эту задачу этики – как раздела философии, как учения о должном с его абстрактными категориями добра (к которому следует стремиться) и зла (которого следует избегать), то со становлением научного (а не философского) взгляда на общество она теряет как свою основу, так и объективную необходимость, – ну, например, как потеряла основу и необходимость (несмотря на бесспорные заслуги в прошлом) теория флогистона с развитием научных представлений о термодинамических процессах и химизме горения.
Являясь механизмом регулирования общественного поведения человека, эстетическое отношение пронизывает буквально все сферы его общественного бытия. В качестве составного элемента эстетическое отношение входит во все так называемые «формы общественного сознания». Однако далеко не всюду оно выступает в форме прямой эстетической оценки.
Отражение общественным человеком свойств действительности – единый процесс, включающий восприятие и переработку всей полученной информации, а рационально-логическое мышление («научное» отношение) и эстетическое отношение представляет собой способы общественной переработки человеком этой информации с прагматическими целями. Будучи одинаково необходимыми в обеспечении целостности общественного организма, они представляют собой стороны того, что принято называть «общественным сознанием» человека. В качестве таковых они в своем взаимодействии составляют внутреннюю структуру этого «общественного сознания» и входят в него во всех его формах – от науки и философии, поскольку «без “человеческих эмоций” никогда не бывало, нет и быть не может человеческого искания истины»,17 – и до наслаждения прекрасными произведениями искусства, невозможного, если не быть «художественно образованным человеком» (Маркс).
Все так называемые «формы общественного сознания» в их реальном бытии в сознании индивида в конечном счете представляют собой диалектическое сочетание этих двух сторон и, если не считать различий в объекте, не содержит в себе ничего другого, кроме научного (рационально-логического) и эстетического (эмоционального) отношений, взаимодействующих иногда по весьма сложным законам. Наука, имея целью установление взаимосвязи между явлениями, почти полностью находится в сфере относительно-детерминированных явлений; поэтому эстетическое отношение к ее предмету весьма ограничено (хотя и не исключено). Общественные же явления, составляющие предмет, например, политического сознания, весьма сложны, и не всегда могут, поэтому, быть объектом прямой эстетической оценки. Эстетическое отношение как компонент входит в другие виды отношений и деятельности человека; специально рассматривать эти случаи мы здесь не будем.
2.5. Искусство как средство социализации
Эстетическое отношение, проявляясь в зависимости от обстоятельств в различных формах, определяет всю общественно-значимую деятельность человека. Чтобы стать регулятором поведения человека, оно должно быть соответствующим образом сформированным. Формирование эстетического отношения осуществляется под воздействием всей окружающей человека среды в процессе общественной практики. Естественная среда, предметы, созданные человеком, его трудовая деятельность, отношения с другими людьми – все это оказывает влияние на формирование эстетического отношения. Однако особое место в этом процессе принадлежит искусству. Как познание объективных свойств действительности может осуществляться в различных формах и на разных уровнях, но специализированной его формой является наука, так и формирование эстетического отношения, осуществляющееся под воздействием всей окружающей действительности, является специальной целью особого общественного явления – искусства.
Сложность искусства как общественного явления, специфичность его общественной функции не позволили до сих пор найти такое его определение, которое бы в полной мере отражало его качественное своеобразие. Исследователи, фактически отрывающие искусство от эстетического отношения, делающие объектом преимущественного рассмотрения само искусство как совокупность художественных произведений, и следовательно, прежде всего не его общественную функцию, а его макро-и микроструктуру (виды искусства, их взаимоотношение, жанры, стили, течения, построение произведения искусства и т.п.), в принципе не могут решить вопрос о сущности искусства. Пытаться определять сущность искусства, его природу из рассмотрения самого искусства совершенно бесполезно: структура произведения искусства так же мало раскрывает сущность эстетического отношения человека, как структура языка науки – гносеологическую сущность процесса познания.
Философы «широкого профиля» включали эстетику (а значит, и искусство) в свою философскую систему в качестве составного элемента, и она выполняла те функции, которые были необходимы с точки зрения целостности данной системы. Поэтому и вопрос о том, что такое искусство, решался ими в зависимости от той основной идеи, которая была положена в основу их системы, и таким образом, чтобы гарантировать ее применение и в этой сфере. Крушение (или потеря значения) системы приводило к утрате значимости соответствующего определения искусства.
Снижение ценности умозрительных всеохватывающих философских систем совместно с неспособностью эстетиков найти положительное решение вопроса о сущности искусства привело к широкому распространению попыток решить проблему путем привлечения концепций, созданных в рамках других наук, доказавших (иногда только по видимости) свою способность давать положительное знание. При этом нередко выводы этих наук поначалу применяли в эстетике сами специалисты в той или иной новой, бурно развивающейся науке, научной теории. Ч.Дарвин, создав теорию естественного отбора, пытался применить ее и в эстетике; развитие психологии привело к возникновению «экспериментальной эстетики»; вопросы эстетики не прошли мимо внимания З.Фрейда. Даже теорию относительности пытались применить в эстетике.
В наше время появление и развитие кибернетики привело к получившим чрезвычайно широкое распространение попыткам применить и в эстетике принципы этой науки (в частности, некоторые положения теории информации, принцип обратной связи и т.п.). Не прошла мимо эстетики теория знаковых систем (семиотика), пытавшаяся представить искусство в виде своеобразного языка. В рамках марксизма, считая искусство одной из «форм общественного сознания», преимущественно пытались представить его в качестве формы (способа, средства) познания. Жаль, что объем настоящей работы не позволяет рассмотреть эти вопросы – они чрезвычайно интересны. Оставив в стороне другие определения искусства, прейдем непосредственно к рассмотрению его как средства формирования общественного человека.
Совместная деятельность людей как элементов единого целого требует постоянного координирования действий. Это координирование должно осуществляться двояким образом. Во-первых, чтобы совместные действия были успешными, необходима взаимная информация о целях, возможностях, планах действий, передача сведений о свойствах предметов и явлений, на которые эти действия направлены, об условиях их совершения. Другими словами, необходима передача семантической информации между членами общества. Семантическая информация может иметь различный вид, но в наиболее развитом виде она выступает как информация научная. Как уже отмечалось, такого рода сведения дают основания для формирования только программы действий. Каждая ситуация представляет возможность для целого ряда различных, а иногда и взаимоисключающих действий, причем для каждого из них в данной ситуации на основе имеющейся семантической информации может быть сформирована соответствующая программа.
Вопрос заключается в том, какая именно программа действий будет в данном случае реализована. Как мы уже отмечали, только в немногих случаях связь между данными о ситуации и действиями включается автоматически – в тех случаях, когда последние жестко обуславливаются системой «стимул-реакция». В подавляющем же большинстве случаев импульсом, побудительным мотивом к определенному действию являются эмоции, базирующиеся, как мы пытались это показать выше, на аксиологической информации. Таким образом, во-вторых, необходима взаимная передача между членами общества аксиологической информации, которая бы обеспечивала также и необходимую для общества направленность совместных действий, тех действий, которые в конечном счете обеспечивали бы сохранение и развитие общества независимо от частных целей и намерений отдельных людей и их групп. Согласно принятому выше определению такой информацией является специальный «общественный» вид аксиологической информации – информация эстетическая. Средством передачи этой информации является искусство. Отметим при этом, что выражение «передача аксиологической (эстетической) информации» применено здесь условно. Специфика аксиологической информации как раз и состоит в том, что она не может быть перекодирована, а значит, и передана. Ниже рассмотрим этот вопрос подробнее, а здесь под «передачей» эстетической информации в искусстве будем понимать формирование у воспринимающего художественное произведение эстетического отношения к действительности, аналогичного тому, которое могло бы быть сформировано на основе непосредственного восприятия соответствующей эстетической информации.
Искусство – не единственное, но только специализированное средство формирования эстетического отношения. Эту же задачу выполняет «естественный» язык, среди функций которого имеется и эстетическая1. Являясь универсальным средством общения, язык выполняет обе задачи: передает сведения и формирует эстетическое отношение. Искусство представляет собой специализированное воплощение последней функции. Здесь эстетическая функция углубилась и расширилась до практически полного определения сущности искусства как общественного явления.
Эта функция искусства нашла яркое и образное отражение у Л.Толстого. Вот как он иллюстрировал взаимосвязь науки и искусства: «Наука и искусство подобны тем баркам с завозным якорем, так называемым машинам, которые прежде ходили по рекам. Наука, как те лодки, которые завозят вперед и закидывают якоря, приготавливает то движение, направление которого дано религией, искусство же, как тот ворот, который работает на барке, подтягивая барку к якорю, совершает само движение»2. При этом следует учесть, что под религией в контексте своей работы «Что такое искусство?» Л.Толстой фактически понимает общественное самосознание: «Всегда, во всяком обществе, есть общее всем людям этого общества религиозное сознание того, что хорошо и что дурно»3. Это представление формируется общественной практикой, в результате чего, по словам Энгельса, «в сознании или чувстве каждого человека известные положения существуют как непоколебимые принципы, которые, являясь результатом всего исторического развития, не нуждаются в доказательствах».
Обычно, начиная с Плеханова, считается, что Л.Толстой определял искусство как язык. Однако Толстой вовсе не считал искусство средством передачи сообщений. Наоборот, говоря об искусстве как «средстве передачи чувств», Толстой подчеркивал роль искусства в формировании поведения. Вот что он пишет об общественной роли искусства: «Все, что теперь, независимо от страха насилия и наказания, делает возможною совокупную жизнь людей (а в наше время уже огромная доля порядка жизни основана на этом) все это сделано искусством. Если искусством могли быть переданы обычаи так-то обращаться с религиозными предметами, так-то с родителями, с детьми, с женами, с родными, с чужими, с иноземцами, так-то относиться к старшим, к высшим, так-то к страдающим, так-то к врагам, животным – и это соблюдается поколениями миллионов людей не только без малейшего насилия, но так, что это ничем нельзя поколебать, кроме того как искусством – то тем же искусством могут быть вызваны другие, ближе соответствующие религиозному сознанию нашего времени обычаи. Если искусством могло быть передано чувство благоговения к иконе, к причастию, к лицу короля, стыд перед изменой товариществу, преданность знамени, необходимость мести за оскорбление, потребность жертвы своих трудов для постройки и укрепления храмов, обязанности защиты своей чести и славы отечества, то то же искусство может вызвать и благоговение к достоинству каждого человека, к жизни каждого животного, может вызвать стыд перед роскошью, перед насилием, перед пользованием для своего удовольствия предметами, которые составляют необходимое для других людей; может заставить людей свободно и радостно, не замечая этого, жертвовать собою для служения людям»4. Из этой большой цитаты понятно, что Толстой видит главную общественную цель искусства в формировании такого отношения людей к различным явлениям общественной жизни, которое независимо от каких бы то ни было соображений личной или общественной пользы вызывало бы побуждение к такой деятельности, которая приводила бы к максимально благоприятным, по господствующему мнению, результатам для общества. В этом и состоит общественная функция искусства: «Все виды поэзии должны направлять нас»5.
Формирование определенного эстетического отношения искусством не является, разумеется, однократным актом. Оно осуществляется не тем или иным конкретным художественным произведением, не тем или иным художником или направлением, или даже видом искусства. Формирование эстетического отношения – результат воздействия всего комплекса наличных художественных произведений, хотя, разумеется, действенность различных произведений искусства не одинакова и существенно зависит как от их эстетического качества, так и от целого ряда других условий. Более того, чаще всего воздействие искусства не имеет непосредственного характера. Как писал Л.С.Выготский, «искусство … никогда прямо не порождает из себя того или иного практического действия, оно только приуготавливает организм к этому действию»6. И далее: «Искусство есть скорее организация нашего поведения на будущее, установка вперед, требование, которое, может быть, никогда и не будет осуществлено, но которое заставляет нас стремиться поверх нашей жизни к тому, что лежит за ней»7. В этом отношении «чистое» искусство сходно с «чистой» наукой, которая также обычно не предполагает непосредственного практического использования ее результатов, но подготавливает прочный фундамент для практических действий. Сказанное, понятно, не исключает узкой направленности действия тех или иных отдельных произведений искусства на достижение конкретной практической цели (как и практической направленности отдельных научных разработок). Однако это не изменяет того положения, что искусство как общественное явление в принципе предназначено для формирования обобщенного эстетического отношения человека к среде.
Эту функцию искусства – формировать определенное эстетическое отношение – особо и неоднократно отмечал А.В.Луначарский. «Почти вся область искусства, – писал он, – и во всяком случае вся область настоящего искусства, там, где оно не совпадает с промышленным искусством и его целями, есть агитационное искусство. Всякое искусство имеет, по меньшей мере, зародыш агитации, вредной нам или полезной. Искусство всегда агитационно. Совершенно неверно, будто плакат есть агитационное искусство, а настоящие картины не агитационны»8. Как широко понимал Луначарский агитационную функцию искусства, видно уже из его дальнейших рассуждений о том искусстве, которое хотя и не выражает нашей идеологии, имеет, однако, положительные стороны, как, например, прославление человеческой красоты в картинах мастеров Возрождения, написанных на чуждую нам религиозную тему. Общественная функция искусства – формирование соответствующего эстетического отношения, стимулов к действию.
В своей речи «Искусство как вид человеческого поведения» Луначарский говорил: «Искусство интересует нас прежде всего … как совокупность приемов огромной мощности, которые могут влиять совершенно определенным образом на человеческое поведение»9. Более того, «его внутренний смысл заключается в изменении поведения тех, на кого это искусство воздействует»10, и оно «целиком сводится к возбуждению определенной жизненной деятельности»11. Именно в этом, а не в «отражении действительности» – сущность и назначение искусства: «Нам говорят или пытаются сказать – прямо пока никто не говорил: Художник нам важен как чистый очеркист, т.е. как репортер, как изощренный репортер, изощренный в смысле подмечания действительности и в смысле передачи сведений о ней»12. Но хотя передача сведений – задача необходимая и «совершенно гигантская», главная цель искусства не в ней. Художник «является как бы органом общества, необычайно чувствительным, соприкасающимся со средой и дающий максимальный импульс обществу для работы»13. А искусство «призвано развивать в человеке стремление к истине, бороться с пошлостью в людях, возбуждать в их душах стыд, гнев, мужество, делать все для того, чтобы люди стали благородно сильными и могли одухотворить свою жизнь светлым духом красоты»14.
Такой же вывод можно сделать и исходя из излагаемой здесь точки зрения на сущность искусства. Однако при этом закономерно встает вопрос: каким образом удается художнику как «органу общества» оказывать воздействие на других людей? Сделать он это может только посредством произведения искусства. Но чтобы формировать эстетическое отношение человека, произведение искусства должно иметь эстетические качества. Последние же (опять-таки с изложенной точки зрения) определяются отношением объекта к обществу. Таким образом, получается замкнутый круг. Произведение искусства, как и любой другой объект, может эстетически воздействовать на человека только благодаря своей общественной ценности, а последняя в данном случае возникает как результат такого воздействия, являющегося общественной функцией данного объекта. Чтобы разомкнуть его, необходимо обратиться к анализу другого вида информации, а именно той, которой обмениваются составляющие общество люди в процессе совместной деятельности.
Важнейшим параметром передаваемой информации является ее количество, характеризуемое степенью устранения неопределенности. Но эта характеристика имеет значение не столько для получателя информации с точки зрения ее использования, сколько при выборе средств связи для ее передачи. Знаменитая статья К.Шеннона, заложившая основы теории информации, явилась результатом его исследований по увеличению пропускной способности и помехоустойчивости каналов связи. Именно вопросами передачи и формальной переработки (перекодирования) информации и занимается классическая теория информации.
Для получателя информации более значимой является ее полезность, определяемая по тому, насколько она повышает так называемый тезаурус, характеризующий наличный объем информации получателя. Таким образом, количественная характеристика передаваемой информации определяется прежде всего по отношению к средствам связи, а прагматическая – к приемнику информации. Источник информации при этом не учитывается. Однако такое игнорирование источника при оценке информации далеко не всегда допустимо, причем по отношению как к аксиологической, так и семантической информации. При этом следует иметь в виду, что «на предметы действуют не изолированные объекты, кибернетической системой воспринимается не одно, а сразу несколько, в том числе и “посторонних”, воздействий. Задача приемника в том и состоит, чтобы из спектра всех воздействий воспринять только необходимое для нормального функционирования системы… При восприятии биологической и социальной информации дело усложняется еще и тем, что соотношение между информацией и шумом меняется в зависимости от подготовки, потребностей отображающей кибернетической системы»15. В зависимости от различных обстоятельств то, что воспринималось как шум, может восприниматься и как содержательная информация.
Предположим, мы получили какую-то информацию научного характера. Эту информацию мы используем различным образом в зависимости от того, как мы оцениваем ее достоверность. Особенно ясно мы видим это, когда информация об одном и том же явлении, получаемая из различных источников, носит противоречивый характер. Здесь никакой анализ средств связи и приемника (а часто и самой информации) не позволит нам выбрать то из сообщений, которое является более достоверным. И тем не менее такой выбор делается; он неизменно сопровождает почти всякое использование информации человеком – любую информацию мы оцениваем и с точки зрения ее достоверности. И хотя достоверность – характеристика не самой информации в строгом смысле слова, а ее источника, мы неодинаково относимся именно к информации.
Если источник информации нам неизвестен, то показателем ее достоверности является та форма, в которую эта информация заключена. Конечно, при этом можно сказать, что сама форма несет в себе дополнительную информацию, и ничего другого, по сравнению с иными случаями передачи информации, мы тут не имеем. Это действительно так и есть. Но эта дополнительная информация относится уже к другому сообщению – не к сообщению о характере и условиях некоторых действий, а к сообщению об источнике информации.
Сделаем здесь следующее замечание. Понятие «достоверность» не соответствует понятию «истинность». Если истинность характеризует отношение «субъект-объект» в процессе познания, (т.е. во взаимодействии в конечном счете общества как субъекта познания и окружающей среды как его объекта, в который в этом случае входит и само общество), то достоверность связана со взаимоотношением «приемник-источник» в процессе передачи знаний (т.е. с процессом обмена информацией внутри общества как познающего субъекта).
Необходимость оценки достоверности информации определяется самим характером ее использования в обществе. Ни одна кибернетическая система не может существовать без обмена информацией внутри самой системы. Любой организм имеет разветвленную сеть линий связи самого различного характера и физической природы. Необходимость передачи информации вызвана специализацией отдельных частей организма, из-за которой, например, сигналы от рецепторов должны быть переданы к месту их переработки и затем – к эффекторам, да еще необходимы сигналы обратной связи и т.п. Требование передачи информации между частями относится и к обществу. Для успешного функционирования, более того, для самого своего существования как единого целого, общество должно иметь внутреннюю систему передачи информации. Однако в обществе как сверхорганизме дело качественным образом меняется. В обществе нет «специализированных органов», которые уже морфологически были бы предназначены для выполнения определенных функций. Все функции, необходимые для существования общества как единого целого, выполняют его «элементы» – люди, являющиеся в то же время самостоятельными организмами.
Человек – «универсальный орган» общества и в принципе может выполнять любую необходимую обществу функцию. Сейчас нас интересуют две таких функции: получение информации, ее переработка – с одной стороны, и использование полученных таким путем сведений – с другой. Поскольку познание осуществляется обществом и в интересах общества, то ценность полученных сведений не определяется тем, могут ли они быть использованы непосредственно получившим их индивидом. Они предназначены для общества и могут быть использованы в его интересах в другое время, в другом месте и другими людьми. Это обстоятельство и делает столь важными вопросы передачи информации.
При любой передаче информации происходит ее искажение из-за помех. Это же происходит, следовательно, и при передаче информации внутри любой кибернетической системы. Однако, когда речь идет о передаче информации в многоклеточном организме, вопрос о достоверности не возникает – весь процесс искажения информации в принципе может быть описан в рамках классической теории информации. Другое дело, если как в «сверхорганизме» получение и использование информации разделено, причем и источник, и приемник, являясь элементами системы, являются в то же время самостоятельными (в известных рамках) организмами, имеющими и свои собственные отношения со средой. Когда человек для своих действий вынужден использовать информацию, полученную из окружающей среды другим человеком (более того, в общем случае – всякий раз другим, что исключает возможность поправки на систематическую погрешность), появляется необходимость оценки достоверности полученной информации. «Сосуществование» в каждом человеке собственно организма и элемента другого организма более высокого уровня приводит к тому, что потребности человека могут придавать своеобразную окраску передаваемой информации вплоть до ее сознательного искажения. Здесь уже классическая теория передачи информации бессильна.
Дело, разумеется, не только в этом. Даже если предположить полную «объективность» источника, то и в этом случае степень достоверности информации в значительной мере зависит от личных качеств последнего, его общественной позиции, уровня осведомленности и т.п. Как же в таком случае оценить достоверность сообщения?
Человек получает информацию из многих источников; в процессе ее использования оказывается, что один источник дает как правило более высокую достоверность информации, чем другой. Это обстоятельство тем или иным путем связывается с определенными качествами источника. Тогда в дальнейшем уже наша оценка «качества» источника информации дает основание для оценки достоверности информации. Достоверность информации, таким образом, представляет собой оценку ее источника с точки зрения приемника, отражающую то, насколько он заменяет последнего в процессе информационного взаимодействия со средой (опять с точки зрения приемника). Поэтому, когда источник и приемник совпадают, достоверность можно считать равной единице. Это тот случай, когда между ними и объектом, сведения о котором имеются в виду, нет еще дополнительно другого субъекта (как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать). В противном случае достоверность информации снижается. Это происходит обычно, но не всегда. Разнообразие людей по их возможностям, существенное отличие среды обитания конкретного человека и общества как целого, равно как и ряд других причин приводят к тому, что принципиально становится возможным повышение достоверности при ее передаче выше единицы.
Как мы уже отмечали, оценка достоверности осуществляется по отношению к любой передаваемой информации, в том числе и по отношению к информации научной. В этом случае речь идет об авторитетности, то есть о косвенной оценке (самостоятельной или под влиянием общественного мнения) личности источника информации в определенном аспекте, а именно, в том, который характеризует ее специфические возможности, делающие успешным процесс познания. Признание высокого профессионализма и особых способностей источника в ряде случаев заставляет считать его оценку более адекватной, чем собственную, повышая уровень достоверности сообщения выше единицы. Однако роль авторитетности в оценке достоверности существенно ограничена тем, что научная информация, как информация об относительно детерминированных явлениях действительности, предполагает возможность логической и опытной проверки.
Тем не менее достоверность получаемой от других информации играет достаточно различную роль в различных областях знания для тех людей, которые в них непосредственно заняты. Там, где результаты исследований поддаются непосредственной проверке практикой (например, экспериментом), как, например, в естествознании, последняя играет все возрастающую роль, соответственно снижая роль авторитетов. Что касается так называемых «гуманитарных наук», то здесь, где общественная практика корректирует результаты научных исследователей только в конечном счете, именно авторитет «источника» часто играет решающую роль. В средние века в Европе главным авторитетом во всех областях знания была Библия. Постепенно в естественных науках экспериментально полученные сведения стали вытеснять «божественное откровение», но в том, что касается общества и человека, авторитет Священного писания еще долгое время оставался незыблемым, и никакие ссылки на другие авторитеты не признавались (известное исключение составлял только Аристотель). С началом эпохи Возрождения по мере возрастания интереса к человеку все большую роль в этой области начинает играть авторитет тех или иных выдающихся личностей. Этот постепенный переход опоры в данной области с божественного откровения на авторитеты выдающихся людей, собственно, и имелся в виду, когда ее назвали «гуманитарной». Но и здесь, пусть в конечном счете, результаты проверки общественной практикой пробивали себе дорогу, и раньше или позже, безусловно, завоюют доминирующее положение. Правда, в результате исчезнут и сами «гуманитарные науки», превратившись в отрасли естествознания.
Существенно иначе обстоит дело, когда мы переходим к анализу такого специфического вида «сообщения», как художественное произведение. Достоверность эстетической информации, которая в силу разобранных выше причин (вероятностно-статистический характер описываемых ею событий, относительная их недетерминированность) не может быть подкреплена логическими или экспериментальными доказательствами, определяется по единственному критерию: форме, в которую она заключена, поскольку именно эта форма и несет дополнительную информацию об источнике «сообщения». Если, по словам Р.Фейнмана, «истинное величие науки состоит в том, что мы можем найти такой способ рассуждения, при котором закон становится очевидным»16, то подобное положение в области эстетического восприятия принципиально недостижимо – даже «о вкусах не спорят», где уж тут говорить об очевидности! Поэтому, когда мы переходим к вопросу об оценке такого специфического средства связи как художественное произведение, оценка источника – личности его автора – приобретает существенное значение, так как именно к ней сводится проверка достоверности данного «сообщения».
Скажем еще несколько слов о самом произведении искусства. «Законы», по которым строится его структура, принципиально не могут быть найдены, ибо их попросту не существует: если бы произведение искусства можно было бы построить по каким-то (пусть и чрезвычайно сложным) формальным (формализованным) правилам, то оно бы не могло выполнять своих социальных функций (практические попытки в этом направлении не приводили – и не приведут – ни к чему другому, кроме того, что называется художественным штампом). А любые технические средства, которые всегда использовались и будут использоваться в искусстве, были и останутся только вспомогательными для художника, расширяя его возможности (в том числе позволяя создавать новые виды искусства), но не заменяя его.
Что касается структурных элементов, из которых художник строит свое произведение, то они связаны с тем положением, которое человек занимает как биологическое существо, как элемент общества и как элемент среды. В первом случае используется ряд моментов, связанных с функционированием организма. Такие факторы, как тон, цвет, уровень сигнала имеют собственное сигнальное значение. Поскольку все процессы в организме протекают во времени и в определенном смысле имеют циклический характер, особое значение приобретает ритм. Факторы эти носят безусловный характер.
Те же структурные элементы, которые связаны с общественным бытием человека, имеют конвенциональную природу и зависят от своеобразного «общественного договора», когда знак и значение связываются в процессе общественной практики. Так, они могут носить традиционный характер (как, например, плоскость в рисунке). Они играют роль определенных структурных элементов в соответствии с «принятыми» значениями независимо от собственных структурных характеристик.
И, наконец, последняя группа элементов связана с характеристиками определенных свойств окружающей среды, которые, абстрагируясь от конкретных носителей, обретают свое значение благодаря им. Иногда в произведении искусства они сводятся до уровня иероглифов, что смыкает их с предыдущими элементами. К ним, например, относятся некоторые характерные цвета (цвет неба, растительности, крови и т.п.), звуки (низкий тон как характеристика больших размеров, мужского начала, и наоборот). Ну и просто используется узнаваемое изображение реального объекта.
Перечисленные элементы практически никогда не применяются отдельно, но только во взаимосвязи и взаимодействии. Поскольку искусство характерно для человека именно как человека, т.е. существа общественного, обитающего в окружающей среде, с которой общество как целое взаимодействует через эти свои элементы, для которых и предназначено «сообщение», то преимущество отдается двум последним моментам. Что касается первой группы элементов, то они относятся к произведению искусства как спирт к алкогольным напиткам, т.е. играют компенсаторную роль, в связи с чем в малых дозах создают благородное вино, а в больших (разумеется, при влиянии других моментов) – сивуху.
Эстетическая информация, как уже было сказано, выполняет роль не передачи сведений (которые могли бы быть в той или иной форме использованы при определении программы для организации действий – хотя, разумеется, произведение искусства может передавать и их), но формирования нашего отношения к окружающей действительности, к объекту действия. Соответственно при оценке достоверности нас интересуют не качества личности художника «вообще», а их определенный аспект, связанный именно с формированием нашего отношения. И хотя существует всесторонний интерес к личности художника, главным основанием оценки являются те его характерные черты, которые запечатлелись в произведении искусства.
К «фотографии» (какими бы средствами она не осуществлялась, лишь бы оставалась полная объективность) у нас отношение совершенного доверия – достоверность равна единице. Здесь можно считать, что информация получена непосредственно из среды (даже если проводником этой информации был человек). Искажения возникают только из-за помех и никакого отношения к достоверности не имеют. Но если в процесс передачи информации вмешивается человек со своей субъективностью, достоверность снижается. Здесь уже нельзя вычленить информацию, соответствующую действительному положению вещей, путем анализа помех. Это же относится и к искусству, но с ним дело обстоит еще сложнее. Художник, «показывая» нам то или иное явление, не просто передает нам сведения о нем, но побуждает нас относиться к нему определенным образом, «навязывая» нам свое отношение. Но как это можно сделать? Мы ведь не забываем, что перед нами произведение искусства, более того, знание этого обстоятельства – обязательное условие художественного эффекта. Что же заставляет нас формировать то или иное отношение к объекту, несмотря на понижение (объективное) достоверности полученной информации? Ответ может быть только один: личность художника17.
Воспринимая человека, мы отмечаем его внешность, характер движений, те или иные стороны его личности, проявляющиеся в его деятельности, во взаимоотношениях с окружающими. Человек как личность складывается из всех этих сторон как «совокупность физических и духовных способностей»18, и трудно, а порой и невозможно увидеть за отдельными проявлениями всего человека. Однако бывают случаи, когда в одном поступке человека, в немногих его действиях, в характере их выполнения – поскольку личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает – как в капле воды отразится он весь целиком. И тогда, как целостное явление, он доступен нашему эстетическому восприятию и подлежит непосредственной эстетической оценке. Произведение искусства и является таким отражением личности ее автора и отличается от других случаев только тем, что специально на такую оценку рассчитано, чтобы свидетельствовать достоверность «сообщения», а следовательно, может быть оценено только положительно – в противном случае оно перестает быть произведением искусства. Салтыков спрашивал о поэзии: «зачем ходить по канату, приседая на каждом четвертом шагу?» Да для того, чтобы представить таким образом свои особые возможности. Как говорил Гёте, мастер познается в ограничении. Поэт, используя определенный размер, так же налагает на себя определенные ограничения, как альпинист, поднимающийся к в общем-то ненужной ему вершине, да еще с той стороны, где склон круче. По мнению В.Шкловского в прозе таким же ограничением является сюжет19. Соответствующие ограничения есть в любом виде искусства, поскольку они сами становятся средством представления таких возможностей, и тогда «как голос, сжатый в узком канале трубы, вырывается из нее более могучим и резким, так, мне кажется, и наша мысль, будучи стеснена различными поэтическими размерами, устремляется гораздо порывистее и потрясает меня с большей силой»20. При высокой общественной оценке качеств автора само произведение приобретает эстетические качества, вызывая эстетическое наслаждение «отраженным светом» его автора. Но для этого необходимо, чтобы мы поверили в оценки, даваемые художником, «заверенные» отражением его действительно неординарной личности в произведении искусства. В противном случае, наоборот, «когда вы увидите, что автор не только предписывает умиление над тем, что не только не умилительно, но смешно или отвратительно, и когда вы при этом видите, что автор несомненно уверен в том, что он пленил вас, получается тяжелое, мучительное чувство, подобное тому, которое испытал бы всякий, если бы старая, уродливая женщина нарядилась в бальное платье и, улыбаясь, вертелась бы перед вами, уверенная в вашем сочувствии»21.
Природный объект красив или некрасив сам по себе. Предмет же, созданный человеком, если он, что неизбежно, оценивается и с эстетической точки зрения, подлежит оценке и как определенное структурное образование, и как воплощение каких-то качеств своего создателя. Поэтому эстетически он оценивается двояко: и как предмет, стоящий в ряду природных объектов, и оцениваемый по тем же критериям, что и они, и как воплощение эстетически созидающих качеств человека, т.е. как произведение искусства.
Абрис реактивного самолета красив, но он не воплощает в себе человека-художника. Он – плод работы ученого, конструктора, – людей, познавших законы аэродинамики больших скоростей и воплотивших их в этом летательном аппарате. В известном смысле можно сказать, что человек выступает здесь как своеобразный орган природы, создающий в соответствии с ее законами вещь, функционально вписывающуюся в природу. Чаще всего это происходит при взаимодействии с внешней средой – тогда мы имеем «формулы, отлитые в формы». Это не исключает эстетическую оценку, но осуществляется она по тем же критериям, что и в отношении природных объектов: из множества признаков по каким-то, пока неизвестным нам законам, отбирается «среднеэстетическое». Человек же здесь оценивается не как художник, но только как инженер.
Таким образом, когда мы говорим о специфических качествах личности автора художественного произведения, которые «просвечивают» через последние, обеспечивая ему эстетические свойства, мы имеем в виду не любые, но только ценностные (в развитом выше понимании этого слова), только те свойства, которые полезны обществу с точки зрения укрепления его единства, его объединения в единое целое, с точки зрения формирования у членов общества соответствующего, служащего этой цели отношения к среде, отвечающего потребностям общества как единого организма. В конечном счете эти качества являются показателем того, насколько художник «заменяет» зрителя или слушателя в оценке действительности, и именно в этом качестве становится определителем художественности (достоверности) произведения искусства. «В художественном произведении, – по свидетельству Луначарского говорил Ленин, – важно то, что читатель не может сомневаться в правде изображаемого. Читатель каждым нервом чувствует, что все именно так происходило, так было прочувствовано, пережито, сказано». И благодаря этому ощущению достоверности как эстетическая «истина» воспринимается оценка, даваемая художником изображаемому явлению: благодаря ему эта оценка становится собственной оценкой воспринимающего.
Эстетическое качество произведения искусства – единственный критерий представительности его автора как нашего «заменителя» в процессе восприятия и переработки эстетической информации из окружающей среды. Произведение искусства при этом заменяет нам в известной степени эту, получаемую обычно непосредственно, информацию, в том смысле, что формирует соответствующее эстетическое отношение. И соответствие этого отношения тому, которое могло бы быть сформировано (точнее, должно было бы быть сформировано) нами непосредственно, определяется по единственному критерию – эстетическому качеству художественного произведения, т.е. по оценке источника эстетического воздействия. Художник присутствует в произведении искусства как «отправитель» этого «сообщения». Воспринимая данное «сообщение», мы включаем его в наш духовный мир, и оно становится одним из множества факторов, формирующих стимулы к действию, но фактором направленным, реализующим главную цель искусства, которую составляет, по словам Л.Толстого, «объединение людей в едином и том же чувстве».
2.6. Способы социальной компенсации
Удовлетворение человеком своих потребностей – необходимое условие его существования. Это относится не только к индивидуальным потребностям (что само собой разумеется, ибо снижение уровня их удовлетворения ниже определенного предела неизбежно приводит к деградации или разрушению человека как биологического существа), но и к потребностям общественным, неудовлетворение котрых ведет к деградации и разрушению человека как существа общественного, т.е. именно как человека. И поскольку человек существует как человек, как отдельная биологическая особь и социальное существо – элемент «сверхорганизма», все эти потребности в той или иной мере, в той или иной форме удовлетворяются. Но форма и характер их удовлетворения исторически преходящи и определяются современным индивиду общественным устройством. И если способы удовлетворения индивидуальных, «биологических» потребностей зависит от него незначительно (иное дело – вопрос распределения средств удовлетворения этих потребностей, которого мы сейчас не касаемся), то способы удовлетворения общественных потребностей полностью ими определяются.
С одной стороны, изменение формы удовлетворения общественных потребностей человека в процессе развития общества вызывается изменением непосредственных нужд общества, условий его существования, имеющимися в его распоряжении ресурсами и т.п. То, что важно для общества в одних условиях, может не иметь существенного значения для него в других. Изменение общественного значения объектов в конечном счете приводит к изменению их роли в процессе удовлетворения общественных потребностей человека. Такие изменения связаны со многими факторами, однако основной, ведущий из них – это изменения общественного строя, меняющие глубинный характер взаимоотношений индивида и общества.
В процесс антропосоциогенеза одновременно осуществлялось формирование общества как биологического организма (следующего за многоклеточным организмом уровня), человека как элемента этого нового целого, и конкретного характера общественного организма, определенной общественной организации – первобытного племени. Хотя ведущей стороной этих процессов является социогенез, образование общественного «сверхорганизма» как продолжение генеральной линии эволюции, все они происходили в неразрывном единстве, поскольку невозможны друг без друга. Таким образом, человек, формируясь как элемент общества, одновременно формировался и как член первобытного племени. Следовательно, уже его функционирование в этом качестве обеспечивало «естественное», адекватное его общественной сущности удовлетворение общественных потребностей. Это адекватное удовлетворение давала непосредственно его общественно-значимая деятельность – вследствие малой длины цепочки опосредований целей и возможности обобщенного восприятия комплекса этих действий самим человеком и обществом как целым.
Положение коренным образом меняется уже с началом разрушения первобытного племени. Если в первобытном племени человек непосредственно ощущал себя частью целого и не мыслил даже своего существования вне его и независимо от него и, следовательно, функционируя как его часть, тем самым имел непосредственную возможность удовлетворения своих общественных потребностей, то по мере разрушения первобытнообщинного строя, а особенно со становлением классового общества, это становится невозможным. Разобщение людей, развитие общественных антагонизмов препятствует непосредственному удовлетворению общественных потребностей человека.
Выше мы достаточно подробно рассмотрели вопросы, связанные с удовлетворением одной из общественных потребностей человека (согласно приведенной классификации относящейся к потребностям второго уровня) – потребности в обществе как таковом, при котором общественная оценка общественной значимости всех без исключения объектов действительности опосредуется в эстетической оценке. Удовлетворение же этой потребности осуществляется в эстетически преобразующей деятельности, эмоциональным стимулом к которой является наслаждение красотой. Эта потребность и способы ее удовлетворения – родовые свойства человека, и как таковые в принципе не зависят от условий его существования (другое дело – конкретный характер оценки, который, как мы уже отмечали, определяется конкретными же условиями общественного бытия).
Иначе обстоит дело с двумя другими видами общественных потребностей. Здесь только гармонические отношения человека и общества дают возможность их адекватного удовлетворения. Вторая общественная потребность человека – потребность в общении – непосредственно удовлетворяется только в том случае, когда он находится в окружении людей, цели которых в главных, определяющих чертах совпадают с его собственными, причем полнота этого удовлетворения зависит от представления об общественной полезности этих целей (т.е. от степени их совпадения с целями общества). В этих же условиях удовлетворение третьей из общественных потребностей человека – потребности в самоутверждении – адекватно осуществляется посредством его общественно-полезной деятельности. Но при нарушении непосредственной связи человека с обществом, когда включается длинная цепочка опосредований между ближайшей, непосредстенной и конечной целями деятельности индивида, когда общественные условия его жизни стают все менее соответствующими его общественной сущности, создаются и условия для неадекватности средств и способов удовлетворения общественных потребностей человека, вплоть до того, что его «человеческая сущность опредмечивается бесчеловечным образом, в противоположность сама себе»1.
Поскольку здесь затрагиваются сущностные характеристики человека, он не может не переживать самым болезненным образом этого противоречия и не стремиться к его разрешению. Но разрушенная классовой организацией гармония человека и общества, в условиях которой только и могут нормально, «естественным» путем удовлетворяться общественные потребности человека, будет восстановлена только с ликвидацией этой организации, т.е в коммунистическом обществе. Поэтому борьба за его построение и есть единственно реальный путь ликвидации дисгармонии между общественной сущностью человека и не соответиствующими ей условиями его существования, равно как и практического разрешения противоречия между конечной и непосредственной направленностью деятельности индивида.
Однако необходимость реакции на неадекватность человеческой сущности конкретным условиям удовлетворения общественных потребностей возникает одновременно с началом разрушения первобытного племени, т.е. задолго до того, как появляются реальные предпосылки образования новой человеческой общности (хотя мечты о ней жили всегда и периодически предпринимались попытки ее создать). Необходимость разрешения этого противоречия стоит перед каждым человеком на протяжении всей его жизни, поскольку удовлетворение общественных потребностей – столь же необходимое условие человеческого бытия, как и удовлетворение потребностей индивидуальных. Даже существуя в условиях, не просто неадекватных, но и прямо противоположных его общественной сущности, человек, чтобы остаться человеком, должен все равно как-то удовлетворять свои общественные потребности. И если условия общественной жизни не способствуют этому, то возникает ряд способов социальной компенсации, дающих возможность в известной мере преодолеть наличие общественной дисгармонии, позволяющих в определенных пределах разрушить возникшее противостояние между сущностью человека и условиями его существования, создав таким образом возможность удовлетворения общественных потребностей человека в неадекватных его сущности условиях общественного бытия.
Вообще-то человеку доступно удовлетворение своих общественных потребностей в непосредственном виде и в условиях указанного несоответствия. Когда человек, несмотря на неадекватные его сущности условия существования, в качестве критерия своей деятельности непосредственно принимает ее общественную значимость, благо других людей независимо от собственной выгоды, говорят об альтруизме. Для таких людей, как Гриша из поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», для которых «доля народа, счастье его, свет и свобода прежде всего», их деятельность доставляет величайшее счастье. Такие люди появлялись в самые мрачные времена, и благодаря им никогда не угасал свет добра и разума. Н.Г.Чернышевский писал о таких людях: «Мало их, но ими расцветает жизнь всех; без них она заглохла бы, прокисла бы; мало их, но они дают всем честным людям дышать, без них они задохнулись бы. Велика масса честных людей, а таких людей мало; но они в ней – теин в чаю, букет в благородном вине; от них ее сила и аромат; это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли»2. Но такие люди, как правило, не адекватно включены в реальные общественные отношения, их возможности удовлетворения других потребностей вследствие этого резко ограничиваются. Судьба некрасовского Гриши достаточно типична для данного случая: «Ему судьба готовила путь славный, имя громкое народного защитника, чахотку и Сибирь». Подавляющему же большинству людей, действительно представляющих существующую в данном обществе «совокупность общественных отношений», в удовлетворении их общественных потребностей на помощь приходят различные способы компенсации.
В принципе можно представить себе два направления, по которым могла бы осуществляться компенсация несоответствия между сущностью человека и условиями его существования в классовых обществах, препятствующего удовлетворению общественных потребностей. Первый путь состоит в такой организации отношений к обществу в целом или той или иной его части, когда антагонизму действительных общественных отношений противостоят отношения локальные, иллюзорные или опосредованные («внешняя» компенсация). Второй путь заключается в непосредственном воздействии на психику человека с целью устранения самого представления об общественной дисгармонии («внутренняя» компенсация). Оба эти пути достаточно широко используются, причем формы их использования весьма разнообразны. Это относится к потребностям как в общении, так и в самоутверждении.
В антагонистическом, разорванном обществе человек воспринимает последнее как враждебную, подавляющую личность силу. Поэтому в качестве критерия своей деятельности он просто не в состоянии воспринимать общественное благо во всем его объеме (тем более, что оно еще и далеко не очевидно). В гораздо большей степени это может относиться к тем или иным частным социальным образованиям, в которые данный человек входит, противопоставляясь тем самым всем остальным, не входящим в него людям. В конститутировании такого рода образований в различных условиях могут играть роль ощущения расовой, национальной, региональной, сословной, религиозной, классовой, профессиональной, половой, возрастной и т.п. принадлежности – как по отдельности, так и в самых разнообразных сочетаниях. Посмотрим, как реализуются в данном отношении некоторые из этих форм объединения людей.
Племя, представляющее собой первоначальную форму социальной организации, продолжало (в виде общины) играть в этом отношении важную роль и на этапе разложения первобытнообщинного строя, и еще долго в обществе классовом. Однако в дальнейшем роль основного структурного элемента такой организации в значительной степени берет на себя государство. Роль государства в развитии общества исключительно велика. Через его посредство происходило объдинение людей, прежде принадлежавших к различным структурным формированиям, менялся характер организации, что способствовало разрушению прежней целостности, создавая условия для возникновения новой. В то же время оно – на новой основе – разделяло между собой большие группы людей, обеспечивая относительно самостоятельное развитие таких отдельных образований, что, как мы увидим позже, является непременным условием общественного прогресса, узловые моменты которого связаны со взаимодействием отдельных социальных образований с различным характером общественной организации.
Таким образом, на различных этапах классового общества государство представляет собой социальное образование, в которое обязательно входит и вне которого немыслим отдельный человек. Все остальные связи поэтому должны были отступать на второй план по сравнению с этим обстоятельством, обеспечивающим саму возможность существования человека. Соответственно все более важную роль приобретает патриотизм, когда человек на место общества прежде всего ставит данное государственное образование и, если требуется, утверждает себя по отношению ко всем остальным как часть этого целого, защищает его, гордится им, удовлетворяя таким образом важнейшие свои потребности («римлянам слава Рима заменяла бессмертие»). «Патриотизм – это одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств»3.
Но чем дальше шло развитие общества, объективно направленное в сторону дальнейшей всеобщей консолидации, тем более патриотизм из средства разрушения старых, локальных племенных связей и образования новых, более широких, превращается в свою противоположность. Наряду с выполнением защитных, консолидирующих функций, он все более используется для разъединения людей, играя теперь уже реакционную роль. И всегда находились люди, которые пользовались этим в корысных целях. Своей двойственной природы, когда одновременно происходит и объединение, и разделение людей, патриотизм не потерял и в настоящее время, причем соотношение между этими функциями все более сдвигается в сторону последней, что часто превращает его, по известному выражению, в «последнее прибежище негодяев»4.
Другими важными социальными образованиями являются этнические (народность, нация и др.), которые до сих пор остаются одним из важнейших объединений людей. В силу того, что такого рода отношения обычно связаны с языком, искусством, бытовыми традициями и другими специфическими особенностями, создающими как бы естественную интегрированность индивида в социальную группу, эти связи имеют исключительно важное значение, особенно при традиционном укладе жизни, при слабой включенности каждого человека в разнообразие других общественных связей. Другими словами, включенность в этнос удовлетворяет (конечно, только частично) потребности человека в обществе и в общении. Это обстоятельство обеспечивает формирование этнических групп как социальных образований и их устойчивость на протяжении длительного времени.
Но есть и другая сторона дела. В каждом народе всегда есть люди, использующие этническое, национальное еще и как средство самоутверждения. В конечном счете (хотя и не всегда осознанно) они исходят из того, что при «самоопределении» нации их собственный социальный статус повысится по сравнению с широким интегрированием их народа в сообщество наций – в последнем случае они всего лишь одни из многих, в первом же оказываются в особом положении: хоть пирамида и меньше, но зато они на самой ее вершине.
В связи с этими двумя тенденциями в национальном всегда присутствует как стремление широких слоев народа использовать его в качестве способа частичной компенсации несовершенства мира, его неполного соответствия на данном этапе истории общественной природе человека (развитие этой тенденции естественно ведет к преодолению национальной замкнутости, к установлению, в том числе и на индивидуальном уровне, все более широких межнациональных связей), так и стремление «элиты» использовать его как средство самоутверждения именно в таком мире (при этом, в частности, стремятся организовать связь своего народа с остальным миром не столько непосредственно, сколько через себя), что, наоборот, ведет к национальной замкнутости, обособленности и даже фактическому противопоставлению своего народа другим. Не даром, скажем, украинские националисты так возмущаются реально существующим на Украине двуязычием. Да, они за знание других языков (особенно английского, что реально, а не в декларациях, является достоянием «элиты», дополнительно укрепляя ее особое положение), но против уже существующего на протяжении длительного времени (причем естественно возникшего, а отнюдь не навязанного извне5) фактически всеобщего русско-украинского двуязычия, ибо оно эффективно способствует опасному для их этого самого особого положения стиранию тех разделительных барьеров между «простыми людьми» разных народов, которые они всячески стараются воздвигать. Те, кто стремится использовать национальное как средство самоутверждения, в этих целях эксплуатируют упомянутые ранее потребности своего народа, воздействуя на них вплоть до шантажа «отлучением» несогласных, что грозило бы человеку разрывом важнейших, на данном этапе ничем не восполнимых связей.
Указанные тенденции, естественно, никогда не выражаются прямо, их цель всегда маскируется и они преподносятся не как выражение эгоизма «национальной элиты», а как забота о своем народе. Непосредственное эгоистическое использование национальных чувств в корыстных целях сравнительно редкое явление, и чаще всего имеет место в тех случаях, когда данный народ рассредоточен на территории, занимаемой другим, большим по численности народом (находится, по выражению Маркса, «в порах общества»). Характерный пример – еврейская община в дореволюционной России, особенно в «черте оседлости», где любым ассимиляционным тенденциям прежде всего противостоял жестчайший контроль со стороны руководства общины за всеми стороными жизни ее членов, направленный на сохранение возможно более полного отделения ее от окружающей социальной среды, обеспечивающее полноту и неизменность власти руководства. Позже эта тенденция нашла теоретическое и политическое воплощение в сионизме. Сейчас аналогичное положение существует в цыганской общине. Образ жизни этого кочевого народа весьма отличен от образа жизни окружающих. Традиции, навыки, вся культура его настолько своеобразны, что создают существенные трудности индивиду в непосредственном включении в окружающую социаьную среду. Это обстоятельство обеспечивает особо благоприятные усоловия для «цыганских баронов» культивировать обособленность, сохраняя таким образом стабильность своей огромной власти над соплеменниками. Такая тенденция, хотя и в более «цивилизованном» виде, достаточно часто имеет место во многих других случаях, и ее надо четко отличать от благородной заботы о языке, искусстве, обычаях данного народа как конкретных, своеобразных и неповторимых проявлениях общечеловеческой культуры.
В большинстве случаев разделить указанные тенденции не так-то просто, поскольку в жизни они переплетаются, взимно проникают друг в друга. И среди «элиты», хотя и стремящейся в конечном счете к самоутверждению за счет своего народа, есть немало людей, искренне его любящих и желающих ему добра; бывают и такие случаи, когда чувства национальной спеси, национальной исключительности, национального превосходства распространяются в народе достаточно широко. Все это, однако, не меняет принципиальной разнонаправленности двух указанных тенденций, в своем взаимодействии создающих то, что принято называть национальными проблемами.
Любые частные объединения, находясь ближе к конкретному человеку, влияют на его поведение сильнее, чем более общие, но они же и сильнее отдаляют его от других людей. Поэтому развитие общества, интеграционные тенденции в нем ведут к формированию именно широких объединений. Историческое развитие привело в СССР к возникновению новой исторической общности – советского народа, – которая вовсе не является, как иногда утверждают, «сталинской выдумкой», но отражает объективную реальность консолидации народов Советского Союза. Другое дело, что общность эта еще далеко не оформилась окончательно. Но тем не менее, несмотря на достаточно значительные различия между составляющими, она реально существует. Она активно препятствовала фактическому разрушению страны как социокультурной целостности, а сейчас способствеет актуализации интегративных тенденций. Конечно, консолидация наций зашла значительно дальше, но и она во многих случаях еще далеко не завершена. И сейчас реально имеют место две тенденции – дальнейшей национальной консолидации, и стирания разграничительных границ между национальностями, причем последняя явно превалирует, воплощая в себе будущее.
Мы не будем здесь рассматривать другие случаи использования локальных объединений для удовлетворения общественных потребностей в условиях антагонистического общества, ибо уже из сказанного достаточно явно видны их характерные черты. Во всех случаях имеются две противоположные тенденции. С одной стороны, такие объединения создают возможность входящим в них людям удовлетворять потребность в общении, создавая, так сказать, частичную непротиворечивость внутри объединения. Естественное стремление к еще более полному удовлетворению этой потребности ведет к образованию дополнительных внешних связей, к вступлению индивида также и в другие объединения. В этом смысле такого рода объединения – заменитель общества как целостного образования, и ведущая тенденция здесь – к их расширению, образованию новых связей – является прогрессивной, ибо объективно направлена на все большую интеграцию, когда новое целое в конечном счете включит все человечество. С другой стороны, именно исключительная важность указанных связей для входящих в данное локальное объединение людей порождает попытки со стороны определенных социальных групп паразитировать на них, пользоваться ими в качестве средства для собственного удовлетворения другой общественной потребности – в самоутверждении. Эти попытки консервативны и даже реакционны, поскольку направлены к прямо противоположному результату: размежевать людей, по возможности ограничить их связи данным локальным объединением с целью усилить и упрочить особое, ведущее положение данной группы (в том числе и во внешних связях).
Приведенные примеры достаточно полно характеризуют роль локальных социальных образований в жизни человека. Ими можно было бы и ограничиться, но в силу его специфических особенностей и исключительной важности необходимо обратиться еще к одному общественному институту, имеющему непосредственное отношение к рассматриваемой проблеме – к религии. Религия – явление сложное и многоплановое. При исследовании сущности религии как общественного явления тардиционно основное внимание уделялось ее гносеологическим предпосылкам. Религия древних населяла мир сверхъестественными существами, чтобы найти объяснение тем явлениям, которые не могли быть поняты на основе наличных знаний о мире. Божество ставилось на место действительной, но не познаной движущей силы. Но в дальнейшем религии довольно далеко отошли от столь примитивной идеологии. Религиозное сознание вообще, а современное в частности, нельзя просто отождествлять с систмой взглядов. Это сложная система, образованная из элементов «научного», пусть и извращенного, но рационально-логического, и эмоционального отношений, а потому лишь гносеологический анализ, который в какой-то степени мог оказываться достаточным для анализа ранних форм религии, оставляет в стороне весьма важные ее особенности во всех остальных случаях.
Другая сторона религии, особенно в ее современных модификациях, в известном смысле становится ведущей, и заключается в том, что религиозная община – это одно из тех локальных объединений, о которых говорилось выше. В упомянутом смысле религиозные объединения выполняют те же функции, что и остальные. И в них также четко различаются две тенденции – стремление к удовлетворению потребности в общении у большинства, и использование его в целях самоутверждения некоторой частью. Однако, в отличие от других объединений, здесь разделение людей на тех, кто использует ее как средство самоутверждения, и тех, кто обращается к религии ради компенсации несовершенства мира, в основном совпадает с формальным, организационным разделением на клир и мирян (хотя, конечно, и не сводится к нему полностью).
Но у современных, особенно монотеистических, религий есть и еще один чрезвычайно важный аспект. Реальные объединения, в том числе религиозные, обычно все же не удовлетворяют полностью потребность в общении из-за наличия и в них определенных противоречий. Поэтому жажда непротиворечивости с обществом у человека приводит к тому, что на место реальных общественных отношений ставятся иллюзорные отношения с неким верховным существом.
Древнее божество необходимо было чтить, чтобы не вызывать его гнева, ему нужно было поклоняться, ублажать его, можно было даже вступать с ним в договорные отношения. Но ни одна древняя религия не требовала любви к богу. Это требование в качестве едва ли не основного появляется со становлением современных монотеистических религий, особенно христианской религии. В Ветхом завете. Иегова требует: «Итак, храни заповеди Господа, Бога твоего, ходи путями его и бойся его»6. А в Новом завете на вопрос: «Учитель! Какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус отвечает: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сие есть первая и наибольшая заповедь»7. Жестокий бог иудеев, которого прежде всего следовало «бояться», сменяется добрым богом христиан, которого нужно «любить». Такой бог – всеблагий и всемилостивый – нужен был рабам, создававшим христианскую религию, как объект, могущий воплотить те качества, которыми большинство реальных людей уже не обладало, но которые каждый человек хочет найти у других для ощущения гармонии с обществом.
Христианство, как и другая великая монотеистическая религия – ислам, получило наибольший расцвет в феодальном обществе. Именно при феодализме, когда две определяющие стороны жизни общества – и производство, и потребление – одновременно приобретают индивидуальный характер, когда условия жизни человека становятся менее человечными, индивид становится наиболее одиноким и, следовательно, в наибольшей степени нуждается в компенсации несоответствия между своей сущностью и условиями жизни. Эту компенсацию в виде обладающего всеми мыслимыми достоинствами верховного существа и дает человеку религия, уводя его из реального мира с его общественными противоречиями в мир иллюзорный, но непротиворечивый, одновременно создавая таким образом еще одну форму закабаления. «Религия, – писал Ленин, – есть один из видов духовного гнета, лежащего везде и повсюду на народных массах, задавленных вечной работой на других, нуждою и одиночеством»8.
Не даром Маркс назвал религию «опиумом народа», т.е. средством, которое сам же народ использует для снятия «социальной боли». В свое время, отвечая на анкету жуанала «Mercure de Franse» о судьбах религии, Горький противопоставлял религию как «идею сверхчувственного существа, управляющего судьбами мира и людей», религии, которая представляет собой «радостное и гордое чувство гармонической связи человека с миром». Правильно отметив две стороны религии, Горький не смог, однако, верно понять социальную роль религиозных чувств. Критикуя его представление о боге как комплексе идей, которые «будят и организуют социальные чувства, имея целью связать личность с обществом», Ленин писал: «Идея бога всегда усыпляла и притупляла “социальные чувства”, подменяла живое мертвечиной»9.
Истинно религиозные люди и сегодня неосознанно ощущают особую важность компенсационной функции религии и ставят именно ее во главу угла. Они полагают, что «если существует мироздание, значит – существует его единство. Ибо это организм, нечто целостное. Так же, как и человек. Человеческий организм предполагает некоторую целостность, единство». И они стремятся отыскать некое «промежуточное» единство, соединяющее эти две целостности. Чувствуя настоятельную необходимость в нем, но не понимая, что таким единством реально является общество, они стремятся найти его в некоем искусственном образовании – боге: «Богопознание – поиск реальности, в которой все мы составляем единое целое»10. Такой поиск для них даже оказывается мало зависимым от того, в каких именно конкретных религиозных формах он выражен: «Каждая мировая религия есть язык этой тайны, перевод с божественно-несказанного языка на человеческий»11. Более того, догматическая и обрядовая шелуха только скрывает искомое зерно. В данном смысле действительно можно согласиться, что «глубины каждой религии едины в подлинном… Во всякой мировой религии есть некое духовное ядро… Это глубинное ядро каждой религии гораздо ближе к глубинному ядру другой мировой религии, чем к собственной периферии»12. Да, ближе, ибо в данном отношении все они, пусть и в фантастическом виде, отражают одну и ту же реальность – общественную сущность человека.
Вообще с эмоциональной стороны религия подменяет общество, другого человека вымышленным объектом – богом. Она «отнимает у другого человека то, чем я ему обязан, чтобы передать это богу»13 (в «Нагорной проповеди» это звучит так: «…Чтобы они видели ваши (!) добрые дела и прославляли Отца вашего (!) Небесного»14). При этом «человеческая любовь должна превратиться в религиозную любовь, стремление к счастью в стремление к вечному блаженству, мирское удовлетворение в мирскую надежду, общение с людьми в общение с богом»15. Ленин назвал «замечательным местом» у Фейербаха его определение сущности религии: «Объективная сущность, как субъективная, сущность природы как отличная от природы, как человеческая сущность, сущность человека как отличная от человека, как нечеловеческая сущность – вот что такое божественное существо, вот что такое сущность религии, вот что такое тайна мистики и спекуляции»16.
Если в других видах объединений людей нередко взаимодействуют прогрессивные и регерессивные тенденции, то рассмотренная особенность религии лишает ее даже относительных преимуществ. Ни религия, ни церковь не изменили за время существования своей сущности, с изменением условий функционирования изменились только внешние формы. Речь, понятно, идет о сущности данного общественного явления, а не, скажем, о религиозных деятелях, в субъективной честности которых во многих случаях сомневаться не приходится, и уж конечно не о рядовых верующих. Но как социальное явление церковь, в том числе и христианская во всех ее модификациях, осталась столь же реакционной, как и ранее, хотя уже давно не сжигают на кострах еретиков, а наоборот, стремятся предстать в роли символа милосердия, носителя духовности и вечной, общечеловеческой морали. Но и сегодня религия – все тот же «опиум народа», реакционность которого определяется тем, что он применяется в условиях, когда стало объективно возможно не глушить себя этим «наркотиком», а действовать в направлении реальных общественных преобразований. Она – как вирусы туберкулеза в организме: пока человек находится в благоприятных условиях, они повредить не могут, но при ухудшении условий зараза все еще может представлять весьма грозную опасность.
Итак, в религии мы имеем одновременно два способа компенсации потребности в общении – локальное объединение людей по религиозному признаку и замена отношений с обществом отношениями с одним существом, как бы воплощающим в себе все общество, весь мир. Последняя возможность основывается на том, что человек всегда воспринимает общество не непосредственно (ибо последнего, как самостоятельного, вне составляющих его элементов, физического объекта вообще не существует), а через отдельных людей. Это обстоятельство создает возможность как расширения круга людей, репрезентующих общество, так и его сужения – в пределе до одного «партнера», иллюзорного как в религии или же реального. Последнее выражается в виде дружбы и любви.
Сформировавшиеся в филогенезе потребности в обществе, в общении онтогенетически закладываются у человека с самого раннего возраста. Ощущение тесной связи с другими людьми, зависимость от них, большей частью положительное отношение окружающих – все это еще в детстве закладывает в каждом человеке «потребность в том величайшем богатстве, которым является другой человек»17. Но чем в большее число общественных отношений растущий человек вступает как равный, тем сильнее он сталкивается с реальными взаимоотношениями людей в данном обществе. Эти реальные отношения приходят в противоречие со сформировавшимся стремлением к непротиворечивым отношениям. Невозможность их реализации в полном объеме вызывает сужение до ограниченного круга (в пределе – до одного человека) тех людей, с которыми такая непротиворечивость возможна.
Один человек не может заменить другому все общество, но он может для него – на определенное время, для определенных целей – как бы воплотить его в себе, представлять его. Такое положение первоначально возникает на базе общности взглядов и интересов, вызывающей положительное отношение. Если человек существует в окружении, далеко не в полной мере удовлетворяющем его общественные потребности, то он естественно будет особенно остро реагировать на благожелательное отношение другого; ощущая это отношение, он сам отвечает тем же. Дальше все происходит по принципу положительной обратной связи – взаимные положительные отношения усиливает друг друга, что приводит к формированию между людьми особых отношений, выражающихся в чувстве дружбы.
Дружба как социальное явление, реализующее данную тенденцию, в современном обществе играет ограниченную роль, в основном оказывая влияние на поведение людей в юности, когда общественные противоречия ощущаются особенно остро. Однако в переломные моменты, во время общественных катаклизмов, дружба, товарищество – наиболее сильные человеческие чувства. Здесь их ассоциативный аппарат формируется на реальном базисе, зиждется на жизненно важной основе совместных действий в борьбе. Отмечая это обстоятельство, Ф.Шеллинг писал: «Поэзия древних в основном прославляла мужественные добродетели, которые возникают в связи с войнами и общественной жизнью. Из всех сердечных связей преобладала дружба мужчин, а женская любовь занимала безусловно подчиненное место. Новая лирика при самом своем возникновении была посвящена любви со всеми теми чувствами, которые в понимании нового времени с ней связаны»18.
Половая любовь, в принципе, выполняет ту же социальную роль, что и дружба, но у нее есть и важные отличия, связанные с тем, что она, как общественное явление, имеет в антагонистическом обществе прочную материальную базу. Любовь как общественное явление возникла на основе моногамной семьи – ячейки общества, предназначенной для воспроизводства жизни, для обеспечения прежде всего материальных условий этого воспроизводства, и в которой, стало быть, экономические интересы участвующих в этом процессе супругов в конечном счете совпадают. Важную (хотя и не определяющую) роль играет также ее связь с удовлетворением половой потребности.
Таким образом, любовь, как явление социальное, вовсе не есть простое следствие эволюции полового влечения человека, как это нередко представляется. И уж тем более она не является развитием аналогичных по форме явлений в животном мире, так что вряд ли можно согласиться с утверждением, что «любовь есть древняя сила инстинкта»19. Любовь – явление сугубо социальное, а современная половая любовь представляет собой эмоциональную компенсацию связей, необходимых для гармонии с обществом, направленную в половую сферу, когда вся энергия неизрасходованного положительного отношения к обществу концентрируется на одном человеке.
Выбор объекта такого отношения осуществляется на основе эмоциональной оценки его общественно-значимых качеств, т.е. на основе эстетических критериев. Прежде всего репрезентативную роль здесь играет то, что наиболее легко поддается непосредственному восприятию – физическая красота. Она представляет собой как бы вывеску всесторонних совершенств, не требующих доказательств (независимо от того, насколько эта оценка соответствует действительным качествам личности). Существуют и другие, иногда даже и более важные осования для выбора, но они всегда опосредуют общественную оценку. Не даром Стендаль, давший пожалуй наиболее полное из существующих описаний внешних проявлений любви, утверждал: «Женщина, которая заводит любовника, больше считается с представлениями о нем других женщин, чем со своим собственным»20. А вообще одного положительного признака иногда достаточно, чтобы вызвать лавинообразный процесс – процесс с положительной обратной связью (Стендаль называл его «кристаллизацией»).
Сила чувств пропорциональна общественной неудовлетворенности. Вследствие отрицательной индукции от внешних раздражителей, контрастных этому чувству, яркое пятно очага раздражения в мозгу выделяется тем ярче, чем темнее окружающий фон. Любое другое сильное чувство в этом случае идет «на пользу» любви, поскольку, согласно А.А.Ухтомскому, в случае возникновения второго очага возбуждения до тех пор, пока возбуждение в нем слабее, чем в доминантном, оно идет на усиление доминанты, что в конечном счете приводит к более выраженной реакции, к ускорению ее течения, к усилению проявлений (явление экзальтации).
Чтобы закончить рассмотрение вопросов о способах удовлетворения потребности в общении, коснемся еще одной его стороны. Пока мы рассматривали так сказать внешние способы компенсации. Но, как было сказано, в принципе существует и другой ее путь, предполагающий воздействие на психику человека с целью устранения самого представления о дисгармонии человека и общества. Принципиальная возможность такого воздействия базируется на том, что «инстинкт общности» является глубинным, родовым свойством человека, тогда как его представления об общественном антагонизме – более позднее образование как в истории человечества, так и в жизни отдельного индивида, а потому последние при общем воздействии на психику раньше разрушаются, чем первый. Ясно, что как бы не осуществлялось разрушение соответствующих психических структур, адекватно свою роль оно может играть только при временном характере такого воздействия, так как в противном случае оно приводило бы к потере ориентации в реальном мире.
Такое воздействие может осуществляться различными способами и наиболее просто – при помощи наркотических веществ. При их большом разнообразии исторически сложилось так, что особую роль среди них играет алкоголь (чему способствует также его органичность для физиологичных процессов). Как и другие сильные воздействия, он разрушает более поздно образовавшиеся (и более сложные) психические структуры, поэтому его небольшие дозы как бы «снимают» отношения антагонизма, облегчая общение. При более сильном воздействии «снимается» уже следующий «слой» – сама человеческая сущность индивида. Европейская культура отвела алкоголю определенное место, обеспечив шаткий баланс между его использованием в указанных целях и патологией – возникновением сначала психологической (пьянство), а затем и физиологической (алкоголизм) зависимости от наркотика. Этими обстоятельствами объясняется столь широкое распространение алкоголя. Его потребление увеличивается с возрастанием общественного антагонизма или ослаблением положительных идеалов, объединяющих людей. Никакие данные медиков о действительно огромном физиологическом вреде злоупотребления алкоголем, а социологов – о не меньшем социальном, ничего не изменят, как не помогут ни административные, ни просветительские меры, пока условия жизни человека не станут более адекватными его человеческой сущности, и пока не будут созданы условия более полного и соответствующего его природе удовлетворения общественных потребностей.
Еще более грозной опасностью для человека являются некотороые другие наркотические средства, гораздо быстрее приводящие к физиологической зависимости. Хотя и более опасные, чем алкоголь, на Востоке некоторые из них (например, опиум) также были известным образом интегрированы в общую культуру, что хоть как-то ограничивало их вредоносное действие. Вырвавшись на широкий простор, где они уже не подчиняются вековой традицией выработанным ограничениям, да еще в переломную для человечества эпоху, они приобрели исключительную опасность. Тут действуют те же причины, которые приводили к спаиванию северных народов при знакомстве с непривычным им алкоголем в условиях разрушения традиционного уклада жизни, но в невероятно возросших масштабах.
Но как бы ни были опасны алкоголь и другие наркотики, по своему губительному действию они не идут в сравнение с гораздо более слабым, но несравненно более распространенным наркотическим веществом – никотином (только в странах Европы от болезней, связанных с курением, ежегодно умирает более полумиллиона человек). «Изобретателями» этого средства были североамериканские индейцы, применявшие его при заключении мира между враждующими племенами. Воспоминания о перенесенных страданиях, о погибших сородичах отнюдь не способствовали этому, даже если мир становился непременным условием выживания племен. И здесь на помощь приходила знаменитая «трубка мира». Применение наркотика позволяло в определенной мере «снять» враждебные настроения, и руководствоваться не непосредственными эмоциями, а коренными интересами племени. Широкое распространение табака в мире вызывается на стадии привыкания теми же причинами, что и у других наркотиков. Но после появления физиологической зависимости оно связывается уже больше с ней, чем с компенсаторной функцией. Колоссальный же вред наносит не столько сам наркотик, сколько сопутствующие ему вещества.
Мы не будем останавливаться на других способах компенсации «внутреннего» характера. Вследствие их общественной значимости упомянем только об использовании для этой цели средств, предоставляемых искусством. Бульварная литература, продукция «фабрик снов», определенного рода музыка и изобразительное искусство, ориентирующиеся прежде всего на физиологические аспекты восприятия, одурманивают не хуже наркотиков, выполняя аналогичную компенсаторную функцию.
В отношениях, в которых происходит гармонизация связей индивида и общества посредством социальной компенсации, происходит удовлетворение всех имеющихся общественных потребностей, т.е. потребностей в обществе, в общении, в общественном самоутверждении. Как уже говорилось, «полифункциональность» объектов применительно к удовлетворению потребностей, в том числе общественных, позволяет вычленить средства удовлетворения той или иной из них только условно, по определяющей функции. Выше анализ в основном относился к удовлетворению потребности в общении (а еще ранее – в обществе как таковом). Но исключительную важность для человека представляет также его потребность в общественном самоутверждении. До сих пор мы касались этого вопроса только попутно, однако особое значение данного момента в определении характера и направления деятельности человека требует его специального рассмотрения.
В принципе потребность в самоутверждении связана со стремлением индивида к положительной оценке со стороны других его функционирования как элемента общества. Но опять же многоэтажность опосредований в жизни человека затрудняет, а то и вообще делает невозможной непосредственную оценку, а потому и здесь важную роль приобретают те или иные способы социальной компенсации.
Трудности оценки человека в соответствии с его действительным значением (т.е. как функционирующего элемента общества) в условиях общественного антагонизма нередко приводят к оценке относительной, и соответственно к принципиальной возможности разных видов компенсации. Каждый человек стремится к самоутверждению, но способы достижения этой цели могут быть весьма различными. При всем разнообразии людей в конечном счете в этом отношении можно выделить два их главным типа; дадим им условные наименования «технарь» и «спортсмен». «Технарь» стремится к самоутверждению путем достижения некоторого положения в обществе (пусть даже только в собственном представлении) посредством решения некоторой «технической» задачи, стоящей перед обществом в целом или какой-либо его частью. Другими словами, хотя здесь безусловно присутствует неявное соревнование с другими людьми, непосредственно человек при этом противостоит природе, стремится к победе над косной материей. И утверждение осуществляется по отношению к обществу, а не к конкретным людям. Не то у «спортсмена». У него самоутверждение связано с получением превосходства над конкретным противником, с возвышением относительно другого вполне определенного человека (или некоторой ограниченной группы людей).
В последнем случае также возможны два варианта: это либо стремление быть выше окружающих, подняться тем или иным путем над общим фоном, либо подавить, принизить, опустить в чем-то ниже себя других людей – если не всех, то по крайней мере некоторых. Хотя в обоих случаях в удовлетворение общественных по своей природе потребностей вносятся антиобщественные элементы, но тем не менее с точки зрения действительных нужд общества эти два пути отнюдь не равноценны.
То, что называется «здоровым честолюбием», «законное» стремление к власти, к славе и почестям, хотя и приводит к известному противопоставлению обществу, тем не менее достаточно часто требует от человека для достижения своих целей объективно общественно полезных действий. В конечном счете именно они и являются основой такого рода оценки. Во всякой деятельности проявляются два момента: с одной сторны реализуется стремление максимально раскрыть свои возможности, самореализоваться, истинно утвердить ценность своей личности как в собственном представлении, так и в представлении других людей, а с другой – достичь определенного общественного положения и призания прежде всего формально, определенным образом фиксировав его внешне, независимо от реального общественного содержания деятельности. Если в первом случае имеет место адекватная форма удовлетворения потребности в самоутверждении, то во втором используются средства компенсации и реализуется неадекватное, противоположное его сущности извращенное удовлетворение данной потребности. В деятельности людей «разорванного» общества практически всегда наличествуют оба эти момента, и объективная ценность поступка человека определяется их соотношением. Производство, наука, искусство и многие другие области общественной деятельности имеют указанные компоненты в большей или меньшей степени и в широкой градации: от беззаветной преданности своему делу до использования любых средств ради достижения цели «формального» самоутверждения. В последнем случае относительная самостоятельность критериев оценки приводит к удовлетворению общественных потребностей даже прямо антиобщественными способами (классический пример – Герострат).
На втором пути (самоутверждение за счет принижения других) оценка способов компенсации может быть только однозначно отрицательной. Пользующийся даже самой маленькой властью над зависимыми в чем-то от него людьми для удовлетворения своих амбиций бюрократ, унижающий достоинство более слабого человека хулиган – вот типичные случаи такого рода. Здесь имеет место исключительно извращенное удовлетворение общественной по своей природе, но направленной в антиобщественное русло потребности в самоутверждении.
В общественно-экономических формациях с частной собственностью на средства производства главным способом достижения реального положения в обществе становится экономическое могущество. Важнейшим средством его выражения являются деньги. Они – символ этого могущества, отраженным светом озаряющий своего владельца. По этому поводу молодой Маркс писал: «То, что существует для меня благодаря деньгам, то, что я могу оплатить, т.е. то, что могут купить деньги, это – я сам, владелец денег. Сколь велика сила денег, столь велика и моя сила. Свойства денег суть мои – их владельца – свойства и сущностные силы. Поэтому то, что я есмь и то, что я в состоянии сделать, определяется отнюдь не моей индивидуальностью… Деньги являются высшим благом – значит, хорош и их владелец»21. Таким образом, здесь мы имеем крайний случай уродливого воплощения общественного самоутверждения. Качества человека как личности заменяются внешним объектом – деньгами, в которых они как бы воплощаются. Как результат, стремление к формироваию в себе общественно ценных качеств подменяется стремлением к обретению экономического могущества.
Давая реальную власть, богатство дает также власть над умами людей. Собственно говоря, именно в этой последней оно прежде всего стремится найти выражение. Еще Апулей утверждал: «Не могут быть счастливы те, богатство которых никому не ведомо»22. А потому выработалось огромное количество способов наглядно представить общественное положение человека, воплотить его в конкретных предметах, в вещах. Становясь теми объектами, которые опосредованно удовлетворяют потребность человека в самоутверждении, предметы и действия как бы символизируют качества человека, и соответственно становятся также непосредственной целью его стремления.
Использование предметов в качестве средства самоутверждения возникает уже в глубокой древности. Наиболее яркое воплощение оно нашло в украшениях, служащих для характеристики их владельца, а затем в одежде. Вот что крупнейший исследователь античной философии А.Ф.Лосев пишет о роли пояса как украшения у древних греков: «Когда Гера просит у Афродиты дать ей любовь и привлекательность, то Афродита дает ей свой пояс. Пояс в глазах грека был настолько существенной принадлежностью их платья, что Гомер употребляет даже такие эпитеты, как “глубоко-опоясанный” и “прекрасно-опоясанный” в применении к мужчинам и женщинам»23.
В тех местах, где благодаря более суровому климату одежда приобретала более важное значение с точки зрения удовлетворения индивидуальных потребностей, она же широко использовалась и как один из главных носителей функций общения (через указание на принадлежность к определенной социальной группе) и самоутверждения (через характеристику качеств и возможностей своего владельца). В средние века одежда представляла большую ценность, ее очень берегли, перешивали и донашивали до полной ветхости; применение находили все «остатки и обрески». И наряду с этим именно тогда мы видим удивительную расточительность столь ценного материала на казалось бы совершенно бесполезные детали – чрезмерную, не оправданную защитной функцией длину рукава на Руси, шлейф женского платья в Западной Европе и т. п. И неудобство этих деталей в практической жизни, и высокая стоимость материала служили одной и той же цели – общественному самоутверждению. В наше время использование этой репрезентативной функции одежды значительно модифицировалось, но по существу не изменилось.
Одежда – наиболее яркий, но далеко не единственный пример того, как потребность в общественном самоутверждении выражается в стремлении к определенным вещам. Сейчас имеется значительное количество так называемых «престижных вещей», при приобретении которых утилитарность служит лишь предлогом, оправданием (в том числе иногда и для приобретающего их). Получая широкое распространение те или иные вещи перестают выполнять «престижную» функцию. На смену им приходят новые, либо появляется стремление приобретать те же вещи, но имеющие какие-либо особые качества. Появляются новые потребности третьего уровня как потребности в новых вещах, создаются новые «ценности», которые опосредуют (естественно, неадекватно) действительные человеческие ценности.
Нарастание ложных ценностей, извращенных потребностей, раз начавшееся, развивается по имманентным законам и неизбежно приводит к девальвации действительных ценностей. Этот процесс в качестве реакции порождает вообще отрицание важности материальных ценностей многими философами. Так, например, Бергсон и Шелер критиковали эту тенденцию нарастания «вещизма», изображая ее в духе «дурной бесконечности», как безостановочную и бессмысленную гонку за все новыми материальными ценностями. Для ее обозначения Шелер даже ввел специальный термин «плеонексия» (от древнегреческого «плеон» – больше). Соответственно считается, что те, кто обнаруживает плеонексию, принадлежат к массе, толпе, каково бы ни было их образование и социальное положение, и, наоборот, к элите относится всякий, кто предпочитает аскетизм, укрощает себя, поднимается над своими стремлениями24.
Но аскетизм вовсе не представляет собой индифферентность к вещам (точнее, к воплощенной в них функции самоутверждения), а негативизм по отношению к ним. Другими словами, аскетизм также предполагает использование вещей в целях самоутверждения, только путем их отрицания. Здесь для самоутверждения также используется репрезентативная функция вещей, только по различным причинам это самоутверждение приняло негативный по отношению к ней характер, и в таком качестве, являясь антитезой «плеонексии», в конечном счете смыкается с ней. Возвращение к «естественному» удовлетворению потребностей, отказ от самоутверждения в вещах вовсе не означает отказа от самих вещей. Это означает, что вещи в представлении людей будут только воплощением их утилитарной функции и потеряют значение символов качеств их владельцев. А это неизбежно приведет к уменьшению потребности в вещах вообще, создав возможность для человечества более успешно противостоять экологической катастрофе, которой грозит расширение производства.
Но вопрос может ставиться только так, а ни в коем случае не наоборот. Ограничение потребления «волевым» или каким-либо другим путем не приведет к цели. Сами непосредственные потребности должны стать другими, не выражаясь ближайшим образом в стремлении к личному обладанию теми или иными предметами в репрезентативных целях. Дело в том, что «в нынешнем обществе одна потребность индивида может удовлетворяться за счет всех других … тем самым делается невозможным свободное развитие целостного индивида… Коммунисты и не помышляют об уничтожении этой твердости своих желаний и потребностей … они стремятся только к такой организации производства и общения, которая бы сделала для них возможным нормальное, т.е. ограниченное лишь самими потребностями, удовлетворение этих потребностей»25.
Коренным образом характер удовлетворения общественных потребностей изменится только при переходе к новой целостности, обеспечивающей соответствие условий существования человека его природе, т. е. к коммунистической организации общества. При этом «коммунистическая формация действует двояким образом на желания, вызываемыми в индивиде нынешними отношениями; часть этих желаний, а именно те, которые существуют при всяких отношениях и лишь по своей форме и направлению изменяются различными общественными отношениями, подвергаются и при этой общественной форме изменению, поскольку им доставляются средства для нормального развития; другая же часть, а именно те желания, которые обязаны своим происхождением лишь определенной общественной форме, определенным условиям производства и общения, совершенно лишаются необходимых для них условий жизни»26. Новую форму приобретут те желания, которые адекватно отражают основные общественные потребности человека: стремление к красоте, общению, познанию, общественно-полезной деятельности, самоусовершенствованию и т. д., но исчезнут те, которые представляют эти потребности в искаженном и извращенном виде, те, которые в настоящее время, в частности, удовлетворяются репрезентативной функцией вещей. Вещи сохранят только утилитарные функции и перестанут быть одним из основных средств удовлетворения общественных потребностей человека.
Мы уже указывали, что возможность извращенного удовлетворения общественных потребностей связана с полифункциональностью объектов потребностей. В связи с этим отметим еще один способ компенсации потребности в общении, а прежде всего в самоутверждении, направленный совсем в другую сферу. Речь идет о сексе. В свое время наши «демократы» вволю позубоскалили над случайно оброненной фразой: «У нас секса нет». А ведь действительно не было – как широко распространенного и обретшего соответствующий социальный статус способа использования половой потребности в целях самоутверждения. Ведь фактическое отношение того, что нынче принято называть сексом, к удовлетворению половой потребности, приблизительно такое же, как карнавального костюма к защите от непогоды.
Необходимость удовлетворять общественные потребности в неадекватных человеческой сущности условиях привела к использованию половых отношений в виде секса в качестве комплексного компенсатора потребностей в красоте, общении и самоутверждении. Предметность удовлетворения, его связь с сильными положительными ощущениями, а главное, широкая доступность в связи с возникновением соответствующих общественных условий (размывание границ социальных групп, изменение роли семьи, возможность эффективного предотвращения зачатия и т.п.) в индивидуалистическом буржуазном обществе превратили способ удовлетворения одной из потребностей (причем потребности факультативной) едва ли не в универсальный прием самоутверждения, в своеобразный «нематериальный вещизм». На современном Западе жизнь подавляющего большинства жестко регламентирована. «Миллионы клерков в небоскребах-банках подчинены такой жесткой иерархической дисциплине, какая и не снилась нашим министерствам. Сборщик у конвейера – винтик почти в буквальном смысле». Для проявления свободной личной инициативы «оставлены две зоны – секс и покупки в супермаркетах (да и то они делаются в основном по указке рекламы)»27. Так что для самоутверждения рядовому обывателю фактически остается один только секс. Как говорил Олдос Хаксли: «По мере того как политическая и экономическая свобода уменьшается, свобода сексуальная имеет склонность возрастать в качестве компенсации»28.
Крайнее выражение данный способ компенсации находит в современной проституции. На вопрос корреспондента: зачем сегодня покупать «любовь» и платить за удовлетворение таким образом половой потребности, особенно в Швеции – при ее известном либерализме в половых отношениях, занимающийся вопросами проституции офицер полиции этой страны отвечал в том духе, что половая потребность здесь ни при чем. Для «клиента» важно обрести власть над другим человеком, пусть временную, но по возможности неограниченную. За это он и деньги платит. Так что в отличие от обычных половых отношений суть секса как специфического общественного явления – прежде всего в извращенной потребности в самоутверждении, остальное – форма.
Естественно, способы извращенного удовлетворения общественных потребностей не исчерпываются изложенными. Однако они дают достаточно полное представление об основных принципах, что избавляет от необходимости пытаться полностью исчерпать вопрос. Но прежде, чем с ним покончить, упомянем еще об одном своеобразном общественном явлении, которым является игра. По своей сути любая игра представляет попытку воспроизвести (или заменить) «естественные» отношения в данном обществе, определяющиеся сложным переплетением разнообразных фактров, искусственной динамической структурой со строго детерминированными (даже если в них сознательно вносится элемент случайности – для приближения к реальным условиям) и обозримыми «законами движения» – правилами. В качестве таковой игра выполняет целый ряд социальных функций. Отметим среди них две, связанные с удовлетворением потребностей в общении и самоутверждении. Первая обеспечивается тем, что любая игра осуществляется посредством взаимодействия индивидов, в том числе в целом ряде случаев имеющих в ее процессе одинаковую цель (например, в случае командной игры). Что же касается их противоположной направленности у «противников», то она также предоставляет возможность удовлетворения потребности в самоутверждении – если не в естественных, то хотя бы в искусственно созданных обстоятельствах.
Таковы вкратце те способы удовлетворения общественных потребностей, которые в классовом обществе связаны с необходимостью компенсации неадекватности условий существования человека его сущности. Способ удовлетворения общественных потребностей не может быть навязан человеку. Он всегда является следствием длительных и всеохватывающих социальных процессов. Только весь строй жизни, вся система общественного воздействия определяет конкретный характер удовлетворения общественных потребностей. Коль скоро он сформировался определенным образом, логические обоснования бессильны. Человеку, пораженному «плеонексией», как и, скажем, алкоголику, бесполезно доказывать, что существуют радости, более глубокие, чем те, что доставляет им удовлетворение сжигающих их страстей: ответом в лучшем случае будет ироническая улыбка – уж они-то точно знают, в чем состоит истинный смысл жизни! Только изменение всего строя жизни, всего характера общественных отношений может изменить способ удовлетворения общественных потребностей, в конечном счете приведя его к виду, адекватному общественной сущности человека.
2.7. Некоторые факторы развития
До сих пор мы преимущественно рассматривали информационное взаимодействие между обществом как организмом с одной стороны, и окружающей средой с другой. Но исследовать функционирование общества, а тем более его развитие невозможно без учета прежде всего их материального (вещественного и энергетического) взаимодействия, которому марксизм всегда придавал первостепенное значение. Указанное взаимодействие общества с природой прежде всего осуществляется в процессе производства. Именно материальное взаимодействие общества с природой – фундамент общественного развития, а основным его фактором и движущей силой является то, что представляет связь общества с природой в процессе производства – его производительные силы.
Основные, фундаментальные положения, развитые классиками марксизма, являлись раньше и остаются сегодня единственно научной основой анализа социальных процессов. Прежде всего это касается материалистического взгляда на историю. По словам Энгельса, Марксом «было дано материалистическое понимание истории и был найден путь для объяснения сознания людей из их бытия вместо прежнего объяснения их бытия из их сознания». Это без преувеличения гениальное открытие Маркса стало основой изучения общественных процессов. И сам Маркс блестяще применил его для анализа конкретной общественно-экономической формации, сумев убедительно «объяснить неизбежность возникновения капиталистического способа производства в его исторической связи и необходимости его для определенного исторического периода, а потому и неизбежность его гибели … обнажить также внутренний … характер этого способа производства… Это было сделано благодаря открытию прибавочной стоимости. Было доказано, что присвоение неоплаченного труда есть основная форма капиталистического производства… Этими двумя великими открытиями — материалистическим пониманием истории и разоблачением тайны капиталистического производства — мы обязаны Марксу. Благодаря этим открытиям социализм стал наукой, и теперь дело прежде всего в том, чтобы разрабатывать ее дальше во всех ее частях и взаимосвязях»1.
Развитая классиками марксизма общесоциологическая теория была и остается краеугольным камнем любых научных исследований в этой области. Широкая известность основных положений марксистской общей социологии (исторического материализма) избавляет нас от необходимости излагать их здесь. Приведем только блестящее краткое изложение Марксом того, что он называл «общим результатом», к которому пришел в своих исследованиях и который «послужил затем руководящей нитью» в исследованиях дальнейших: «В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения – производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройки и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или – что является только юридическим выражением последних – с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот во всей громадной надстройке»2.
Именно эти положения были и остаются незыблемой основой научной социологической теории. Базируясь на них, марксистская общая социология позволяла успешно анализировать происходящие в обществе процессы и прогнозировать их будущее течение. Однако с момента ее становления прошло немало времени. С одной стороны в обществе произошли глубочайшие изменения. С другой стороны наукой в различных ее отраслях накоплена огромная масса новых сведений. Все это с неизбежностью привело к необходимости определенным образом не только дополнить развитую классиками марксизма теорию, но даже пересмотреть ряд ее важных положений в свете новых данных. И если материалистический взгляд на историю незыблемо остается краеугольным камнем действительно научной общесоциологической теории, то конкретные ее приложения порой требуют достаточно серьезных коррективов.
С формальной стороны то, что в ряде случаев развитие общества приводило к результатам, достаточно отличным от тех, на которые рассчитывали классики марксизма, можно было бы расценить как следствие определенных погрешностей марксистской теории. Какие же погрешности могли быть допущены? При безукоризненности логики Маркса принципиально мыслимы либо погрешности методологического характера, либо ошибки в формировании системы постулатов. Многовековая общественная практика позволяет сформулировать некоторые положения, становящимися исходными постулатами для построения теории общественного развития. Будучи зависимыми от наличных, исторически ограниченных знаний об обществе, эти постулаты принципиально не могут быть всеобъемлющими, а следовательно, любая теория, построенная на них, раньше или позже неизбежно начнет расходиться с действительностью. Только итерационный процесс совершенствования системы постулатов по результатам исследований позволяет верной теории все более и более точно прогнозировать развитие ее объекта. Теория Маркса подтвердилась в главном — возник новый общественный строй без частной собственности на средства производства, практически охвативший треть человечества. История не знала более убедительного подтверждения верности общественной теории. Ни нуждающиеся в уточнении частности (а при всей их важности сравнительно с таким результатом это именно частности), ни нынешний кризис социализма не могут отменить научного значения данного фундаментального факта.
Таким образом, необходимость внесения коррективов в исходные положения любой теории, а тем более теории общественного развития, является объективной. Она не обесценивает ни теории, ни — в известных пределах — полученных на ее основе выводов. Не обесценили же, в самом деле, эвклидову геометрию появившиеся позже представления об ограниченной применимости постулата о параллельных прямых, или ньютоновскую классическую физику представления специальной теории относительности о влиянии скорости на массу. В определенных границах эти моменты просто не играют роли. Что касается теории Маркса, то среди ее явно сформулированных или принятых в неявном виде исходных положений также есть некоторые, нисколько не мешавшие ей точно отражать тенденции общественного развития до определенного момента, но далее становящиеся тормозом как прогностических возможностей данной теории, так и ее собственного развития.
Прежде всего сказанное относится к определению движущих факторов развития общества. Маркс совершенно справедливо считал, что исходным в развитии общества является способ производства средств к жизни, удовлетворяющих «жизненные потребности» людей. Само же удовлетворение этих потребностей как общественный процесс, несмотря на то, что именно ради него и осуществляются процессы производства, обращения, распределения оставалось в основном за пределами анализа. Маркс рассматривал процесс капиталистического производства (а также связанные с ним процессы обращения и распределения), а процесс потребления, характер регулирующих его потребностей были ему неинтересны, ибо они практически не меняли существа дела. В его системе «природа этих потребностей, — порождаются ли они, например, желудком или фантазией, — ничего не изменяет в деле».3 Но поскольку, как мы видели, потребности, порождаемые «желудком» и «фантазией», принципиально различны по свой природе и выполняемой ими функции, то раньше или позже это различие неизбежно начинает играть существенную роль. То, что во времена Маркса практически никак не сказывалось на результатах, уже не может больше не приниматься во внимание. И понять современное общественное развитие без учета характера потребностей человека — именно как человека, т.е. как отдельной целостности с одной стороны и элемента общества с другой — не представляется возможным.
Остановимся несколько подробнее на роли потребностей в экономической теории Маркса, в его исследованиях характера и движущих сил капиталистического способа производства. Подробнейшим образом рассматривая движение капитала, Маркс даже не ставит вопрос: зачем капиталист участвует в этом процессе, полагая, повидимому, что ответ на этот вопрос разумеется сам собой. Но это вовсе не так. Ведь сам Маркс утверждал, что все, что делает человек, он делает ради своих потребностей. Значит, и капиталист участвует в процессе «выращивания» и обращения капитала, в добывании прибавочной стоимости также ради удовлетворения каких-то своих потребностей. Каких же? По Марксу производство вообще существует ради удовлетворения «жизненных потребностей» («есть, пить, одеваться, иметь жилище»), но они у индивида всегда ограничены, несмотря на то, что «размер так называемых необходимых потребностей, равно как и способы их удовлетворения, сами представляют продукт истории и зависят в большей мере от культурного уровня страны» и «определение стоимости рабочей силы включает в себя исторический и моральный элемент. Однако для определенной страны и определенного периода объем и состав необходимых для рабочего жизненных средств в среднем есть величина данная»4.
Для рабочего, но, выходит, не для капиталиста. Иначе зачем он, имея ограниченные потребности, ввязывается в процесс производства и обращения капитала со стремлением к безграничному возрастанию прибыли? Ведь не для безграничного же возрастания потребления? Видимо, не в потреблении «жизненных благ» здесь дело — Маркс специально предупреждал, что не следует считать капитализм тем, чем он не является, а именно производством предметов потребления для капиталистов. У него даже есть сочувственная ссылка на Аристотеля, утверждавшего, что «количество собственности…, необходимой для хорошей жизни, не безгранично». Более того, когда речь идет о сущности капиталистического способа производства, для Маркса указанный момент вообще мало интересен: «Мы отвлекаемся здесь от той части прибавочной стоимости, которая проедается самим капиталистом»5. Но если он не потребляет (не «проедает») этой самой прибавочной стоимости, то зачем он вкладывает столько усилий в ее добывание? В том-то и дело, что потреблять-то он ее потребляет, но не «проедая». Это совсем иной способ потребления, ибо и предназначено последнее для удовлетворения совсем иных, в корне отличных от «так называемых необходимых» потребностей.
«Повторение, или возобновление продажи ради купли, так же как и самый этот процесс находят меру и смысл в лежащей вне этого процесса конечной цели, — в потреблении, в удовлетворении определенных потребностей. Напротив (!), при купле ради продажи начало и конец представляют собой одно и то же, а именно деньги, меновую стоимость, и уже вследствие одного этого данное движение бесконечно». Здесь телега явно ставится впереди лошади — бесконечность движения выводится из характера процесса обращения, а не сама возможность процесса — из характеристик каких-то потребностей (соответственно не имеющих конечного предела), хотя обычно Маркс поступает именно так: «Простое товарное обращение — продажа ради купли — служит средством для достижения конечной цели, лежащей вне обращения, — для присвоения потребительских стоимостей, для удовлетворения потребностей. Напротив (!), обращение денег в качестве капитала есть самоцель (!), так как возрастание стоимости осуществляется лишь в пределах этого постоянно возобновляющегося движения. Поэтому движение капитала не знает границ»6. Такие усилия — и без цели «вне обращения»? Конечно же, нет!
Однако продолжим. Говоря далее о капиталисте, Маркс пишет: «Объективное содержание этого обращения — возрастание стоимости — есть его субъективная цель, и поскольку растущее присвоение абстрактного (!) богатства является единственным (!) движущим мотивом его операций, постольку — и лишь постольку (!) — он функционирует как капиталист, т.е. как олицетворенный, одаренный волей и сознанием капитал. Поэтому потребительную стоимость никогда нельзя рассматривать как непосредственную цель капитала. Равным образом не получение единичной прибыли является его целью, а ее неустанное движение»7. «Самовозрастание капитала — создание прибавочной стоимости — есть, следовательно, определяющая, господствующая и всепоглощающая цель капиталиста, абсолютный импульс и содержание его деятельности, фактически оно есть лишь рационализированный импульс [Trieb] и цель собирателя сокровищ, совершенно убогое и абстрактное содержание, которое принуждает капиталиста, на одной стороне, выступать в рабских условиях капиталистического отношения совершенно так же, как рабочего, хотя и, с другой стороны — на противоположном полюсе»8. «Только отсутствие потребностей, отречение от них, отречение от потребительной стоимости той стоимости, которая существует в форме товара, делает возможным накопление ее в форме денег»9.
Получается странная картина: все люди как люди, в конечном счете стремятся к потребительным стоимостям, обеспечивающим удовлетворение их потребностей, а капиталист почему-то одержим страстью к стоимостям, готов ставить себя в «рабские условия» ради того «убогого и абстрактного содержания», которое, будучи абстрактным воплощением общественно необходимого рабочего времени, никакие конкретные «жизненные потребности» капиталиста удовлетворять в принципе неспособно. Более того: «его собственное личное потребление представляется ему грабительским посягательством на накопление его капитала»10. Проявляясь наиболее ярко у капиталиста, данное явление характерно для капитализма вообще, и стремление «делать деньги» для многих «приобретает значение этической максимы, которой подчинен весь образ жизни»11.
Дело здесь в том, что на самом деле процесс капиталистического обращения также находит «смысл» — не находя, однако, «меры» — вне самого процесса обращения. Он находит этот смысл, ибо и здесь капиталист удовлетворяет свои определенные потребности, но не находит «меры», ибо потребности эти специфичны и отличны от ограниченных «жизненных потребностей». Смешно было бы думать, что Маркс не знал, зачем капиталисту накопление (мы выше цитировали еще из его ранних произведений высказывание относительно роли денег). Но идея такого рода потребностей не вписывалась в его общую концепцию. Свои «жизненные (т.е. в основном индивидуальные согласно принятой выше классификации) потребности» капиталист удовлетворяет как и любой человек посредством присвоения потребительных стоимостей, его же функционирование как капиталиста определяется стремлением к удовлетворению в специфических формах (исторически определенных и доступных ему в отличие от других людей именно как капиталисту) своих иных (общественных) потребностей. И это относится отнюдь не только к капитализму. Для господствующих классов в любых формациях именно вследствие их господствующего положения как раз удовлетворение прежде всего собственных общественных потребностей при всем его конкретном своеобразии и различии в общем становится главным стимулом социального поведения, реализующего производственные отношения данной формации.
Почему же тогда Маркс не находит цели обращения капитала вне самого этого процесса, т.е. в потребностях капиталиста? Дело в том, что для Маркса потребление с целью удовлетворения любых потребностей предполагает уничтожение конкретным индивидом в этом процессе потребительных стоимостей по мере их потребления, а потому по сути своей является индивидуальным, а не общественным процессом (даже если оно совершается общественным индивидом совместно с другими индивидами: то, что в процессе удовлетворения своих потребностей – потребления – уничтожено данным индивидом, уже не может служить удовлетворению потребностей другого). Поэтому перед потреблением продукт, по его мнению, должен быть обязательно разделен среди индивидов. И потребности, которые при этом удовлетворяются, являются сугубо индивидуальными. Об общественных же потребностях за пределами производства в этом случае можно говорить только условно, как о некоторой сумме совпадающих, но в принципе все же индивидуальных потребностей, или же как о модификациях их под общественным воздействием, но отнюдь не как об особых потребностях, принципиально отличающихся от индивидуальных.
Поэтому Маркс, когда говорит о будущем «союзе свободных людей», переносит на него тот индивидуальный способ удовлетворения потребностей, который характерен для классового общества. Он неоднократно подчеркивает общественный характер производства в буржуазном обществе, то, что производство товаров удовлетворяет в конечном счете «разнообразные потребности своих собственных производителей» через их обмен между собой, поскольку они выступают «в качестве звеньев совокупного труда» и «должны удовлетворять определенную общественную потребность». А в «союзе свободных людей» производители вообще «расходуют свои индивидуальные рабочие силы как одну общественную рабочую силу», т.е. труд становится уже не опосредованно, а непосредственно общественным. Но потребление, по его мнению, остается столь же индивидуальным, т.е. за вычетом той части продукта, которая остается общественной, поскольку используется в дальнейшем непосредственно в общественном производстве, остальная часть «потребляется в качестве жизненных средств членами союза. Поэтому она должна быть распределена (!) между ними»12.
В этом и состоит коренная ошибка, проистекающая из представления о принципиальной нерасчлененности и сугубо индивидуальном характере личных потребностей человека. В действительности же только удовлетворение индивидуальных потребностей человека, т.е. потребностей его как биологического существа, в качестве непременного условия имеет распределение продуктов труда между индивидами — ввиду действительной неизбежности их уничтожения в процессе этого удовлетворения. Что же касается удовлетворения тех потребностей, которые были определены выше как общественные (отражающие нужды общества не как суммы индивидов, а как некоторого целостного организма, хотя и органически присущие индивиду как их субъекту), то необходимость явного или неявного разделения для их удовлетворения продуктов общественного труда между индивидами носит релятивный характер и имеет место только в определенных условиях, на определенном этапе общественного развития, а именно на том, где основные общественные потребности (прежде всего в самоутверждении) получают в противоположность их сущности в значительной степени вещное выражение. Удовлетворение членами господствующих классов тех собственных потребностей, которые мы определили как общественные, не только по своим конкретным способам становится признаком, характеризующим в определенной мере данную общественную формацию, но и в силу их господствующего положения в этой формации превращается в главный стимул их социального поведения, реализующего производственные отношения данной формации, в том числе не только способ получения, но и характер использования прибавочного продукта. А последний в различных общественно-экономических формациях различался весьма существенно.
Вопрос о разделении произведенного продукта на необходимый и прибавочный применительно к капиталистическому обществу рассмотрен Марксом самым подробным образом. Маркс был уверен, что «прибавочный труд вообще, как труд сверх меры данных потребностей, всегда должен существовать». В частности, «определенное количество прибавочного труда требуется … для обеспечения необходимого, соответствующего развитию потребностей и росту населения прогрессивного расширения процесса воспроизводства, что с капиталистической точки зрения называется накоплением»13. Им, а также и Энгельсом, был высказан ряд замечаний на этот счет применительно к другим общественным формациям, однако общего определения этих понятий они нам не оставили. Рассматривавший данный момент применительно к первобытному обществу, Ю.И.Семенов справедливо заметил, что вообще касаемо необходимого и прибавочного продукта в общем виде их «определения мы не найдем нигде а марксистской экономической литературе»14. Такое положение порождает ряд сложностей.
В первобытном обществе индивидуальные («биологические», связанные с существованием индивида как отдельного организма) потребности человека – потребности в «жизненных благах» – удовлетворялись в результате производственной деятельности, производящей продукты потребления, а общественные (потребности человека как элемента общества – в красоте, в общении, в самоутверждении) – посредством самой производственной деятельности (как и вообще функционирования в качестве элемента «сверхорганизма»), в ее процессе. По мере роста общественной производительности труда, и соответственно производимого продукта, улучшались условия для удовлетворения индивидуальных потребностей. В то же время по мере распада первобытного общества как целостного организма ухудшались условия для удовлетворения общественных потребностей человека посредством прямого функционирования в качестве его элемента. Соответственно появляется стремление восполнить, компенсировать возникающую недостачу использованием для этих целей части произведенного продукта, т.е. частично уже также и посредством результатов производственной деятельности. Остальной продукт используется так же, как и раньше – для воспроизводства рабочей силы. А как же используется та часть произведенного продукта, которая направлена на другие цели?
Ниже мы подробно рассмотрим этот вопрос в историческом аспекте. Здесь только отметим, что появляющийся со становлением классового общества прибавочный продукт под принуждением отдается одной социальной группой для нужд другой социальной группы. Теперь последняя социальная группа своей целью ставит не непосредственное добывание «жизненных благ» непосредственно из природной среды, а такую организацию первой, которая обеспечила бы эти жизненные блага и ей, и себе, т.е. производила бы и необходимый, и прибавочный продукт. Будучи насильственно отнятой одной социальной группой у другой, определенная часть продукта используется господствующей социальной группой для обеих целей: и для удовлетворения своих индивидуальных «жизненных потребностей», и для удовлетворения потребностей общественных. Угнетенной социальной группе для последней цели приходится использовать в основном прежние методы – при постоянном дефиците удовлетворения общественных потребностей.
Но со становлением первого классового общества как относительно целостного общественно-экономического организма, т.е. как определенного способа производства, разделение общества как субъекта производства на два производственных класса («отвечающих» соответственно за рабочую силу и условия ее применения, или, говоря другими словами, за живой и овеществленный труд, соединяемые в процессе производства для получения продукта), предполагает постоянное социальное разделение труда в процессе производства на непосредственно производящий и управленческий, т.е. на выполнение технологических операций по созданию продукта и организацию этого процесса. Это касается любого классового общества. Например, при капитализме, по мнению Маркса, «капиталист как надсмотрщик и руководитель … должен выполнять определенную функцию в процессе производства»15. Соответственно должна быть воспроизведена и рабочая сила этого «надсмотрщика и руководителя». Таким образом, та часть производимого продукта, которая идет на воспроизводство рабочей силы членов господствующего класса как управляющих, выполняющих необходимую для нормального осуществления трудового процесса организационную функцию, также по сути дела является частью необходимого, а не прибавочного продукта, и идет на удовлетворение «жизненных потребностей» людей, принимающих указанное реальное и необходимое участие в производственном процессе, хотя они и составляют господствующую социальную группу.
Иначе дело обстоит с действительно прибавочным продуктом, т.е. той частью насильственно изымаемого продукта, которая ни в каком виде не используется для воспроизводства той рабочей силы, благодаря которой он был произведен. Этот продукт прежде всего идет на создание предметов, используемых господствующей социальной группой для удовлетворения своих общественных потребностей, т.е. в конечном счете предназначен для «прокормления» той части работников, которая создает не «жизненные средства» общества, а средства для удовлетворения указанных потребностей. Следовательно, эта группа работников сама составляет особую социальную группу, которая не участвует в том общественном производстве, которое обеспечивает выживание общества в природной среде. Будучи так же угнетенными, как и производительные работники, они, хоть и не по своей воле, объективно представляют собой тот «груз», который общество, надрываясь, вынуждено тащить на себе. Другое дело, что в ряде случаев эту группу достаточно сложно (а порой и невозможно) в полном объеме выделить физически, в качестве действительно отдельной группы людей; достаточно часто обе функции выполняют все те же люди, что не меняет существа дела (так же как отсутствие физического разделения необходимого и прибавочного времени не отменяет существенного различия между ними по социально-экономической функции).
В этом – суть прибавочного продукта. Но формы его использования в различных классовых общественно-экономических формациях достаточно существенно различаются. В рабовладельческом обществе практически весь прибавочный продукт тратится господствующим классом на предметы роскоши и оружие. То же самое имеет место на протяжении большей части времени существования общества феодального. Здесь искомые власть и богатство олицетворяются именно владением такими предметами. Но уже в его конце появляется тенденция, нашедшая свое развитие и наиболее полное воплощение при капитализме, заключающаяся в представлении богатства и власти через капитал. Показателем их здесь становится прибыль, соответственно превращающаяся в главный объект стремления членов господствующего класса. Выше мы рассмотрели указанный момент применительно к капиталистическому обществу. Но расширение прибыли в масштабах общества связано с расширением производства, для чего значительная часть полученного продукта тратится на эти цели, т.е. на оплату труда, затрачиваемого не на воспроизводство, а на расширение производства, поскольку именно таким образом прежде всего удовлетворяются общественные потребности капиталиста. Именно на эти цели уходит значительная часть прибавочного продукта (прибавочной стоимости), остальная – на предметы роскоши для буржуазии.
Как видим, потребности человека являются универсальным движущим фактором его деятельности, а следовательно, и развития общества. Однако изначальное представление о потребностях человека как принципиально нерасчленимом (едином в многообразии) целом не позволяет до конца понять даже поведение людей в капиталистическом обществе. Применительно же к социализму без учета этого обстоятельства вообще невозможно понять характер движущих стимулов поведения людей, а следовательно, и характер (а тем более развитие) данного общественного строя. Этими соображениями мы здесь пока и ограничимся, поскольку характер функционирования общественных потребностей рассмотрен нами выше, а некоторые дополнительные вопросы будут обсуждены одновременно с анализом действия факторов развития в конкретных общественных условиях.
Согласно основным положениям марксизма движущей силой общественного развития являются противоречия между наличными производительными силами общества и теми отношениями, в которые люди вступают в процессе производства. Последние прежде всего выражаются в отношениях собственности, а потому одним из наиболее важных вопросов, который необходимо рассмотреть, прежде чем перейти к исследованию процессов смены общественных формаций, как раз и является вопрос о собственности. Это тем более важно, что в переходные эпохи, с анализа одной из которых мы намерены начать рассмотрение процесса общественного развития, вопрос о собственности, в более или менее стабильных условиях остающийся в известной степени академическим, приобретает исключительную актуальность.
Классики марксизма не раз говорили о мистифицированности общественных отношений, о скрытом характере их глубинной сущности за поверхностными явлениями. При поверхностном анализе, когда руководствуются «здравым смыслом», видимость принимается за сущность. Обсуждение проблем собственности — яркий пример этого в наше время. В этой связи чаще всего обсуждается отношение человека к вещам. Но на самом деле собственность как общественное явление по своей сути не есть отношение человека к вещи; по своей природе отношения собственности — это отношения между людьми по поводу вещей, да и то не всяких. И только как отражение, как одна из форм проявления это отношение воплощается в отношение человека к вещи. Непонимание или игнорирование этого приводит к фактическому сведению общественных отношений собственности к психологическому феномену отношения человека к вещи. Соответственно все дальнейшие рассуждения, будучи основанными на неверной посылке, не приводят к истине, а уводят от нее.
Любая жизнеспособная система в окружающей среде находится с последней в состоянии постоянного материального обмена. Обмен этот осуществляется путем ассимиляции (присвоения) некоторых элементов внешней среды и диссимиляции, выделения в нее собственных (отчуждение). Процесс носит универсальный характер для всех целостных систем – от амебы до общества. Отношения собственности, связанные с процессами производства, т.е. «обмена веществ» общества с природой, своей основой также имеют явления присвоения и отчуждения. Будучи явлением общественным, они возникают из этих процессов, хотя и не сводятся к ним, и базируются на том, что «вещи сами по себе внешни для человека и потому отчуждаемы»16. Но без понимания именно общественного характера этой стороны процессов присвоения и отчуждения у человека вопрос о сущности отношений собственности и их роли в общественном развитии не решить.
Когда обезьяна при помощи палки достает банан, она не только по отношению к банану, но и по отношению к палке осуществляет присвоение. Присвоение банана происходит непосредственно введением его в организм, где он и ассимилируется. Чтобы послужить тем целям, ради которых совершается данный акт, банан должен быть существенно трансформирован организмом. Эта трансформация – постоянный процесс, результатом которого является жизнедеятельность системы. Аналогичный процесс превращений происходит с любыми другими объектами, ассимилированными биологической системой.
Но присвоение обезьяной палки носит уже несколько отличный характер. Палка, оставаясь «внешней» по отношению к организму вещью, становится как бы его частью, продолжением конечности в данной частной функции последней. Использованная в качестве орудия, а затем отброшенная, палка после ее использования возвращается в среду такой же, какой была взята, и опять становится только палкой, но не орудием. Никакой трансформации указанный объект по своей сути не претерпел, и сам по себе не был включен в метаболизм данной системы. Процесс присвоения, несомненно, имел место, однако в отличие от присвоения банана здесь присвоение имеет случайный, однократный, кратковременный, относительный характер, и в этом смысле мало чем отличается от случайного же использования животным других природных объектов (например, укрытия). У человека акт использования орудия труда превращается в закономерный и постоянный. На период производственных операций орудие труда становится как бы естественным продолжением руки, превращается в часть данного человека. Происходит общественный процесс присвоения индивидом внешнего для него объекта.
Однако этот процесс носит общественный характер только в том смысле, что его совершает существо общественное, что только как общественное существо человек приобретает развернутую способность к совершению указанного процесса. Но сам процесс является сугубо индивидуальным. Возможно, первоначально это было связано с выбором человеком орудия соответственно своим индивидуальным особенностям, а еще больше с приспособлением себя к данному орудию, с выработкой конкретных навыков, которые только и делали эффективным его использование, и следовательно, не всегда целесообразным использование именно этого орудия другим индивидом. Процесс присвоения здесь налицо, но говорить о собственности на «продолжение руки» так же бессмысленно, как бессмысленно говорить о собственности человека на саму руку17, или о том, что растение или животное — собственник тех «растительных и животных органов, которые играют роль орудий производства в жизни растений и животных»18.
Человек ощущает себя физической отдельностью в окружающем его мире. Но, будучи отдельностью, он не отделен от мира, между человеком и остальным миром осуществляется постоянный вещественный, энергетический, информационный обмен. Изменение материального баланса (или поддержание баланса) между этой отдельностью и всем остальным миром также выражается в процессах присвоения и отчуждения. Эти процессы в своем физиологическом выражении составляют основу биологического существования человека. Они общи у человека и животного и, пока совершаются строго в пределах этой общности, не имеют специально общественного значения, как и не требуют для своего описания специфических понятий, выходящих за рамки биологии. Но человек, будучи существом биологическим, одновременно также является существом общественным, а потому все его проявления с определенной точки зрения являются общественными. В своеобразной форме, например, это отражается (применительно к данному случаю) в особом отношении в древних верованиях к выделениям человеческого организма. Гораздо более существенно положение меняется относительно функционирования человека именно как человека, т.е. как элемента биологического организма более высокого уровня, поскольку теперь определяющую роль играет обмен веществ с окружающей средой именно этого организма (который, однако, осуществляется через посредство индивидов). Вот здесь проявляется принципиальная возможность отчуждения орудия труда от конкретного индивида без потери орудием этого качества, т.е. определенного общественного значения.
Первой особенностью орудия труда в обществе по сравнению с предметами, используемыми животными, является то, что эти предметы в данном случае подвергаются обязательной трансформации. Даже в простейшем случае палка будет отломлена, очищена, обожжена, камень специфически обработан. Только после такой трансформации природный объект становится орудием. Теперь орудие, на создание которого был затрачен определенный труд (и, стало быть, не человек приспособлен к вещи, а вещь к человеку), уже не будет отброшено после выполнения той или иной операции, а будет сохранено для выполнения аналогичных операций в дальнейшем. При этом ряд операций, имея жизненно важное значение, уже не могут выполняться иначе, чем посредством определенного орудия. Произошла ассимиляция природного объекта, орудие становится частью общественного организма. Но в данном случае ассимиляция, имея все существенные признаки любой ассимиляции, имеет также и отличие от рассмотренного выше случая, заключающееся в том, что данный объект ассимилирован специфической системой – не индивидом, а сверхорганизмом-обществом как некоторой целостностью. Он так же будет функционировать в руках одного индивида, как и другого – в интересах этой целостности.
Отметим, что процесс трансформации природных объектов в орудия труда происходит со становлением общества и человека с постепенным усложнением орудий и с увеличением затрат труда на их изготовление. Этот процесс входит составной частью в процесс формирования человека и общества, и в «готовом» обществе с «готовым» человеком представляет уже развитое явление ассимиляции общественным организмом природных объектов, составляя неотъемлемую часть общественного «метаболизма». Дальнейшее его усложнение, связанное с усложнением технологических процессов и орудий производства, несмотря на кажущуюся их несопоставимость (одно дело – заостренная и обожженная деревянная копалка, другое – роторный экскаватор), уже не вносит в данное отношение ничего принципиально нового.
Заменив один субъект ассимиляции другим, и показав аналогичность этого процесса, мы также не имели бы ничего принципиально нового, если бы не два существенных момента. Во-первых, орудие производства (а теперь это уже именно так) может выполнять свое назначение, т.е. определенным образом функционировать в качестве элемента общественного организма, только оставаясь некоторое время и в определенных границах относительно постоянным и неизменным. Только в этом случае технически возможен феномен собственности на определенный объект. Во-вторых же, еще более важно то, что данный объект не используется индивидом непосредственно для ассимиляции в качестве природного объекта, а только служит такому взаимодействию общества со средой, которое обеспечивает в конечном счете индивидуальную ассимиляцию других объектов. Ни скребок, ни игла не удовлетворяют никакой «жизненной потребности» индивида. Но скребком чистят шкуру, иглой ее сшивают, получая в результате одежду, уже непосредственно используемую для удовлетворения насущной потребности в защите от холода. Таким образом, ценность указанных объектов не в непосредственном удовлетворении индивидуальных «жизненных потребностей», а в обеспечении их удовлетворения в процессе трудовой деятельности, т.е. в качестве условий применения рабочей силы человека. И, как показал Маркс, потребительная стоимость этих объектов (средств производства вообще, и орудий труда в частности) потребляется человеком не непосредственно, а путем постепенного перенесения овеществленного в них труда на предметы потребления. Соответственно постепенно снижается потребительная стоимость орудия труда, вплоть до того момента, когда оно теряет возможность выполнять свои функции19. Тогда процесс перенесения полностью заканчивается, и орудие производства теряет свою определенность в данном качестве.
Из всего сказанного непосредственно следует, что такое явление как собственность возникает только с возникновением общества, и притом как собственность на весьма специфические объекты – средства производства, специфичность которых как раз и заключается в том, что они, не удовлетворяя непосредственно никаких «жизненных потребностей», являются условиями применения рабочей силы для производства объектов, предназначенных именно для такого удовлетворения20. При этом собственность появляется тогда, когда появляется принципиальная возможность отчуждения вещи от индивида внутри общественного организма. Другими словами, здесь уже об отчуждении можно говорить только как о процессе общественном, причем не только по форме, но и по существу. Утеря индивидом своей вещи не есть отчуждение в общественном смысле. Только отчуждение каких-то функций вещи от индивида в связи с их присвоением другим индивидом или группой людей связана с отношениями собственности. При таком частичном отчуждении применение вещи отдельным индивидом (или коллективно) не делает ее в общественном смысле его частью. Но вещь, даже полностью отчужденная от конкретного индивида, остается частью общественного организма, если, будучи используемой другим человеком, продолжает выполнять необходимые для общества функции. Отчужденное от данного человека орудие (в отличие от отброшенной обезьяной палки) не перестает быть орудием для общества, становясь общественной собственностью. Поэтому собственность как явление первоначально формируется именно как общественная собственность21.
Характер отчуждения зависит от тех общественно-экономических отношений, которые имеют место в тот или иной исторический период. Однако в принципе виды отчуждения могут только соответствовать видам присвоения, которые вообще могут существовать. Общественная практика выделила всего три возможных вида присвоения (еще раз подчеркнем, что речь идет об общественном процессе, т.е. об отношениях не людей с вещами, а людей по поводу вещей, в отличие от индивидуального присвоения, присвоения как функционального включения внешнего физического объекта в состав тела индивида). Они суть следующие: первый — представление о единстве субъекта с объектом; второй — обеспечение функционирования объекта в соответствии с волей субъекта; третий — присвоение субъектом (в любом виде) результатов функционирования объекта. Эти три момента могут в каждом конкретном случае, применительно к конкретным субъектам и объектам, существовать вместе, раздельно или в любой комбинации.
Существование трех моментов, связанных с присвоением (или отчуждением) как общественным процессом, в дальнейшем было юридически зафиксировано в различных трех моментах, характеризующих реально функционирующие отношения собственности: владение, распоряжение, пользование. В отличие от большинства юридических норм, которые только в критериальном (и, следовательно, релятивном) виде отражают общественно-экономические отношения, в данном случае они непосредственно фиксируют общественную сущность данных отношений, а потому как понятия столь же закономерно могут быть отнесены к области политэкономии (и даже социологии), как и юриспруденции.
Следует, однако, иметь в виду, что в юриспруденции не существовало и не существует удовлетворительных общих определений этих составляющих отношений собственности. Имеющиеся же определения в значительной мере восходят к римскому праву. В те времена, когда в общественной жизни Рима еще весьма значительную роль играли рудименты племенных отношений, связанные с характерным для переходного периода расщеплением отношений собственности по субъектам и объектам, понятие собственности еще не сформировалось как целостное понятие. Поэтому и в римском праве «в доклассическое время не существовало общего определения собственности, а давалось перечисление отдельных полномочий собственника»22. Но по мере становления классовых отношений уже «классическая юриспруденция понимала собственность как неограниченное и исключительное правовое господство лица над вещью, как право, свободное от ограничений по самому своему существу и абсолютное по своей защите»23. При этом в римском праве различались отношения собственности и владения, причем владение понималось не столько как общественное отношение, сколько как простое «держание». Так, древнеримский юрист Павел утверждал: «Доказательство … владения [possessionis] состоит не столько в праве, сколько в факте, поэтому для доказательства достаточно, если я материально держу вещь»24. Именно в таком смысле употребляли эти термины Маркс25 и Ленин26. Но, как мы отмечали, во времена Древнего Рима рудименты родовых отношений играли еще весьма существенную роль, отражаясь в том числе и в сфере имущественных отношений, внося весьма существенные особенности в отношения по поводу средств производства. В дальнейшем по мере утверждения частной собственности как единственного общественного отношения к средствам производства «слияние» трех упомянутых видов отношения, фактическое превращение их в лучшем случае в некие «ипостаси» становящегося все более единым отношения собственности, делали их все более редкие сепаратные внешние проявления не более чем юридическими казусами, не играющими существенной роли в производственных отношениях. Что же касается значения терминов владение, распоряжение и пользование, принятого для них в данной работе как для трех «ипостасей» отношения собственности, то их определение дано выше.
Вообще в полном объеме (т.е. с реализацией во всех трех аспектах) субъектом собственности может быть только некоторое целое, выступающее как целое во всех основных жизненных проявлениях. Как мы уже неоднократно подчеркивали, в общественной жизни таких целых может быть два: общество как целостный организм, и индивид как элемент общества, обладающий, однако, высокой степенью самостоятельности. Соответственно этому различаются и два основных вида собственности — собственность общественная и собственность частная.
Во избежание терминологических недоразумений в этом исключительно важном вопросе следует, повидимому, еще раз подчеркнуть, что понятие «частная собственность» мы здесь используем только в том смысле, который ему всегда придавался марксизмом. Другими словами, в каких бы условиях не шла речь о частной собственности, она идет не о противопоставлении собственности «частного лица», отдельного индивида с одной стороны, и собственности «казенной» (государственной), групповой или коллективной с другой, не вообще о личной собственности на те или иные вещи, не о принадлежности данного имущества конкретному лицу, но только о собственности конкретного лица (равно как и группы лиц с достаточно определенно зафиксированными обществом отношениями между ними) на весьма специфические объекты — средства производства, специфичность которых заключается в том, что они являются условиями применения рабочей силы, включающей владение, распоряжение и пользование этими средствами производства, а следовательно, и реальную возможность определять в полном объеме сам процесс производства.
Что же касается собственности общественной, то о ней применительно к тому же объекту можно говорить только при наличии общества как некоторой целостности, осознающей самое себя (разумеется, через своих членов) как целостность, и стало быть, сформировавшегося как целостный субъект отношения собственности. Так было в первобытном обществе, когда человек ощущал себя не человеком вообще, но членом данного племени; так будет при коммунизме, где «нет классов (т.е. нет различия между членами общества по их отношению к общественным средствам производства)»27, когда сам по себе статус человека без каких бы то ни было дополнительных оснований определит его отношение к любым общественным явлениям, в том числе и ко всему материальному достоянию общества, т.е. при полном нивелировании социальных (и следовательно, ввиду отсутствия социальных препятствий, при полном же раскрытии индивидуальных) различий между людьми. Очевидно, что при наличии классов, государства, других социальных образований, по самой своей природе предполагающих именно социальную дифференциацию между членами общества, этого быть не может, а следовательно, не может быть и речи об общественной собственности.
Что касается частной собственности, то различные производственные отношения предполагают существенную ее модификацию. При этом исторический опыт говорит, что различные формы частной собственности, хотя и определяющие различные уровни общественного развития, тем не менее, будучи только модификациями ее, вполне могут определенное время сосуществовать. Однако частная и общественная собственность прямо противоположны друг другу, предполагая совершенно различную социально-психологическую атмосферу, и следовательно, взаимно исключают друг друга и сосуществовать в одном социальном образовании не могут. Но с другой стороны столь коренной общественный перелом, как переход от одной фундаментальной формы собственности к другой, не может быть не только однократным, но и кратковременным актом. Переходный период от классового общества к бесклассовому (а в свое время наоборот), представляя собой коренное изменение общественной организации, является весьма длительным. И как таковой он может быть только периодом, где нет ни частной, ни общественной собственности на средства производства в их классической форме, т.е. где нет целостного отношения собственности, где собственность расщеплена по формам своей реализации. В такой ее реализации — единственная возможность перехода от одной фундаментальной формы собственности на средства производства к другой. Конкретный характер этого состояния будет рассмотрен при рассмотрении соответствующих этапов общественного развития.
Отношения собственности, под которыми понимаются отношения между людьми по поводу средств производства, являются наиболее фундаментальными среди базисных общественных отношений, но далеко не единственными. Они, как и вообще базисные отношения, отражающие в главных чертах взаимодействия людей в каждый данный исторический период при производстве общественной жизни и ее материальных условий, сложны и противоречивы в своих внешних проявлениях. То, что Маркс говорил о мистифицированном отражении в сознании действительных отношений при капитализме, касается также любых других общественно-экономических формаций, которые знала до сих пор история. Соответственно и действия индивидов или групп людей, определяемые ими, неоднозначны и противоречивы. При внешней скрытости пружин максимальное соответствие конкретных проявлений общественной жизни общему ее направлению обеспечивается идеологической надстройкой, формируемой на базисных отношениях по вероятностно-статистическим законам, а потому сглаживающей флуктуации их конкретных проявлений. Но по той же причине надстройка имеет громадную инерционность, и ее изменения неизбежно запаздывают по отношению к изменениям базиса, как бы ни был инерционен последний сам по себе. Поэтому при изменении базисных отношений, какими бы причинами они не вызывались, идеологические надстроечные образования всегда отстают от них. Таким образом «дело обстоит с политическими, религиозными, философскими системами вообще»28.
Инерционность надстройки жизненно важна для стабилизации общества. Соответствующие представления в идеале охватывают все общество, все взаимодействующие социальные группы независимо от того, выгодны ли соответствующие базисные отношения именно этой социальной группе или нет, поскольку выгодны данному общественному образованию в целом, обеспечивая возможность его существования на данном этапе, а значит, и существования всех составляющих его групп. В условиях общественной стабильности (всегда относительной) наличные общественно-экономические отношения воспринимаются как естественные условия жизни, столь же естественные, как и физические условия существования, скажем, как наличие земного тяготения. Вот как Маркс описывает такое состояние применительно к капитализму: «Мало того, что на одном полюсе выступают условия труда как капитал, а на другом полюсе – люди, не имеющие для продажи ничего, кроме своей собственной рабочей силы. Мало также принудить этих людей добровольно продавать себя. С дальнейшим ростом капиталистического производства развивается рабочий класс, который по своему воспитанию, традициям, привычкам признает условия этого способа производства как само собой разумеющиеся естественные законы»29.
Но изменение базисных условий жизни, будучи результатом объективных причин, происходит не само по себе, а в результате конкретных действий конкретных людей. Действия же людей непосредственно определяются их интересами, в свою очередь определяемыми их местом в системе общественно-экономических отношений. При изменениях последних образуется новая социальная группа, объединенная общими интересами. Связав свою жизнь с новыми общественно-экономическими отношениями, эта группа заинтересована в их становлении, укреплении, стабилизации. Эта заинтересованность ближайшим образом отражается в формировании новой идеологии, обеспечивающей внутреннее единство общественно-экономических и социально-психологических факторов в пределах данной группы. Это обстоятельство обуславливает необходимость (ибо вновь нарождающаяся группа противостоит большинству) и возможность (ибо наличествует и развивается соответствующая экономическая база) возникновения определенной структуры, организации, обеспечивающей целостность данной группы и являющейся основой власти.
Организация, соответствующая по своей направленности новым, побеждающим в силу действия объективных факторов развития общества, базисным отношениям, и спаянная общей идеологией, представляет мощную общественную силу, которая, осуществляя политическую власть, способна навязать свою волю всем остальным, несмотря на подавляющее количественное превосходство последних. Структурные факторы, организация в очередной раз демонстрируют свои преимущества перед относительно аморфным, находящимся на более низком уровне организации количеством.
Таким образом, при всяких общественных преобразованиях, затрагивающих базисные отношения, в масштабах общества возникает коллизия общественно-экономических и социально-психологических факторов. В этом случае новые общественно-экономические отношения властно утверждаются и стабилизируются в масштабе того или иного общественного образования первоначально против действия общего социально-психологического фактора, и навязываются большинству посредством насилия (чаще всего государственного насилия) со стороны ограниченной, но организованной социальной группы, для которой соответствие этих факторов имеет место. Происходит социальная революция. И она продолжается до тех пор, пока изменение общественно-экономических отношений не приведет к соответствующему изменению социально-психологической атмосферы в обществе. Наступившее согласие создает уже автоматическое генерирование соответственно направленного общественного сознания, обеспечивая тем самым социальную стабильность без применения (точнее, с минимальным применением) насилия. На начальном же этапе преобразований насилие неизбежно: «Насилие является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым. Само насилие есть экономическая потенция»30.
В определенных условиях (и прежде всего в условиях относительной изоляции данного социального образования, а тем более его противопоставления социальной среде) старая организация благодаря той же инерционности надстройки может, опираясь на насилие, на имеющуюся государственную власть, используя их раньше, чем объективные процессы приведут к возникновению сильной новой организации, продлить существование отжившей формации. Тогда начинается период загнивания общественного строя. Загнивание не равнозначно застою в общественном развитии, ибо если застой – это торможение внутренних процессов развития общества, то загнивание – сохранение общественных институтов в условиях, когда общее развитие (как данного образования, так и его окружения) пришло с ним в противоречие. Для загнивания в начальный период свойственна достаточно высокая активность общественных процессов, обеспечивающая дальнейшее движение по инерции; но чем дальше, тем больше загнивание «выдохшегося» общества сопровождается застоем.
Загнивание вовсе не является аномальным общественным явлением. Оно закономерно наступает при определенных внутренних и внешних условиях, в которых развивается то или иное общественное образование. Загнивание начинается тогда, когда полностью исчерпаны возможности развития данного общественного образования на имеющейся базе, когда в результате этого развития возникла необходимость качественных изменений, перехода на новые базисные отношения, но по тем или иным причинам этого не происходит. Физической моделью этого состояния могло бы служить пресыщение раствора. Когда ненасыщенный раствор с понижением температуры превращается в насыщенный, дальнейшее ее понижение должно привести к началу кристаллизации растворенного вещества с тем, чтобы и в этих условиях раствор продолжал оставаться насыщенным. Но при достаточно плавном течении процесса возможно положение, когда этого не происходит, раствор становится перенасыщенным, и только внешнее воздействие (попадание примесей, сотрясение и т.п.) приводит к бурной кристаллизации (общественный аналог – революция) и восстановлению нормальной насыщенности при данной температуре.
Если вслед за Гегелем представить себе траекторию развития в виде восходящей спирали, то застой – это только замедление движения по данной траектории, в то время как загнивание – проявление сил инерции («центробежных сил») при слабой связи с «генеральной линией», которые «выносят» развитие данных форм общественной жизни за пределы спирали развития по прямой, продолжающей предыдущий участок спирали, т.е. по касательной к ней. Существующие связи между этой прямой и «естественной» спиралью болезненно напрягаются, часть их разрушается, но их общее усилие раньше или позже «ломает» данную линию развития, все же возвращая ее (но после колебаний) на нормальный спиральный путь развития – если этому не воспрепятствует застой. Загнивание – универсальный вид состояния общества, как универсально явление инерционности. Оно проявляется достаточно часто, все дело только в мере, в жесткости линии развития, в прочности связей, во внешних влияниях и т.п. Только при определенных условиях оно (совместно с застоем) становится фактором, на сравнительно длительное время определяющим путь развития общества.
Насилием сопровождается каждое изменение формы собственности, даже если это относится только к ее модификации в пределах одной общественно-экономической формации. Взять, к примеру, первоначальное накопление капитала, когда происходит (причем на основе законов, свойственных данному способу производства) экспроприация мелких товаропроизводителей, когда осуществляется в том числе и их насильственное подавление. Но это – частный случай, тем более относящийся к тому времени, когда заканчивается полный цикл «притирки» общественно-экономических и социально-психологических факторов на основе частной собственности, когда все развитие частной собственности вступает в свою высшую, завершающую фазу. Само же становление частной собственности как основы классовой организации сопровождалось жестким и тотальным насилием.
Развитие каждого этапа относительно устойчивых отношений собственности имеет две противоположные тенденции, приводящие в конечном счете к нарастанию в обществе внутренних противоречий: с одной стороны это ведет к известному (временному, относительному) согласованию действия общественно-экономических и социально-психологических факторов, что стабилизирует данный общественный строй, повышает его устойчивость; с другой – к нарушению соответствия между производительными силами и производственными отношениями в классовом обществе, ибо вследствие роста первых им становится тесно в рамках прежних производственных отношений.
Таким образом, стабилизация общественных отношений в смысле соответствия общественно-экономических и социально-психологи-ческих факторов имеет относительный характер. В период становления указанных факторов существующие общественные установления представляются естественными, отвечающими природе человека и божественным установлениям (яркий пример – идеология просветителей). «Пока тот или иной способ производства находится на восходящей линии своего развития, до тех пор ему воздают хвалу даже те, кто остается в убытке от соответствующего ему способа распределения… Лишь когда данный способ производства прошел уже немалую часть своей нисходящей линии, когда он наполовину изжил себя, когда условия его существования в значительной мере исчезли и его преемник уже стучится в дверь, – лишь тогда все более возрастающее неравенство распределения начинает представляться несправедливым, лишь тогда люди начинают апеллировать от изживших себя фактов к так называемой вечной справедливости»31. Общественное развитие не заканчивается, его факторы продолжают действовать, «естественные» отношения начинают представляться все более «неестественными», назревает взрыв, и насилие в очередной раз исполняет свою извечную роль повивальной бабки при рождении нового общества. Таков общий характер развития. Однако конкретно характер такого рода переходов следует рассматривать при рассмотрении конкретных форм общественной организации.
Раздел третий
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ОРГАНИЗМА
3.1. Антропосоциогенез. Первобытное общество
Как известно, исследование любого объекта связано с практическим разрешением логического противоречия: с одной стороны исследование может быть эффективным лишь в том случае, когда достаточно строго определен его объект; но с другой стороны само определение объекта может быть только результатом его исследования. При этом одно из требований полноты и всесторонности изучения объекта — сочетание его логического и исторического анализа. Нашей целью является исследование процессов развития общества, а оно неизбежно должно начинаться с определения понятия «общество», включающего и выявление его сущностных характеристик. Для этого нам пришлось в известной мере касаться и вопросов его развития, ибо общество — система динамичная, и вне динамики его движения понять его сущностные характеристики нельзя. Однако только теперь, после более или менее подробного анализа характеристик этого объекта, мы можем приступить к последовательному рассмотрению процесса его развития, одновременно стремясь таким образом углубить содержание понятия общества.
Анализ этот предпочтительно начинать с рассмотрения вопроса о становлении объекта развития, т.е. с вопроса о становлении общества, о социогенезе. Выше мы пытались показать, что общество есть единый биологический организм, обладающий функциональной целостностью и состоящий из элементов с высокой степенью самостоятельности — индивидов. Становление целого, его сущностные характеристики определяются характеристиками элементов, но, главное, эти последние, в свою очередь, определяются потребностями целого. Процесс этот по сути своей противоречив, и идет в постоянной борьбе между целым и его элементами. Другими словами, процесс формирования целого и его элементов может протекать только в диалектическом единстве этих своих составляющих, хотя, конечно, ведущей стороной данного процесса является формирование целого. Однако чем выше уровень целого и чем сложнее его элементы, тем больше внимания необходимо уделять последним. Это касается и процессов становления. Поэтому процесс социогенеза следует рассматривать одновременно и как процесс становления общества, и как процесс формирования человека: «процесс становления человека и процесс становления общества представляют собой не два самостоятельных процесса, а две стороны одного и того же процесса – процесса становления человека и общества»1, т.е. процесс антропосоциогенеза. Рассматривая проблемы антропосоциогенеза, мы здесь не намерены анализировать имеющийся обширный конкретный материал, связанный с рассматриваемым вопросом — это дело специальных наук. Речь может идти только о некоторых методологических аспектах в анализе накопленных наукой данных, основывающихся на изложенных выше представлениях о взаимодействии живой системы со средой.
Существует точка зрения, согласно которой в антропосоциогенезе становление нового целого имело свои начало и конец, отделяющие участвующих в этом процессе индивидов как от животных, так и от человека. Такой подход получил наименование «теории двух скачков». «Первый и наиболее важный из них – это отмеченный началом изготовления орудий переход от стадии животных – предшественников человека к стадии формирующихся людей, которыми являются питекантроп (и сходные с ним формы) и неандертальцы. Второй скачок – происшедшая на грани раннего и позднего палеолита смена неандертальца Homo sapiens, являющимся подлинным готовым человеком»2. «Первый скачок означает появление социальных закономерностей, второй – установление их полного и безраздельного господства в жизни людей. Коллектив питекантропов и неандертальцев – первобытное человеческое стадо, уже не являющееся чисто биологическим объединением, – в то же время не представлял собой и подлинно человеческого общества, в нем еще действовали силы естественного отбора. Подлинное человеческое общество сложилось, причем в форме родового, лишь с появлением человека современного типа, неоантропа. Нетрудно понять, что оба рассмотренных скачка представляют собой не что иное, как начальный и конечный моменты того грандиозного скачка, каким является вся эпоха становления человека и общества в целом, – скачка от биологического к социальному»3. Что же составляло содержание этого периода?
Наши человекообразные предки до уровня хабилисов имели чисто биологическое объединение – стадо, в котором система доминирования обеспечивала необходимый уровень стабилизации и возможность развиваться дальше отражательному аппарату под защитой все более сплоченного стада. В свою очередь начавшееся быстрое развитие отражательного аппарата позволяло осуществлять все более сложную (в том числе и орудийную) деятельность, что опять же способствовало повышению приспособления к среде.
При системе доминирования в размножении участвуют все самки и ограниченное число самцов высших рангов, что способствует отбору по качественным признакам, не нарушая количественного механизма. Если отбор происходит по индивидуально полезным признакам, то он ведет к углублению специализации. Но отбор закрепляет и свойства доминирующего индивида как «органа» стада, полезные последнему во взаимодействии со средой. К ним можно отнести также и силу, и быстроту реакции, и остроту органов чувств, и агрессивность, и память, и аналитические возможности, равно как и другие, полезные не только самому животному, но и стаду качества. Эти качества обеспечивают как выживаемость стада, так и доминирующее положение особи в стаде. При достаточно полном совпадении направления этих двух линий (т.е. индивидуальной и групповой полезности признаков) обеспечивается прогрессивное развитие, при несовпадении – остановка и даже регресс.
Но даже при прогрессивном развитии раньше или позже возникает и постепенно усиливается противоречие между развивающимся отражательным аппаратом, требующим значительных затрат на воспроизводство, и столь нерациональным его использованием во взаимоотношениях со средой, когда значительная часть особей далеко не в полную силу участвует в этом взаимодействии в качестве «органов» стада. Назревает кризис системы доминирования, знаменующий конец первого этапа становления общественного организма, этапа, на котором в стаде – этой начальной форме объединения, ведущей к «сверхорганизму», – возникают как бы подобия органов формирующегося нового целого. По своему объективному положению это – особый этап развития живого. По своей же роли в дальнейшей эволюции, как она представляется с позиций «готового результата», этот этап является подготовительным, создающим «исходный материал» для формирования человека – существа с высокоразвитым отражательным аппаратом, чье отношение с окружающей средой опосредуется новым биологическим образованием — обществом. Переход к новым закономерностям развития и составил содержание следующего, переходного этапа.
Сейчас нет достаточных объективных данных для определения характерных черт этого, длившегося порядка полутора миллионов лет, периода перехода от системы доминирования до того момента, когда начали складываться и принимать на себя ведущие функции основные механизмы общественного регулирования. Не дает результатов и метод аналогий. Если рассмотренный выше первый период может определенным образом сравниваться с «животной» стадией (хотя он ею в полной мере уже не является), а последующий, третий – с социальной (ею еще не будучи), то для второго, переходного, сегодня аналогов в природе не существует. Пока трудно представить его характерные черты, те формы, в которых осуществлялась организация объединения индивидов на данном этапе. Что касается его содержания с точки зрения последующего развития, то оно в конечном счете сводилось к слому системы доминирования как способа организации стада, и формированию новых стимулов, на следующем этапе все больше вводивших в действие возникающие общественные потребности индивида, в конечном счете приведшие – при достижении доминирующего положения как факторов организации – к становлению общества как особого биологического организма.
Здесь дилемма – люди или животные – не имеет смысла в своей обычной постановке, когда промежуточные стадии, в настоящее время исчезнувшие, пытаются (пусть и с оговорками) отнести к одной из существующих в данный момент крайностей, представляющих начало и конец процесса антропосоциогенеза с точки зрения их роли в этом процессе с позиций конечного результата. Но объективно эти стадии были не «переходными» от чего-то к чему-то, а самостоятельными этапами в развитии живого, — как и современные животные, как и современный человек. Куда, например, отнести тот период формирования многоклеточного организма, когда объединение составляющих его клеток имело факультативный характер – к многоклеточным или одноклеточным? И являются ли такие организмы-колонии каким-то «этапом»? Нет, это просто определенные биологические виды со своими собственными особыми характеристиками. И только зная направление эволюции и ее определенный результат, мы ретроспективно представляем данную форму в качестве переходной.
Одним из принципиальных недостатков существующих попыток классификации предшественников человека является то, что их рассматривают всех именно как его предков, в то время, как подавляющее большинство из них вообще представляли (с точки зрения эволюции, ведущей к человеку) тупиковые ветви. Но даже виды, действительно эволюционно предшествующие человеку, объективно – просто биологические виды, такие же, как и любые другие, столь же устойчивые в определенных условиях, в которых существовало их равновесие со средой, и вымершие, как это случалось и с другими видами, при неблагоприятном нарушении этого равновесия. Одна ветвь (повидимому, еще не найденная), сумевшая весьма существенно измениться, привела к человеку. Но точно так же на каждом данном этапе развития «предлюди», «формирующиеся люди» и т.п. являются таковыми только теперь, для нас, при ретроспективном анализе, когда известен результат эволюционного процесса. Но непосредственно в тот или иной момент это был не этап развития пока еще не существовавшего человека, но попросту новый биологический вид со своими особенностями, со своим началом и концом в качестве вида, каковым он в этот момент являлся. Именно так его восприняли бы, скажем, некие «инопланетяне», если бы они посетили Землю «за миллион лет до нашей эры».
Современные же таксономические проблемы в данном случае (как, впрочем, и в ряде других) во многом вызваны тем, что традиционно определение вида в основном связывается с морфологическими характеристиками индивида. Классификация существ из рода Homo продолжает основываться на таксономических признаках, относящихся к индивиду (морфологические признаки), т.е. принципиально не отличается от классификации других организмов. Но, поскольку здесь характер организма меняется коренным образом, то следовало бы и в классификации учесть момент перехода к сверхорганизму. Однако по мере нарастания «сверхорганизменных» характеристик все более существенное значение в качестве видовых признаков приобретают определенные этологические признаки, поведенческие реакции (как и закрепление в геноме их предпосылок), поскольку именно они в значительной мере определяют этот новый организм через характер связи составляющих. Они-то в значительной степени должны были бы использоваться в качестве таксономических, но их «невещественный» характер сильно затрудняет это (особенно в эволюционном аспекте ввиду отсутствия соответствующих материальных свидетельств указанных изменений биологических организмов в прошлые времена). Конечно, этологические характеристики определенным образом коррелируют с морфологическими, но здесь достаточно трудно установить однозначную зависимость, хотя небезуспешные попытки такого рода предпринимаются. Однако в целом нельзя забывать, что «и строение тела, и поведение вида – это лишь части единого и неразрывного целого»4.
На третьем этапе формирование общественного организма (и его элемента — человека) осуществлялось как непосредственное становление нового, более высокого уровня организации в развитии живого. Функциональный по преимуществу характер целостности потребовал высокого развития отражательного аппарата (являясь, в свою очередь, следствием этого развития). Указанный момент обеспечивает более широкие возможности в использовании природных объектов, а затем и в создании искусственных, что приводит к развитию производственной деятельности.
Важной характеристикой первобытного стада является его количественный состав. Сейчас трудно судить, каким был и как менялся этот показатель, однако логично предположить, что он определялся как условиями существования (прежде всего возможностью прокормиться), так и уровнем развития в качестве «сверхорганизма», где получение нового качества требовало и определенного количества. Ни слишком малая, ни слишком большая группа в качестве целостного организма существовать бы не могла, а колебания численности в то время под влиянием внешних условий должны были оказываться весьма значительными. Поэтому неизбежным было как деление этих групп по мере их численного роста, так и, возможно, объединение при падении численности ниже допустимой. Без этих процессов трудно представить, каким образом на начальном этапе могло бы обеспечиваться популяционное единство в процессе развития. Возможно, что на последнем этапе сапиентация сопровождалась интенсификацией этого процесса с существенным ослаблением связей, следствием чего явился расогенез. Однако, повидимому, процессы деления должны были преобладать, т.к. только за счет их возможен был биологический прогресс вида с расширением ареала его обитания, увеличением численности и т.п.
В настоящее время нет общей точки зрения на то, как протекал последний этап становления современного человека как биологического вида. Существующие теории предполагают как его локальное происхождение с последующим расселением (теория моноцентризма), так и одновременный процесс в различных регионах (теория полицентризма).
Общепризнанному биологическому единству человечества более соответствует теория моноцентризма. Однако и теория полицентризма ему не противоречит. Исходный набор генов у «формирующихся людей» был практически одинаков (даже сейчас у человека и некоторых человекообразных число общих генов превышает 95 %). Дальнейшее же развитие вполне могло идти в русле конвергентной эволюции. Здесь главную роль прежде всего сыграло такое изменение условий жизни, связанное с появлением элементов общественной организации, которое являлось скачком в эволюционном процессе, оказывающим более существенное влияние на него, чем любые изменения внешних условий, а оно имело идентичный характер для всех такого рода образований. Это с неизбежностью приводило к идентичным же результатам, следствием чего и явилось единство человечества как биологического вида. После завершения антропосоциогенеза с образованием нового уровня биологического развития (с одновременным образованием нового вида и нового биологического организма) закончился данный этап биологической эволюции: в «лице современного человека процесс биологической эволюции создал обладателя таких видовых свойств, которые привели к затуханию дальнейшей эволюции. Следовательно, можно не сомневаться в том, что эволюционное развитие человека давно остановилось»5.
Одним из важных вопросов социогенеза является вопрос о месте и роли в нем производственной деятельности «формирующихся людей». Эта деятельность сначала была только одним из факторов приспособления к окружающей среде, вплетаясь органической частью в структуру приспособительной деятельности. Орудийная деятельность началась задолго до того, как стало возможным говорить об очеловечивании наших животных предков. Разговоры об «инстинктивном» у животных и «осознанном» у человека применении орудий – не более чем слова, за которыми не стоит сколько-нибудь отчетливое понимание сути процесса. Здесь опять же имеет место порочный круг в определениях: осознанная деятельность – это деятельность социального существа, обладающего сознанием, а социальное начинается как раз с появлением сознания и, соответственно, осознанной деятельности. Овладение орудиями имеет место уже на «животном» этапе, а степень этого овладения зависит от уровня развития отражательного аппарата. Соответственно и в процессе формирования человека степень овладения орудиями (использование орудий, изготовление орудий, изготовление орудий посредством орудий) связано с уровнем развития отражательного аппарата в этом процессе, абстрактного мышления, уровень которого, в свою очередь, связан с уровнем «очеловечивания», т.е. степенью формирования новой целостности, элементом которой становится индивид, что как раз и требовало именно развития абстрактного мышления для успешного его функционирования в качестве такого элемента. Другими словами, степень овладения орудиями являлась следствием, а не причиной социогенных процессов. Не труд породил сознание, а сознание породило труд как наиболее сложный комплекс целенаправленных приспособительных действий.
«Трудовая» гипотеза предполагает ту же морфологическую специализацию, но уже не непосредственно относительно природной экологической ниши, а по отношению к орудиям. Но в том-то и дело, что формирование человека шло не по пути специализации, а по пути генерализации, универсального приспособления к среде. Это происходило путем, во-первых, развития возможностей анализа, причем не с точки зрения потребностей индивида как отдельного организма, а все более с точки зрения нарождающегося сверхорганизма, а это значит, со все более высокой степенью абстракции; а во-вторых, с возможностью манипулирования любыми предметами, все больше (по мере анализа их свойств) расширяя этот круг, и превращая их в полезные (используемые) предметы, в том числе и орудия. Ведущий процесс – формирование нового целого, невозможный без усложнения отражательного аппарата с постепенным формированием рационально-логического и эстетического отношений, а уже следствием этого явилось повышение возможностей орудийной деятельности. Здесь более сложная диалектика бытия и сознания – сознание каждого индивида определяется общественным его бытием, которое воздействует в процессе филогенеза также и на материальную основу сознания, на уровень сложности и организацию функционирования отражательного аппарата.
Те, кто в качестве ведущего в процессе формирования человека принимают развитие орудийной деятельности, почему-то не считаются с тем, что одни и те же орудия использовались различными типами предлюдей, что орудийная деятельность присуща (причем практически в равной мере) и боковым, тупиковым ветвям, впоследствии вымершим. Направление эволюции определялось не этим, это было только ее следствие. Морфологические изменения определялись соответствием преимущественно либо индивидуальному, либо групповому приспособлению к данным условиям. Первое приводило к специализации и, следовательно, к последующему вымиранию при изменении условий существования, второе – к универсализации, повышению «коллективной» приспособляемости, в том числе и в формах групповой организации (даже у современных обезьян отмечается значительная зависимость формы объединения от среды), что позволяло адаптироваться к новым условиям. И все это при практически одинаковой материальной основе орудийной деятельности (материальной основе, но не уровне владения, зависящем от степени социализации и «передачи опыта»).
Сказанное, естественно, ни в коей мере не отрицает влияния орудийной деятельности «формирующихся людей» на морфологические изменения, как и на изменения в их «социальных» отношениях. Речь идет только о том, что в диалектически противоречивом единстве этих моментов с орудийной (производственной) деятельностью, ведущим является изменение характера и материальной основы высшей нервной деятельности, отражающее степень приспособления к окружающей среде формирующегося социального целого.
Что же касается производственной деятельности, то и в сформировавшемся обществе она поначалу оставалась только одним из факторов взаимодействия со средой, влияние которого в общем комплексе таких факторов постепенно усиливалось, пока на определенном этапе общественного (уже общественного!) развития не стало ведущим. Первобытное общество в момент становления и еще на протяжении длительного периода было обществом «экономики присвоения», а не производства. Становление «производящей экономики» происходило уже на гораздо более позднем этапе, и его результатом явился в конечном счете длительный процесс разложения первобытной общественной организации, т.е. того конкретного общественного организма, который сформировался одновременно с формированием общественного человека как та форма, в которой происходило становление общественного организма как нового этапа биологической эволюции. Конечным результатом победы «производящей экономики» стало становление первой классовой формации – первой действительно общественно-экономической формации, в которой производственные отношения становятся ведущими, ибо именно они здесь определяют процесс производства, в котором выражается связь общества со средой. Отныне именно они становятся главными для характеристики общества. И в полном соответствии с марксистским учением вся дальнейшая история человечества становится историей смены общественно-экономических формаций, вызываемой в конечном счете ростом производительных сил общества, а не изменением индивида как биологического существа.
Рассматривать в качестве движущей силы антропосоциогенеза развитие производства – это значит не развивать, а фактически отрицать основные положения исторического материализма – уже хотя бы потому, что не может же быть основной причиной формирования общественного организма то, что является специфической причиной развития сформировавшегося общества. Идея Маркса как раз и состоит в том, чтобы признать развитие производительных сил специфическим фактором развития общества, следовательно, не являющегося таковым за этими пределами – если только мы не собираемся игнорировать качественные отличия между процессами становления объекта как нового качества, и его развития уже в этом качестве. К сожалению, большинство специалистов, рассматривая этот вопрос, не проводит четкой линии разграничения характера развития (прежде всего, его движущих сил) на стадиях «формирующегося» и «готового» общества. Поэтому вполне логичным выглядит отодвигание той временной границы, с которой считают возможным говорить о человеке, на сотни тысяч, а то и миллионы лет назад, в то время как давно уже не вызывает сомнения, что становление общества как определенного общественного организма (равно как и человека современного типа) завершилось достаточно поздно и в достаточно точно зафиксированный момент – в период, отстоящий от нас на 35-40 тысяч лет.
Развивающаяся орудийная деятельность «формирующегося человека» способствовала приспособлению нарождающегося сверхорганизма к среде, выполняя защитную функцию и функцию производства средств к жизни. Но рассмотрение процессов социогенеза не может ограничиваться (как, опять же, к сожалению, это чаще всего и делается) только ими. Рассмотрение процесса антропосоциогенеза было бы принципиально неполным, если не учесть влияние на него эволюции функции производства самой жизни. Но здесь мы сталкиваемся с крайней скудостью в источниках сведений.
Важная «причина смотреть с подозрением на технологическую классификацию общественного прогресса состоит в том, что она является ярким примером склонности исследователя становиться рабом конкретных материалов для изучения, которые случай представил в его распоряжение. С точки зрения объективной науки – это чистая случайность, что материальные орудия труда, вырабатываемые для себя первобытным человеком, смогли сохраниться, тогда как его психические приобретения, его институты и идеи погибли. В действительности же, если человек пользуется своим психическим аппаратом, он играет в его жизни значительно большую роль, чем какой бы то ни было материальный аппарат, но вышедший из строя материальный аппарат оставляет ощутимые следы, а психический ничего не оставляет, и потому археологу приходится копаться в материальных остатках человеческой деятельности, вследствие чего археологический менталитет склонен представлять себе homo sapiens только лишь в его подчиненной роли homo faber6. Обращаясь к фактам, мы можем найти случаи, когда техника совершенствуется, а цивилизация остается в статическом состоянии, и выявим ситуации полностью противоположные, когда техника застыла в статическом состоянии, а цивилизация находится в движении – либо вперед, либо назад, в зависимости от конкретного случая»7. Более того, например, «огромный шаг вперед в человеческом прогрессе был сделан в Европе в период между нижним и верхним палеолитом. …Преобразование типа человека в середине палеолита – возможно, самое эпохальное событие из тех, которые произошли в истории человечества; ведь тогда субчеловек сумел стать человеком, … homo neanderthallensis ушел в небытие и появился homo sapiens. Однако эта грандиозная революция в сфере психики не сопровождалась соответствующими изменениями в технике»8.
Сколь не важным является исследование технического уровня, все же не он с наибольшей полнотой характеризует общий уровень развития общества как специфического явления, а состояние общественных отношений – «изучение общества и изучение институциональных взаимоотношений – это одно и то же»9. Понятно, что отмеченная выше существенно большая доступность для исследования материальных остатков не могла не привести к известным деформациям в исследовании первобытной истории. Но ведь нельзя же было и столь основательно игнорировать методы институциональной реконструкции, первоначально разработанные Л.Г.Морганом10. Не даром его работе придавал такое большое значение Маркс, а Энгельс считал, что она имеет «решающее значение, такое же решающее, как Дарвин в биологии»11. То, что у самого Моргана, как это часто и бывает при первой попытке, эти методы не всегда давали удовлетворительные результаты, вовсе не свидетельствует об их недостаточной эффективности, что прекрасно подтвердили, например, исследования А.М.Золотарева. К сожалению, дальнейшего продолжения указанное направление исследований практически не получило, а фундаментальная работа Золотарева12, основные положения которой никем опровергнуты не были, обычно вежливо игнорируется.
Одно из следствий образования сверхорганизма – разделение функций его составляющих, при котором только и можно обеспечить необходимый синергетический эффект этого образования. Однако характер указанного разделения существенно различен в зависимости от характера сверхорганизма. Сверхорганизм у «общественных» насекомых образовался вследствие развития приспособительных механизмов, базирующихся на количественных способах компенсации вероятностно-статистических воздействий среды, предполагающих незначительные размеры тела и сравнительно низкую сложность отражательного аппарата (т.е. сравнительно невысокую ценность отдельного индивида для коллективного организма в целом). Здесь разделение функций позволило исключить необходимость в существенном усложнении поведенческих реакций, охватывающих все стороны функционирования сверхорганизма, неосуществимом на данной основе, ограничиваясь частными, связанными с частичными выполняемыми функциями, определяемыми также одновременно сформировавшимися морфологическими особенностями отдельных особей. Одна из важнейших функций – непосредственного воспроизводства — уже сама по себе требует своих собственных достаточно сложных поведенческих реакций. Поэтому, кстати, у всех «общественных» насекомых непосредственно репродуктивная функция выделена из других функций воспроизводства и поддержания существования. Она передана специализированным особям, а сам «производящий коллектив», обеспечивающий материальные основы воспроизводства и существования, является бесполым.
Сверхорганизм-общество, наоборот, развился на основе высокоразвитого отражательного аппарата входящих в него элементов, позволяющего природе отказаться от «невыгодной» в этих условиях морфологической специализации его элементов, а разделение функций обеспечить за счет сложных поведенческих реакций. Это относится к функциям как приспособления, так и воспроизводства. Последняя уже на сравнительно ранней стадии эволюции живого была разделена посредством амфимиксиса – разделения полов. Мы уже отмечали, что приспособление к среде – функция организма, а воспроизводство – функция вида, «навязанная» им организму. Чтобы в сверхорганизме вторая функция не создавала препятствий в выполнении первой, необходим как бы «бесполый» производящий коллектив. Мы видели, как это осуществляется в сверхорганизме насекомых на «биологическом» уровне. В социальном сверхорганизме это происходит при помощи определенного типа социальной организации. В общественном организме, представляющем собой первобытное племя, требуемый результат был достигнут посредством его дуальной организации – своеобразного социального аналога амфимиксиса. Поэтому без учета влияния дуальной организации никакой анализ функционирования первобытного общества попросту невозможен.
«Разделение первобытных обществ на два основных рода (дуальная организация) явилось фактором фундаментальной важности. Оно определило характер общественной жизни на многие тысячелетия и отразилось во всех проявлениях социальной и духовной жизни. …Люди каждого племени располагались по двум основным родам, составляли две противостоящие, одновременно сотрудничающие и соперничающие партии. … Обособленные экономически, они были неотделимы в брачных отношениях. Обмен мужьями и женами, совершавшийся из поколения в поколение, скреплял их племенное единство»13. Становление дуальной организации происходило одновременно со становлением самого общественного организма – «ибо при запрещении браков внутри рода каждое племя по необходимости должно было охватить по крайней мере два рода, чтобы быть в состоянии существовать»14. «Процесс превращения стадного общества в родовое был универсальным всемирно-историческим процессом, а дуальная организация — всеобщей первоначальной формой родового строя. Первичный род всегда и всюду имел форму дуальной организации; он повсеместно явился первой упорядоченной формой общества, возникшей из первоначального стадного состояния»15. Разрушение же дуальной организации началось одновременно с началом разложения родового общества. «Естественным путем, в процессе разрастания, первоначальный род распался на ряд коллективов или общин, занимающих отдельные поселки, связанные более тесными и прочными отношениями, чем те, которые распространяются на первоначальный род. Экономическая функция переходит к этим более мелким группам»16. Зачем же первоначально потребовалась такая дуальная организация?
Рассматривая функционирование и развитие общества, мы до сих пор фактически основывались на двух группах потребностей человека как стимуле его действий – индивидуальных и общественных, ибо именно они определяют его действия по сохранению и развитию двух целостностей – индивида и общественного организма. Но для конкретного рассмотрения такого особенного общественного уклада как первобытное общество этого недостаточно. Строго говоря, если оставаться в рамках указанных двух линий, для какой-либо структурной организации первобытного общественного организма, детерминирующей определенным образом действия индивида, нет необходимости, ибо каждый индивид в состоянии выполнять обе функции без какого-либо общественного принуждения, абсолютно свободно, только посредством стремления к удовлетворению своих собственных потребностей. Применительно к обществу это значит, что не требовалось бы структурной организации с каким-либо «внешним» (т.е. помимо собственных потребностей) целеполаганием для каждого индивида, каких бы то ни было ограничений его свободы обществом. Те различия между индивидами, которые связаны с их биологическими особенностями (например, различиями в координации движений, физической силе, темпераменте, памяти, аналитических возможностях и т.п.) вполне могут быть использованы в пределах функциональной организации (самоорганизации) — как и половозрастные различия, соответственно корректирующие общественные функции индивида исключительно путем координации общественных усилий, а не императивного задания определенного поведения обществом как целым.
Но в действительности дело обстоит иначе, ибо на арену выходит «седьмая потребность» — потребность половая. Мы уже отмечали, что она не отвечает имманентным нуждам ни индивида как определенной целостности, ни общества как некоторой высшей целостности. Она отражает нужды большой, фундаментальной целостности, того «кирпичика» живого, которым является вид. В первобытном обществе общественный организм еще не совпадает с видом и, стало быть, нужды вида не отождествляются полностью с нуждами данного организма (как это будет на этапе общества-человечества). В связи с этим потребовалась некоторая структурная организация, разделяющая «органичные» функции, связанные с удовлетворением общественных потребностей каждого человека, на основе которых только и можно удовлетворять его индивидуальные потребности посредством осуществления производственной деятельности, и удовлетворение «внешней» как для общественного организма, так и для индивида как организма (но тем не менее также органично присущей последнему), половой потребности. Эта организация предполагала наличие родов – агамных социальных, в том числе производственных, образований, внутри которых половые отношения были исключены. Таким образом, уже с самим возникновением общества и человека появляется первое ограничение свободы, т.е. «навязывание» (путем воздействия на удовлетворение других потребностей) общественной организацией индивиду такого поведения, которое прямо не вытекает из какой-то из органически присущих ему потребностей. Вот эти-то ограничения применительно к потребности половой и оформляются в виде дуальной организации первобытного общества, т.е. связи двух взаимобрачущихся родов, являющейся характерным признаком этого общества. В связи с этим вопрос формирования дуальной организации в значительной мере является также вопросом формирования первобытного общества. А потому «“готовое” человеческое общество … возникает лишь вместе с родом»17.
Отказ от рассмотрения дуальной организации племени как изначального способа организации человеческого общественного организма неизбежно приводит к принятию в качестве таковой общины с буквальной трактовкой первобытного общества как «первобытнообщинного». Род и община в качестве изначальной формы организации между собой несовместимы. Однако превалирующее в нашей этнографии признание общины в качестве основной формы организации тем не менее обычно не сопровождается логически неизбежно следующим из этого отрицанием в качестве такой формы рода. Другими словами, хотя «после продолжительной дискуссии община признана советскими исследователями одной из основных структур первобытного общества»18, обычно «когда говорят о первобытной общине, то нередко смешивают ее с родом, отождествляя понятия “община” и “род”. … Между тем община в ее исторически засвидетельствованных (!) формах всегда состоит из семей и уже поэтому не может отождествляться с родом»19.
Уже в приведенной формулировке виден главный недостаток тех выводов о первобытном обществе, которые делают, основываясь преимущественно на этнографических данных. Производя такую операцию, этнограф убежден, что «на Земле все еще существуют (или существовали недавно) этнические общности, живущие в условиях первобытнообщинной формации»20. Но такое утверждение ничем не доказано. У нас нет фактических данных для обоснования такого сравнения, поскольку мы не знаем, какой же на самом деле была десятки тысяч лет назад «первобытная община», и действительно ли она похожа на ту, которая сохранилась до недавнего времени, равно как нет оснований утверждать, что прошедшие с момента формирования социума как организма и человека современного типа эти десятки тысяч лет, включающие расселение человечества по Земле, резкие изменения климата, контакты с другими социальными образованиями, развитие средств производства и т.д., и т.п., не оставили никакого следа в организации изначальных общностей, т.е. что действительно первобытная организация в достаточной мере соответствует известным сегодня «исторически засвидетельствованным формам». Наоборот, «можно с полной определенностью утверждать, что в настоящее время уже не обнаружить тех примитивных обществ, что существовали до возникновения первой цивилизации». Даже «наименее цивилизованные» из ныне существующих «ближе к нам самим, … чем к своим предшественникам седьмого или сто седьмого тысячелетия до н.э.»21. А потому делать далеко идущие выводы о развивающемся (пусть и медленно) обществе на основе изучения общества, пребывающего в состоянии многовековой стагнации, еще менее продуктивно, чем о проблемах юности из наблюдений над старостью. «…Мы можем только догадываться о том, каков был “первобытный человек”. Люди, населяющие землю в настоящее время, равно как и те, которые прежде были наблюдаемы заслуживающими доверия исследователями, оказываются уже довольно далекими от того момента, когда прекратилась для человечества животная жизнь в собственном смысле этого слова»22.
Этот вопрос неоднократно обсуждался, но многие специалисты так и не вняли давнему призыву, что «не следует забывать о том длинном историческом пути, который отделяет известные этнографии общества охотников и собирателей от их первобытных предков»23. Вряд ли можно назвать научным метод, когда вместо того, чтобы на основе современного состояния таких «этнических общностей» попытаться выполнить реконструкцию их предыдущих состояний, не мудрствуя лукаво просто переносят (в большей или меньшей мере – это уже зависит от степени научной добросовестности) первые на последние. А такого рода реконструкция, например, на основе классификационных систем родства, убедительно доказывает, что «было время, когда ни индивидуального брака, ни семьи, ни индивидуального родства не существовало. Был лишь групповой брак и групповое родство. Классификационные системы родства возникли как отражение исключительно лишь группового родства. Об этом свидетельствуют все их особенности. Самые архаичные из классификационных систем родства вообще не знают отношений индивидов. Для них существуют отношения исключительно лишь групп людей»24.
Из сказанного следует, что попытки перенести выводы, получаемые в результате исследования «исторически засвидетельствованных» общественных форм на древнее общество, неизбежно будут приводить к логическим нестыковкам. Одним из наиболее важных моментов в этом отношении является произвольное утверждение об изначальном существовании семьи в качестве элемента первобытной «общины», не подтверждаемое указанными методами реконструкции. Как известно, в свое время идея изначального существования, «естественности» семьи была достаточно распространенной. Ей отдал дань в своих работах даже Маркс, но, по утверждению Энгельса, «более поздние весьма основательные исследования первобытного состояния человечества привели автора к выводу, что первоначально не семья развилась в род, а, наоборот, род был первоначальной естественно сложившейся формой человеческого общества, покоящегося на кровном родстве, так что различные формы семьи развиваются лишь впоследствии из начавшегося разложения родовых союзов»25. Но в те времена не было известно многое из того, что сейчас прочно вошло в научный арсенал, в том числе не была известна система доминирования в животном мире. А потому сейчас, утверждая исторический примат семьи (парной? моногамной? какой-то другой из «исторически засвидетельствованных форм»?) следует обязательно представить хоть какие-то соображения о том, каким образом она вообще могла развиться из сообщества, базирующегося на системе доминирования, и сохраняться в эгалитарном производящем коллективе с коллективной (общественной) собственностью и коммуналистическим распределением. Думается, что это задача неразрешимая. Да и в чисто логическом плане смысл существования семьи на начальной стадии человеческого общества остается совершенно неясным, ибо непонятно, какую такую функцию — не выполняемую или выполняемую не в достаточном объеме родовой организацией – она могла выполнять: хозяйственной ячейки? воспитания подрастающего поколения? организации половых связей? – вразумительного ответа на эти вопросы нет.
Да они, в общем-то, фактически и не ставятся. Первоначальное существование «малой», «элементарной» семьи считается едва ли не само собой разумеющимся, и уж во всяком случае вытекающим из археологических материалов: «Общество периода верхнего палеолита, судя по остаткам поселений, состояло из небольших, но хозяйственно и социально сплоченных групп, объединяющих малые семьи в локальные охотничьи группы или охотничьи общины»26. Или даже более того: «Малая семья и состоящая из нескольких таких семей локальная группа или община – таковы основные единицы общества верхнепалеолитических охотников, по крайней мере об этом свидетельствуют остатки жилищ и поселений»27. Из представленного мы видим, во-первых, что имеется сразу два типа «основных единиц общества», причем вторую «единицу» («общину») уже трудно назвать исходной (даже если она является «социально и хозяйственно сплоченной»), поскольку состоит она из первых — «малых семей» (также, повидимому, «социально и хозяйственно сплоченных»: ранее отмечалась «значительная хозяйственная роль этих семей как основной ячейки общества»28), а во-вторых, что это усматривается главным образом «из остатков жилищ и поселений». Оставив в стороне логическую несообразность одновременного существования двух «основных единиц общества», рассмотрим, насколько справедливо второе утверждение – что о существовании в первобытном обществе «малых семей» «свидетельствуют остатки жилищ и поселений».
Предположим, что «само жилище можно рассматривать как социальный заказ, реализуемый через домостроительную технику и направленный на вычленение из природной среды общественной единицы с обеспечением в условиях данной среды и данных технических возможностей максимума удобств при осуществлении ее основных функций – жизнедеятельности, производственных процессов и т.п.»29. Исходя из малых размеров верхнепалеолитических жилищ и делается вывод о их предназначенности для «жизнедеятельности» отдельных «малых семей». Но уже в неолите дом «был рассчитан на коллектив, состоящий из нескольких малых семей, живущих под одной крышей и ведущих общее хозяйство», и «большесемейная община», соответственно, «теперь составляет основную ячейку общинного поселка в целом»30. А в эпоху «развитой бронзы» уже существуют «многокомнатные кварталы», каждый из которых «напоминал многокомнатный дом-массив эпохи неолита, но хозяйство населяющие его семейные коллективы, судя по планировке, вели обособленно»31. Ну, а дальше появляются «места обитания отдельных семей, общественная и экономическая самостоятельность которых подчеркивается самим фактом собственного домовладения… Здесь уже наглядно выступает дифференциация, отражающая, надо полагать, неравное общественное положение обитателей тех или иных строений»32.
Другими словами, от чего ушли, к тому и пришли, но уже с «дифференциацией». Начало социальной дифференциации связано с изменениями в отношениях собственности и действительно совпадает с выделением парных семей. Но вот каков общественный смысл перехода от «малой семьи» верхнего палеолита к последующим «большесемейным общинам», так и остается неясным. А все дело в том, что увлекшись «социальным заказом» в возведении жилья, потеряли из виду его «технические возможности» – не потому строили малые жилища, что этого требовала структура общества, а потому, что еще не существовало другой «домостроительной техники»; а когда она появилась, строительство было приведено в соответствие с социальными условиями. Если не учитывать этот момент, то неизбежно образуется логический порочный круг: гипотетический «социальный заказ» рассматривается в качестве причины появления определенного типа строений, само же наличие последнего используется для суждения о вполне определенном характере «социального заказа». И все для того, чтобы лишний раз подчеркнуть «универсальный характер» «малой семьи» как «основной ячейки первобытнообщинного строя», избавившись таким образом от необходимости признавать изначальный характер рода и дуальной организации.
Хотя в настоящее время, к сожалению, вопросы дуальной организации не вызывают должного интереса специалистов, но в той мере, в которой это происходит, предпочтительной считается (хотя, конечно, и не всеми разделяется) точка зрения, согласно которой окончательное формирование социального организма первобытного общества осуществлялось путем объединения в дуально организованное племя ранее отдельных коллективных образований с установлением перекрестных половых связей, вызванного введением в каждом из них производственных половых запретов – как средство разрешения противоречия между необходимостью таких запретов для успешной производственной деятельности и создаваемыми таким образом препятствиями для удовлетворения половой потребности (и воспроизводства вообще). Так что «корни этого явления – не в биологии, и не в идеологии тем более, а в общественно-производственной деятельности коллектива, стремящегося исключить половую жизнь его членов, стоящую не этом этапе в неизбежном противоречии с производственной жизнью»33.
Важными при этом считают также вопросы, связанные с чисто биологическими моментами – исключением вредного влияния кровнородственных связей (инбридинга) на потомство, а также гибридизацией, существенно ускоряющей прогрессивные процессы морфологических изменений. Эта точка зрения противостоит той, которая выводит дуальную организацию исключительно из внутренних процессов в формирующемся обществе. Хотя последняя точка зрения нам представляется предпочтительной, сегодня еще нет достаточных оснований для окончательного решения данной проблемы. Вторая точка зрения разработана довольно слабо, а ряд доказательств первой (особенно в части роли инбридинга) имеет явно натянутый характер, связанный в основном опять же с тем, что изученные этнографами явления, характерные для стадии разложения первобытного общества, экстраполируются на многие тысячелетия назад в качественно отличную стадию его формирования.
Таким образом, род являлся исходной формой первобытного общества, причем именно «в агамии, а не в наличии общего предка заключена сущность рода. Род может не иметь предка, а ранний, первоначальный род его не имел, но без агамии рода нет и быть не может. … Агамия была в прошлом человечества явлением всеобщим, универсально распространенным. Агамный запрет был фундаментальным принципом поведения людей родового общества. … Его нарушение рассматривалось как такое действие, которое неизбежно каким-то таинственным образом должно было навлечь на всех членов рода неведомую, но грозную опасность. … Однако в действительности на всех этапах эволюции этого общества нарушение агамии никакой реальной опасности ни для индивида, ни для коллектива не представляло»34. Такая опасность, тем не менее, существовала, но имела она не биологический, а социальный характер35, и заключалась в нарушении единства первобытного производящего коллектива, что уже, в свою очередь, создавало угрозу самому его существованию.
Что же касается биологической роли запрета половых отношений внутри рода, то не рассматривая здесь подробно этого вопроса, коснемся только тех его аспектов, которые связаны с ролью инбридинга. С биологической точки зрения «основной эффект инбридинга заключается в уменьшении гетерозигот и преобладании гомозигот в генофонде популяции»36, что приводит к фенотипическому выявлению рецессивных признаков. В связи с этим прежде всего следует отметить, что даже существовавшая на протяжении сотен веков дуальная организация могла только в какой-то мере затормозить, но не исключить такого рода влияния кровнородственных связей – они оставались, только цепочка их удлинялась, что, ввиду длительности процесса, мало меняло существо дела. Кроме того известно, что даже на сравнительно поздней ступени развития экзогамные запреты в племени соблюдались далеко не всегда (например, они снимались во время оргиастических праздников). Еще меньше можно согласиться с тем, что само введение экзогамии было как-то связано с соображениями (или хотя бы неосознанными представлениями) о вреде инбридинга. Даже в результате проведенных уже в наше время специальных исследований на большом количестве материала был сделан вывод, что «суждение о характере влияния родства супругов на состояние здоровья потомства не может быть однозначным»37. Что уж говорить о том времени, когда вообще не осознавалась связь между половым актом и зачатием. Так что, повидимому, влияние инбридинга из числа возможных факторов, предопределивших становление дуальной организации, давно пора исключить.
Но это одна сторона дела. А другая заключается в том, что, возможно, как раз инбридинг стал важным фактором ускорения процесса сапиентации на последнем этапе антропосоциогенеза. Ведь в результате инбридинга повышается вероятность перехода рецессивных генов в гомозиготное состояние и, следовательно, их непосредственное фенотипическое проявление, соответственно попадавшее под действие отбора. Вот точка зрения биологов: «Все организмы гетерозиготны по многим генам; некоторые из скрытых таким образом рецессивных генов обуславливают желательные для нас признаки, другие – нежелательные. Если линия хороша, инбридинг ее улучшает; если в линии есть много нежелательных рецессивных признаков, то в результате инбридинга некоторые из них могут проявиться фенотипически»38 и подпадают под действие естественного отбора. Многие тысячелетия в результате естественного отбора накапливались положительные (с «точки зрения» магистральной линии развития) изменения генома. В этих условиях инбридинг мог оказаться фактором не только не вредным, но наоборот, способствующим резкому ускорению антропосоциогенетических процессов (приводя, кроме того, к резкому размежеванию праобщин в соответствии с результатами их предыдущего развития).
Вполне вероятно, что сокращение (а точнее, изменение характера) связей между формирующимися сверхорганизмами, вызванное именно этим формированием, т.е. все большим превращением праобщины в целостный биологический организм, включение действия своеобразной положительной обратной связи, резко ускорило процессы сапиентации на последнем участке эволюции. Резкий количественный рост на этом этапе, также вызванный коренным переломом в механизме приспособления, сделал возможным выделение в рамках целостного образования отдельных производственных коллективов (сначала временных, а затем все больше закрепляющихся в качестве постоянных образований). С учетом первоначально ограниченной численности, неизбежно сводящих в конечном счете число таких коллективов к минимуму, т.е. к двум, это привело бы к родовой экзогамии и дуальной организации и без контакта с другими образованиями.
Обсуждая проблемы антропосоциогенеза, мы пока не касались роли в формировании общества возникающего у индивида сознания, рационально-логического и аксиологического отношения к миру, уровень развития которых в определенном смысле как раз и представляет меру включения индивида в формирующееся общество в качестве элемента последнего. Роль этих факторов в функционировании «готового» общества достаточно подробно рассмотрена во втором разделе. Но они же все усиливающееся влияние оказывали и на формирование общественного организма.
Это же относится и к действию связанных с ними механизмов, в частности, к роли такого общественного механизма как искусство. Следует отметить то известное положение, что первобытное искусство не выделялось в общественной жизни того времени в качестве сколько-нибудь самостоятельной области деятельности, оно было органически включено в общую жизнедеятельность общественного организма как средство социализации индивида. Его становление в этом качестве в процессе становления общества происходило комплексно, одновременно и в единстве со становлением эстетической функции языка, вне которой последний невозможен. Только на гораздо более позднем этапе общественного развития искусство выделилось в специфическую область деятельности, одновременно разделяясь на самостоятельные виды прежде синкретического искусства, каждый из которых (хотя также весьма относительно) мог функционировать самостоятельно. Но без учета роли аксиологического (в частности, эстетического) отношения понять становление общества невозможно. В частности, это касается и вопроса о действии фактора, названного Ч.Дарвиным половым отбором.
По мнению Дарвина, «половой отбор обуславливается успехом некоторых особей перед другими особями того же пола по отношению к размножению вида, тогда как естественный отбор зависит от успеха обоих полов во всех возрастах по отношению к обычным условиям жизни»39. Но это касается только определенных признаков, являющихся специфическими отличительными чертами некоторых самцов, дающих им в размножении преимущества перед другими, их не имеющими; «во всех же других отношениях и эти самцы, судя по строению самки, так же хорошо приспособлены к обычному образу жизни. В подобных случаях должен был вступить в действие половой отбор, потому что самцы приобрели свое настоящее строение не вследствие того, что были способнее пережить в борьбе за существование, а благодаря тому, что получили преимущество над другими самцами и передали его по наследству только своему мужскому потомству»40. Притом это относится как к морфологическим, так и к этологическим признакам. Что касается человеческого общества, то здесь Дарвин уже сам противоречит такому подходу, считая, что на его начальном этапе «самые смелые и сильные мужчины имели постоянно наибольший успех в общей (!) борьбе за жизнь и в их соперничестве из-за женщин. Успех этот давал им возможность оставить более многочисленное потомство, чем их менее благоприятствующим собратьям»41. Правда, проводя аналогию ситуации в человеческом обществе с животным миром, Дарвин отдает себе отчет в том, что здесь действуют еще и другие закономерности, но это он считает неправильным. С его точки зрения те, кто добился наибольшего успеха (в том числе финансового), должны иметь возможность оставить более многочисленное потомство: «Должно существовать свободное существование для всех людей, и закон и обычаи не должны мешать наиболее способным иметь решительный успех и выращивать наибольшее число потомков»42. Интересно отметить прямо противоположную точку зрения на этот счет выдающегося современного этолога К.Лоренца. Он считает, что внутривидовый отбор в человеческом обществе существует, в том числе и «в нежелательном направлении», в частности, поощряя «инстинктивную подоплеку накопительства, тщеславия и проч.», подавляя при этом «простую порядочность», и делает вывод, что «нынешняя коммерческая конкуренция грозит вызвать … ужасную гипертрофию упомянутых побуждений». «Счастье лишь в том, что выигрыш богатства и власти не ведет к многочисленности потомства, иначе положение человечества было бы еще хуже»43. На самом же деле, именно «закон и обычай» человеческого общества, принявшего на себя функцию приспособления, одновременно с его становлением остановили индивидуальный отбор – и естественный, и половой.
Но ситуация в этом отношении существенно различалась в «готовом» и «формирующемся» обществе. На первом этапе развития общественных механизмов возможности для индивида оставить потомство были тем выше, чем лучше он мог использовать группу, групповой образ жизни для удовлетворения индивидуальных потребностей. Поскольку в биологическом воспроизводстве и, соответственно, в процессах эволюции, принимали участие все самки репродуктивного возраста и только часть самцов, то система доминирования и «присвоения» самок идеально соответствовала развитию в сторону повышения приспособляемости за счет продолжения в потомстве наиболее ценных свойств доминирующих особей. Нахождение доминирующих (и, следовательно, имеющих возможность оставить потомство) самцов «на острие» отношений стада с окружающей средой (кстати, способствующее также элиминированию нежелательных признаков) создавало эффективную систему отбора на индивидуальном уровне с учетом стадного образа жизни, пока совершенствование отражательного аппарата на пришло в противоречие с уровнем сложности организма, в качестве средства разрешения которого возникают зачатки более тесной групповой организации.
Но чтобы развивалось общество в качестве целостного образования, чтобы закреплялись в потомстве черты, полезные не столько отдельному индивиду, сколько обществу как целостному организму, из этих индивидов состоящему, необходим был качественно другой механизм. Ведь лично индивид, обладающий такими чертами, вряд ли мог рассчитывать прожить более долгую, чем другие, жизнь в тех опасных условиях, в которых существовало формирующееся общество. Наоборот, шансы на это у него были меньше, чем у менее активных, не столь полезных целому, более «индивидуалистичных» индивидов. Но дело в том, что для закрепления признаков в потомстве долгая жизнь отнюдь не главное; важно, прежде всего, оставить это потомство, т.е. более активно принять участие в воспроизводстве.
Учитывая специфические роли мужской и женской особей в процессах развития (ответственность женской «за количество», а мужской «за качество»44) и соответственно то, что в процессе размножения у животных потенциально все самки должны участвовать в нем, но отнюдь не все, а только отличающиеся какими-то положительными признаками самцы, внешний вид последних, равно как и некоторые особенности их поведения, косвенно отражающие эти признаки, приобретают для самок специфическое сигнальное значение (чего не требуется наоборот). Эти признаки, отражающие здоровье, активность, силу и т.п. нами (т.е. извне вида) могут восприниматься эстетически. Но сами животные воспринимают их как отражение чисто индивидуальных свойств особи, рефлекторно вызывающих их определенное поведение, т.е. об эстетическом отношении здесь не может быть и речи45. Иначе дело обстояло у тех специфических существ, которыми являлись «формирующиеся люди».
В нарождающемся обществе также все «женщины» участвовали в процессе воспроизводства, обеспечивая его количественную сторону. Что же касается качественной, для обеспечения которой не все «мужчины» (или хотя бы не в равной мере) должны были участвовать в процессе воспроизводства, то по мере ликвидации системы доминирования функцию выбора все больше брали на себя «женщины». С появлением общественного регулирования внутриобщественной жизни все большую роль в оценке индивида начинают играть его общественно-полезные качества, что соответственно повышает в глазах «женщин» статус обладающих ими «мужчин», являясь основанием для выбора в качестве полового партнера, и, как следствие, возрастает для них возможность оставить потомство. Что же касается критериев отбора, то здесь начинают играть важную роль признаки, ассоциативно связанные с действительно общественно-значимыми характеристиками.
Начинают они играть эту роль еще до подтверждения общественно-полезных качеств конкретного индивида (что очень существенно, так как во время их подтверждения он может и погибнуть). Эти признаки постоянно корректируются соответственно расширяющейся общественной практике. Вот здесь-то и возникает представление о физической красоте как универсальном критерии общественной ценности. До введения всеобщего общественного регулирования половых отношений именно эстетический критерий являлся основным фактором полового отбора. Поскольку формирование человека одновременно означало формирование общества, т.е. формирование биологического сверхорганизма, то указанные признаки отражали уже не столько индивидуальную приспособляемость, сколько их роль в приспособляемости этого нового организма, а следовательно, во все большей степени приобретали роль того, что мы называем эстетическими качествами. Именно эти качества (по тем или иным связанным с ними признакам), представляющие положительное значение для общества, закрепляются в формирующемся сознании как некоторая ценность, играющая роль в оценке еще до подтверждения. Этот момент становится важнейшим в половом поведении самок. Тогда и включается действие того механизма, который Дарвин назвал половым отбором. Его роль до определенного момента нарастает лавинообразно, поскольку включается положительная обратная связь – чем сильнее действие полового отбора по эстетическим признакам, тем выше общественное развитие, а следовательно, сильнее эстетическая составляющая, что еще усиливает роль эстетического фактора, а следовательно, полового отбора, ускоряющего эволюцию.
Но действие этого фактора ограничено именно периодом формирования общества и человека. Косвенным подтверждением этому являются отмечаемый многими исследователями высокий уровень искусства неандертальцев и его резкое падение в момент перехода от неандертальца к человеку современного типа: «Общество верхнего палеолита … развило в себе эстетическое чувство прекрасного и смогло изобрести простейшие орудия для того, чтобы передать свое эстетическое восприятие мира в живописных образах». Но в дальнейшем «homo pictor потерпел поражение и оставил хозяином исторической арены homo faber… искусство человека верхнего палеолита умерло вместе с ним». И произошло это как раз в тот момент, когда «субчеловек сумел стать человеком». «Современный человек Homo sapiens sapiens появился на сцене только 40000 лет назад. У него несколько менее массивный череп, чем у неандертальца, и его мозг несколько меньше»46. Может быть, высокое развитие искусства неандертальца как раз и отражало факт чрезмерной специализации данного вида «предлюдей» по параметру социализации, резко возросший уровень которой еще не соответствовал остальным характеристикам формирующихся человека и общества, что и привело их в эволюционный тупик – слишком хорошо это тоже плохо.
Повидимому, у непосредственных предков человека современного типа по мере ускорения этого процесса включается другой фактор, – стабилизирующий, действующий уже на процесс их эволюции по принципу отрицательной обратной связи. Чем ближе процесс подходит к концу, тем сильнее включается фактор регулирования нарождающимся обществом половых отношений, все более ограничивающий действие полового отбора. Другими словами, здесь имеет место обычный характер развития по логистической, S-образной кривой, т.е. сначала происходит медленный рост, затем он все убыстряется, а под конец снова замедляется, в конечном счете становясь нулевым. С завершением формирования общественного сверхорганизма в виде первобытного племени половой отбор полностью прекращается, общество в полном объеме берет на себя функции регулирования полового поведения своих членов. Здесь уже выбор партнеров полового общения, как и другие связанные с ним моменты, определяются далеко не только внутренними побуждениями, а в значительной мере общественными установлениями (принадлежностью к противоположному роду или фратрии, прохождением обряда инициации, ритмом и характером производственных процессов и т.п.).
Соответственно меняется и действие эстетического фактора. Человек становится самоценностью. Как элемент общества, он — высшая ценность уже потому, что он человек, независимо от своих частных качеств. Как высшая ценность, не имеющая вследствие этого градаций общественной ценности, он уже выходит за пределы эстетической оценке, — единственный объект, выпадающий из всеобщей совокупности объектов, такой оценке неуклонно подлежащих. И такое положение продолжается до тех пор, пока общество (первобытное племя) существует как единый организм. Возобновляется эстетическая оценка человека (сначала по определенным качествам функционирования, воплощающимся в украшениях, а затем и по морфологическим признакам в виде физической красоты) тогда, когда по мере разложения родового строя человек начинает терять свою самоценность, в той же мере становясь для другого человека только средством. Тогда восстанавливается (но уже всеобъемлюще, на более высоком уровне, отвечающем развитому эстетическому отношению) эстетическая оценка.
Таким образом, эстетическое отношение к человеку опять появляется только тогда, когда он приобретает функцию на только субъекта, но и объекта удовлетворения общественных потребностей индивида, становится одним из средств такого удовлетворения, приобретая определенную ценность именно в этом смысле. Интегральным показателем общественной ценности человека в этом отношении становится физическая красота. Соответствующее представление формируется как результат множества опосредований, а потому только в небольшой степени (только в части физического здоровья, да и то не всегда) отражает объективное положение, в остальном оставаясь весьма относительным. И эта физическая красота становится главным критерием человека как объекта, способного удовлетворять общественные потребности другого человека. Парадокс же заключается в том, что этой оценке сначала преимущественно подвергается мужчина (в период разложения первобытного общества), а затем (уже в период классового общества) — потерявшая социальное равенство с мужчиной и в определенном смысле сама низведенная до роли вещи (украшения) женщина47. Это, конечно, меняет положение, и действуя в направлении, противоположном биологической роли полов, не может служить восстановлению полового отбора, тем более, что общественное регулирование половых отношений в дальнейшем не только не ослабевает, а наоборот, усиливается, хотя существенно меняет форму в соответствии с новыми социальными факторами.
С возникновением общества заканчивается определенный цикл биологической эволюции. Организм на клеточном уровне обладает бессмертием (хотя и своеобразным). Каждый из таких организмов в известном смысле воплощает в себе вид. При благоприятных условиях мутации в генетическом аппарате всего лишь одного организма могут привести к возникновению нового вида. Иначе дело обстоит на уровне многоклеточных организмов. Если говорить о биологическом «бессмертии», то здесь это касается только вида в целом, но не отдельных организмов. Более того, именно постоянная элиминация последних обеспечивает динамическую приспособляемость вида к меняющимся условиям. Продолжение жизни обеспечивается только посредством специализированных (половых) клеток. При этом жизнь передается не непосредственно как существование белковых тел, но практически только как информация о конкретном способе такого существования. На стадии сверхорганизма положение опять коренным образом меняется. Здесь бессмертие приобретает уже сам организм, причем в пределе он может быть отождествлен с видом. И именно это отождествление является условием не только длительного существования общества во времени, но и полной свободы индивида, полного отсутствия каких либо «внешних» регуляторов поведения – помимо побуждений, вытекающих исключительно из прямого и непосредственного стремления к удовлетворению своих собственных индивидуальных и общественных потребностей.
Однако бессмертие общества как биологического организма создает новые проблемы. Став между индивидом и средой, социум защитил его от элиминации под действием тех факторов последней, которые иначе оказались бы для него гибельными. Эволюция человека как биологического существа, связанная с действием естественного отбора, прекратилась. Но не прекратилось действие мутагенных факторов. Это делает неизбежным накопление в геноме человека изменений, вызываемых их постоянным действием. Если бы человек оставался в пределах первичных (племенных) образований, раньше или позже это привело бы к качественным изменениям ненаправленного (а следовательно, вредного) характера. Причем само по себе возрастание численности популяции, если бы оно даже было возможным в данных условиях, мало что бы меняло, поскольку предыдущие изменения в генах тиражировались бы. Спасением для человека как биологического существа стали социальные процессы формирования сообщества более высокого типа, в пределе — глобального, в составе всего человечества. Панмиксия (смешение населения) успешно сглаживает влияние накопления генетических изменений (хотя и не устраняет последних). С возрастанием влияния мутагенных факторов процесс смешения должен ускоряться, ибо только таким образом можно противостоять угрозе вырождения при усиливающихся развитием цивилизации отрицательных факторах. Таким образом, объективные тенденции социального развития совпадают с требованием биологического сохранения человека. В связи с этим всякие изоляционистские тенденции должны рассматриваться и как противоположные коренным интересам человечества как биологического вида. Резервы здесь еще огромны и используются пока весьма слабо. Конечно, когда-то в отдаленном будущем и они будут исчерпаны. Однако есть все основания надеяться, что к тому времени уровень знаний и возможности (технические и социальные) объединенного человечества позволят ему успешно решить и эту задачу.
Итак, процессы социогенеза (будучи одновременно также и процессами антропогенеза), являющиеся закономерным продолжением общей линии эволюции живого, привели к формированию нового «сверхорганизма» – биологического организма с наиболее высоким уровнем внутренней организации, состоящего из элементов с наиболее развитым отражательным аппаратом, способным обеспечить функционирование последних в качестве этих элементов в рамках функциональной целостности «сверхорганизма», т.е. к антропосоциогенезу, к формированию общества и человека – общества в виде первобытного племени, и человека – не вообще, а именно как члена этого племени, обладающего для существования в этом качестве необходимым комплексом свойств. Как раз этот момент и имеет фундаментальное значение для дальнейшего рассмотрения процессов общественного развития.
Первобытное племя представляло собой целостный организм, полностью определяющий функционирование своих членов как элементов этого организма, каждый из которых был даже после начала его разложения еще долго «столь же крепко привязан к роду или общине, как отдельная пчела к пчелиному улью»48. Человек не только был, но и ощущал себя частью единого, неразложимого целого, вне которого он себя даже не мыслил. Не только в те давние времена, но и в гораздо более позднюю эпоху «племя оставалось для человека границей как по отношению к иноплеменнику, так и по отношению к самому себе: племя, род и их учреждения были священны и неприкосновенны, были той данной от природы высшей властью, которой отдельная личность оставалась безусловно подчиненной в своих чувствах, мыслях и поступках»49.
Первобытные общественные отношения заставляли человека рассматривать все, что вне племени, как противостоящую ему и в основном враждебную среду. «Все, что вне племени, было вне закона. При отсутствии заключенного по всей форме мирного договора царила война между племенами, и эта война велась с той жестокостью, которая отличает человека от остальных животных»50. Но эти же отношения, будучи в качестве отношений внутренних гармоничными и непротиворечивыми, позволяли человеку наиболее полно раскрыть все лучшие человеческие качества – от творческих способностей до готовности к самопожертвованию. «А каких мужчин и женщин порождает такое общество, показывают восторженные отзывы всех белых, соприкасающихся с неиспорченными индейцами, о чувстве собственного достоинства, прямодушии, силе характера и храбрости этих варваров»51. Еще раз напомним, что данные характеристики относятся к стадии разложения первобытного племени, когда, следовательно, значительная часть прежних качеств уже утрачена.
Мы привели здесь эти высказывания Энгельса, ибо, по нашему мнению, они представляют собой лучшую из имеющихся обобщенных характеристик первобытного общества (несмотря на то, что основывались на исследованиях сравнительно поздних стадий развития). Завершим настоящую главу еще одной цитатой, столь же ярко рисующей последующую судьбу первобытного общества: «Как ни импозантно выглядят в наших глазах люди той эпохи, они не отличимы друг от друга, они не оторвались еще, по выражению Маркса, от пуповины первобытной общности. Власть той первобытной общности должна была быть сломлена, – и она была сломлена. Но она была сломлена под такими влияниями, которые прямо представляются нам упадком, грехопадением по сравнению с высоким нравственным уровнем старого родового общества. Самые низменные побуждения — вульгарная жадность, грубая страсть к наслаждениям, грязная скаредность, корыстное стремление к грабежу общего достояния – являются восприемниками нового, цивилизованного, классового общества; самые гнусные средства – воровство, насилие, коварство, измена – подтачивают старое бесклассовое родовое общество и приводят его к гибели. А само новое общество в течение двух с половиной тысяч лет своего существования всегда представляло только картину развития незначительного меньшинства за счет эксплуатируемого и угнетаемого громадного большинства, и оно остается таким и теперь в еще большей степени, чем когда бы то ни было прежде»52. Но эти же процессы положили начало дальнейшему развитию общества.
3.2. Разложение родового строя (община)
Итак, первобытное племя явилось не просто первой формой организации человеческого общества; оно как раз и было тем общественным организмом (не в переносном, а в самом прямом смысле слова), соответствующим новому, наиболее высокому уровню биологической организации, который явился результатом всей предшествующей эволюции живого. Характер его организации адекватно соответствовал основным свойствам человека, ибо последний и развился как элемент данного целого. Однако высокая степень самостоятельности элементов и соответственно функциональный характер целостности общества как организма, обеспечиваемые высоким уровнем развития отражательного аппарата, отвечающим двойственной задаче сохранения целостности и общества, и индивида в качестве организмов, не только создавали условия, но и предопределили неизбежность дальнейшей эволюции общества как целого, ибо содержали в себе потенциальную возможность повышения целостности общества до уровня всего человечества. Но именно вследствие того, что как первобытный общественный организм, так и тот общественный организм более высокого уровня, который должен стать в известном смысле конечным результатом общественного развития, могут функционировать исключительно через своих членов, дальнейшее повышение уровня организации уже не могло осуществляться так, как прежде, т.е. через объединение изменившихся первоначально самостоятельных организмов.
Другими словами, всеобщий социальный организм – общество-человечество – не может возникнуть как объединение организмов-племен (равно как и каких бы то ни было других первичных агрегаций), он может представлять собой только непосредственное объединение все тех же элементов-индивидов, которые составляли (также непосредственно) организм-племя. Но для того, чтобы индивид мог стать элементом общества-человечества, он должен перестать быть элементом общества-племени (как, впрочем, и любого другого социального образования). Следовательно, создание единого организма-человечества в качестве непременного условия предполагает разрушение организма-племени на составляющие, из которых затем только и может быть создан этот всеобщий сверхорганизм. Указанный процесс разрушения одной целостности и становления другой и составил глубинное содержание того, что представляет собой вся имевшая место до сих пор – и продолжающаяся сейчас – история человечества (а точнее, его «предыстория», ибо настоящая история человечества как единого целого начнется только с образованием этого всеобщего сверхорганизма, т.е. со становлением на Земле коммунистического общества).
При этом общественная сущность человека не допускала прямого разрушения первоначальной целостности, но требовала прохождения ряда ступеней – других социальных объединений, поэтапно ведущих к данному результату. Первым (с точки зрения конечной «цели» – промежуточным) результатом этого процесса становится замена первобытнообщинного (первобытно-родового) строя классовой организацией общества, в котором человек перестает во всех своих проявлениях быть членом четко фиксированного социального организма. В результате своеобразного переходного процесса общество «атомизируется». Этот период перехода от первобытной организации общества к классовой, не относящийся по своим основным характеристикам ни к той, ни к другой, представлял собой сложнейший процесс кардинальной социально-психологической и общественно-экономической «перестройки», чрезвычайно длительной и болезненной, но объективно неизбежной на пути дальнейшей эволюции, составившей целую эпоху в развитии человечества – первый переходный период.
Весь этот период общество существует в виде социальных образований, получивших наименование общин. Именно «“земледельческая община” повсюду … является переходным периодом от общей собственности к частной собственности, от первичной формации к формации вторичной»1. Соответственно и община при этом не остается неизменной, опять же проходя в своем развитии некоторые «ступеньки».. На протяжении данного периода община эволюционирует таким образом, что на первом этапе она «сочленяется» с первобытным (родовым) обществом, а на последнем – непосредственно подготавливает переход к классовому обществу. Поэтому, при том же наименовании, общины на первом и последнем этапе указанного перехода (соответственно родовая и соседская общины) весьма существенно отличаются друг от друга.
«Прежде всего, все более ранние первобытные общины покоятся на кровном родстве своих членов; разрывая эту сильную, но узкую связь, земледельческая община оказывается более способной расширяться и выдерживать соприкосновение с чужими.
Затем, внутри нее, дом и его придаток – двор уже являются частной собственностью земледельца, между тем как уже задолго до появления земледелия общий дом был одной из материальных основ прежних форм общины.
Наконец, хотя пахотная земля остается общинной собственностью, она периодически переделяется между членами земледельческой общины, так что каждый земледелец обрабатывает своими силами назначенные ему поля и присваивает себе лично плоды этой обработки, между тем как в более древних общинах производство ведется сообща и распределяются только продукты»2.
Как же происходило это превращение? С расширением оседлости все большее значение приобретают вызванные этим обстоятельством контакты. «Так как род, а тем более входившие в него более мелкие подразделения отличались экзогамией, то территориальные группы, объединенные признаком совместного обитания, неизбежно состояли из представителей разных родов. Наиболее важной из таких территориальных групп являлась община»3. Сначала община была однородовой, т.е. в основном состоящей из членов одного рода с включением остальных своих членов по браку, а затем гетерогенной, включающей несколько различных родовых групп. Первая община оставалась экзогамной, что требовало поддержания регулярных отношений с другим родом. Вторая, как правило, отличалась эндогамией. Здесь уже имеет место переход к иному типу целостности, причем в компактировании общины кроме хозяйственных и брачных отношений существенную роль играла также необходимость военной защиты4. Однако в гетерогенных общинах еще длительное время важное значение имели межродовые противоречия, что требовало развития общеобщинных социальных институтов, объединявших членов общины в единое целое. Возникает социальная стратификация5, развивается система лидерства. Заканчивается период образованием «надобщинных» формирований: «этнососов», «варварский государств» и т.д.
Как мы уже отмечали, по своему бытию общество имеет двойственный характер, одновременно представляя собой и некоторое целостное образование – новый уровень в биологической эволюции, и в то же время содержание сознания своего элемента – человека. Со становлением классовой организации общество потеряло характер четко оформленной целостности, но сохранилось в сознании своих элементов. Это привело к весьма существенным преобразованиям общественной организации.
Процесс общественных трансформаций начался в глубокой древности, захватывая в значительной мере и тот период, который обычно принято относить к первобытному. Однако отнесение в явном или неявном виде к первобытности значительной части доклассового состояния человечества в корне противоречит изложенному здесь взгляду на сущность и характер развития общества. В историографии (в частности, в этнографии) под первобытным обществом подразумевают различные общественные образования доклассовой эпохи, охватывая их единым понятием. Правда, их не сводят все к одному типу, в качестве основных различных этапов выделяя прежде всего раннепервобытную и позднепервобытную общины (кончая «государствами» периода вождества). Но если первую из них еще в какой-то мере можно, хотя и с определенными ограничениями, соотнести с давно исчезнувшим первобытным племенем, являющимся особым самостоятельным этапом развития общества и представляющим собой целостный организм, то вторая – порождение уже весьма далеко зашедшего разложения этой целостности, очередной этап весьма длительного переходного периода между первобытно-родовой и классовой организаций общества (в известной мере включающего в качестве своего завершающего этапа также тот период, который у нас принято называть раннеклассовым).
На этапе первобытнообщинного (точнее, первобытно-родового) общества человечество существовало на протяжении наиболее длительного периода своей истории – более двух десятков тысяч лет. Затем начался хотя и не столь длительный, но тем не менее также весьма продолжительный период разрушения первобытной и «подготовки» к становлению классовой общественной организации, продолжавшийся несколько тысяч лет (весь последующий период классового общества в различных регионах по продолжительности суммарно занял не более шести тысяч лет), который мы здесь и подразумеваем под первым переходным периодом. Сохранившиеся до недавнего времени «первобытные» («раннепервобытные») общины в какой-то мере отражают начальный этап этого периода. В этот-то период основным социальным образованием вместо первобытного племени как раз и становится община, проходящая ряд различных форм. Начало же хотя и медленным, но существенным изменениям общественных отношений положил рост общественной производительности труда.
В виде первобытного общества человечество по своей общественной организации весьма длительно находилось в относительно стабильном состоянии. Однако при неизменности общественной организации все это время происходил пусть очень медленный, но неуклонный рост производительных сил. Частично он выражался в совершенствовании применяемых орудий производства, что нашло определенное отражение в соответствующих археологических материалах. Но есть основания предполагать, что еще больший, хотя и не получивший зримого для нас материального воплощения, прогресс имел место относительно главной производительной силы общества – человека. Не забудем, что, поскольку биологическая эволюция человека с возникновением общества полностью прекратилась, люди уже тогда по своим физиологическим и психологическим характеристикам ничем не отличались от современных. В число же этих характеристик входят также стремление и возможность познавать окружающий мир. А потому прогресс не меньше чем в совершенствовании орудий труда и других материальных средств производства выражался в накоплении знаний об окружающем мире, опыта взаимодействия с объектами производственной деятельности, технологической организации последней.
Конечно, низкий исходный уровень предопределил и первоначально низкую скорость накопления знаний и умений. Но сам процесс такого накопления постоянно повышал этот уровень, тем самым ускоряя указанный процесс по принципу положительной обратной связи (что в дальнейшем существенно сокращало время каждого последующего периода развития человечества). Рост производительности труда приводил к увеличению общественного продукта и как следствие – к увеличению количественного состава общественных образований. При неизменной общественной организации следствием этого, в свою очередь, становилось «почкование» общественных организмов, занятие новыми образованиями новых ареалов существования, приводя к постоянному расширению Ойкумены – но и к сокращению возможного ареала существования каждого отдельного общественного образования. Со временем же постепенный, но неуклонный количественный рост производительных сил общества, не в последнюю очередь вызванный ростом накопленных знаний и умений, привел к качественному скачку в отношениях общества (каждого отдельного общества-племени) с природой. Одновременно с увеличением их количества и вызванного расширением возможностей «радиуса действия» все больше учащаются, становясь со временем неизбежными, контакты между отдельными общественными образованиями.
Указанный качественный скачок произошел примерно 10-12 тыс. лет тому назад в виде перехода от присваивающей экономики к производящей, что привело к самым существенным последствиям, в том числе и к окончанию того периода в развитии общества, который называется первобытным. На место простого собирательства и сравнительно примитивной охоты пришли связанные уже со сложными и длительными, в том числе циклическими, технологическими процессами (в которых воплотились накопленные к тому времени знания и умения) земледелие, скотоводство, высокоспециализированные, требующие не только совершенных орудий, но и не менее совершенной технологии формы охоты и рыболовства. Это позволило достаточно резко увеличить объем производимого продукта. В результате прежде всего начался резкий рост населения: «если раньше на протяжении десятков тысячелетий темп роста народонаселения был весьма незначительный, то примерно за одно тысячелетие “неолитической революции” население ойкумены возросло более, чем в 16 раз, превысив 80 млн. человек, а плотность его в древнейших очагах достигла 1 человека на 1 кв. км.»6.
Но что еще более важно для дальнейшего общественного развития, увеличение производства продукта, повышение надежности его получения и сохранения, привело к статистически гарантированному созданию некоторых его излишков относительно самого необходимого, жизнеобеспечивающего уровня, иными словами, к образованию избыточного продукта. Однако сразу нужно отметить, что это обстоятельство – только условие образования избыточного продукта. Его же социальная суть заключается в особом характере использования. Поэтому появление избыточного продукта дало начало таким общественным процессам, которые привели к весьма существенным последствиям для общественной организации, а в конечном счете (через несколько тысяч лет) к становлению новой – классовой – организации общества. Эти процессы составили содержание того длительного переходного периода в развитии общества, в течение которого происходило разрушение первоначальной целостности отдельных общественных организмов – обществ-племен, и через усиление взаимодействия между отдельными социальными образованиями закладывалось начало механизмам формирования новой, высшей целостности – общества-человечества. И все это время роль основного общественного образования играла община – в самых различных модификациях: сначала в виде самостоятельного образования, а в конце в виде его основного структурного элемента.
В первобытном обществе при ограниченности его возможностей вся производственная деятельность направлялась только на удовлетворение индивидуальных потребностей составляющих его индивидов; какое-либо использование ее результатов для удовлетворения общественных потребностей исключалось. Да этого и не требовалось – в замкнутом микрокосме племени само функционирование его члена в качестве такового удовлетворяло эти потребности. Положение начало меняться только с появлением по мере роста производительности труда статистически устойчивого избыточного продукта, избыточного по сравнению с самым необходимым минимумом, что создавало материальную базу для изменений. У индивида возникает принципиальная возможность присваивать (в общественном смысле) объекты для удовлетворения своих потребностей в противовес остальным членам общества, а не в единении (хотя и обязательно во взаимодействии) с ними, тех потребностей, которые по своей природе не требуют для своего удовлетворения обязательного уничтожения индивидом материальных объектов, – потребностей общественных.
Однако произошло это уже не только вследствие внутренних процессов в самом первобытном племени, но и – благодаря им – вследствие взаимодействия различных социальных образований. Постепенно устанавливались контакты между общинами, повидимому главным образом имеющие в своей основе либо прежние родственные связи, не обрывающиеся уже теперь столь резко из-за меньших возможностей расселения – с одной стороны, либо, наоборот, военные столкновения с «чужими», также учащающиеся по той же причине, – с другой. Усиливающиеся контакты привели к возникновению и развитию такого вида связи как межобщинный обмен.
В своем первоначальном виде межобщинный обмен как явление отнюдь не был результатом зарождающегося общественного разделения труда, как это нередко представляется, – даже уже на гораздо более поздней стадии «обращавшиеся предметы лишь в незначительной мере входили в производственное потребление»7, и уж тем более не могли иметь сколько-нибудь существенного значения в общем объеме потребления племени. Гораздо большую роль данный процесс как взаимная демонстрация добрых намерений играл в нормализации контактов, предотвращении тех видов противостояния общин, которых можно было избежать. В связи с жизненно важным значением такого рода контактов для общины, участие в них придавало особый статус непосредственно осуществляющим их людям. В дальнейшем (на гораздо более позднем этапе) установившиеся каналы связей, конечно, были использованы также и для ведения собственно обмена, что не только еще больше укрепило указанный особый статус занимающихся им членов общины, но и поставило их в особое отношение к до тех пор еще строго общественным средствам производства, выделив часть из них на эти цели, – в так называемой «престижной экономике», в функционировании которой уже не все члены общины играли равную социальную роль, способствуя тем самым расщеплению первоначально целостных отношений собственности.
Таким образом, начавшиеся процессы социальной дифференциации имели своей материальной основой повышение производительности труда в каждом отдельном социальном образовании, но причиной их появления оно стало не непосредственно, а через возникновение и развитие материальных контактов между различными общественными образованиями. Но раз возникнув, указанные моменты приобретают определенную самостоятельность и начинают самым существенным образом сказываться и на внутриобщинных процессах, играя все более важную роль в удовлетворении общественных потребностей человека.
Уже в начале межобщинного обмена появилась «тенденция к неэквивалентному обмену, возникшая в связи с тем, что некоторые бигмены (особо авторитетные члены племени, которые и осуществляли обмен – Л.Г.) предпочитали отдавать больше и более ценное, чем получали, чтобы таким образом еще больше повысить свой престиж и влияние»8. Таким образом, здесь уже возникают зачатки использования материальных ценностей для удовлетворения общественных («духовных») потребностей отдельных индивидов. И здесь межплеменной (межобщинный) обмен совершенно определенно не служил целям ни интенсификации производства, ни повышения уровня потребления как племени в целом, так и отдельных его членов9. В обоих случаях основная польза от материальных контактов имела «нематериальный» характер: налаживание необходимых межобщинных контактов в первом случае, и повышение престижа некоторых членов племени – во втором. Соответственно этому возникает и начинает развиваться упомянутая выше «престижная экономика», которая со временем превращается в «особую сферу экономической и социальной жизни позднего первобытного общества, характеризуемую развитым церемониальным обменом между общинами. Обменивались, как правило, особо ценные “престижные” предметы … Кроме того, этими предметами обменивались только в некоторых, особенно важных областях социальной жизни (например, при установлении или укреплении отношений между общинами)»10.
Соответствующие процессы шли и внутри племени. При наличии избыточного продукта появилась также возможность дополнительного «стимулирования» при помощи его части тех членов сообщества, которые вносили наиболее весомый вклад в общее дело. Вопрос заключался в том, как именно должен был и мог распорядиться «стимулированный» член общины полученной «премией», на удовлетворение каких своих потребностей ее направить. Не забудем при этом два обстоятельства. Во-первых, давно установилось правило распределения предметов потребления на основе строгого равенства (точнее, строго равного жизнеобеспечения), причем, например, первоначально форма распределения пищи вообще «не предполагала раздела пищи между членами коллектива. Ни одному члену коллектива никем – никакими другими его членами и не коллективом в целом – не выделялась определенная доля. Каждый просто сам брал ее из массы продукта, находящегося в собственности и распоряжении коллектива в целом, причем с таким расчетом, чтобы не лишить остальных членов коллектива возможности взять свою долю»11. Но и позже просто не могло быть и речи, чтобы, скажем, член первобытного племени мог отдельно от других потреблять пищу в избыточных – по отношению к причитающейся ему доле из общего продукта – количествах. Во-вторых же, само наличие избыточного продукта говорит, что на самом необходимом (хотя, повидимому, и ниже желательного) уровне эти потребности у всех членов общины уже удовлетворены. В этих условиях не только вполне естественным, но и единственно возможным образом действий для «стимулированного» члена общины оказывается предоставление указанного избытка для пусть и незначительного, но увеличения общего совместного потребления, обеспечивающее таким образом удовлетворение его собственных потребностей в общении (в указанном процессе) и общественном самоутверждении (являющемся в этом случае следствием такого альтруистического поступка), в том числе для завоевания позиций лидерства (ибо «лидерство возникает от отдачи, а подчинение – от получения»12), т.е. для удовлетворения своих же, но не индивидуальных, а общественных (согласно проведенной ранее классификации) потребностей. И насколько нам сегодня известно, именно это и имело место в реальности.
Еще раз подчеркнем: «избыточный продукт» – вовсе не значит «лишний». Сущность его заключается в том, что в дополнение к прямой функции удовлетворения индивидуальных («материальных») потребностей у этой части продукта появляется новая социальная функция, связанная с удовлетворением потребностей общественных («духовных»), что возможно только на определенном уровне развития производства. Парадокс здесь состоит в следующем: удовлетворение индивидуальных потребностей как необходимое условие существования элементов общества, а следовательно, и общества вообще, было заботой всего общества, тогда как удовлетворение потребностей общественных, связанных с личными взаимоотношениями индивида с обществом, составляет задачу данного конкретного индивида как такого элемента. Поэтому использование с последней целью необходимых для достижения первой цели объектов можно было допустить только в том случае, когда в основном эта первая цель уже была достигнута.
В связи с указанной функцией удовлетворения общественных потребностей конкретного человека сущность избыточного продукта как такового (а не вообще продукта) проявлялась именно в отношениях между людьми: «В избыточном продукте следует видеть прежде всего те вещи, в частности ту пищу, которая не являлась жизненно необходимой и, следовательно, могла свободно отчуждаться … Избыточный продукт выявляется лишь в отношениях между людьми, принимает форму дара, брачного выкупа, штрафа, пищи, приготовленной для устройства праздника и т.д.». Поэтому «под богатством стали понимать именно тот излишек материальной продукции, который мог использоваться для налаживания социальных связей», в связи с чем «повсюду сознание такого рода богатства создавало один из наиболее эффективных и, что важно, вполне осознанных стимулов развития производства»13.
Особенно выпукло прослеживается этот момент в так называемых потлачах, сохранившихся у индейцев северо-западного побережья Северной Америки. Тот, кто хотел повысить свой общественный статус, должен был периодически устраивать особые пиры (потлачи) с раздачей подарков, на которые уходили огромные материальные средства. «Устройство потлачей обходилось индейцам дорого, учитывая громадные количества пищи, которая съедалась и раздавалась во время праздников»14. Еще больше средств уходило на раздачу подарков, и чтобы иметь для этого возможности «честолюбивый индеец отказывал себе во всем, лишь бы скопить состояние побольше»15. Но понесенные материальные затраты себя окупали «морально»: «Раздавая свои богатства, индеец кичился ими и своим пренебрежением к ним. Только отказавшись от богатства, он признавался богатым и, следовательно, имеющим право на занятие определенных должностей, на владение определенными угодьями, на те или иные общественные привилегии. Накапливая богатства, а затем раздавая их, индеец преследовал определенную цель поднять или закрепить за собой или своими наследниками новое общественное положение, те или иные права и привилегии»16.
Таким образом, общественный смысл данного обычая как раз и заключался в том, что он представлял собой механизм удовлетворения общественных потребностей отдельного индивида. Но, например, Ю.П.Аверкиева, работа которой цитировалась выше, считает, что институт потлача «на первых порах был способом выравнивания имущественного неравенства»17. Однако такой вывод прямо противоречит ее же сообщениям, что раздаваемое во время потлача имущество далеко не всегда предполагало его использования в целях потребления. Например, «характерно, что посуда, раздаваемая на потлачах, в хозяйстве не употреблялась, а накапливалась к следующим потлачам»18. Более того, вообще «вследствие церемониального характера обмена значительное количество продукта и тем самым вложенного в него труда использовалось непродуктивно»19, вплоть до того, что позже с той же целью вожди «не только раздавали, но и уничтожали ценное имущество»20. Вряд ли можно предположить существование такого крайне нерационального «выравнивания имущественного неравенства». Столь же мало подтверждает идею «выравнивания» материального положения и то, что раздача богатств шла не своим же бедствующим родичам, а «представителям другого рода или родов противоположной фратрии. Идея раздачи сокровищ в пределах своего рода или своей фратрии была чужда представлениям индейцев»21. Таким образом, здесь основная и непосредственная цель всех усилий лично для того, кто их прилагает – «нематериальная» выгода в виде повышения общественного статуса, вполне оправдывающая материальные затраты (в том числе и кажущиеся нерациональными).
Однако, как видим, тут уже имеет место и новый момент – в круговорот накопления и раздачи богатств включаются возникновение и закрепление особых отношений к средствам производства, способствующих накоплению этих богатств (например, «владение определенными угодьями»), что закладывает основы будущих общественных изменений. Важность этого момента подтверждается тем, что «потлач не является случайной особенностью северо-западного побережья, это закономерная форма развития частной собственности на определенном историческом этапе»22. Аналогичные явления в той или иной форме вообще свойственны определенным моментам переходного периода между первобытным и классовым обществом во время существования общества в форме общины, в институте потлача принявшие уже крайние формы.
Итак, на определенном этапе развития целью производственной деятельности может стать (и становится) не только удовлетворение индивидуальных «жизненных потребностей», но и возможность соответствующего общения и самоутверждения с использованием материальных благ, удовлетворение через их посредство своих общественных потребностей. С этой целью развивается определенный характер пользования средствами производства. Другими словами, возникает принципиальная возможность парцеллизации отношений собственности (сначала только по функции пользования), что становится началом разложения первобытного коллектива. Основой же этого процесса явилось стремление к возможно более полному удовлетворению человеком не индивидуальных, а общественных («нематериальных», «социальных», «духовных», «моральных») потребностей.
Таким образом, процесс разрушения первобытно-родовой организации и становление классовой одновременно также является процессом разрушения общественной собственности и образования частной. Другими словами, «земледельческая община … является … переходом от общества, основанного на общей собственности, к обществу, основанному на частной собственности»23 (19, 419). Мы уже отмечали несовместимость этих форм собственности. Ведь даже сами понятия общего и частного противоположны друг другу и друг друга взаимно отрицают. Соответственно и собственность как целостное отношение может быть либо общественной, либо частной – третьего не дано. Это определяется действием социально-психологических факторов, имеющих противоположную направленность при господстве общественной и частной собственности – общественная психология не может обеспечивать одновременного функционирования двух диаметрально противоположных общественных отношений. Поэтому особой проблемой становится период перехода от одного вида фундаментального отношения собственности к другому. Вот как раз процесс парцеллизации собственности, начавшийся одновременно с началом разложения родового общества, и приводит к частной собственности, но только на своем завершающем этапе, одновременно с образованием классового общества. Весь же переходный период отличается расщепленными отношениями собственности.
Начавшееся расщепление отношений собственности, относящееся к началу разложения первобытного племени, привело к формированию многочисленных отношений собственности, базирующихся на различных вариантах сочетания владения, распоряжения и пользования. Такое разнообразие форм собственности, рассматриваемое обычно с точки зрения собственности частной, привычной для современных исследователей, вызывает у них значительные затруднения при попытках ее классификации. Однако качественное отличие этих отношений собственности от современных ему отмечалась еще Энгельсом, который, говоря о главе семейной общины или наследственном старейшине рода, предупреждал: «Мы не должны представлять его себе собственником в современном смысле слова»24. Вполне естественно, что попытки связать бесспорно установленное во всех общественных образованиях доклассового периода разделение форм собственности на различные объекты с самими объектами, с такими, скажем, моментами, как движимость и недвижимость имущества, его происхождение (создано своим трудом или досталось от предков), количественно с характером этих отношений (индивидуальная или групповая собственность) и аналогичными другими, будучи основанными на неверных посылках, не приводят к удовлетворительному объяснению характера отношений собственности в этих условиях. Понять их можно только исходя из учета проявления расщепленных отношений собственности, из анализа того, какие из составляющих частей отношения собственности к данному времени стали индивидуальными (или групповыми, или коллективными), а какие остались общественными. Весьма сложное, определяемое конкретными условиями существования, переплетение отношений владения, распоряжения и пользования по объектам и субъектам и создает всю гамму форм собственности в этот период.
Итак, «внедрение» частной собственности на место общественной – трудный и длительный процесс, составивший огромную эпоху в развитии человечества, эпоху распада родового общества и подготовки к формированию общества классового, эпоху постепенного выделения производства в самостоятельную, относительно оторванную от других (и определяющую другие) область общественной жизнедеятельности, эпоху, создающую основу для дробления первоначально единого, но локального, общественного организма на его составляющие – индивидов (с сохранением, однако, общественной сущности последних) при развитии и укреплении связей между прежде разделенными общественными образованиями, эпоху завершения первого фундаментального этапа развития – первый переходный период в развитии человечества. И всю эту эпоху господствовали различные формы расщепленной по субъектам и объектам собственности на средства производства, последовательно сменявшие друг друга таким образом, что в результате происходила их все большая «приватизация» – до тех пор, пока со становлением классового общества частная собственность (собственность на средства производства отдельных индивидов или их групп) не победила окончательно (кстати, первоначально именно в групповой форме). Дальнейшая эволюция собственности, вплоть до социалистической революции и начала второго переходного периода, продолжалась уже как смена различных форм частной собственности.
Вопрос об изменениях форм собственности в период разложения родового общества заслуживает самого пристального внимания и специального изучения. Здесь же прежде всего отметим, что при расщеплении по видам реализации наиболее обобществленной на протяжении длительного времени оставалась функция владения – сначала реально, а затем номинально; первой же, как мы видели, «приватизации» подвергалась функция пользования. В частности, это положение касалось собственности на землю. Так, Энгельс отмечал, что в роде американских индейцев «земля является собственностью всего племени, только мелкие огороды предоставлены во временное пользование отдельным хозяйствам»25. Иерархичность прав собственности в позднепервобытной общине признается большинством современных исследователей. Обычно право владения землей закреплялось за общиной как целым; распоряжаться ею мог только род в лице своих органов управления; отдельным же семьям передавалось лишь право пользования земельными участками26. «Индеец мог сделаться владельцем никем не занятого участка земли, если он его обрабатывал, и в этом случае он укреплял за собой право пользования землей, признаваемое и охраняемое обычаем племени»27. Традиция общинного владения была настолько глубока, что номинально владение иногда признавалось за древними обитателями данной территории, даже когда никто из них на ней уже не жил, хотя такое «владение» не давало никаких реальных прав28.
В качестве примера расчлененных отношений собственности в более позднюю эпоху, непосредственно предшествующую образованию классового государства, когда и функция владения теряет свой общественный характер, можно привести так называемое «условное владение землей» в Китае эпохи Чжоу. Чжоуское общество уже подверглось далеко зашедшей стратификации, образовалась многоуровневая иерархическая система. Земля, раньше бывшая в общественной собственности, теперь считалась принадлежащей верховному правителю («вану»), как бы олицетворяющему общество в целом. Находящуюся в его владении землю он передавал в распоряжение (условное владение) членов следующей иерархической ступени и в пользование (обработку) простолюдинам; то же происходило и на каждой последующей ступени иерархии; и только простолюдины, непосредственно пользующиеся землей, не владели и не распоряжались ею. Передача земли в условное владение давала право передающему на подношения со стороны получающего, а передача в обработку – на получение ренты-налога29.
Мы уже отмечали ту роль, которую в развитии общества сыграл переход от присваивающей к производящей экономике. Особенно существенным в этом отношении оказалось земледелие. Если уже в период формирования человека продукты охоты имели важное значение в питании, то это значение еще больше возросло на первом этапе развития сформировавшегося общества благодаря коллективным действиям при достаточно высоком уровне орудий и технологии. Но в конце плейстоцена и начале голоцена вследствие климатических изменений уменьшается численность и разнообразие животных, что приводит к постепенному возрастанию доли растительной пищи. Теперь уже собирательство начинает давать более высокую производительность труда, чем охота, что повышает роль растительной пищи. В дальнейшем процесс идет в том же направлении, причем особенно существенно производительность труда возрастает с появлением земледелия. Со временем этот процесс повышения производительности труда на определенном этапе опять достигает уровня, начиная с которого он становится важным фактором, определяющим социальные процессы, в конце концов приводящие к установлению классового общества, ибо «пока производительность труда не достигла определенного уровня, в распоряжении рабочего нет времени для безвозмездного труда, а пока у него нет такого времени, невозможен прибавочный труд, невозможны, следовательно, и капиталисты; но в таких условиях невозможны также рабовладельцы, феодальные бароны, одним словом – какой бы то ни было класс крупных собственников»30.
Но, как мы видели, первоначально возрастание производительности труда привело только к тому, что начала возрастать численность населения, следствием чего стала географическая экспансия и количественный рост социальных образований. Последний же неизбежно требовал усложнения социальной организации, что, в свою очередь, вело к усложнению идеологической надстройки, обеспечивающей целостность общественного образования и его эффективное функционирование. В это время возникает и укрепляется культ предков, появляются другие религиозные атрибуты, тотемизм, расширяется стратификация внутри общественного организма. Сложность общественных институтов начинает приходить в противоречие с той целью, ради которой она и развилась – с целью обеспечения целостности социального образования, что соответственно начинает тормозить общественное развитие.
Уровень сложности, при котором начинается застой в общественном развитии, различен в зависимости от конкретных условий, в частности, он связан со степенью изолированности. Отдельные социальные образования были сравнительно невелики в Океании или Северной Америке, гораздо больше в Африке, и достигали весьма значительных размеров в доклассовую эпоху в Азии. Однако невозможность при существовавшем тогда уровне развития производительных сил и соответствующем ему характере производства получить прибавочный продукт, не создавала условий для классообразования, без которого дальнейший общественный прогресс был невозможен. Поэтому указанное состояние застоя в ряде регионов длилось весьма продолжительный период, исчисляемый тысячелетиями – при гораздо более быстром поступательном развитии в других. Сформировались, просуществовали тысячелетия и пали великие державы, основанные на рабском труде, прошла эпоха феодализма, а в некоторых регионах все еще сохранялись общественные отношения периода разложения родового строя, иногда в достаточно ранних своих стадиях. В таком положении цивилизация эпохи капитализма застала практически все сохранившиеся отсталые общества. Их характеризовали многовековой застой и отсутствие перспектив (что, кстати, и является одной из важных причин их существеннейшего отличия от давно исчезнувшего первобытного общества). Избыточный продукт приводил только к определенной (в конечном счете зависящей от его размера) стратификации общества. И только капитализм, имеющий по самой своей сути глобальный характер, нарушил устойчивое состояние этих общественных образований.
Итак, начало разложения первобытного строя связано с появлением избыточного продукта. Однако, если природные условия не способствовали взаимодействию (определенным формам его) между отдельными общественными образованиями, внутренние процессы переходили в стадию загнивания, характеризующуюся распадом родовых институтов, усложнением (а не развитием с появлением нового качества) социальных институтов и замедлением, а то и полным прекращением развития производительных сил.
Под влиянием методологических установок гегелевской теории развития, предполагающей развитие единичного объекта на основе самодвижения, Маркс и Энгельс и становление классового общества представляли себе преимущественно как результат саморазвития отдельных социальных организмов. Отвергая теорию насильственного установления отношений эксплуатации, они вполне справедливо считали нужным именно в механизмах функционирования общества «найти объяснение для отношений господства и порабощения»31, однако фактически полностью сводили их к механизмам внутриобщинным. Взаимодействие общин при этом преимущественно представлялось в виде простой агрегации, образующий новый, больший по размеру и более сложный по структуре и функционированию, объект развития, но опять же с сугубо внутренними источниками движения.
Указанные процессы действительно имели место, но вели они не к классообразованию, а только лишь к стратификации внутри общины. При этом происходил количественный рост и внутреннее усложнение данного образования, в котором община становилась уже только лишь структурным элементом более крупной социальной единицы – этноса. Не приводя непосредственно к образованию классового общества, данные процессы, ликвидируя первобытный эгалитаризм и создавая представление о возможности далеко заходящего социального неравенства, создавали тем самым социально-психологическую базу, на которой только и могло возникнуть классовое общество (в основе которого, однако, как мы увидим ниже, лежит социальная дифференциация не индивидов, а больших общественных групп). Что же касается самих общин (или этносов), то для них без особого рода внешних взаимосвязей результатом этих процессов являлось прекращение дальнейшего развития, и даже загнивание общества, консервация общественных установлений в целом с развитием их «вширь» без качественных изменений. Классовая же организация как таковая, как качественно новый этап общественного развития, возникала в результате не только внутренних процессов в тех или иных социальных образованиях, но и в результате определенного рода взаимодействия между ними. Соответственно вне такого рода взаимодействий даже при существенном количественном росте и усложнении внутренней организации этноса еще не приходится говорить о государстве в полном смысле этого слова (в этнографии в этом случае говорят не о политической, а о потестарной организации общественного образования).
Всегда, когда дело касается развития той или иной реальной системы, оно определяется не только внутренними ее свойствами, но и внешними условиями. При отсутствии соответствующих условий не будет и соответствующего результата. Это касается и развития общества. Общество как развивающаяся система характерно тем, что количественные изменения в нем идут не только «изнутри» (пусть и за счет роста на основе поставляемого окружающей средой материала), но и «извне», за счет взаимодействия с другими аналогичными системами, также приводящего к существенным изменениям. И этот последний момент играет весьма важную роль в развитии, ибо само это развитие идет по-разному в зависимости от такого рода взаимодействия.
Община до своего разрушения все еще сохраняла ряд важнейших характеристик, позволяющих воспринимать ее как некое относительно целостное образование. Однако по сравнению с первобытным обществом (племенем), являющимся подлинным биологическим организмом, община представляла собой уже совсем иной тип целостности. Внутренние процессы в самом этом общественном образовании, равно и одновременно как и контакты с другими образованиями привели к двум существенным отличиям: замена в качестве системообразующего фактора реального или воображаемого кровного родства на другие факторы (экономический, идеологический, территориальный и др.) и внутренняя стратификация. Следствием оказалось не только определенное изменение характера функционирования данного образования, но и существенная модификация поведения его членов на личностном уровне, в том числе существенная его дифференциация.
Люди всегда имели достаточно важные индивидуальные различия, усугубляющиеся различием конкретных фактов личной биографии. Однако первобытное общество-племя благодаря социальному равенству находило возможность адекватного использования в своей системе такого рода различий для общих целей. Наличие стратификационных различий с одной стороны, равно как и некоторого «социального пространства» вне основного социального образования, к которому принадлежал индивид, с другой, создавало совершенно новую ситуацию. Вследствие указанных факторов начинают возникать определенные флуктуации в характере связи индивида и общества. Эта связь в определенном смысле перестает быть всеобъемлющей, точнее, непосредственная связь индивида с обществом из жесткой превращается в гибкую, причем степень этой гибкости зависит от степени развития упомянутых факторов. Теперь вследствие индивидуальных отличий физиологических характеристик и личного опыта возникают своего рода «колебания» положения индивида в обществе, усиливающиеся по мере роста влияния указанных факторов, – как растут колебания атомов в решетке вещества с повышением температуры. При достижении определенной величины таких «колебаний» происходит как бы «выбивание» такого социального «атома» с разрывом большей или меньшей части связей и соответствующей модификацией поведения.
«Выбивание» отдельных «атомов» из общинной целостности, когда их число достигает заметной величины, начинает существенным образом сказываться на характере общественного развития. В общественном пространстве создается своеобразное «облако свободных электронов», которое приходит в движение при возникновении в этом пространстве какого-либо «перепада потенциалов», оказывая на данное пространство важное влияние. Можно сказать, что такие люди становились «как бы свободными атомами, вырвавшимися из своих этносистем благодаря повышенной пассионарности»32. Их действиями закладывались основы других общинных объединений различного уровня, в том числе и тех, которые Л.Гумилев называл «этносами» и которые считал основным структурным элементом человечества.
Несмотря на их действительно важное значение, мы не будем здесь подробно рассматривать процессы становления такого рода «догосударственых» образований, вобравших в себя в виде структурных объединений общины, поскольку их рассмотрение прекрасно выполнено Л.Гумилевым в целом ряде работ, и прежде всего в его главном теоретическом исследовании33. Основную роль в становлении этноса, по Гумилеву, играет характер хозяйственного взаимодействия социальных образований с вмещающим (кормящим) ландшафтом. Именно он в конкретных условиях реализуется «пассионариями» – наиболее активными индивидами, увлекающими за собой остальных – с объективной целью становления нового целого. Дальше возникший этнос растет, внутренне структурируется на «субэтносы», включается в «суперэтнос». Сам процесс этногенеза имеет начало, проходит этап бурного роста, в определенный момент в нем наступает состояние «перегрева», затем – период спокойного развития, и наконец упадок, завершающийся ликвидацией этноса как определенного образования с элиминацией или ассимиляцией его элементов другими этносами. Но если то, что касается собственно процессов этногенеза, не вызывает существенных возражений, то ряд других положений теории их несомненно вызывают.
Прежде всего это касается фундаментального представления об этногенезе как явлении не социальном, а природном. По Гумилеву социальное (формационное) и этническое развитие происходят в различных, хотя и пересекающихся плоскостях. Само начало этногенеза как процесса биологического осуществляется благодаря «этническому толчку» – соответствующим массовым мутациям, результатом которых и становится появление «пассионариев». Здесь, к сожалению, Гумилев уходит от строго научного метода, ибо современная наука вообще не предполагает возможности направленных мутаций, что соответственно делает невозможным сколько-нибудь массовое появление вполне определенных изменений на генетическом уровне, в том числе и проявляющихся в поведении. На самом деле действительно имевшее место в разные времена и в различных местах массовое возникновение «пассионариев» происходило не вследствие этой мифической причины, а благодаря вполне определенным социальным процессам на вполне определенном этапе общественного развития. Речь идет об упомянутых выше процессах, которые сопровождали разложение родового строя, и были связаны с переходом от общинной психологии к индивидуалистической, с изменением характера удовлетворения общественных потребностей индивида (характерные примеры – викинги у скандинавов, «люди длинной воли» у монголов и т.п.).
Продолжение развития в этом направлении не приводит к качественному скачку в общественной организации, хотя вызывает весьма существенные количественные изменения. Они касаются не только роста (иногда очень значительного) размеров общественного образования, но и углубления внутренней социальной стратификации, создающей подобие начала классообразования, но на самом деле таковым еще не являющегося (в так называемых «раннеклассовых государствах»). Характерная форма организации такого рода – «вождество» в его различных модификациях. Однако такая потестарная система еще не является государством в собственном смысле слова даже при наличии властных институтов и больших размеров социального образования. Наиболее характерный пример здесь – монгольская «империя».
Вот что писал по этому поводу Л.Гумилев. В то время как на Евразийском континенте «формация всюду была феодальной»34, «в отличие от аристократических королевств Западной Европы и бюрократических империй Китая степные улусы существовали как военная демократия»35. Завоевания, начатые Чингис-ханом, фактически не изменили ситуации. «Грандиозный поход Батыя в 1237-1242 гг. произвел на современников ошеломляющее впечатление. Но ведь это был всего лишь большой набег, а не планомерное завоевание, для которого у всей Монгольской империи не хватило бы людей. В самом деле, монголы ни на Руси, ни в Польше, ни в Венгрии не оставляли гарнизонов, не облагали население постоянным налогом, не заключали с князьями неравноправных договоров. … Завоевание не состоялось, потому что оно и не замышлялось»36. Несколько иначе развивались события в империи Юань, где, однако, «монголы были ничтожным меньшинством, ибо они (вместе с собственно Монголией) составляли меньше 2 % населения империи»37. Но дело было не в количественном составе. Дело в том, что завоеватели «не понимали, что такое экономика земледельческой страны и мелиорация долины такой грозной реки, как Хуанхэ. В 1334 г. от голода умерло около 13 млн. душ, и такой же голод повторился в 1342 г. В 1344 г. воды Хуанхэ прорвали дамбу и затопили земли трех провинций»38. Попытки исправить положение привели только к длительной смуте. А в целом же с распадом «монголосферы» в бывших улусах монгольской империи «произошла реставрация дочингисовских социальных форм с сохранением прежних этических норм … восторжествовали традиции родоплеменного строя»39. Несмотря на грандиозность исторических событий, становления нового социального качества не произошло, ибо для этого не оказалось соответствующих условий – как внешних, так и внутренних.
Прежде всего, чтобы внешнее взаимодействие качественно меняло характер развития, необходимо, чтобы количество взаимосвязей взаимодействующих элементов-образований достигло некоторой «критической массы». В зависимости от уровня этой «массы» возможны (и неоднократно реализовались в действительности) три достаточно различных пути развития с различными результатами. И зависит «выбор пути» в значительной мере от внешних, природных условий, определяющих возможности указанных контактов. Здесь также имеется зависимость от уровня производства, поскольку в известной мере характер этих контактов определяется возможностью получения избыточного (а затем и прибавочного) продукта. Это оказывает влияние и на то, какой уровень разнообразия и какое количество связей следует считать «достаточным» для того или иного пути развития.
Первый путь соответствует случаю, когда контакты между социальными образованиями по тем или иным причинам сведены до минимума или крайне ограничены (прежде всего природными условиями, либо физически препятствующими самим контактам, либо существенно ограничивающими их ввиду недостаточности сил и времени, почти полностью затрачиваемых на выживание). Указанные случаи имеют место в таких условиях как пустыня, джунгли, крайний Север и т.п. В таких случаях, как сказано выше, в племени как единице развития консервировались определенные социальные установления, являющиеся результатом более раннего развития, и такое состояние оставалось практически неизменным на протяжении весьма значительного времени. Почти до нашего времени дошел в таком состоянии ряд «затерянных» племен. Какие-либо возможности дальнейшего самостоятельного развития для таких общественных образований полностью исключены. Внутренние изменения не идут далее самых начал социальной стратификации.
В случае большего наличия возможностей контактов процесс идет несколько иначе. Однако и здесь природные ограничения играют огромную роль, соответствующим образом влияя на характер внутренних социальных процессов. Здесь стратификация развивается весьма существенно. Но разложение первобытного строя приводит не к классообразованию, а только к гипертрофированному развитию – в соответствии с «законами Паркинсона» – тех институтов, которые как раз и явились результатом этого разложения. Их развитие, таким образом, достигает «потолка», всякий прогресс (как социальный, так и технический) исключается. Опять же происходит консервация общественной жизни на давно достигнутой ступени без всяких дальнейших перспектив качественных изменений. Характерным примером в этом отношении являются аборигены Австралии. Хотя «первые поселенцы – австралийские аборигены проникли сюда уже 30-35 тыс. лет назад»40, ограниченность ареала, этническое единообразие и ряд других факторов привели к тому, что не сформировались достаточно обособленные группы со своими особенностями, взаимодействие которых могло бы привести к дальнейшим стимулам в развитии. Зато общественные установления этапа разложения первобытного строя приобрели исключительно высокий уровень сложности (например, система социальной стратификации и социальных групп, разветвленная система «брачных классов», многоступенчатая система инициации и т.п.). Это, так сказать, классический случай «среднего пути», также тупикового.
В качестве второго случая, но уже не в столь чистом виде вследствие неполной изоляции, может быть назван Китай. Благодаря, с одной стороны, достаточно обширному пространству, а с другой – высокой степени этнической однородности и крайней ограниченности внешних контактов, в Китае на протяжении весьма длительного времени ингибировались процессы, ведущие к классообразованию, и общественное развитие имело явно выраженное превалирование количественных изменений. Здесь, однако, ввиду того, что внешние контакты (спорадические, но иногда весьма интенсивные) все же наличествовали, не было все-таки такого полного прекращения «социального роста» и остановки развития как в предыдущем случае. Однако и не было классообразования в его классическом виде межэтнического взаимодействия – со всеми вытекающими последствиями. Поэтому в Китае отсутствовали известные нам общественно-экономические формации в их достаточно чистом виде (всегда имела место весьма существенная «китайская специфика»), в частности, не было классического рабовладения или «азиатского способа производства» (в которых первоначально один этнос превращает другой в «средство производства»). И здесь на определенном этапе развитие резко и надолго тормозится.
Таким образом, Австралия и Китай представляют собой как бы два крайних случая «второго пути» развития.
И, наконец, третий путь – это такой идеальный случай, когда имеет место диалектический баланс противоречивых условий: при наличии достаточных препятствий, обеспечивающих существование этнического разнообразия, эти препятствия не доходили до такой степени, чтобы в принципе ограничить самым минимальным уровнем взаимодействие между отдельными разрастающимися социальными образованиями, т.е. когда в принципе сохраняются потенциальные коммуникационные возможности, ограниченные только степенью развития соответствующих средств коммуникации (такие возможности чаще всего обеспечивают открытые пространства – прежде всего море и степь: «и степь, и море дают широкий простор для передвижения в отличие от тех мест, где люди вели оседлый образ жизни»41).
В этом случае при теоретически неограниченных возможностях контактов, они все же реально всегда имели исторически ограниченный характер, определяемый, с одной стороны, возможностями коммуникации, а с другой – развитием производительных сил и производственных процессов (определяющих в том числе и возможности коммуникации). Взаимодействие различных этнических образований, имеющее для некоторых из них главным стимулом приобретение дополнительных «жизненных благ» за счет других, в определенных условиях было направлено на включение других (сначала спорадически) в ту среду, которая представляет средства существования, т.е. на «изъятие» добытых ими необходимых для себя «жизненных средств», а в конечном счете на порабощение других образований с целью извлечения прибавочного продукта (иными словами, на добывание средств к жизни не непосредственно во взаимодействии с окружающей природой, но частично или полностью путем расположения между собой и ею особого социального «производящего слоя»). Это был путь образования особого и особым образом структурированного социального организма – путь классообразования. Рассмотрим, как он реализовался в действительности.
3.3. Становление классового общества
Переходя к рассмотрению возникновения и развития классового общества, мы тем самым переходим от исследования развития общества преимущественно на основе внутренних стимулов (хотя и являющихся следствием развития отношений с окружающей природной средой), к необходимости учета в качестве существенного фактора взаимодействия между собой отдельных общественных образований, т.е. среды социальной. Как мы видели, уже процессы рассмотренного выше переходного периода не могут быть поняты вне такого рода взаимодействия. Но при переходе к классовой организации этот момент в известном смысле становится определяющим фактором ее становления и развития.
Как уже отмечалось, только влиянием определенных методологических установок можно объяснить стремление классиков марксизма объяснить все процессы в общественных образованиях внутренними причинами, ибо факты противоположного рода были им прекрасно известны. Например, Энгельс пишет: «Возникновение государства у афинян является в высшей степени типичным примером образования государства вообще, потому что оно, с одной стороны, происходит в чистом виде, без всякого насильственного вмешательства, внешнего или внутреннего … – с другой стороны, потому, что в данном случае весьма высокоразвитая форма государства, демократическая республика, возникает непосредственно из родового общества»1. И это несмотря на то, что выше он указывает: «ко времени высшего расцвета Афин» в них было «свободных граждан (считая детей) – 90 тыс., рабов обоего пола – 365 тыс., чужеземцев и вольноотпущенников – 45 тыс.». Но откуда же брались эти «рабы и вольноотпущенники», в несколько раз по численности превышающие свободных граждан – потомков тех, кто вышел «непосредственно из родового общества»? Они были пленниками (или потомками пленников), которые появились в результате именно «насильственного вмешательства» – правда, уже самих афинян, – в жизнь соседей. Таким образом, становление государства – рабовладельческого государства – в силу самой своей природы не могло происходить только как следствие развития данной общности под влиянием внутренних причин, без внешних взаимодействий, поскольку именно последние и создавали базу для той социальной структуры из двух классов, которая была характерна для первоначальной организации классового общества. Только совместное действие достаточно редкого сочетания внутренних процессов, природных условий и социального окружения обусловило особый характер классового общества и в античном мире2.
Другой вариант (представляющий действительно типичный случай становления первой классовой формации) характерен для тех условий, в которых применение поливного земледелия создало условия для повышения производительности труда и получения гарантированного избыточного продукта в результате совместных действий значительных масс людей. Возможность получения уже прибавочного продукта и целесообразность совместных производственных операций в свою очередь создали объективные условия для классовой организации общества, для порабощения уже целых групп общин другими с присвоением последними создаваемого первыми прибавочного продукта.
Будучи по своему глубинному смыслу процессом интеграционным, «нормальное» общественное развитие шло закономерным путем только там, где существовали условия реализации этого процесса за счет расширения и углубления связей, т.е. там, где обеспечивалось все расширяющееся взаимодействие социальных образований3. Североамериканские индейцы жили в достаточно благоприятных климатических условиях. Условия жизни здесь обеспечивали необходимую пищу (как и другие жизненные блага) в некотором минимальном количестве, но, во-первых, не обеспечивали ее гарантированно, а во-вторых, они не создавали возможности интенсификации производства простым сложением усилий, условий для получения гарантированного избытка, являющегося предпосылкой получения прибавочного продукта. Это и определило их общественное положение, положение где-то в середине процесса разложения родового общества. «Дальше объединения в племя подавляющее большинство американских индейцев не пошло. Немногочисленные племена, отделенные друг от друга обширными пограничными полосами, ослабляемые вечными войнами, занимали небольшим числом людей громадное пространство»4.
Иначе дело обстояло с племенами, расселившимися дальше на Юг американского континента. Здесь раньше пройден этап разрушения родового общества, что явилось основой для классовой организации. Произошло это благодаря поливному земледелию, позволявшему, с одной стороны, получить устойчивый прибавочный продукт, а с другой требующему общественной стабильности и совместных действий больших масс людей. Это стало возможным, поскольку, в противоположность жителям северной части континента, «мексиканцы, обитатели Центральной Америки и перуанцы … выращивали в искусственно орошаемых огородах маис и другие … съедобные растения, служившие им главными источниками питания»5. Это обеспечило не имевшие ранее места необходимость и возможность объединения усилий больших масс людей: «До возникновения полеводства должны были сложиться совершенно исключительные условия, чтобы полмиллиона людей позволило объединить себя под единым центральным руководством; этого, вероятно, и никогда не случалось»6.
Итак, переходный период от первобытного к классовому обществу начинается с появлением избыточного продукта, т. е. с началом использования части самостоятельно полученных материальных благ для индивидуального, в противоположность остальным членам общества (но через них) удовлетворения общественных потребностей; кончается он с появлением прибавочного продукта, т. е. с использованием для той же цели (равно как и для удовлетворения индивидуальных потребностей) труда других людей, с разделением общества на тех, кто этот прибавочный продукт создает, и тех, кто его использует. Возникают условия для эксплуатации человека человеком7 как системы, которая в социальном смысле как раз и представляет присвоение результатов труда других людей, воплощенных в прибавочном продукте, для удовлетворения собственных потребностей.
Начало же такого рода взаимодействиям кладет определенный уровень развития производительных сил, определяющий саму возможность получения таким путем одними за счет других созданного последними прибавочного продукта. Этот же уровень обеспечивает и средства коммуникации. Процессы же взаимодействия двух (или более) различных этнических образований и дают начало классообразованию. Развитие такого рода было различным для различных природных и социальных условий, что вызывает весьма существенные различия в течении указанных процессов, которые, однако, были сходными своей неизменной направленностью на использование одним этническим образованием (или его частью) другого этноса (или нескольких различных этносов) с целью извлечения прибавочного продукта. А уж конкретные условия коммуникаций и производства определяли, как это происходило – в виде ли образования огромных империй с «азиатским способом производства» в районах поливного земледелия, где эффективным оказывалось использование совместной работы больших масс, – с одной стороны, в виде ли «полюдья» варяжских дружин на Руси с ее лесами, где «прокормиться» легче было небольшими разрозненными общинами, – с другой, суть была та же: один этнос (или его часть) ставил другой (другие) между собой и окружающей средой в качестве проводника во взаимодействии с ней. Это и давало начало развитию классовых формаций, которое дальше идет уже по своим законам, движимое внутренними противоречиями. Дальнейшие процессы при этом являлись следствием предыдущей дифференциации. «Неравенство, без сомнения, существовало там уже в доисторическое время и в той или другой степени как внутри племен, вошедших в состав государств, – и часто совершенно различных по своему этнографическому происхождению, – так и между племенами»8.
Даже будучи связанными общеметодологическими соображениями о самодвижении как главной пружине общественного развития, классики марксизма не могли не учитывать реальных процессов образования классовых государств, имевших место в различных регионах мира, тех процессов, когда в результате взаимодействия двух социальных образований одно из них, соответствующим образом подготовленное своим собственным внутренним развитием, уже насильственным путем превращает другое (также прошедшее соответствующую предварительную «подготовку») в промежуточное (между собой и окружающей средой) средство получения жизненных благ. Имея в виду такого рода взаимоотношения, Маркс приводит весьма точный образ перехода к классовому обществу: «Конечно, очень просто вообразить себе, что некий богатырь, физической силой превосходящий других людей, поймав сперва зверя, ловит затем человека для того, чтобы заставить его ловить зверей; словом, использует человека в качестве одного из имеющихся в природе условий для своего воспроизводства, как и всякое другое природное существо (при этом его собственный труд сводится к властвованию). Но, – добавляет Маркс, – подобный взгляд является пошлым (как бы он ни был правилен с точки зрения данного племени или данной общины), так как он исходит из развития обособленных людей»9.
Таким образом, важным уточнением в данный образ (которое сделало бы его верным не только «с точки зрения данного племени или данной общины»), должно войти представление о взаимоотношениях не лично «некого богатыря» и некоего «человека», а определенных социальных образований. И еще: человек использует другого человека «для своего воспроизводства» вовсе не как «всякое другое природное существо», а как существо особое, ближайшее к нему в цепи опосредований его взаимоотношений с миром. Человек не может прямо использовать физические факторы (например, солнечную радиацию) «для своего воспроизводства». Не может этого сделать и потребляемое им животное. А вот растение – может. Растения располагаются между природными факторами и животным миром, как бы окружая последний некоей «оболочкой»; животные в известном смысле образуют такую же «оболочку» между природой и человеком. А на определенном этапе развития общества в нем происходит важный качественный скачок: одна группа людей окружает себя еще одной – дополнительной – «оболочкой» из другой группы людей, поставленной ею «ловить зверей» для себя. Такое низведение людей фактически к части природной среды для себя другими людьми, т.е. невероятной глубины снижение социального статуса другого человека, первоначально было возможно исключительно по отношению к «чужакам», которые и людьми-то считались весьма условно. Только в дальнейшем, в результате длительных и сложных процессов это стало возможным по отношению к «своим».
Вот такое социальное образование, состоящее из двух разнородных (а первоначально и разноэтнических) групп, одна из которых образует себе из другой дополнительную «оболочку», расположенную между ней и природой, и представляет собой классовое общество. Другими словами, «в отношениях рабства и крепостной зависимости … одна часть общества обращается с другой его частью просто как с неорганическим и природным условием своего собственного воспроизводства … работник, и в форме раба и в форме крепостного, ставится в качестве неорганического условия производства в один ряд с прочими существами природы, рядом (как мы уже говорили, не «в один ряд» и не «рядом», а «между») – Л.Г.) со скотом, или является придатком к земле»10. «Если вместе с землей завоевывают самого человека как органическую принадлежность земли, то его завоевывают как одно из условий производства, и таким путем (!) возникают рабство и крепостная зависимость»11; «племя, завоеванное, покоренное другим племенем, лишается собственности и становится одним из тех неорганических условий (только не «одним из», а особым условием! – Л.Г.) воспроизводства племени-завоевателя, к которым община (!) относится как к своим собственным»12. Ниже мы увидим, что в этом отношении буржуазное, капиталистическое общество принципиально не отличается от рабовладельческого и феодального, разве что «оболочки» эти образуются другим способом и при том их система существенно усложняется.
Происходящее вследствие подчинения одного общественного образования (или ряда образований) другим столь существенное изменение общественной структуры, как раз и осуществляемое победителями с целью извлечения жизненных благ, добываемых побежденными в процессе производства, естественно не может не сказаться самым существенным образом на отношениях занятых в нем людей, т.е. не привести к изменению способа производства. Какому именно? Здесь, по Марксу, возможны различные варианты: «Народ-завоеватель навязывает побежденным собственный способ производства (например, англичане в этом столетии в Ирландии, отчасти в Индии); или он оставляет старый способ производства и довольствуется данью (например, турки и римляне); или происходит взаимодействие, из которого возникает новое, синтез (отчасти при германских завоеваниях)»13.
Действительно, все три эти способа взаимодействия победителей (в дальнейшем – эксплуататоров) с побежденными (в дальнейшем – эксплуатируемыми) создают условия для изъятия прибавочного продукта. Наименьшие изменения осуществляются в случае данничества, внешне представляющего собой простое насильственное изъятие прибавочного (а иногда и части необходимого) продукта у побежденных. Это происходит тогда, когда способ ведения хозяйства у побежденных не требует организации совместной деятельности больших производственных групп, и прибавочный продукт легче извлекать, особо не нарушая существующих производственных отношений. Но, однако, и здесь дополнительно появляются отношения эксплуатации одной социальной группы (угнетенной) другой (господствующей), ставящей между собой и окружающей средой первую, хотя господствующая группа вроде бы не принимает участия в организации процесса производства, и следовательно, в полном смысле о господствующей социальной группе и классовом обществе (как обществе с разделением труда) здесь говорить вроде бы не приходится. Однако даже в таком случае победившая социальная группа все же оказывает существенное влияние на процесс производства, так как уже само взимание дани сказывается на объемах, номенклатуре, сроках и других моментах производства, причем не непосредственно, а через определенную социальную прослойку в группе побежденных, тем самым в чем-то меняя ее социальные функции (например, на Руси «малочисленные варяжские дружины не могли бы держаться в чужой стране без поддержки каких-то групп местного населения. Эти проваряжские “гостомыслы” … жертвовали своей родиной и жизнью своих соплеменников ради своих корыстных интересов»14). Следовательно, определенное «вмешательство» в производственные отношения здесь все же имеет место. Это влияние, постепенно усиливаясь, определенным образом модифицирует производственные отношения, в результате чего на данной основе в дальнейшем формируются уже в полном смысле слова отношения классовые (как это, в частности, имело место на Руси).
Что же касается непосредственного образования классового общества в его так сказать «классической форме», то к нему приводит только последний из названных Марксом способов формирования нового способа производства – взаимодействие способов производства победителей и побежденных. Но это не значит, что в результате такого взаимодействия получается нечто «среднее»; нет, результатом становится принципиально новая, до тех пор в природе не существовавшая, классовая организация общества. Если до тех пор классового общества вообще еще не существовало, то ни одно из участвующих в столкновении различных социальных образований не обладает соответствующим способом производства, и возникает он именно в результате такого столкновения – если оба участвующих в нем образования были уже соответствующим образом подготовлены. Два участвующих в конфликте разноэтнических социальных образования в результате образовывали некоторое новое целое – государство, превращаясь при этом в антагонистические классы рабовладельческого общества: победители – в рабовладельцев, побежденные – в рабов.
Но чтобы создать успешно функционирующую «оболочку», для нее недостаточно «материала» в том количестве, которое составляет само «ядро». Поэтому такого рода процесс никогда не был однократным. Опираясь на приобретенный опыт и возросшие экономические возможности, победители продолжали действовать в том же направлении. Процесс приобретал лавинообразный характер, и распространение его ограничивалось только наличными возможностями организации и коммуникации. Вот теперь уже в каждом последующем случае «народ-завоеватель навязывает побежденным собственный способ производства», за счет новых приобретений все расширяя ареал эксплуатации. Так создавались великие рабовладельческие империи древности. Действительно, каждая из них (по крайней мере, первоначально) возникала сравнительно быстро и в социальном окружении, еще далеко не достигшем уровня классового общества. Конечно, всегда существовала возможность более быстрого развития того или иного локального образования. Но откуда же в данном регионе одновременно могло появиться множество таких социальных образований, локализованных так, чтобы совместно создать огромную державу? Это могло происходить только путем постепенных (но в историческом смысле достаточно быстрых) завоеваний одним племенем (или союзом племен) множества других, превращаемых в эксплуатируемую массу, с одновременным структурированием победителей в «коллективный» класс-рабовладелец.
Рассматривая этот вопрос, К.Каутский писал: «Племя победителей подчиняет себе племя побежденных, присваивая себе и всю их землю и затем принуждает побежденное племя систематически работать на победителей, платить им дань или подати. История, как известно, знает бесчисленное количество примеров такого рода. При всяком случае такого завоевания возникает деление на классы, но не вследствие деления общины на различные подразделения, но вследствие соединения в одно двух общин, из которых одна делается господствующим и эксплуатирующим, а другая эксплуатируемым и угнетенным классом; принудительный же аппарат, который создают победители для управления побежденными, превращается в государство. … Та же самая причина, которая порождает первые классы, ведет также и к образованию первых государств. И государство, и классы начинают свое существование одновременно»15.
Такая ситуация в корне отлична как от эксплуатации отдельных индивидов, например, в форме патриархального рабства, так и от завоевания одного племени другим с аналогичным видом производства. В первом случае раб – только вспомогательная «рабочая сила», не освобождающая свободных от необходимости непосредственного производительного труда в той же области производства, во втором – завоеватели как бы соединяются с завоеванными и в том или ином виде продолжают сами вести хозяйство. Ни в первом, ни во втором случае не происходит общественного разделения труда. «Совсем иначе обстоит дело, когда племя номадов-завоевателей (пастухов-кочевников – Л.Г.) закрепляется в области какого-либо племени (земледельческого – Л.Г.). Заранее исключено, чтобы номады могли продолжить здесь свое прежнее занятие. … Организация государства осуществляется лишь там, где вторгшееся племя не превращается совсем или отчасти в земледельцев, живущих своим трудом, а превращается в эксплуататоров, которые берут на себя функции управления и объединения эксплуатируемых»16. При этом в связи с низкой производительностью труда «только в том случае, если победившему племени номадов удалось покорить целый ряд оседлых племен и объединить их в единое общество под своим господством, только тогда победители могли бы полностью посвятить себя функции управления на основе насилия и объединения побежденных, полностью существовать на доход от их эксплуатации и отказаться от своего прошлого промысла. Только в этом случае было бы создано настоящее государство»17.
В отличие от этого исходя из представлений о развитии общества исключительно в виде саморазвития, становление классовых отношений в отдельных (или объединенных в союзы) общинах Энгельс представлял следующим образом: «В каждой такой общине существуют с самого начала известные общие интересы, охрану которых приходится возлагать на отдельных лиц, хотя и под надзором всего общества… Они облечены, понятно, известными полномочиями и представляют собой зачатки государственной власти. …Все возрастающая самостоятельность общественных функций по отношению к обществу могла со временем вырасти в господство над обществом; … первоначальный слуга общества, при благоприятных условиях, постепенно превращался в господина над ним… наконец, отдельные господствующие лица сплотились в господствующий класс»18.
Возражая Энгельсу, Каутский справедливо указывает, что «выдающийся индивидуум внутри племени не мог бы добиться похвалы и отличия, власти и уважения среди своих товарищей, если бы дело шло о том, чтобы их закабалять и эксплуатировать… В условиях догосударственного существования выдающаяся личность знает очень хорошо, что для завоевания влияния и уважения со стороны племени есть лишь один способ, а именно более энергично и более успешно, чем другие, защищать интересы племени»19. Действительно, попытка установить господство над общиной, опираясь на саму же общину, подобна попытке барона Мюнхгаузена вытащить самого себя из болота за волосы. Выделение «господствующего лица» здесь несколько похоже на то, как «отдельно взятый» богатырь из примера Маркса заставляет других людей ловить для себя зверей. Но он хотя бы опирается при этом на что-то конкретное – на то, что он «физической силой превосходит других людей». А на что, кроме уважения своих соплеменников, мог бы опереться желающий эксплуатировать тех же соплеменников бигмен в потестарной системе доклассового общества? Да «если бы кто-либо стал обижать соплеменников, то его бы либо выгнали, либо убили, как выродка»20.
Отметим, что, как и во многих других, в этом случае совершенно бесполезны аналогии с «чисто биологическими» процессами. Если предполагать, что начало формирования отношений господства и частной собственности есть «дело рук» отдельных личностей, тогда действительно можно было бы согласиться, что «сохранение остатков стадных отношений (имеется в виду система доминирования – Л.Г.) сыграло немаловажную роль в период возникновения и развития частной собственности»21. На самом же деле выделение «руководящих лиц» в роде ни коим образом не есть возрождение биологической системы доминирования, имевшей место в животном надорганизменном образовании – даже на новом, более высоком уровне. Это генетически принципиально различные явления, пусть даже в чем-то сходные и по форме, и по функционированию (как плавники акулы и дельфина). Дело в том, что хотя наличие ведущего индивида в определенных условиях выгодно надорганизменному образованию в обоих случаях, внутренний механизм явлений различен: положение доминирующего животного в стаде завоевывается им самим в противопоставлении остальным его членам, с непосредственной опорой на свои личные качества, в то время как положение бигмена в общине создается через ее членов, с опосредованием его личных качеств их отношением, т.е. через общество. Так что проводить здесь какие бы то ни было параллели совершенно неправомерно. Соответственно нет оснований полагать, что «частная собственность … первоначально возникает в недрах родоплеменного строя»22. Частная собственность и родоплеменной строй на любом этапе своего развития – вещи абсолютно несовместимые.
Как мы уже отмечали в последней главе предыдущего раздела, установить господство над большинством меньшинство может только опираясь на свою сплоченность (организацию) как определенной социальной группы с общими интересами. А потому отдельное лицо никак не может стать «господствующим» по отношению к большинству, опираясь непосредственно на это большинство, т.е. прежде, чем оно совместно с другими «сплотилось в господствующий класс». Иными словами, реальная последовательность событий всегда имеет противоположный характер: сначала происходит консолидация определенной социальной группы с общими интересами, а затем эта группа (при благоприятных условиях) превращается в господствующий класс – по отношению к другим социальным группам. И лишь потом, спустя весьма длительное время, в результате продолжительного развития классового общества господствующий класс, оставаясь все той же социальной группой с общими интересами, по самому характеру отношений эксплуатации (когда они для представителей господствующего класса индивидуализируются) распадается (и то весьма относительно) на отдельные «господствующие лица». Но в полной мере этот процесс становится характерным уже только для следующей классовой общественно-экономической формации – феодализма (что и является особенностью последнего), достигая завершенности лишь при классическом капитализме. А что касается рабовладельческого общества, то при любых его формах «рабство возникает не из разделения труда в обществе, но из войны с чужими племенами, следовательно, из насилия, хотя и насилия экономически фундируемого»23, – когда все племя как целое становится господствующей социальной группой в новом социальном образовании. При этом есть все основания предполагать, что подобное взаимодействие первоначально происходило между социальными образованиями с различным типом производящего хозяйства (скотоводство и земледелие).
Разумеется, сказанное вовсе не означает, что столкновение пастухов-кочевников с оседлыми земледельцами неизменно приводило к образованию классового общества. Наоборот, в огромном большинстве случаев кочевники либо ограбив земледельцев возвращались к прежнему образу жизни, либо, меняя образ жизни, так или иначе ассимилировались последними. Но ведь классовые образования (государства) и рождались не только не каждый год, но и не каждое столетие (а рождаясь, не всегда выживали). Среди тысяч и тысяч такого рода столкновений только при определенных условиях указанное взаимодействие приводило к возникновению нового качества. Таких условий было немало, но во всех случаях самыми необходимыми из них являлись два: возможность создания прибавочного продукта и социально-психологическая готовность к такому развитию событий и победителей, и побежденных.
Провозглашая образование классов и государства в результате взаимодействия племен и полемизируя с «гипотезой Энгельса» (разделяемой, однако, и Марксом) о становлении классового общества в результате внутренних процессов на основе разделения труда, Каутский утверждает: «Попытки объяснить возникновение классового государства из факторов, действующих внутри первобытной общины, не дают удовлетворительных результатов»24. Это верно. Но и сам он не в достаточной мере учитывает тот факт, что и без указанных внутренних процессов этого также произойти не могло. Только благодаря именно внутреннему длительному общественному развитию (хотя также не без влияния внешних факторов), результатом которого явилась внутренняя стратификация общины, стало возможным использование одним социальным образованием другого в качестве того, что Маркс называл для первого «неорганическим и природным условием своего собственного воспроизводства». Так что вопрос о том, что важнее для классообразования и образования государства – внутренние процессы в общине или межобщинное взаимодействие, похож на выяснение того, что важнее для добывания огня – кремень или кресало: указанные явления в принципе возможны только в результате совместного действия обоих факторов. Первоначальное становление классового общества – следствие «хлопка двух рук»; но трудно себе представить, как бы мог выглядеть «хлопок одной руки».
Итак, повторим: переходный период от первобытного общества к классовому начинается с появлением избыточного продукта, т.е. с началом использования части самостоятельно полученных материальных благ для индивидуального, в противоположность остальным членам общества, удовлетворения общественных потребностей; заканчивается же он с появлением прибавочного продукта, т.е. с использованием для той же цели труда других людей, с разделением социального организма на группы тех, кто этот прибавочный продукт непосредственно производит, и тех, кто его использует.
Как мы видели, в большинстве случаев, так сказать «естественным» образом, переход к классовому обществу осуществляется в форме образования рабовладельческих государств, население которых составляло два антагонистических, противостоящих друг другу класса – рабовладельцев и рабов. Рабовладельцы как организованная сила осуществляли внеэкономическое принуждение рабов к производительному труду. На первом этапе классового общества в определенном смысле происходит возврат к утраченной целостности отношений собственности, но уже как собственности частной. Здесь она первоначально принимает групповую форму. Средства производства (прежде всего земля и те, кто ее обрабатывает, – превращенные в средство производства эксплуатируемые социальные группы) принадлежали всему классу рабовладельцев как целому, т.е. рабовладельческому государству (как правило, персонифицированному в лице верховного владыки).
Здесь следует отметить, что объединением множества общин в государство интеграционные процессы на данном этапе развития вовсе не заканчиваются. Классики марксизма исследовали смену общественно-экономических формаций, но никогда не определяли, применительно к какому конкретному социальному объекту это относится. Ведь не ко всему же человечеству – в его различных частях указанные процессы были существенно несинхронны, а часто и практически не связаны между собой. Тогда чем же ограничивался круг участников указанных процессов? История показывает, что огромную роль в развитии общества играют определенные, иногда достаточно аморфные, иногда основательно структурированные надгосударственные образования, которые на том или ином этапе общественного развития выполняют роль некоторых относительно самодостаточных целостностей, в пределах которых – с учетом некоторого социального окружения, с которым указанная целостность взаимодействует именно в этом качестве, – в основном и происходят социальные преобразования. К сожалению, как историки, так и обществоведы (в узком понимании этого термина), увлеченные идеей линейного поступательного общественного развития, не уделяли достаточного внимания данному моменту.
Одним из первых, кто еще в XIX веке обратил внимание на существование подобных образований, был Н.Я.Данилевский, введший понятие культурно-исторических типов общества и выделивший тринадцать таких типов25. Более широко такой подход был использован О.Шпенглером, категорически отвергавшим существовавшую «невероятно скудную и лишенную смысла» схему построения истории: «Древний мир – Средние века – Новое время»26. «Вместо монотонной картины линейнообразной всемирной истории, держаться за которую можно только закрывая глаза на подавляющее количество противоречащих ей фактов, – писал он, – я вижу феномен множества мощных культур, с первобытной силой вырастающих из недр породивших их страны, к которой они строго привязаны на всем протяжении своего существования, и каждая из них налагает на свой материал – человечество – свою собственную форму и у каждой своя собственная идея, собственные страсти, собственная жизнь, желания и чувствования и, наконец, собственная смерть»27. Эти образования Шпенглер считал некоторыми социальными организмами: «Культура есть организм. История культуры – их биография. … Феноменами отдельных, следующих друг за другом, рядом вырастающих, соприкасающихся, затеняющих и подавляющих одна другую культур исчерпывается все содержание истории. … Задача … заключается в том, чтобы вскрыть структуру исторических организмов, отделить морфологически необходимое от случайного, разгадать выражение всех исторических черт и отыскать подлинный смысл этого немого языка»28.
Но фактически Шпенглер только поставил указанную задачу. Под его влиянием аналогичный подход использовали также другие исследователи (например, А.Вебер, деливший историю на ряд всемирно-исторических культур). Однако тем, кто достаточно последовательно решил данную задачу, рассмотрев структуру этих «организмов», указав при этом на их чрезвычайно важную роль и место в общественном развитии, был А.Тойнби29. Он показал, что характер и особенности развития той или иной страны не только не могут быть определены исключительно из ее собственной истории, но и не объясняются также полностью идеей «линейного прогресса». Они достаточно полно определяются развитием некоторого образования более высокого (надгосударственного) уровня, которому А.Тойнби дал наименование «цивилизации»30. Позже роль такого рода образований, преимущественно на этнической основе, рассматривал Л.Гумилев, называя достигшее вершины развития социальное образование «суперэтносом». При всем различии в подходах, точки зрения Тойнби и Гумилева сходятся в выделении именно такого, хотя и не всегда обладающего четко определенными границами, но имеющего важнейшее значение для общественного развития, образования в виде определенной целостности, имеющей внутреннюю структуру, определенный характер развития, начало и конец существования в данном качестве. В этом огромная заслуга названных исследователей.
Все же наибольшая заслуга в развитии «цивилизационного» подхода в «философии истории» принадлежит А.Тойнби. Однако если в области исторической науки он выступает как оригинальный мыслитель, чей сравнительный анализ зарождения, развития и гибели тех социальных организмов, которые он называет «цивилизациями», несмотря на наличие ряда фактических ошибок, представляет значительный научный интерес, то в других областях исследования общества, начиная с морали, искусства, религии, и кончая проблемами экономики, неизбежно затрагиваемых им в процессе исследования «цивилизаций», его высказывания отличаются удручающей банальностью. Поэтому его чрезвычайно интересная историческая теория стоит на «глиняных ногах», поражая сочетанием точности структурных исследований с одной стороны, и беспомощностью в определении причин и движущих сил описываемых им процессов с другой.
Причиной зарождения и развития «цивилизаций» Тойнби считает «вызов», брошенный обществу (которое до тех пор в качестве «примитивного общества» пребывало в некоем стационарном состоянии) его либо естественной, либо социальной средой, на который общество, чтобы выжить, вынуждено было давать свой «ответ». Вот этот «Вызов-и-Ответ» и являлся причиной зарождения и развития «цивилизаций». Но тут сразу же возникают неувязки. По Тойнби цивилизация для человечества – сравнительно недавнее явление: «наш род, добравшись до “карниза” первобытного человека 300 тысяч лет тому назад, отдыхал там на протяжении девяносто восьми процентов этого временного периода, прежде чем перейти в … активное состояние цивилизации»31. Дальше последовал какой-то толчок-«вызов», который и дал начало развитию первой цивилизации. Естественно возникает вопрос: что же, за столь длительный срок «отдыха» при практически неизменном состоянии те или иные общественные образования не получали раньше никаких «вызовов», способных нарушить стабильность? Еще как получали: начиная от той же смены климата и до «эффекта новой земли», когда человечество распространялось по планете. Почему же «цивилизации» не начали возникать значительно раньше? Рассматривая этот момент, Л.Гумилев задает вполне закономерный вопрос: «Если море, омывающее Грецию и Скандинавию, – “вызов”, то почему греки “дали на него ответ ” только в VIII – VI вв. до н.э., а скандинавы – в IX – XII вв. н.э.?»32. Тойнби не только не отвечает на подобные вопросы, он их даже и не ставит.
Далее. Последовавший «вызов» воспринимается не всем обществом как целым, но только некоторым его творческим меньшинством, которое и становится движущей силой развития, делая свою реакцию на «вызов» всеобщей посредством механизма «мимезиса» (подражания). Именно переключение инертным большинством своего «мимезиса» со старейшин, поддерживавших обычай, на творческое меньшинство, формирующее ответ на полученный вызов, и являлось причиной возникновения и развития цивилизаций. И пока данное меньшинство остается творческим, указанный механизм действует безотказно, «откликами» на последовательные «вызовы» обеспечивая развитие цивилизации. Но в какой-то момент ведущее меньшинство вдруг утрачивает свой творческий потенциал, продолжая, однако, оставаться господствующим. Тогда данный механизм разлаживается и поступающие «вызовы» (в том числе и являющиеся реакцией на предыдущие «ответы») адекватных ответов не получают; происходит надлом цивилизации, после которого начинается ее упадок с последующим распадом. Но почему вдруг исчезает творческий потенциал активного меньшинства? Ответа опять же нет.
Ответы на указанные вопросы попытался дать Л.Гумилев в своей теории этногенеза, завершающегося образованием «суперэтноса», в чем-то схожего с «цивилизацией» Тойнби. Он считает, что как и возникновение нового биологического вида, «начало этногенеза мы также можем гипотетически связать с механизмом мутации, в результате которой возникает этнический “толчок”, ведущий затем к образованию новых этносов. Процесс этногенеза связан с вполне определенным генетическим признаком. …Пассионарность — это признак, возникающий вследствие мутации (пассионарного толчка) и образующий внутри популяции некоторое количество людей, обладающих повышенной тягой к действию. Мы назовем таких людей пассионариями»33. В собственной аннотации на книгу «Этногенез и биосфера Земли» он объясняет, что пассионарность «выражается в непреоборимом стремлении к деятельности во имя своего идеала, но вопреки инстинкту самосохранения, как личному, так и видовому»34. Характер развития под влиянием пассионарности «получается в результате инерции, возникающей время от времени вследствие “толчков” – мутаций, вернее, микромутаций, отражающихся на стереотипе поведения, но не влияющих на фенотип. Как правило, мутация почти никогда не затрагивает всей популяции в определенном ареале. Мутируют только отдельные относительно немногочисленные особи, но этого может оказаться достаточно для того, чтобы возник новый тип людей, в нашем случае консорция, которая при благоприятном стечении обстоятельств вырастает в этнос. Пассионарность членов консорции – обязательное условие такого перерастания»35.
Л.Гумилев иронизирует по поводу того, что у А.Тойнби «гении и герои появляются тогда, когда возникают какие-нибудь неприятности»36. Но, может быть, использовать такой подход (кстати, неоднократно находивший подтверждение в истории) все же предпочтительнее, чем класть в основу общественных процессов мутации, особенно в довольно произвольной интерпретации данного понятия. Создается впечатление, что для Гумилева мутации – нечто вроде изменений под некоторым воздействием среды, определенным образом влияющим на характеристики организма человека и при одинаковых условиях дающим примерно аналогичный результат (вроде загара под действием ультрафиолетового излучения). Мутации же, как мы отмечали выше, в любой момент имеют строго случайный характер, и не приходится ожидать, что они окажутся одинаковыми (или повторяющимися) для сколько-нибудь значительного числа случаев37. Более того, как правило, существенно выраженные мутации как раз и дают тех самых «явных уродов», которые «быстро устраняются естественным отбором»38, и уж во всяком случае весьма редки, и ни о какой достаточно значительной группе особей, подверженных одинаковым (да еще и вполне определенным – «пассионарным») изменениям не может быть и речи. Что касается влияния «полезных» мутаций, то они вообще чаще всего весьма незначительны и накапливаются из поколения в поколение за счет отбора. «Приспособительные признаки вида быстро бы претерпели распад, были бы сметены штормом мутаций, если бы естественный отбор не ставил непреодолимых препятствий на пути роста концентрации любой вредной мутации»39. Но мало того, что это относится только к чисто биологическому виду; Л.Гумилев из двух «великих конструкторов эволюции» (изменчивости и отбора) фактически произвольно оставляет только один – изменчивость, который в одиночку, без длительного отбора полезных признаков, вообще обеспечить какую бы то ни было эволюцию попросту не в состоянии. Более того, вследствие постулируемой направленности пассионарности против инстинкта самосохранения («мы можем рассматривать пассионарность как “антиинстинкт”, т.е. импульс, имеющий знак, противоположный инстинкту самосохранения»40), если и должен был бы происходить отбор, то должен был бы происходить весьма интенсивный «отрицательный отбор» – хотя по Гумилеву почему-то «для устранения мутантов-пассионариев необходимо около 1200 лет»41. И все это, если не считать того, что человек в данном отношении вообще как раз тем и отличается от животных, что общество оградило его как биологическое существо от действия изменчивости, приняв эту функцию на себя.
Таким образом, в обоих случаях попытки найти какой-то совсем уж «внешний толчок», приведший к революционным преобразованиям «примитивных обществ», давшим начало писанной истории человечества, не приносят положительного результата. А причина здесь в том, что в действительности основы такого рода преобразования заложили не «внешние», а «внутренние» процессы – но внутренние по отношению не только к отдельным социальным образованиям, но и определенной их совокупности, определяемой конкретными условиями (представляющей своего рода «популяцию», но не отдельных индивидов, а общин, находящихся на поздней стадии разложения родового строя). И А.Тойнби, и Л.Гумилев, представляли себе (хотя и с оговорками) «примитивные общества» как нечто статичное, что совершенно не соответствует действительности. Как мы видели выше, главным здесь было то, что во взаимодействии с окружающей средой первобытное общество во все время существования развивало свои производительные силы – медленно, но неуклонно. Общественная же организация «находится в неустойчивом равновесии всюду, где растут общественные производительные силы»42. Как раз это развитие и привело в конечном счете к потенциальной возможности производить прибавочный продукт, тем самым обеспечивая исходные условия для разделения труда на труд непосредственно производительный и труд управленческий, что соответственно предполагало потенциальную возможность организации совместной работы больших масс людей под общим управлением.
Но такая организация предполагала существенное возрастание размеров социального организма. Рост же при повышении производительности труда первоначально сравнительно небольших социальных организмов не мог привести к такому результату вследствие специфических общественных отношений. Этот рост сопровождался вызванной тем же повышением производительности труда внутренней дифференциацией, противостоящей в своей основе этим отношениям, что вследствие такой противоречивости начиная с определенного момента тормозило развитие, действительно вызывая застой в развитии как общественных отношений, так и производительных сил, и уж во всяком случае не способствовало межобщинному объединению сил в производственной сфере. Только внешняя (по отношению к совокупности таких общин) сила могла объединить эти общины в единое производственное целое с единым императивным управлением – государство. Такую функцию по отношению к вышедшим на определенный уровень производительности труда общинам могли выполнить только внешние общины завоевателей.
Насильственное объединение прежде разрозненных производителей в единое целое, несмотря на существенное ухудшение их собственного социального положения, в смысле общечеловеческого развития составляло гигантский прогресс, ибо такое объединение усилий под единым руководством (когда «процесс труда расширяет свои размеры и доставляет продукт в большем количестве»43) обеспечивало возможность существования организованной социальной группы, профессионально занятой управлением, что, в свою очередь, способствовало повышению общественной производительности труда. Здесь происходило (в другой форме и на другом уровне) то же, что гораздо позже имело место в начальный период становления капиталистического общества при организации мануфактур, когда к повышению производительности труда приводило уже одно только объединение усилий при технологическом разделении труда даже без существенных технических усовершенствований средств производства. Другими словами, здесь, как и при мануфактуре, «исходной точкой переворота в способе производства служит рабочая сила»44. Только повышение производительности труда в масштабах всего социального образования делает его прочным и устойчивым и обеспечивает победу новых общественных отношений.
А это условие обеспечивалось далеко не всегда. Повидимому, покорение оседлого земледельческого населения кочевниками представляло собой на заре истории довольно распространенное явление, что подтверждается множественностью аналогичных случаев и в более позднее время. Но, как мы отмечали, такой акт сам по себе еще не означал формирования классового общества – для этого должны были иметь место особые условия, вызывающие органичное объединение покорителей и покоренных в единое целое. Без выполнения этих условий, если кочевники становились так сказать «пастырями человеческого стада», паразитирующими на нем без внесения собственного вклада в общее функционирование, т.е. без образования нового социального целого, «с экономической точки зрения новые пастыри скоро превращались в трутней… Если номадический пастырь деградирует, не отвечая экономическим целям общества, то паства восстанавливается, поскольку она осталась на прежней почве и по-прежнему экономически продуктивной … незаконные пастыри либо изгоняются, либо ассимилируются»45. И только там, где введение нового механизма (внешнего принудительного управления) дает новое экономическое качество – разделение труда, приводящее к повышению его производительности, завоеватели и завоеванные сливаются в некоторое целое, функционирующее далее уже в этом качестве, происходит образование нового социального организма – классового государства. В этом случае его устойчивость обеспечивается тем, что в конечном счете не только завоеватели, но и завоеванные могут получить определенные преимущества. Например, есть основания полагать, что именно установление владычества инков над рядом индейских племен имело для последних следствием улучшение питания и увеличение продолжительности жизни46. Таково первое («объективное») условие образования классового общества.
Вернемся теперь ко второму («субъективному») условию его образования. На первых порах принудить человека к созданию прибавочного продукта, используемого другим, можно было только непосредственным насилием. Поэтому классовое общество возникает в виде рабовладельческого строя, в котором осуществляется вооруженное господство одной соответственно организованной социальной группы над другой, такой организации не имеющей. Такое положение становится возможным только при далеко зашедшем разложении родового строя. Господство человека первобытного общества над другим представить себе нельзя. Кроме низкой производительности труда, делающей нереальным извлечение прибавочного продукта, тому были и другие важные причины. Во-первых, это было не нужно, ибо потребности индивидуальные ограничены, а свои общественные потребности человек более эффективно удовлетворял адекватным их природе образом – непосредственным функционированием в качестве элемента общества (в том числе и добывая необходимый для его существования продукт), а не в извращенном виде посредством использования вещей, произвести которые в возможно большем объеме можно только принудив к этому других людей; во-вторых же, у потенциально господствующей социальной группы в целом еще не было необходимой именно для этой цели (т.е. для установления общественного неравенства) организации, которая также возникает на основе стратификации первоначально единого производственного коллектива в связи с формирующимся различным отношением его членов к избыточному продукту.
Только далеко зашедшее разложение родового строя давало человеческий материал для формирования как эксплуатирующего, так и эксплуатируемого классов. Если указанное разложение еще не зашло достаточно далеко, формирование классовых отношений невозможно – они не согласуются с социально-психологической атмосферой общества. Классики марксизма вполне справедливо считали, что при родовом строе «нет места для господства и порабощения»47: с одной стороны свободный человек первобытного общества не мог быть господином – «господство над покоренными несовместимо с родовым строем»48, а с другой он столь же не мог смириться с положением раба – «война может кончиться уничтожением племени, но никак не порабощением его»49.
Если при соприкосновении двух общественных образований хотя бы одно из них еще не достигло необходимого уровня внутренней социальной стратификации, обеспечивающей готовые социально-психологические условия для принятия идеи «господства-подчинен-ности», то столкновение просто кончается гибелью слабейшего. Соединенные Штаты почти полностью уничтожили североамериканских индейцев, но превратить их в рабочий скот не смогли – пришлось рабов для плантаций ввозить из Черной Африки, где необходимые условия уже были налицо. Безуспешными оказались попытки порабощения местного населения в Бразилии и на Карибах, а вот потомки подданных империй инков и ацтеков с использованием имевшихся уже форм эксплуатации поработить удалось (хотя потери «человеческого материала» также были огромны).
И наоборот: согласно Библии «избранный народ», социально-психологически еще не готовый к формированию классового общества, придя в «землю обетованную» не порабощал местное население, а уничтожал: «например, при завоевании Ханаана Исусом Навином запрещалось брать в плен женщин и детей и оставлять им тем самым жизнь»50. Точно так же «в Китае, когда туда в III в. переселились хунны и сяньбийцы, вытесненные из родной степи вековой засухой … три века шла жуткая резня. В этой постоянной войне погибли 27 этносов, в том числе древнекитайский (ханьский)»51.
Условия для соответствующих преобразований прежде всего появились там, где существовала потенциальная возможность широкого развития земледелия – в долинах великих рек (дельта Нила, Междуречье и др.), пригодных для такого земледелия, окруженных тем, что Тойнби называет «Афразийской степью», в которой кочевали пастушеские племена. Земледелие в долинах этих рек первоначально развивалось отдельными общинами оседлых земледельцев. Их свободу и независимость погубил рост собственной производительности труда – при потенциальной возможности ее дальнейшего возрастания в случае объединения. Они и были насильственно объединены для совместного производства прибавочного продукта захватчиками-кочевниками. Но, кроме эффекта совместности, в специфических условиях поливного земледелия такого рода объединение позволяло использовать недоступные отдельным общинам сложные технологические процессы, также обеспечивающие рост производимого продукта при совместных усилиях больших масс, организуемых государством. Начался новый этап общественного развития – этап классового общества с государством в качестве социального псевдоорганизма, а вместе с тем и тех, в общем случае надгосударственных, социальных образований, которые А.Тойнби называет «цивилизациями», в рамках которых и происходило их развитие и взаимодействие с другими социальными образованиями.
3.4. Деструктивная фаза классового общества
Таким образом, уже при первоначальном становлении классового общества был обеспечен значительный рост производительности труда, прежде всего за счет изменения характера использования главной производительной силы – самих производителей, которые, в связи с изменением характера целостности социального организма, в производственной деятельности переводятся из состояния координации в состояние субординации. Конечно, в дальнейшем имел место рост также и технических средств, но происходило это крайне медленно, в связи с чем и первый этап классового общества, средства производства которого мало были подвержены развитию, растянулся на огромный временной промежуток. Когда же со временем этот рост все же дал существенные результаты, на смену первой классовой формации пришла последующая.
Следовательно, «первый толчок» в становлении «цивилизаций» явился следствием развития производительных сил. Те, кто не желает становиться на материалистическую точку зрения, практически вынуждены отказаться от формационных представлений, а в результате не умеют найти причин начала процессов создания исследуемых ими социальных образований в том, в чем они действительно заключались – в уровне развития производительных сил, а вынуждены, как мы видели, конструировать некие искусственные причины (такие, как «Вызов-и-Ответ» у Тойнби, мутагенная «пассионарность» у Гумилева и др.). Но это обстоятельство никак не меняет того, что ими были обнаружены реально существовавшие и существующие общественные процессы, происходящие в особых, в общем случае не совпадающих с государством, социальных организмах, которые ранее в расчет практически не принимались. Исключительно важно то, что теоретические построения А.Тойнби базировались на предположении, что эти социальные организмы, «цивилизации представляют собой не статические формации, а динамические образования эволюционного типа»1, и им предпринимались небезуспешные попытки найти структуру и элементы их эволюционного процесса. Соответственно смотрел на свой «этногенез» и Л.Гумилев. Поэтому их методологические ошибки не должны служить препятствием для использования положительных результатов их исследований.
Распространившиеся сегодня попытки «дополнить» марксистский формационный подход при анализе общественного развития «цивилизационным» подходом, в частности, в том его виде, который представлен в работах А.Тойнби, – это попытки с негодными средствами. Марксистский исторический материализм и философия истории Тойнби – различные научные организмы с различным «метаболизмом». Если марксизм основывается на строго материалистической основе, то «цивилизационный» подход в своей основе является идеалистическим, хотя идеализм в нем последовательно и не проводится. Да он и не может быть проведен последовательно, коль скоро мы в работах Тойнби имеем дело с научным исследованием. Как ученый А.Тойнби в своих конкретных исследованиях и полученных научных результатах по обыкновению во многом является стихийным материалистом. И в этом качестве он имеет ряд реальных научных достижений, которые безусловно могут и должны быть использованы марксистами – не для того, разумеется, чтобы «подправить» марксизм или «дополнить» его тем или иным способом, а чтобы применить конкретные положительные результаты указанных исследований для его дельнейшего развития. Ведь для развития марксизма – единственно научной обществоведческой теории – не столь уж важно, на каких позициях стоял получивший новые научные результаты исследователь, лишь бы они давали новое положительное знание об объективной действительности. Таким качеством работы А.Тойнби безусловно обладают.
Рассматривая генезис, развитие и распад «цивилизаций», Тойнби выделяет в них группу независимых социальных образований, которым не предшествовала никакая другая цивилизация. Таковыми для него являлись цивилизации Нового Света, а также ряд цивилизаций в Старом Свете, такие как шумеро-аккадская, египетская, минойская (эгейская). Эти социальные образования представляли для него цивилизации «первого поколения», которые затем (самостоятельно или совместно) породили цивилизации «второго поколения», а те, в свою очередь, – ныне сущие цивилизации «третьего поколения». Особую роль в этом отношении для Тойнби играет минойская (эгейская) цивилизация, ибо она, по его мнению, представляет собой в конечном счете прародительницу едва ли не всех нынешних еще «живых» цивилизаций (прежде всего тех, которые Тойнби называет православной, западной и исламской). Однако он приводит слишком мало доказательств для того, чтобы признать, что именно влияние минойской цивилизации, несомненно имевшее место, было решающим в генезисе эллинской или сирийской цивилизаций – по крайней мере сопоставимое с влиянием последних на зарождение и развитие следующих цивилизаций.
Но для Тойнби, рассматривающего свои цивилизации практически без учета господствующих в них социально-экономических отношений, это не имело особого значения. Как мы уже отмечали, он не считал «цивилизации» определенными общественными организмами, в качестве таковых имеющими свои собственные законы развития, не могущими быть сведенными просто к результатам совокупности действий составляющих их отдельных людей. Впрочем, для него вообще «общество представляет собой систему взаимоотношений между людьми»2 – и только. «Общество не является и не может быть ничем иным, кроме как посредником, с помощью которого отдельные люди взаимодействуют между собой. Личности, а не общества создают человеческую историю»3. Поэтому-то, по мнению Тойнби, «общества не являются организмами, с какой бы стороны их ни рассматривали. В субъективных понятиях это умопостигаемые поля исследования; а в объективных понятиях они представляют собой основу пересечения полей активности отдельных индивидуумов, энергия которых и есть та жизненная сила, которая творит историю»4. Соответственно, по определению Питирима Сорокина, «цивилизации Тойнби являются не интегральной системой, а простым конгломератом различных цивилизационных объектов, объединенных только своего рода соседством, а не причинными или существенными связями»5. Вот почему, признавая значение работ Тойнби, «фактически никто из современных ученых и практических аналитиков его концепций не использует» – «предложенное Тойнби определение термина цивилизация (на котором зиждется вся его концепция) не позволяет сделать вывод о реальном существовании самого феномена»6. Если уж и можно было рассматривать цивилизации в каком-то аспекте как определенные социальные образования, то они представлялись ему базирующимися только лишь на определенном культурном единстве.
Однако в целом «парадигма», разработанная А.Тойнби, безусловно оказывает влияние на взгляды современных исследователей. Так, например, С.Хантингтон также признает существование «цивилизаций» как некоторых социальных образований (хотя и более целостных, чем это представлялось Тойнби). Более того, он считает, что роль этих образований возрастает, и в недалеком будущем, «в нарождающемся мире основным источником конфликтов будет уже не идеология и не экономика. Важнейшие границы, разделяющие человечество и преобладающие конфликты будут определяться культурой. … Столкновение цивилизаций станет доминирующим фактором мировой политики»7. Однако в целом его представления оказались даже более ограниченными, чем у Тойнби. Во-первых, потому, что у него речь идет только о перспективе, но не о ретроспективе: раньше, по его мнению, конфликты, определяющие ход истории, вызывались столкновениями между королями (до 1793 года), затем между нациями (до первой мировой войны), а после 1917 года «конфликт наций уступил место конфликту идеологий». Во-вторых, в его построениях исключено то, что составляет одну из наиболее сильных сторон концепции Тойнби, а именно, принципиальная зависимость развития «цивилизаций» от внешнего окружения (как взаимодействия с ним, так и использования в качестве «строительного материала»), а также идея их зарождения, развития и гибели. Главный же недостаток его концепции – тот же, что и у Тойнби: фактическое исключение из рассмотрения экономического момента. Хантингтон, как и Тойнби, считает уместным «группировать страны, основываясь не на их политических или экономических системах, не по уровню экономического развития, а исходя из культурных и цивилизационных критериев»8. Но исторический опыт показывает, что в том, что касается серьезных конфликтов, дело явно не в ксенофобии (лишний раз об этом говорит отмечаемая Хантингтоном нынешняя «позиция ассоциированного члена западного мира» для Японии при колоссальных «цивилизационных отличиях»). Экономические интересы (в частности, заинтересованность в «строительном материале») вызывали раньше и вызывают теперь столкновение и королей, и «наций-государств», и «идеологий», и «цивилизаций» (в том числе объясняют и наличие противоречий не только между США и Японией, но и между США и Западной Европой).
Конечно, Тойнби понимал культуру в весьма широком смысле слова (хотя наибольшее значение придавал ее религиозному компоненту – что, кстати, относится и к Хантингтону); но для него «культурный элемент является сущностью цивилизации, а экономический и политический элементы – относительно малозначащими проявлениями ее внутренней жизни»9. В противоположность этому с марксистской точки зрения общество как раз и представляет собой некоторую целостность, несводимую к сумме индивидов, т.е. определенный «социальный организм». И для этого организма особую, решающую роль играет то, что Маркс называл «общественным обменом веществ», т.е. способ производства, обмена и распределения средств к жизни. Если принять во внимание этот решающий фактор, положение существенным образом меняется, и «цивилизации» как раз и оказываются теми социальными организмами, в пределах которых происходит становление, развитие и гибель тех или иных общественно-экономических формаций. Причем то, что определяет общественно-экономическую формацию, определяет характер производства средств к жизни, а цивилизационные особенности – воспроизводство самой жизни общественных индивидов.
В этом плане действительно можно говорить о «поколениях» цивилизаций, которые порождают друг друга как следующий этап общественного развития. Первичную общественно-экономическую формацию обычно называют рабовладельческой (здесь мы также будем пользоваться этим названием, хотя в своих различных модификациях данная общественно-экономическая формация нередко оказывалась мало похожей на классическое рабство). Она формировалась самостоятельно на базе «примитивных обществ», т.е. на основе взаимодействия племенных образований, находившихся в своем развитии на стадии далеко зашедшего разложения родового строя. Последующие «цивилизации» представляли уже следующую общественно-экономическую формацию – феодальную, которая в большинстве случаев формировалась под воздействием распадающейся предыдущей.
Не следует, однако, думать, что каждая такая «цивилизация» всегда формировалась и развивалась как та или иная четко определенная общественно-экономическая формация в ее чистом, «классическом» виде. Конкретные социальные условия формирования и развития, предшествующие, последующие и внешние влияния, и даже природные особенности самым причудливым образом сказывались на конкретном характере таких «цивилизаций»10. В ряде случаев они сочетали в себе некоторые элементы различных формаций, – в рабовладельческих формациях, особенно на стадии распада, можно было обнаружить элементы феодальных отношений, а формации феодальные нередко содержали достаточно значительные рудименты рабовладения; и в той, и в другой в разные моменты имели место элементы своеобразного «протокапитализма». Но, тем не менее, всегда существовал доминирующий уклад, позволяющий отнести данную «цивилизацию» к рабовладельческой или феодальной формации (явное несоответствие этому представляет так называемая «западная цивилизация», развившаяся от становления феодализма до современного империализма, но этот вопрос мы ниже рассмотрим отдельно).
Вот применительно к «цивилизациям» как определенным относительно целостным общественным образованиям различных общественно-экономических формаций действительно можно отнести положение о том, что предыдущая из них является предшественницей и родительницей последующих – но с весьма существенными добавлениями. Например, весьма важно, что последующая «цивилизация», как правило, далеко не полностью совпадала географически с последующей, одной из причин чего было то, что в ее становлении не менее значительную роль, чем цивилизация-родительница, играло окружение, относящееся к другому формационному уровню развития.
Сама по себе «цивилизация» как особый социальный организм, как некий объект развития, проходит стадии, соответствующие классической гегелевской «триаде». Сначала это некоторое отдельное, относительно бесструктурное (в смысле наличия отдельных составляющих частей, но не в смысле «вертикального» строения) образование. Затем, вследствие неизбежного структурирования взаимодействующих частей, постепенно приобретающих все больше собственных функций, происходит разрушение первоначального целого – с сохранением, однако, социально-культурной первоосновы. Эта первооснова на последующем этапе становится базой нового единства, но уже единства на основе взаимодействия элементов сложной структуры. Этот цикл и отмечает Тойнби в своей схеме развития «цивилизации», включающий ее генезис в виде некоторого целого, «смутное время» конфронтации частей, на которые «цивилизация» распадается, сохраняя, тем не менее определенное единство, после «надлома», и ее распад как некоторой качественной определенности, происходящий при существовании «цивилизации» в виде внутренне структурированного «универсального государства».
Такой цикл развития данного социального образования вполне поддается материалистической интерпретации. Если стать на материалистическую точку зрения, то не только возникновение цивилизации как социального организма теряет мистическую окраску, но и выявленные закономерности развития приобретают внутренне логичный характер. При возникновении нового качественного образования – классового общества («цивилизации») – вначале следует его экстенсивный рост за счет ассимиляции племенных (общинных) образований внешней среды (учет влияния внешней социальной среды при анализе развития «цивилизаций» – несомненная заслуга А.Тойнби). Раньше или позже количественный рост приходит в противоречие с наличной организацией данного образования и имеющимися средствами коммуникации, что вызывает кризис роста, а в результате – распад данного образования на отдельные соперничающие между собой части (период «смуты»). Однако вместо полной дезинтеграции, которой, казалось бы, можно было ожидать, в дальнейшем происходит новое объединение, теперь уже на основе образовавшихся новых структурных элементов (по Тойнби происходит образование «универсального государства»). Причиной этого является то обстоятельство, что произошедший распад имел относительный характер, ибо при нарушении в процессе распада политических связей общественно-экономическая и культурная основа сохраняются в качестве более или мене общих для всех частей «цивилизации» – вновь образованных государств. Это единство и служит основой новой интеграции. Особую роль играют надстроечные образования, прежде всего идеологический фактор (по Тойнби – образование «вселенской церкви»). Результатом дальнейшего экстенсивного роста «цивилизации», вступающего в противоречие с характером «общественного обмена веществ», становится уже окончательный ее распад как некоторого единого целого с включением ее бывших элементов и частей (соответственно преобразованных) в другие «цивилизации».
Тойнби лучше, чем кто-либо другой, показывает процессы внутри этих особых социальных образований в классовый период развития общества, делая упор на их циклическом, повторяющемся характере. Этот момент, с одной стороны, существенным образом определяет если не механизм указанных процессов, то по крайней мере те формы, в которые выливаются результаты его действия. Но, с другой стороны, увлеченный этими циклами, Тойнби упускает из виду ту поступательную составляющую, которая в конечном счете и является результатом данных процессов в целом. Как мы пытаемся здесь показать, таким результатом в конечном счете являются процессы неуклонного разрушения «ближних», «генетических» связей между людьми, составлявших основу первобытного общества, и столь же неуклонного расширения «дальних», т.е. в конечном счете предполагающие глобализацию взаимосвязей между людьми «вообще» при их «атомизации» как членов конкретного общественного организма «в частности». Естественно, на фоне циклических процессов развития «цивилизаций» эта составляющая просматривается относительно слабо, но именно она в конечном счете и приводит к наиболее существенным изменениям в общественном развитии – смене общественно-экономических формаций.
Игнорирование реальной поступательной составляющей (хотя она, однако, все же признается Тойнби в виде прогресса религиозного: ему «религия представляется цельной и единонаправленной в сравнении с многовариантной и повторяющейся историей цивилизаций»11) и приводит к фактическому отказу от материалистического понимания истории. В общественном развитии Тойнби соответственно превалирующее внимание обращает на духовный аспект, именно на его основе определяя фазы роста, надлома, распада «цивилизаций» (хотя начало формирования кладут вполне материальные процессы «вызова»). «Внешние» факторы представляются как бы материальным отражением духовного процесса. Отказ от материалистического подхода к истории приводит не только к необоснованности «первого толчка», но и к достаточно странной оценке фаз развития (например, практически вся многовековая история Римской империи в этом случае относится к периоду распада эллинской цивилизации).
Таким образом, А.Тойнби была найдена некоторая всеобщая схема развития тех особых социальных организмов, которые представляют собой структурные единицы «атомизирующегося» человечества на этапе классового общества. Следует, однако, учитывать, что будучи всеобщей, эта схема является в высшей степени абстрактной, ибо никогда в истории человечества не реализовалась в чистом, незамутненном виде, всегда будучи соответствующим образом модифицированной конкретными (как природными, так и социальными) условиями своей реализации. Но это – общая судьба вообще всех теоретических «схем» общественного развития.
Кроме того, абсолютизация циклической повторяемости процессов в «цивилизациях», как и упор на «духовном» факторе их развития, оставляет в стороне тот важнейший момент, что циклы развития различных «цивилизаций» своей основой имеют различные общественно-экономические формации. Как мы видели, первоначально толчок развитию общества на новой основе дает вызванное вполне определенными материальными причинами образование классового (чаще всего рабовладельческого) государства. Именно с таких рабовладельческих государств начинались первые «цивилизации» – в дельте Нила, в Междуречье, минойская (эгейская), эллинская и др. Они просуществовали много лет. А их распад был вызван не мифической потерей по непонятным причинам правящим меньшинством творческих потенций, а тем, что возросшие производительные силы пришли в непримиримое противоречие с рабовладельческими производственными отношениями, полностью исчерпавшими свой потенциал в повышении общественной производительности труда.
Естественно, непосредственные причины распада каждый раз коренились в конкретных процессах, в том числе и имевших внешний характер, хотя и при непременном наличии важных внутренних причин, в известном смысле игравших определяющую роль. «Рим был разбит германцами не потому, что германцы были сверхсильными врагами. Они погибли от собственной слабости. И эта слабость и разложение общества были следствием прекращения развития производительных сил. Вмороженность общества в жесткую и устаревшую структуру производственных отношений прекратила рост производительных сил. Вот это-то и была причина, породившая апатию, слабость и безволие»12. Но привести не к загниванию, а к рождению нового общества эта причина могла только во взаимодействии с внешними факторами. А потому крушение этих «цивилизаций» и падение рабовладельческого строя, на котором они базировались, – один и тот же процесс13. Становление новых «цивилизаций», пришедших им на смену, уже происходило как становление новой общественно-экономической формации – феодальной. И становление это по преимуществу происходило не как характерное для предыдущего этапа взаимодействие между племенными (общинными) образованиями, не имевшими еще классовой организации, а как взаимодействие остатков рабовладельческого, классового общества с «варварскими» племенами, находящимися на стадии далеко зашедшего разложения родового строя.
Вторым существенным различием между «цивилизациями» различного уровня являлось различие в надстроечных образованиях, прежде всего различная роль религии. В первом (рабовладельческом) обществе религия выполняла все еще ту же функцию, что и на предшествующем этапе общественного развития. А в то время она играла роль «посредника» между человеком и некими высшими силами, управляющими его жизнью. В таком случае «бог – это духовное существо, связанное взаимными услугами с данным племенем или народностью»14. По мнению О.Шпенглера, у римлян «существовало сакральное право, регулирующее отношения между богами и людьми, словно между частными лицами»15 (такая «коммерческая» ситуация называлась Pax deorum – люди ублажают богов, боги им покровительствуют). Хотя и весьма усложнившаяся, с глубокой институционализацией, такая религия все так же играла скорее «техническую», чем определяющую идеологическую роль. Поэтому, например, в этом смысле можно говорить о «сугубо деловой римской религии», в ритуалах которой и «происходила эта сделка между людьми и богами»16.
В рабовладельческом обществе, основанном на тотальном насилии, религия еще не имела того важнейшего значения в общественной консолидации, которое она приобрела при феодализме. А в той мере, в какой она его все же имела, она отражала все еще существующие остатки «трайбалистской» идеологии. Именно феодализм как общественно-экономический строй с максимальной экономической «атомизацией» индивидов потребовал такой «вселенской церкви», которая могла бы стать его идеологическим стержнем «в качестве наиболее общего синтеза и наиболее общей санкции существующего феодального строя»17. А на эту роль могла претендовать далеко не всякая религия. Для этого было желательно, чтобы она возможно полнее соответствовала некоторым важным требованиям.
Поскольку речь шла об идеологическом обеспечении именно феодализма, в котором деструктивные процессы по отношению к первоначальной целостности в определенном смысле достигают максимума, идеология такой религии, чтобы соответствовать объективной роли данной формации, должна была основываться на принципиальном индивидуализме. Взаимодействие человека с высшими силами было желательно свести к интимному процессу отношений отдельного индивида с индивидуальным же божеством. Поэтому большинство так называемых мировых религий, получивших наибольшее распространение в эпоху феодализма, монотеистичны. Конечно, поскольку «вселенские церкви» создавались не на пустом месте, не с нуля, выполнить данное объективное требование оказывалось не так просто, и оно далеко не всегда было проведено достаточно последовательно. Даже в христианстве, унаследовавшем монотеизм от иудаизма (представлявшего собой в то время в этом отношении явление достаточно уникальное), не могли не сказаться религиозные традиции других культур (прежде всего эллинизма), и принцип единобожия не был проведен строго последовательно (достаточно указать на тринитарные представления). Гораздо более четко этот принцип выдержан в основывающемся на том же первоисточнике исламе. Другим религиям эпохи феодализма пришлось соответствовать этому требованию только в меру возможности. Но даже буддизм в качестве религии феодального общества в махаяне (в противоположность хинаяне) соответствующим образом модифицировался: «согласно ранней философии примитивного буддизма, воздаяние есть обретение самого себя…, выход из Колеса Существования и вход в забвение нирваны. Махаяна, дитя философии буддизма, отказалась от атеизма своей матери и ввела представление о бодхисатве, в совершенстве своем достигающем бессмертия и всемогущества. Таким образом, буддизм как в философском, так и в религиозном плане предложил человеку выход»18 – опять же в конечном счете в потустороннем мире, соответственно чему «в махаяне развивается учение о религиозном воздаянии, об аде и рае»19.
Совсем иначе дело обстояло с индивидуализацией верующих. В религиях предшествующей формации взаимодействие с высшими силами осуществлялось в интересах функционирующего человека, и выполнение определенных требований должно было приносить ему также вполне определенные реально осязаемые результаты – коррекцию жизненных обстоятельств, в которых он связан с другими людьми. При феодализме воздаяние переносится в другой мир (нирвана буддистов, христианский и мусульманский рай и т.п.) и целью религиозных отношений человека к богу становится его личное спасение как воздаяние за полную покорность данного индивида, как бы выключенного из общественных связей, божественной воле. Только такая религия могла обеспечить идеологическое обслуживание феодализма – пусть иногда и суровый, но справедливый бог становился последним прибежищем человека, говоря приводившимися выше словами Ленина, «задавленного вечной работой на других, нуждою и одиночеством».
Несмотря на максимальную раздробленность общества, а в известном смысле именно вследствие этой раздробленности, феодализм как общественная формация вообще требовал особых средств общественной консолидации. Она достигалась организационно – на уровне господствующего класса, и идеологически – в масштабе всего общества. В соответствии с этим два момента характерны для политической организации в эпоху феодализма: иерархическая структура господствующего класса и сквозная «идеологизация» общества посредством религии (это вторая важная функция религии в феодальном обществе). Именно такая пирамидальная, устойчивая форма организации публичной власти с наследственным определением единственно возможного места в этой пирамиде каждого члена господствующего класса, с одной стороны, и освящающая такое состояние религия – с другой, могли совместно на протяжении длительного времени обеспечивать устойчивое существование данного общественного строя.
Религия, которая в предыдущей общественно-экономической формации играла достаточно второстепенную и вспомогательную (по отношению к политическим и экономическим рычагам эксплуатации) роль, при феодализме среди социальных институтов выдвигается на одно из ведущих мест. Это происходит, поскольку в условиях разрушения прежних (этнических) интеграционных структур именно на нее падает задача социальной интеграции, именно она осуществляет объединение общества, разъединенного и по классовым признакам, и по условиям производства, в относительно целостный социальный организм – «цивилизацию». Действенность религии в этом качестве определяется ее первой важной функцией в феодальном обществе – ролью в удовлетворении основных общественных потребностей человека (точнее, их социальной компенсации) в условиях максимальной раздробленности, максимальной экономической «атомизации» индивидов. Как мы отмечали, в отличие от предыдущих религий религии феодального общества (которые Тойнби называет «высшими религиями») переносят воздаяние из беспросветности раздробленного реального мира в мир загробный: «Языческая душа в не меньшей степени, чем мусульманская, христианская или индуистская, ищет и находит высшее спасение в сфере своего вероисповедания. Однако душа, озаренная светом высшей религии, в большей мере и более остро ощущает существование иного мира, иной реальности, сознавая бренность своей быстротекущей земной жизни»20.
На первых порах именно религия создавала идеологическую основу и для будущей национальной консолидации. Там, где не существовало религиозного единства эксплуататоров и эксплуатируемых, не происходило и сплавления населения того или иного государства в единый этнос. Характерный пример – империя турок-османов. Господствующий класс этого социального образования исповедовал ислам, в то время как подавляющее большинство подданных составляли православные, в основном славяне. Устойчивость Османской империи на протяжении довольно длительного времени основывалась на ее особой социальной структуре, представляющей собой как бы сплав рабовладения с феодализмом, при котором важную роль в управлении играл деклассированный слой иноземных рабов, религиозно интегрированных с господствующим классом.
Внутреннюю устойчивость феодальные образования приобретали только там, где религия становилась средством идеологического объединения эксплуататоров и эксплуатируемых, с одной стороны освящая существующую социальную структуру, а с другой обеспечивая эффективность сопротивления при внешних воздействиях. «Именем бога церковь благословляла связь господина со слугой-вассалом, обеспечивая покровительство со стороны первого и безусловную верность второго. Единство веры, принадлежность к одной церкви обеспечивала необходимую прочность и надежность такой связи»21. Такое единство достигалось внутри «цивилизаций» с одной религиозной основой. На их «стыках» в экстремальных ситуациях этот идеологический фактор иногда играл решающую роль в политической жизни. Так, в «великой освободительной войне под руководством Богдана Хмельницкого … целые полки и хоругви польской армии разбегались или без боя переходили на сторону восставших… Православные воины без колебаний покидали своих «естественных» господ … уже поголовно принявших католичество. Достаточно было пошатнуться вере в могущество польского государства, чтобы сразу обнаружились катастрофические последствия отсутствия идейной (религиозной) связи между высшими командирами-католиками и их православными солдатами»22. Недаром католическая церковь придавала такое значение миссионерской деятельности в разных видах (в том числе «крестом и мечом»), в частности, в упомянутом выше случае внедрению унии между католической и православной церковью (греко-католической церкви).
Давая идеологическую основу феодальному обществу, религия в то же время играла идентификационную роль в цивилизационном отношении (что и заставило Тойнби придать в этом отношении религии универсальное значение как фактору в образовании цивилизаций). Потеряв этническую основу для цивилизационной идентификации, игравшую столь важную роль в первичной классовой формации, общество вынуждено было искать другую, и вполне естественно, что в этом качестве наиболее успешным оказался тот социальный институт, который имел важнейшее значение также в качестве идеологической основы нового общественно-экономического строя – монотеистическая религия.
Но дело было не только в этом. Если бы роль религии ограничивалась только вышеуказанной, то не было бы необходимости в ее модификациях. Они, тем не менее, имели место. Иудаизм – первая монотеистическая религия, давшая начало другим, вследствие своего генотеистического характера еще не обладал характеристиками, необходимыми для роли идеологической «скрепы» феодального общества. Но родившееся на его основе христианство – развитие учения иудейской секты ессеев, приспособленное своими адептами (особую роль здесь сыграл Павел из Тарса) к эллинистическому полиэтническому обществу, – всеми необходимыми качествами уже обладало. Однако не разделение в дальнейшем христианства на две ветви привело к разделению эллинского мира (и его наследников). Наоборот, именно объективная необходимость в самостоятельном цивилизационном развитии различных регионов потребовала и различной идентификационной основы, а соответственно и религиозной дифференциации, вследствие чего Западная Европа, наследовавшая Западной Римской империи, приняла католицизм, наследовавшие же Восточной Римской империи Малая Азия, Закавказье, а затем Восточная Европа – православие. Да и конфликт между католицизмом и православием был вызван различием не догматов, а цивилизационных путей исповедовавших их регионов. В противоположность этому интересно отметить, что несмотря на опустошительный характер позднейших религиозных конфликтов в Западной Европе, не они в конечном счете привели к цивилизационной дифференциации, ибо именно она является первичной, а религия, несмотря на ее активную роль, – только та форма, в которую она выливается в определенном отношении. Более того, как мы увидим ниже, сами эти религиозные столкновения в конечном счете как раз и были вызваны назревшей необходимостью идеологического обеспечения становления цивилизации «третьего поколения». Религия никогда не была первопричиной, но только инструментом и индикатором «цивилизационных» процессов.
Вследствие этой же причины тогда, когда наступило время становления феодальной общественно-экономической формации на Востоке, и соответственно потребовалась новая религия, весьма существенные культурные отличия (гораздо более существенные, чем между Восточной и Западной Римскими империями) сделали безуспешными попытки приспособить для этой цели христианство (например, в виде несторианства). Более удачливым оказался зороастризм как религия «местная», однако он не отвечал другим необходимым требованиям. Эту роль в конечном счете сыграл ислам, также получивший заряд монотеизма от иудаизма и много взявший от христианства, но сформировавшийся, однако, как самостоятельная оригинальная религия, отвечающая потребности формирования феодального общества именно в данном регионе. Более тысячелетия ислам с успехом выполнял функции и идеологического обеспечения феодального общества, и основы для цивилизационной идентификации на обширных территориях данного региона. Но с первой его ролью закончилась и вторая. Попытки мусульманского фундаментализма в настоящее время возродить общественную роль ислама, хотя и имеют религиозную форму, по сути дела являются результатом лихорадочных поисков основы цивилизационной идентификации в том регионе, где явно ощущается необходимость в ней вследствие реального «цивилизационного» противостояния последнего буржуазной «западной цивилизации» (навязывающей в том числе и свою идеологию).
Упомянутая «атомизация» общества при феодализме своей экономической основой имела определенные отношения собственности на средства производства, существенно отличающиеся от отношений собственности рабовладельческого строя. Рабовладельческий строй просуществовал несколько тысяч лет, что много дольше времени существования остальных классовых общественно-экономических формаций вместе взятых. Этой долговечностью он в значительной мере обязан своему консерватизму, вызванному столь тотальным, без оттенков и промежуточных слоев, противостоянием двух полярных социальных групп. Однако и он, хотя и в очень малой степени, был подвержен развитию. Развитие это медленно шло по пути от всеобъемлющей групповой формы частной собственности к индивидуальной ее форме. Первая наиболее ярко была выражена в древних рабовладельческих государствах Египта и Месопотамии, в которых господствовал способ производства, называвшийся Марксом «азиатским»; при этом «в большинстве основных азиатских форм объединяющее единое начало … выступает как высший собственник или единственный собственник»23. Вторая нашла свое воплощение в античном рабстве, в котором уже в определенном смысле существуют индивидуальные собственники. Взятые сами по себе «азиатский способ производства» и античное рабство различаются весьма существенно. Но по своей классовой сути они представляют последовательные формы одной и той же общественно-экономической формации – рабовладельческого общества, с различными модификациями одной и той же формы собственности24. Закабаление рабов усиливалось по мере формирования индивидуальной частной собственности; одновременно шло снижение экономической эффективности рабства как социального института, что не могло в конечном счете не привести к его ликвидации. А с другой стороны, становление индивидуальной формы частной собственности, ведя к формированию класса индивидуальных владельцев средств производства, в долговременной перспективе определило развитие общества, а непосредственно создало необходимые предпосылки для перехода к феодализму.
Сказанное, однако, не значит, что феодализм развился как прямой наследник классического рабовладельческого строя, хотя последний был его историческим предшественником и создал предпосылки для его становления. Формирование феодального строя осуществлялось не как прямое следствие внутренних процессов, свойственных рабовладельческому строю, а в результате взаимодействия последнего с окружающей социальной средой. Когда внутренние противоречия в рабовладельческом государстве достигают такой степени, что приводят к его загниванию, они разрешаются «в большинстве случаев путем насильственного порабощения гибнущего общества другим, более сильным»; это может происходить неоднократно, пока «не происходит завоевание таким народом, который вместо рабства вводит новый способ производства»25. Вопрос заключается только в том, откуда этот новый способ производства вообще берется.
Рассматривая социальные процессы как результат взаимодействия внутренних и внешних факторов на примере Англии, А.Тойнби писал, что даже если ростки феодализма взошли на английской почве, их «рост был стимулирован внешним фактором – датскими вторжениями, представляющими собой часть движения скандинавских племен и имевших аналогичное воздействие также на Францию. А норманнское завоевание, хотя, возможно, и не оно бросило семя, несомненно, привело ниву к быстрому колошению. Таким образом, справедливо утверждение, что любая схема установления феодальной системы в Англии выглядит непонятной, или неумопостигаемой, до тех пор пока в общую картину не включаются по крайней мере Франция и Скандинавия»26. Причем существенно, что до этого взаимодействия феодальных отношений (по крайней мере в сколько-нибудь развитом виде) не было ни у победителей, ни у побежденных.
Пути становления феодализма в различных регионах значительно отличаются. В своем классическом виде в Западной Европе феодализм в основном сложился в результате воздействия античных общественно-экономических отношений на общественный строй завоевавших эту территорию германцев. «Все жизнеспособное и плодотворное, что германцы привили римскому миру, принадлежало варварству. Действительно, только варвары способны были омолодить дряхлый мир гибнущей цивилизации. И высшая степень варварства, до которой и на которую поднялись германцы перед переселением народов, была как раз наиболее благоприятной для этого процесса. Этим объясняется все»27. А происходит это опять же в связи с разрушением предшествующего общественно-экономического строя. «В I тысячелетии н.э. значительная часть Старого Света, и прежде всего степные и лесостепные районы Евразии, переживают эпоху великого переселения народов, знаменовавшую крушение рабовладельческого общества в цивилизованных странах и сыгравшую значительную роль в переходе многих племен и народов Азии и Европы от первобытнообщинного строя к классовому обществу»28. Наличие стратификации в племенах варваров обеспечило возможность формирования из аристократии родоплеменной аристократии землевладельческой, феодальной, господствующей как над местным, завоеванным населением, так и впоследствии над разорившимися соплеменниками.
В соседних регионах процесс феодализации шел под воздействием уже сложившихся феодальных государств, но часто на другой основе и более длительно. Однако с крупными «варварскими» нашествиями связана также интенсификация процесса феодализации в таких регионах, как Индия и Китай. Здесь, тем не менее, имели место и существенные отличия. Особенно в Китае ввиду специфических природных условий, способствующих существенной изоляции этого района мира от других, не завоеватели, а автохтонное, этнически достаточно однородное население, хотя и за чрезвычайно продолжительный период, организовало ирригацию, постепенно обеспечив соответствующий рост производительности труда без введения пришлыми кочевниками «азиатского способа производства». Многие века «единое китайское государство, в представлении людей его населявших, включало в себя весь цивилизованный мир. “Открытие” Индии и Европы пришло позднее»29. Еще значительно позже (уже в ХІІ веке н.э.) появились завоеватели «из степи», которые хотя и способствовали формированию весьма своеобразного «феодализма с китайской спецификой», но долго удержаться и образовать с завоеванными новое целое не смогли – поскольку «не отвечали экономическим целям общества» в повышении эффективности общественного производства (к тому времени «достигнув высокого уровня эффективности сельскохозяйственного производства, общество исчерпало возможности дальнейшего быстрого роста производительности труда и принуждено было пребывать в состоянии стагнации производительных сил на протяжении длительного времени»30). Поэтому «крестьяне в Древнем Китае не были рабами, к ним лишь частично можно применить понятие “крепостные”»31. Соответственно и общественное устройство в Китае на протяжении достаточно длительного периода можно назвать классовым только весьма условно. Длительное время его развитие шло так, как если бы ребенок рос, увеличиваясь в размерах без изменения пропорций тела. И только гораздо более позднее насильственное включение Китая («стараниями» прежде всего Англии и Японии) в «общемировой процесс» дало толчок к весьма существенным социальным изменениям.
Перечень можно было бы продолжить, но какие бы регионы мы не взяли, всюду и всегда формирование феодализма (сколь бы не различался он как социальное явление в различных регионах по многим своим характеристикам) было связано с взаимодействием различных общественных образований, при котором внешнее влияние накладывалось на подготовленную внутренними процессами почву. Благодаря влиянию рабовладельческих государств феодализм формировался и там, где вообще не имело места рабовладение. Но и тогда, когда оно предшествовало феодализму, нигде в мире развитие последнего не являлось непосредственным следствием прежде всего внутренних процессов в рабовладельческом обществе и, хотя обязательно было с ними связано, никогда прямо не вытекало из этих процессов.
Таким образом, феодализм, как следующая за рабовладельческим строем форма классового общества, являлся таковой только в весьма широком понимании и не вытекал непосредственно из своего исторического предшественника; однако он не мог и сформироваться без его влияния. А благодаря этому влиянию формировался новый социальный организм, уже с новым общественно-экономическим строем и, как правило, с новой локализацией. Говоря другими словами, зарождалась новая, самостоятельная, хотя и «дочерняя» к предшествующей, «цивилизация». Переход рабовладельческого общества в феодализм (как, впрочем, и само его становление) – конкретный пример развития общества на этапе разорванности, когда не существует четко ограниченного «линейного» объекта развития, в котором в соответствии с законами гегелевской диалектики в результате разрешения исключительно внутренних противоречий последовательно сменялись бы этапы развития. Последующий достаточно самостоятельный объект развития (новая «цивилизация») появляется, образуясь в результате взаимодействия остатков предыдущего с его социальным окружением. Но в то же время развитие это еще не представляет и общечеловеческого процесса, объектом которого выступало бы человечество как единое целое. Первый целостный объект исчез вследствие разложения первобытного племени, второй же может возникнуть только как результат всего процесса общественного развития.
Следует при этом отметить, что смена рабовладельческого общества феодализмом представляла собой скачок в общественном развитии на порядок более низкий, чем тот, который представляло формирование классового общества вообще, ибо преобразования здесь уже осуществлялись как бы внутри классового общества, представляющего собой в целом определенный этап развития человечества, с точки зрения данного этапа промежуточный между обществами доклассовым и бесклассовым. Соответственно и характер изменений был другим. Феодализм, как формация классового общества, «средняя» между его начальной (рабовладельческий строй) и конечной (капитализм) стадиями, не был столь жестко отличен от них, как они – соответственно от предыдущего и последующего состояния общества. Как куколка в первой части своего внутреннего развития сохраняет еще многие особенности строения гусеницы, а в последней – содержит уже практически готовые структуры будущей бабочки, так и «промежуточный» строй классового общества – феодализм – на начальной стадии своего развития имел многие общие черты с предыдущим строем (составляя совместно деструктивную фазу классового общества), а на завершающем – с последующим (конструктивная фаза).
Переход между рабовладельческим строем и феодализмом соответствует общему закону перехода одной общественно-экономической формации в другую, а в более общем виде – реальной диалектике изменений объекта в условиях его взаимодействия с другими объектами и средой. Но законы развития характеризуют тенденцию развития общества именно в наиболее общем виде. В каждом же конкретном случае применительно к конкретному объекту движение вызывается столь же конкретными причинами. Важную роль играют также особенности феодализма, определяющие сходство и различие данного общественного строя относительно предыдущего. Их объединяет господство частной собственности на условия применения рабочей силы в процессе производства, но разъединяет характер самого процесса производства.
Как было сказано, именно рабовладельческий строй окончательно ликвидирует последние рудименты общественной собственности (в составе расщепленной); он осуществляет окончательный переход к достаточно развитой частной собственности, без которой невозможен переход к феодализму, но в большинстве случаев осуществляет его в форме становления собственности групповой (государственной), что стыкуется с исходным состоянием собственности, в частности, владения, в доклассовую, переходную эпоху, создавая принципиальную возможность такого изменения. Переход же к феодализму становится возможным только тогда, когда в рамках рабовладельческого строя начинает развиваться частная собственность в индивидуальной форме. В то же время феодализм по самой своей природе, как общественно-экономическая формация, доводящая до предела тенденцию разрушения исходной общности, является первой и последней формацией в истории человечества, где производство, оставаясь по сути процессом общественным, становится по форме своей реализации процессом сугубо индивидуальным. Данная формация, следовательно, должна находиться в генетической связи с укладом, основывающимся на частной собственности. Поэтому, не возникая непосредственно на базе рабовладельческого строя, сформироваться без его влияния феодализм не может.
Само же рабовладельческое общество могло иметь различные модификации. Как мы уже отмечали, в большинстве случаев первое классовое общество возникало в форме «азиатского способа производства», и именно последний, а отнюдь не античное рабство, являлся для рабовладельческого строя так сказать классической формой. Однако в зависимости от условий (как условий природных, так и социального окружения) эта форма первоначально могла быть и иной. Как раз одной из таких форм (достаточно редко встречавшейся) было рабство в греческих полисах, первоначально формировавшееся на собственной территории будущих рабовладельцев с использованием в качестве рабов иноземных пленников. Гораздо более распространенной начальной формой первого классового общества, хотя еще и не совсем оформленного, была упоминавшаяся выше система данничества, при которой земли, занятые одними этническими группами, вместе с их населением служили как бы «охотничьими угодьями» для других, относящихся к первым как к своей собственности. При дальнейшем развитии эта система также могла стать основой формирования феодальных отношений.
Здесь важно то, что в системе данничества, как и в рабовладельческом обществе в его более «канонических формах» в начале их развития, одна этническая группа превращает другие в промежуточный слой между собой и природной средой. При формировании в дальнейшем единого общества с разделением социальных групп, такие отношения, скажем, в форме полюдья, как и рабовладельческие, могут привести к феодализму. «Экономическое содержание полюдья прежде всего заключалось в том, что оно устанавливало продолжительное, относительно регулярное, фиксируемое обычаем изъятие прибавочного продукта у организованных в общины мелких производителей при личном участии глав ранних государств … в виде дани на месте его производства. Это одна из наиболее примитивных форм феодальной ренты… Она предполагает также значительную роль общины, господство мелконатурального производства лично свободных земледельцев-общинников (протокрестьян)»32. Этот «институт … принадлежит к фундаментальным чертам дофеодальной и раннефеодальной общественных структур у многих народов Европы»33; но не только Европы, а и, например, Африки: «иногда полюдье такого рода существовало здесь в течение веков, несмотря на смену господствующего этноса»34.
Приведенные положения достаточно точно отражают сущность данничества (полюдья), однако в них имеется та важная неточность, что оно воспринимается как пусть и «ранний», но этап феодального общества, а отношения эксплуатации между господствующими и подчиненными социальными группами представляются в виде «примитивной формы феодальной ренты». При этом не учитывается фундаментальный для феодализма момент индивидуализации отношений собственности. Уже то, что специально отмечается «личное участие глав государств» в данных отношениях, показывает, что здесь ни о какой индивидуализации отношений собственности и речи быть не может – «охотничьи угодья» данничества явственно принадлежат всей господствующей социальной группе как целому, что и воплощается в особой роли ее главы (это-то обстоятельство как раз существенным образом и отличает полюдье от генетически связанного, и нередко с ним отождествляемого, но уже действительно феодального института «кормлений»35). На самом деле это все та же первичная классовая формация (фактически одна из форм рабовладельческого строя – несмотря на видимость «личной свободы» «протокрестьян», в действительности жестко ограниченной неизбежной принадлежностью к порабощенной общине), но модифицированный соответственно конкретным производственным условиям, в которых совместные действия больших масс производителей не только не способствуют повышению производительности труда, но и противопоказаны. Важным является также то, что отмечена роль «господствующего этноса» – именно «чужие» только и могли первоначально ввести использование человека в роли «неорганического условия собственного воспроизводства» (например, на Руси относительно древлян, угличей и др. это осуществляла «варяжская династия»36).
Таким образом, хотя это и происходило в различных формах, тем не менее древний «рабовладельческий мир» неизменно требовал «полного раскола человечества на две противоположные половины, на народы-вампиры и народы-жертвы»37. Что же касается конкретной формы его бытия, то в зависимости от природных и социальных условий оказывалось возможным (и реализовалось в действительности) функционирование трех модификаций первой классовой общественно-экономической формации: полюдье в условиях, где экономически целесообразно хозяйствование малых общин, «азиатский способ производства» в случае необходимости одновременного труда значительных масс и собственно рабство при наличии постоянных внешних источников рабов.
Что касается рабства в его классической форме, т.е. использования в сколько-нибудь значительных размерах рабочей силы пленников-чужеземцев, то оно вообще говоря не являлось характерным исключительно для рабовладельческого строя как первой классовой общественно-экономической формации. Этот институт (с определенными модификациями) имел место уже в конце переходного периода при разложении родового строя, т.е. в обществе еще доклассовом, затем в рабовладельческом обществе (наряду с другими формами эксплуатации), в обществе феодальном (например, в той же Османской империи), и даже при капитализме (плантационное рабство в Америке). Рабство в такой форме во всех случаях являлось характерным способом эксплуатации «периферии» «метрополией». Его экономический смысл состоял в том, что здесь резко снижались затраты на воспроизводство рабочей силы. Эксплуатация шла «на износ», т.е. с присвоением не только прибавочного, но и части необходимого продукта38. Затраты на войну с целью добычи рабов извне оказывались существенно ниже, чем они бы составили при внутреннем воспроизводстве рабочей силы. Дешевизна рабочей силы создавала даже условия для появления в некоторых случаях своеобразного анахронизма: «разделения труда» с «товарным производством» – например, производство оливкового масла в Афинах или пшеницы в Сицилии. Когда такие затраты становятся сравнимыми с затратами на «внутреннее» воспроизводство рабочей силы, институт рабства в указанной форме свою экономическую эффективность теряет – не только в рабовладельческом, но и в любом классовом обществе.
Существенным моментом при сравнении феодализма с рабовладельческим строем является различный механизм осуществления господства. Когда одно социальное образование покоряет другие, то «после завоевания страны ближайшей задачей завоевателей всегда становилось присвоение и людей»39. При этом таким образом приобретали не только новые земли и людей, на них живущих, но в целом весь народнохозяйственный комплекс, обеспечивающий определенную производственную деятельность: землю, живущих на ней людей, воду, орошающую эту землю, необходимые сооружения, тягловый скот, инвентарь – все то, что в комплексе становилось для завоевателей средствами производства. Ими как целое они владели, распоряжались и пользовались – как для себя, так и для поддержания существования угнетенных. Другими словами, в рабовладельческом обществе (и не только в форме классического рабства) эксплуатируемый класс для эксплуататоров является только условием производства, и такое положение сохранялось на основе прямого принуждения. Но имеет место и другой уже упоминавшийся выше важный момент – существенная организационная и технологическая роль господствующего класса в производственных процессах: скажем, «сколько ни было в Персии или Индии деспотий, последовательно расцветавших, а потом погибавших, каждая из них знала очень хорошо, что она прежде всего – совокупный предприниматель в деле орошения речных долин, без чего там невозможно было какое бы то ни было земледелие»40.
Совсем иначе обстояло дело в обществе феодальном. Здесь эксплуатирующий класс прежде всего владеет землей как основным средством производства, и только таким образом может осуществлять господство над эксплуатируемыми. Конечно, и здесь имеет место внеэкономическое принуждение для изъятия у эксплуатируемых продуктов их труда, но базируется оно также и на определенных экономических отношениях. Однако это уже другие отношения. Феодал не выступает организатором производства в масштабе всего общества (или его части). Только на первом этапе развития феодализма соответствующую функцию он еще выполняет частично применительно к производству изымаемого им прибавочного продукта в форме барщины. По отношению к своим подданным в этом процессе он выполняет только одну – политическую – функцию (в том числе функцию защиты от «зрящного» разграбления другими феодалами). Но именно владение землей обеспечивает ему и определенный экономический рычаг при изъятии у крестьян прибавочного продукта.
Вообще-то производство крестьяне ведут на пахотных землях, в известном смысле принадлежащих не столько феодалу, сколько общине41. Однако это относится только к основному производству. Что касается всех вспомогательных процессов, без которых производство также невозможно, то они связаны с использованием «ничейных» угодий: лесов, пастбищ, лугов, мест рыбной ловли и т.п. Феодалы постепенно прибирали к рукам эти угодья, благодаря чему крестьяне попадали и в экономическую зависимость от них. Владение указанными угодьями (альмендой) являлось достаточно прочной экономической основой власти феодалов над крестьянами. Феодал получал возможность (несмотря на наличие общины, вначале все еще сохраняющей достаточно важные функции экономической ячейки общества) устанавливать отношения эксплуатации с каждым эксплуатируемым индивидуально. При этом «собственность на условия труда, отличные от земли, земледельческие орудия и прочую движимость, сначала фактически, а потом и юридически превращается в собственность непосредственных производителей»42. «Атомизация» общества, его раздробленность в главной сфере деятельности – производственной – достигает предела.
Что касается иерархической системы организации господствующего класса, то она возникает на основе более ранней стратификации в рамках общины будущих завоевателей, но отличается от нее жесткостью определения положения каждого члена. Теперь он получает свой социальный статус не как член общества в соответствии с определенными общественными отношениями, в которые он реально включен, а наоборот, его место в этих отношениях прежде всего определяется наследственным местом в иерархической системе. Поэтому «в сословии … дворянин всегда остается дворянином, разночинец – всегда разночинцем, вне зависимости от прочих условий их жизни; это – не отделимое от их индивидуальности качество»43. Для своей устойчивости феодальная сословная система безусловно нуждается в рангах и титулах как в формальных гарантиях определенного положения в иерархии ее членов. Без таких гарантий система не имела бы необходимой прочности, ибо член иерархии может беззаветно служить ей в качестве структурного элемента данной системы только тогда, когда его положение в ней не зависит ни от каких привходящих обстоятельств (моральных качеств, уровня компетентности, реальных результатов деятельности и т.п.).
Без достаточно продолжительного существования рабовладельческого общества (в различных формах, в том числе и в виде развитой системы данничества) с разноэтническими господствующим и угнетенным классами, не могла укорениться противная самой сущности члена первобытного общества идея отъема созданного одним человеком продукта другим для удовлетворения своих собственных потребностей. И здесь разноэтничность взаимодействующих социальных образований сыграла первостепенную роль. Но парадоксальным образом порабощение одних социальных организмов другими стало также важным шагом как к разрушению племенной ограниченности, так и к индивидуализации человека. В первобытном племени (и это в значительной степени сохраняется в переходный период) только родич (член данного племени) воспринимался в качестве настоящего человека, что определяло систему обязательств и его по отношению к другим, и других по отношению к нему. Чужак же в известном смысле был даже не совсем человеком. Не даром столь часто понятие «люди» и родовое самонаименование совпадали (в качестве противоположного примера можно привести то, что в одном из языков североамериканских индейцев даже сохранялось местоимение третьего лица, применяемое для обозначения не-членов племени). «“Мы” первобытного человека – этот только родоплеменная общность. Он не знает … родового понятия “человек” (человек – только соплеменник, все остальные – “чужие”…)»44. Поэтому использование человеком для своих нужд другого человека в ряду иных природных объектов становилось возможным только по отношению к чужим. Порабощенный человек становится «говорящим орудием». И тем не менее объективно это был первый шаг к признанию – пусть в извращенной форме, пусть хотя бы поначалу только в качестве производящего существа – этого чужого также человеком.
В рабовладельческом обществе вообще вначале в человеке еще не признавалась личность, и не только в представителе угнетенного, но и господствующего класса. Поэтому, как мы уже отмечали выше, нет оснований утверждать, что при становлении классового общества «отдельные господствующие лица сплотились в господствующий класс»45; само формирование классовых отношений господства и подчинения происходило как взаимодействие не отдельных индивидов, а больших социальных групп, и только со временем, после весьма длительного периода развития классовой организации общества отношения господства приобрели индивидуальный, личностный характер, и первоначально единый господствующий класс со временем был в известном смысле расчленен на «отдельные господствующие лица». В этом смысле история рабовладельческого общества – история индивидуализации человека.
Естественно, это не относится к рабам, но тем не менее создает принципиальную возможность дальнейшей «нуклеаризации» общества, достигающей максимума при феодализме. Здесь индивидуальным постепенно становится уже само отношение между эксплуататором и эксплуатируемым: если в начале периода первый воспринимал последних как некую безликую серую массу, в конце его он уже эксплуатирует их не всех вместе, а каждого в отдельности. Такое дробление снимает, наконец, этнический антагонизм между «своими» и «чужими», членами некоторой целостности, с одной стороны, и всеми остальными – с другой. Социальное деление избавляется от приоритета этнического (хотя еще на протяжении достаточно длительного времени нередко существовало этническое различие между членами господствующего и угнетенного класса). Постепенно «чужой» и «свой» уравниваются – хотя только в негативном плане, как объекты эксплуатации. Отношение одного феодала к другому мало зависело от их этнического происхождения; с другой стороны, каждый из них относился к зависимому соплеменнику так же, как и к зависимому же члену другой этнической группы.
Благодаря тому, что социальная принадлежность к феодальной иерархии становится более важным дифференцирующим признаком, чем принадлежность к определенной этнической общности (особенно в пределах одного и того же надгосударственного социального образования – «цивилизации»), при завоеваниях нередко идет сращивание (для «совместной» эксплуатации крестьян) феодальных структур победителей и побежденных и выравнивание их статуса – независимо от этнической принадлежности. Так, например, происходило при норманнском завоевании Англии: норманнская и саксонская знать постепенно слилась в одну иерархическую структуру, и «национальность» (в том числе культурная принадлежность) здесь играла весьма незначительную роль (скажем, знаменитый Ричард Львиное Сердце, будучи английским королем, вообще не владел английским языком). Аналогичное «сращивание» имело место на Руси между славянской племенной верхушкой и пришлыми варягами.
Таким образом, первая половина сверхзадачи общественного развития (разъединительная, деструктивная) ко времени «классического феодализма» оказалась решенной – старое целое (но именно как самостоятельное целое, ибо община как структурный элемент эксплуатируемой части общества, хотя и определенным образом модифицированный, сохраняется на протяжении практически всего периода феодализма, частично компенсируя потребность человека в обществе) было в основном уничтожено. Наступает время для начала постепенного формирования нового целого – конструктивная фаза классового общества.
3.5. Конструктивная фаза классового общества
Таким образом, феодализм как система к моменту своего расцвета фактически завершает выполнение первой объективной задачи классового общества – разрушение первоначальной целостности. С этого момента начинается выполнение следующей, второй задачи – подготовки к созданию новой целостности, что предполагает появление новых форм объединения людей. Решение этой задачи начинается с фундаментальной сферы общественной жизни – производства – за счет развития общественного разделения труда.
Общественное разделение труда – давнее изобретение человечества. Даже в первобытном обществе существовало «естественное» разделение труда по половозрастным признакам. Позже становление классового общества объективно основывалось на экономической эффективности разделения труда между непосредственными производителями и теми, кто управлял производственным процессом. Однако в самом материальном производстве разделение труда продолжительное время не имело общественного характера. Только с появлением в период позднего феодализма денежного оброка оно постепенно становится основой всего общественного производства, превращаясь при капитализме в определяющий фактор. Весь же предшествующий период оно было лишь дополнением к основным формам хозяйственной деятельности, носящим автаркический характер. Хозяйственная деятельность при этом включает не только земледелие. Маркс писал: «При собственно натуральном хозяйстве, когда земледельческий продукт совсем не входит в процесс обращения или входит в него лишь незначительная часть этого продукта и лишь незначительная доля даже той части продукта, которая представляет доход земельного собственника … в большей или меньшей мере на всем протяжении средних веков, – продукт и прибавочный продукт крупных имений состоит отнюдь не только из продуктов земледельческого труда. Он охватывает также и продукты промышленного труда. Домашний ремесленный и мануфактурный труд как побочное производство при земледелии, образующем базис, является условием того способа производства, на котором покоится это натуральное хозяйство»1.
Здесь уже имеет место разделение труда в непосредственном производстве, но по отношению к основной хозяйственной единице общества оно носит внутренний характер. «Деревенские ремесленники вели подвижный образ жизни, обслуживая те хозяйства, где они были нужны. Община не могла без них обойтись и содержала их круглый год и на протяжении поколений, независимо от того, сколько услуг и продукции требовалось от ремесленников. Вместе с тем земледельческая или скотоводческая община заботилась о том, чтобы ремесленники не оставляли своих занятий и не растворялись среди сельскохозяйственного населения»2. Такое разделение труда, не базирующееся на эквивалентном обмене, прямо еще не сказывается на общественных процессах в целом, однако, способствуя за счет специализации повышению производительности труда, подготавливает грядущие изменения.
Таким образом, удовлетворение индивидуальных «жизненных потребностей» как господствующего, так и угнетенного класса при феодализме происходило вне технологического разделения труда в масштабах общества. Иначе дело обстояло применительно к удовлетворению общественных потребностей. Что касается угнетенного класса, то общественные потребности его членов удовлетворялись в самом процессе их функционирования, и чрезвычайно существенную роль в этом играла все еще сохраняющаяся в важных своих элементах община. Удовлетворение их происходило в определяемых традицией рамках производственных взаимоотношений, бытовых обычаев, в ритуалах, устройстве праздников, в народном творчестве и т.п. Ввиду все усиливающейся индивидуализации, исключительную роль в этом, как уже было сказано, играла церковь – и как компенсаторное объединение единоверцев, и как возможность непосредственного взаимодействия с высшим существом, и как система ритуалов.
Последнее обстоятельство имело определенное значение также в удовлетворении общественных потребностей господствующего класса. Однако основную роль в этом в период феодализма для представителя господствующего класса играет имеющаяся у него власть, опосредуемая двумя важными моментами – военной силой и положением в иерархической системе господствующего класса. Именно эти два момента прежде всего и определяли характер удовлетворения общественных потребностей его членов, а способы материального обеспечения удовлетворения этих потребностей – в значительной степени направление общественного развития.
Военная сила, на которую опиралась власть феодала, зависела как от возможности содержать некоторое количество профессиональных воинов, так и от наличного вооружения. И то, и другое определялось размерами феода (как и аллода) и уровнем эксплуатации крестьян. Что касается социального положения, то оно жестко фиксировалось положением члена господствующего класса в иерархической системе. Жесткость и малоподвижность последней являлись важным стимулом к стремлению использовать в самоутверждении другие, более «свободные», индивидуально реализуемые формы самоутверждения, прежде всего посредством богатства и его внешнего выражения в предметах роскоши. Первоначально и то и другое в основном обеспечивалось за счет все того же феода и эксплуатации принадлежащих к нему крестьян. При этом часть прибавочного продукта феодалом расходовалась на приобретение предметов роскоши из других регионов (вследствие естественно сложившегося между ними в этом отношении разделения труда, вызванного прежде всего различием природных условий), обращающихся посредством мировой торговли. Но в дальнейшем, по мере развития производительности труда, в действие вводятся другие факторы.
По мере дальнейшей специализации и развития ремесла возникают (хотя и против воли конкретных представителей господствующего класса, но именно для удовлетворения их потребностей как членов данного целого) общественные слои, социальная роль которых как раз и сводится к удовлетворению общественных потребностей членов господствующего класса. С одной стороны, необходимость создавать с этой целью определенные материальные объекты (оружие и предметы роскоши) вызвала возникновение и развитие слоя ремесленников, специализирующихся прежде всего именно в данных областях (другие «специализации» ремесленников вызывались уже потребностями «внутреннего», среди них же самих, разделения труда). С другой же стороны, необходимость обеспечить обращение в этой сфере вызывает появление особого общественного слоя купцов. Разумеется, и те, и другие существовали и раньше – как отдельные социальные явления наряду с другими социальными явлениями. Но именно феодализм вызвал становление и развитие ремесленников и купцов как специфических общественных слоев, имеющих важное и все возрастающее значение в функционировании общества, составляющих органическую часть структуры последнего.
В классическом феодализме наличие ремесленников, главным образом специализирующихся на производстве предметов роскоши и оружия для феодалов, практически не сказывалось на автаркическом характере основных хозяйственных единиц, по-прежнему полностью самостоятельно обеспечивающих себя как предметами потребления, так и средствами производства – за исключением указанных предметов для удовлетворения общественных потребностей членов господствующего класса. Таким образом, впервые возникшее как специфическое общественное явление в это время разделение труда в сфере непосредственного производства касалось только и исключительно данной области общественной жизни. Следовательно, в эпоху феодализма разделение труда, выходящее за рамки хозяйственной ячейки, является однобоким и направленным на удовлетворение только лишь общественных потребностей членов господствующих классов.
Соответственно этому и слой купцов реализовал в обращении только данный частный аспект разделения труда. Купцы еще не являлись посредниками в том всеобщем разделении производительного труда, которое в полной мере стало результатом развития капитализма. И рынок в те времена не был рынком в классическом его понимании средства обобществления и регулирования производства; это была скорее простая совокупность торговых операций, в норме непосредственно не затрагивающих основных экономических процессов, главным образом направленных на производство жизнеобеспечивающих продуктов, т.е. на удовлетворение индивидуальных потребностей людей. Еще в самом начале формирования феодализма «варваров, как правило, интересует лишь два вида товаров: предметы роскоши для вождей и их приближенных и оружие»3. Но и в конце периода, и даже в восемнадцатом столетии, все еще превалировали «операции предметами роскоши, лежащими в те времена в основе международного обмена товарами»4. Соответственно и прибыль купцов в тот период была по существу всего лишь присвоением части феодальной ренты5. Причем прибыль эта была довольно значительной чтобы оправдать также весьма значительные риск и накладные расходы. Скажем, в середине VIII в. «торговали не товарами широкого потребления, а только предметами роскоши. В переводе на понятия ХХ в. эта торговля соответствовала валютным операциям и перепродаже наркотиков»6. Только в этом случае «сверхприбыли покрывали расходы на перевозку и содержание в порядке трассы»7.
В связи с этим «внешняя торговля того времени характеризовалась двумя отличительными и имеющими первостепенную важность чертами: во-первых, торговая деятельность была занятием исключительно одних общественных верхов – князей, их дружинников и небольшой группы состоятельных горожан; масса же населения не принимала в ней никакого участия, потому что не продавала, а отдавала даром, в виде дани, продукты охоты и пчеловодства; во-вторых, внешняя торговля не затрагивала … насущных … потребностей даже этих, руководящих ею, высших классов населения; все необходимое они получали натурой, отправляя на внешний рынок лишь избыток и выменивая там только предметы роскоши»8. Сказанное здесь о Древней Руси с соответствующими оговорками, касающимися конкретных предметов торговли, может быть отнесено к любому феодальному обществу.
Технологические и социальные задачи эффективного обслуживания интересов господствующего класса в удовлетворении общественных потребностей его членов вызвали также появление и рост средневековых городов как мест сосредоточения соответствующих слоев – ремесленников и купцов. Следовательно, средневековый город олицетворял одну из сторон того специфического («парцеллярного») общественного разделения труда, которое было свойственно феодализму как общественно-экономической формации. В этом – особенность города в феодальном обществе по сравнению с обществом рабовладельческим и буржуазным, в которых он, также являясь одной из сторон, воплощающих разделение труда, выполнял, тем не менее, другие конкретные функции, определяемые характером этого разделения: в рабовладельческом обществе связанные с разделением между непосредственно производительным и управленческим трудом (города как центры власти), а в обществе буржуазном – с разделением труда по основным отраслям общественного производства (локализованной в городах промышленностью и сельским хозяйством). Но во всех случаях существование и функционирование города отражали характер потребностей господствующего класса и базировались на всей системе общественно-экономических отношений данной формации.
Система господствующего класса в феодальном обществе строилась по принципу пирамиды, в которой сеньор передавал феод вассалу, взамен получая обязанность последнего нести военную и другие службы. Ту же роль выполнял более или менее крупный феодал как сеньор своих собственных вассалов. Но сеньор вовсе не довольствовался одной только службой своих вассалов, «он еще разнообразными способами участвовал в эксплуатации земель, переданных вассалам. … Перераспределение ренты между вассалами и сеньорами служило важным фактором сплочения феодальной корпорации»9. «Возникшее таким образом переплетение рентных прав нашло отражение в понимании феодальной собственности как собственности корпоративной»10.
Однако здесь уже не весь класс феодалов данного социального образования составляет такую корпорацию, только определенная их группа «делит между собой уплачиваемую им (крестьянином – Л.Г.) ренту. Другое дело, что такие корпорации рентополучателей краями как бы накладывались одна на другую и в совокупности образовывали нечто единое и сплоченное в масштабе княжества и даже страны». Поэтому «иерархичность и корпоративность являются существенными характеристиками феодальной формы собственности. В них нашли отражение те особенности феодальных рентных отношений, без которых было бы невозможно неразрывно связанное с феодальной собственностью внеэкономическое принуждение»11. Вследствие этого «по сравнению с буржуазной собственностью феодальная действительно неполная, ограниченная». Но с развитием феодализма как формации следует отметить «исподволь происходящую в этот период индивидуализацию феодальной собственности»; соответственно «сходят на нет и корпорации рентополучателей: в эпоху позднего феодализма у крестьянина чаще всего один господин»12. С этой точки зрения как раз и можно сказать, что феодализм в процессе своего развития осуществляет индивидуализацию частной собственности, которая полностью завершается со становлением капитализма.
Вот таким образом в производственной сфере при феодализме достигается максимальная раздробленность людей как производителей на отдельные «атомы»; наступает черед выполнения другой, конструктивной задачи, – закладывания основ для будущей консолидации всего человечества в единый целостный общественный организм. Если процесс индивидуализации частной собственности в феодальном обществе был одним из важнейших процессов в нем, в конечном счете подготовивших почву для становления буржуазного общества, то другим важным процессом являлось постепенное освобождение носителя рабочей силы, прежде всего в области производственной деятельности, настоятельно диктуемое необходимостью повышения производительности его труда. А любое повышение уровня свободы в области производственной деятельности означает возможность и необходимость усиления взаимодействия между экономическими субъектами при решении производственных задач, в каком бы виде это взаимодействие не проявлялось. Но выполнение этой задачи предполагает в конечном счете исполнение каждым человеком функции элемента общества в его целостном виде (в том числе и в качестве экономического субъекта), что возможно лишь в том случае, если его действия определяются только и исключительно его собственными потребностями, для удовлетворения которых он действует в соответствии со своей собственной волей, т. е. необходима личная свобода каждого человека.
Расстояние от несвободы к свободе не преодолевается одним скачком. Ее достижение закономерно должно было начаться в ведущей области человеческой деятельности на данном этапе развития – в области производственной: только повышение уровня этой свободы возможно в данных условиях, поскольку оно обеспечивается соответствующим повышением производительности труда, т. е. отвечает также интересам господствующего класса. На первом этапе речь еще не может идти о политической свободе, так как именно ее отсутствие обеспечивает господствующему классу получение прибавочного продукта за счет внеэкономического принуждения, насильственного его отъема у производителя. Поэтому развитие феодализма, хотя и крайне медленно, происходит именно в этом направлении: барщина, натуральный оброк, денежный оброк – вот основные ступени повышения уровня самостоятельности производителя (и характера отчуждения результатов его труда феодалом) в области экономической деятельности.
При барщине в условиях феодализма община все еще является основой жизни – правда, уже не всего общества как целого, но эксплуатируемых тружеников, которые и эксплуатировались в основном как община. Натуральный оброк сравнительно с барщиной связан с дальнейшим углублением индивидуализации отношений эксплуатации, хотя производственные связи в общине все еще играют важную роль. При продуктовой ренте «крестьянская семья приобретает почти совершенно самодовлеющий характер вследствие своей независимости от рынка, от изменений производства и от исторического движения стоящей вне ее части общества»13. Но сохраняются еще некоторые общинные связи в производственной деятельности. При денежном же оброке индивидуализация эксплуатации и «атомизация» производственной деятельности достигает максимума, разрывая многие общинные связи, заканчивая разрушение первоначальной целостности, но зато обеспечивая возможность для производителя вступать в новые, произвольные, свободно выбираемые производственные связи, подготавливая таким образом почву для буржуазных производственных отношений.
Вот на этом-то пути общество и проходит экстремум экономической раздробленности. При барщине еще остаются отдельные элементы прежнего обобществленного производства (по крайней мере при производстве прибавочного продукта, хотя характер средств производства к этому не располагает) в виде совместной деятельности насильственно организованных больших или меньших групп. При денежном оброке работник (первоначально только для производства все того же прибавочного продукта в каком-то смысле уже в виде прибавочной стоимости) должен хотя бы в некоторой степени уже самостоятельно включаться в развивающееся новое общественное разделение труда. А вот при натуральном оброке производственные связи достигают абсолютного минимума, который как раз и представляет собой поворотный пункт в развитии общества – от деструктивных тенденций к конструктивным.
Следует, однако, еще раз отметить, что здесь речь идет о раздробленности именно в производственной сфере14. В капиталистическом обществе повышение обобществления производства сопровождалось дальнейшей атомизацией во всех остальных общественных отношениях. «Возведение интереса в связующее начало человечества необходимо влечет за собой – пока интерес остается именно непосредственно субъективным, просто эгоистическим – всеобщую раздробленность, сосредоточение индивидов на самих себе, изолированность, превращение человечества в скопление взаимно отталкивающихся атомов… Разложение человечества на массу изолированных, взаимно отталкивающихся атомов есть уже само по себе уничтожение всех корпоративных, национальных и вообще особых интересов и последняя необходимая ступень к свободному самообъединению человечества»15.
Итак, первоначально схема разделения труда в феодальном обществе выглядит следующим образом. Основные условия существования общества обеспечиваются трудом крестьян, результаты которого доставляют средства удовлетворения их собственных потребностей (в достижимых на каждом уровне развития объеме и форме), а также непосредственно средства удовлетворения индивидуальных потребностей членов господствующего класса – феодалов. Что же касается удовлетворения общественных потребностей последних, то оно осуществляется более сложным путем. Часть полученного от крестьян в виде ренты (которая может иметь различные формы16) прибавочного продукта феодал затрачивает на удовлетворение своих индивидуальных потребностей, другую же часть – на удовлетворение потребностей общественных за счет объектов, созданных вне основной сферы феодального производства, получаемых посредством обмена на них этой части прибавочного продукта. Таким образом, здесь уже имеет место обмен, но весьма своеобразный: если ремесленник ведет обмен произведенных им предметов потребления на те, которые необходимы именно ему для его же потребления, то участвующий в качестве «партнера» в этом процессе феодал участия в производстве представляемого им к обмену продукта не принимает (даже как управляющий), зато именно он потребляет тот продукт, который получает в обмен. Таким образом, являясь средством обеспечения разделения труда, обмен и в данном случае, как и во внешней торговле, имеет специфический характер. Он действительно является таковым для ремесленника, но не для феодала, и уж тем более не для крестьянина в отдельности, но только для них в совокупности, причем с разделением функций: производит продукты для обмена крестьянин, а потребляет полученные в результате обмена феодал.
Такое положение имеет место в чистом виде при отработочной и продуктовой ренте. При денежной ренте крестьянин по форме вынужден уже сам включаться в общественное разделение труда, непосредственно поставляя продукты своего труда (а то и свою рабочую силу) на рынок. Но по сути дела положение остается все тем же, ибо продавая продукты своего труда, крестьянин не приобретает для себя продукты труда другого производителя, выступающего в качестве контрагента обмена, – это все так же делает феодал. Однако даже такое участие в обмене заставляет крестьянина сообразовать свою деятельность с требованиями развивающегося рынка, а также расширять производство, что позволяет ему со временем часть продукта уже действительно обменивать на продукты других производителей – сначала продукты потребления, а затем и более эффективные средства производства, что, в свою очередь, приводит к росту производительности труда крестьянина, и соответственно ко все большему его действительному включению в общественное разделение труда.
В свою очередь рост общественного разделения труда снова придает последнему (но теперь уже на другой основе) еще более общественный характер. Однако этому процессу все больше мешает личная зависимость работника, существующее внеэкономическое отчуждение результатов его труда, что препятствует его превращению в полноценного экономического субъекта – участника общественного разделения труда. Форма опять приходит в противоречие с содержанием, создавая условия для изменения общественного строя.
Но появление возможности коренных общественных изменений, как мы уже неоднократно отмечали, вовсе не означает их неизбежности, их перехода в необходимость. Внутренние процессы в общественном образовании не могут привести к таким переменам без включения внешних сил, без взаимодействия с другими общественными образованиями. В данном конкретном случае только рост «третьего сословия», в значительной степени вызванный расширением обмена, купеческой деятельностью, а затем грабежом колоний – всем тем, что давало богатство представителям нового зарождающегося класса, создало материальную основу возникновения и развития буржуазной идеологии. Личная свобода, политическое равенство, неотчуждаемая насильственно собственность – вот те три условия, которые необходимы были для нового общественного строя. Они и стали знаменем буржуазной революции (это уже позднее из пропагандистских соображений столь существенная «собственность» была заменена в известном девизе буржуазной Великой французской революции на ничего реально не отражающее «братство»).
Только открытость вовне, развивающиеся мировые связи обеспечивают недостающие условия для перехода от феодализма к капитализму. Там, где господствует замкнутость, где внешние связи ограничиваются, феодализм консервируется, как консервируется любой общественный строй в условиях замкнутости, и никакие внутренние процессы не могут привести ни к чему иному, кроме застоя и загнивания (как никакие внутренние процессы в механической системе не могут изменить положение ее центра тяжести). В этом плане чрезвычайно характерно сравнение развития такого открытого (по условиям существования) региона как Западная Европа (внутренняя раздробленность, стимулирующая соперничество, в том числе и во внешних связях, наличие водных путей и транспортных средств, создающее возможности коммуникации и т.п.), и такого «закрытого», как, например, Китай (где многих – но не всех!17 – указанных условий не было).
Коммуникационные возможности играют здесь особую роль, а потому при рассмотрении интеграционных процессов обязательно должно учитываться «влияние средств сообщения. Всемирная история существовала не всегда; история как всемирная история – результат»18. С расширением коммуникационных возможностей «мир сразу сделался почти в десять раз больше, вместо четверти одного полушария перед взором западноевропейцев теперь предстал весь земной шар, и они спешили завладеть остальными семью четвертями»19. В результате, несмотря на то, что становление феодализма в Западной Европе произошло даже позже, чем в некоторых других регионах мира, созрела она для перехода к следующему этапу развития, к следующей общественно-экономической формации раньше, чем другие регионы. Ну, а без столь широких мировых связей об этом вообще не могло быть и речи.
Другими словами, хотя условия для развития следующей общественно-экономической формации (капитализма) были созданы в результате внутреннего развития, однако сам этот переход явился следствием внешних взаимодействий. Капитализм с самого начала явился результатом мировых процессов, вне которых ни его становление, ни тем более развитие в принципе невозможно, хотя, к сожалению, чаще всего «мировые процессы рассматриваются как производные от локальных. При таком подходе основными историческими процессами выступают процессы локально ограниченные»20. Важнейшую роль в становлении и развитии капитализма как системы сыграло взаимодействие западных стран, пребывающих на социальном уровне позднего феодализма, с регионами, находящимися на гораздо более ранней стадии общественного развития. Как в свое время на заре рабовладельческого общества, «к концу феодальной эпохи налицо снова были предпосылки для географического раздвоения человечества, на этот раз отвечавшего природе капитализма. Европейские мореплаватели и завоеватели, движимые духом еще не столько капиталистической, сколько феодальной экспансии, набросились на народы Америки и Индонезии. Через несколько столетий мир снова, как в античности, был разделен на две взаимосвязанные и грозно противостоящие друг другу половины: метрополии и колонии»21. К тому времени, когда началось это взаимодействие (в основном в форме колонизации), общественным развитием уже было достигнуто определенное разделение труда между регионами, существовала мировая торговля (и то, и другое в той специфической форме, о которой мы говорили выше), появился наемный труд – «все это возникло раньше, но именно поиски и колонизация заморских земель впервые соединили разрозненные зачатки нового разделения труда в единый комплекс»22.
Поэтому колонизация заморских земель для стран Запада только первоначально могла представляться в виде расширения пределов того общества, которое к тому времени было у них господствующим. В действительности же почти сразу «в основу колониальной экономики легло отрицание феодального способа производства … Колонии создавались не для ведения натурального хозяйства, а для нужд возникавшего мирового рынка, для добычи золота и серебра, а в дальнейшем – для производства экспортных культур. Они поставляли сырье для европейских мануфактур и служили рынком сбыта их продукции»23. «Стала складываться капиталистическая общественная система, которая с самого начала носит глобальный характер»24. В результате указанных процессов, хотя и начатых странами Запада, но по существу являвшихся принципиально глобальными, «характер развития стран и целых регионов на долгие века был определен тем, как именно они были включены в новую систему международного разделения труда; а это, в свою очередь, зависело от исторического наследства, с которым они подошли к решающему рубежу, обозначенному Великими географическими открытиями». В это время «западноевропейский регион представляет собой центр складывающейся глобальной системы капитализма»25. А уже «ко второй половине XVIII в. во всем мире сложилась качественно новая система регионов, связанных новым международным разделением труда – капиталистическим»26.
Как же это происходило, и почему именно «западный регион» стал «центром глобальной системы капитализма»? А.Тойнби, рассматривая последовательность смены различных «цивилизаций», особо выделяет «западную цивилизацию», начало которой было положено после разрушения Западной Римской империи, считая ее единственной, чья история все еще продолжается с тех пор и до сегодняшнего дня без признаков распада: «из ныне живых цивилизаций каждая уже надломилась и вошла в процесс распада, кроме нашей собственной»27, и «мы, дети западной цивилизации … плывем сегодня одни-одинешеньки в окружении тяжело больных цивилизаций»28. Если разделять этот взгляд, то оказывается, что по каким-то неведомым причинам «западная цивилизация» оказалась совершенно особенной по сравнению с другими, и именно эта особенность обеспечила ей в конце концов мировое господство.
Но Тойнби почему-то не замечает, что сформировавшаяся на территории бывших римских провинций «цивилизация» полностью прошла тот же путь, который он считает характерным для любой «цивилизации». Хотя он и упоминает в качестве «неразвившейся цивилизации» «космос средневекового города-государства», но выделяет прохождение «так называемой средневековой фазы в западной цивилизации, когда создание западного общества было под эгидой папы и Священной Римской империи, символизирующих нечто главенствующее и центральное, между тем как королевства, муниципальные города и лены, равно как и другие местные учреждения, воспринимались как нечто подчиненное и окраинное»29, только в качестве этапа ее развития, а не отдельной «цивилизации». Если же строго придерживаться его концепции, то речь здесь должна была бы идти именно об особой «цивилизации», заложенной Карлом Великим, в которой указанные институты (папство и империя Гогенштауфенов в весьма своеобразном взаимодействии) вполне можно было бы считать аналогом его «универсального государства», осуществившегося «через ренессанс эллинского института “абсолютного” государства, в котором религия стала одним из ведомств политики»30 – особенно если учесть последовавшее «смутное время», достигшее апогея во времена Реформации и фактически положившее конец средневековью, со всеми его особенностями как раз и представлявшему данную цивилизацию. Тогда весь путь развития «западной христианской цивилизации» целиком укладывается в формационные рамки феодального общества.
И действительно, в конце средних веков в Западной Европе имеется все то, что Тойнби считает предпосылками зарождения новой «цивилизации». Прежде всего это относится к тому, что он полагает главным в общественной жизни – к области религии (а надо бы сказать – идеологии). Все больше теряет властные функции папство. В религиозной сфере возникают первые ростки будущей Реформации. Таким образом, рушится та основа, на которой базировалось единство тысячелетней «западной христианской цивилизации», начинается ее распад. Идеи Ренессанса закладывают основы новой, уже секуляризованной идеологии – предвестницы другой цивилизации. Эта новая идеология возникает как сплав идей гуманизма, протестантизма, а затем, по мере секуляризации, индивидуализма, «цивилизационной» исключительности и расизма, политической демократии, прагматизма, а далее индустриализма, и может быть в целом определена как идеология буржуазная. И вовсе не все страны, входящие в «западнохристианскую цивилизацию», принимали активное участие в этом процессе. Более того, это было в определенном смысле движение, политически и идеологически разрушающее прежнюю «цивилизацию», – «движение, охватившее Северозапад Европы, за освобождение от Юга, где Западное Средиземноморье упрямо придерживалось мировоззрения, свойственного обществу, уже умершему и ушедшему в небытие»31. Все эти процессы достигают критической точки на рубеже XV и XVI веков и, что чрезвычайно существенно, совпадают по времени с начавшейся эпохой великих географических открытий. На основе средневековой феодальной «западной христианской цивилизации» происходит генезис другой цивилизации – «западной буржуазной», которая с этого времени начинает свой собственный путь развития. Как и у остальных «цивилизаций», существенной предпосылкой ее становления (именно как цивилизации, а не как общественно-экономической формации) явилось развитие новой идеологии.
Характерным моментом в формировании новой буржуазной идеологии стала Реформация, как бы подведшая черту под средневековой религиозной идеологией. Противодействие, оказываемое средневековой христианской идеологии, по необходимости поначалу носило религиозную форму ереси – идеологи протестантизма развивали свои идеи, «большей частью прикрывая их той же самой христианской фразеологией, которой долгое время должна были прикрываться и новейшая философия»32. Однако по своей глубинной сути протестантизм в указанной форме прежде всего представлял идеи прагматизма и индивидуализма, которые затем становятся краеугольными камнями буржуазной идеологии. По мере развития буржуазных производственных отношений эти идеи постепенно проникают и в ортодоксальный католицизм (христианская религия всегда умела гибко приспосабливаться к новым условиям), что смягчает остроту его конфронтации с протестантизмом. А во второй половине XVII в. «католики и протестанты неожиданно перестали воевать между собой, но не потому, что вдруг сообразили, какой это грех – нетерпимость … Они, кажется, осознали, что им стали довольно безразличны те теологические основания, которые вызвали когда-то раскол»33. Другими словами, сломался основной «идеологический стержень» «западной христианской цивилизации» (являющийся, по Тойнби, едва ли не главным ее признаком): «к концу XVII в. западное общество вступило в процесс самосекуляризации»34. Но если утрачен главный признак данной «цивилизации», если полностью меняется идеологическая база, на каком основании можно говорить о продолжении ее развития в качестве все того же общественного образования? Ясно, что наступило время новой «цивилизации», дочерней, но никак не тождественной «западной христианской (видимо, точнее было бы сказать – католической) цивилизации» – по сути своей уже вполне секуляризованной (даже если ее идеология и принимала поначалу религиозные формы) буржуазной «западной цивилизации».
Предпосылки для формирования новой «буржуазной цивилизации» созревали вовсе не в одной только Западной Европе, они имели место также и в других феодальных «цивилизациях» («цивилизациях второго поколения»). Однако формирование любой «буржуазной цивилизации» («цивилизации третьего поколения») наталкивается на то препятствие, которого при своем возникновении не знали «цивилизации» предыдущие. Теперь практически каждая из них была окружена другими живыми и активными «цивилизациями», и, следовательно, не имела в достаточных объемах той периферии «примитивных обществ», которая могла бы послужить «жизненным пространством» и «строительным материалом» для будущей «цивилизации». Никакой «центр» еще не мог «создать себе обширную зависимую периферию, несмотря на все попытки Венеции, Генуи, Флоренции и Арагона подчинить себе народы Средиземноморья. Дело в том, что ни один регион феодальной эйкумены не возвышался над другими настолько, чтобы подавить их экономическим или военным путем, и потому контакты вели к выравниванию их потенциалов»35. Зачатки новых общественных отношений в виде их разрозненных элементов существовали к тому времени в различных регионах мира. Однако «выравнивание региональных потенциалов не позволило этим зачаткам обрести новое формационное качество»36. Только появление новых возможностей, возникших в результате великих географических открытий, изменило ситуацию. Но, «конечно, соприкосновение с другой эйкуменой также осталось бы случайностью, не имеющей заметных исторических последствий, … если бы противоречия позднего феодализма не достигли определенной зрелости»37.
Итак, «западная христианская цивилизация» находилась в примерно равном положении с другими феодальными «цивилизациями», но только до эпохи великих географических открытий, особенно до открытия Нового Света. После этого положение изменилось коренным образом – не только для самой «западной христианской цивилизации» и населения Нового Света, но со временем и для всех других «цивилизаций» на планете. Тойнби вполне справедливо считал, что «драматическая и многозначная» встреча Запада со всем остальным миром оказалась центральным явлением всей глобальной истории Нового времени38. Контакты между различными «цивилизациям» имели место и раньше, причем приоритет в них принадлежал отнюдь не Западу, «западная цивилизация захватила приоритет в области культурного и политического проникновения в другие регионы Земли лишь в последние пятьсот лет. Когда в XV в. западноевропейские мореходы овладели приемами навигации открытого моря, это дало материальные возможности овладения заокеанскими землями. Таким образом, покорение океана привело к установлению регулярных контактов между Западом и Новым Светом, между цивилизованными и нецивилизованными обществами. Глобальное значение Запада стало реальностью истории планеты, а “западный вопрос” стал в некотором смысле роковым. Наступление Запада коренным образом повлияло на облик современного мира. Причем не только в доцивилизованных обществах рушились хрупкие социальные структуры. Вполне развитые незападные цивилизации также конвульсировали и деформировались под влиянием этой в прямом смысле слова мировой революции, инспирированной Западом»39.
Таким образом, прежде всего открытие и колонизация Нового Света стали переломным пунктом в становлении капиталистических общественных отношений. Достаточно часто «открытие и колонизация Нового Света рассматривается как поглощение его Старым Светом. При этом явно или неявно полагается, что последний во всем существенном остался самим собой и закономерности его развития не изменились»40. На самом же деле «значение “встречи миров” не сводится ни к ускорению процессов, шедших в Старом Свете до нее, ни даже к возможному влиянию двух миров. Самый смысл “встречи” состоит в том, что она положила начало становления единого мира, когда уже ни Старый, ни Новый Свет не могли развиваться по отдельности»41.
Генезис «цивилизации» буржуазной начался на окраине «западной христианской цивилизации» – в Англии. Попытки образовать «империю», способную стать ядром новой «цивилизации», предпринятые Нидерландами и Испанией, оказались безуспешными, но они подготовили почву для более успешной попытки со стороны Англии. В результате длительное время именно Британская империя в наиболее законченном виде представляла собой новое социальное образование. «Для последней четверти XVI в. характерна широкая заокеанская экспансия многих западноевропейских стран, включая и Англию. Заметную активность на морях проявляли датчане, шведы и курляндцы, тогда как Германия и Италия (которые до XIX в. не существовали в качестве единых государств – Л.Г.) почти не принимали в этом процессе участия»42. Вообще «в заморской экспансии принимали участие только страны Западной Европы, да и то далеко не все, а почти исключительно те, чьи территории выходили к Атлантическому океану»43. Но все участники относились к «западной христианской цивилизации», другие «цивилизации» участия в этом процессе практически не принимали, – например, «ни одна исламская страна не вступила в него»44.
Почему же именно Англия обогнала даже Нидерланды и Испанию и первой заложила фундамент новой цивилизации? Что касается Нидерландов (Голландии), то здесь в основном имело место развитие торгового капитализма: в отличие от «государств с плотным населением, богатых людьми, продовольствием и разными продуктами», Голландия представляла собой «растение-паразит»45, для которого главным было это паразитирование на «западной христианской цивилизации». В том же, что наиболее мощная на тот момент держава Европы Испания потерпела неудачу там, где достигла такого успеха Англия, помимо прочих факторов существенно сказался фактор идеологический. Конечно, католицизм, как идеология феодального общества, еще не был приспособлен для колонизации так, как протестантизм (в частности, в отличие от последнего, он признавал «душу» в индейцах, что ставило определенные моральные препоны, приводило к смешанным бракам – креолы – и т.п.), который обеспечивал необходимую идеологическую основу капиталистической колонизации46. Но прежде всего имели значение факторы экономические.
Среди других причин чрезвычайно важную роль сыграло то обстоятельство, что Англия для «так называемого первоначального накопления» имела объект колонизации непосредственно у себя под боком, чего не было у других стран, первоначальная экономическая эффективность колоний которых в связи с их отдаленностью была сравнительно низкой, да еще и коммуникации с ними подвергалась внешнему давлению (той же Англией с ее пиратством). Так что особую роль сыграла здесь колонизация Ирландии. «Ирландия была первой английской колонией. … Экономически и политически слабая Ирландия обладала большими природными богатствами: она представлялась английскому дворянству и буржуазии XVI в. весьма заманчивым объектом колониального грабежа и важным опорным пунктом для утверждения господства Англии на море в борьбе с Испанией. … Основным средством ограбления и подчинения Ирландии англичанами в XVI в. стали массовые конфискации земель ирландцев и передача их английским колонистам. … Массовое обезземеливание и грабеж ирландцев были одним из рычагов процесса первоначального накопления в Англии»47, в результате которого отсталая в конце предыдущего века страна начала быстро развиваться, в том числе мощный толчок получило развитие новых производственных отношений.
Так что хотя вначале не Англия возглавила «соревнование между нациями, расселенными на атлантическом побережье Европы, за покорение новых заморских миров», «она добыла в нем первый приз позже, взяв верх во многих битвах с державами, которые к тому времени уже значительно опережали ее на ниве колониальной экспансии»48. Как причиной, так и следствием этого стало то, что «индустриальная революция началась именно в Англии, а не где-то в другом месте»49. Англия (точнее, уже Великобритания) и вошла первой в новую буржуазную «западную цивилизацию», в качестве важнейшего момента включающую колонизацию «нецивилизованных» стран, ставших для этой «цивилизации» «строительным материалом» (по словам К.Леви-Стросса «Запад построил себя из материалов колоний»). Это обстоятельство коренным образом меняет характер развития не только в стране-метрополии, но и в колониях, где развитие уже не может повторить путь, пройденный первой, ибо существенно изменяет условия развития50.
Таким образом, суммируя все изложенное выше, можно сказать, что при становлении новой, буржуазной общественно-экономической формации решающее значение имеет тот же фактор, что и при становлении предыдущих – влияние взаимодействия с другими социальными образованиями. Если ограниченность такого взаимодействия (как, например, в Австралии) не позволяла развиться каким-либо иным общественным процессам, кроме разложения родового строя, то образование первого классового (рабовладельческого) общества потребовало взаимодействий в широком масштабе, которое могло быть обеспечено только на просторах «Афразии». Далее, только «великое переселение народов» в масштабах практически всего Старого Света, положило начало следующей формации – феодальной. Капитализм же для своего возникновения и развития потребовал полной глобализации общественных процессов. Каждый раз становление новой общественно-экономической формации сопровождалось также образованием новой «цивилизации», т.е. «общественно-экономическая формация» Маркса и «цивилизация» Тойнби представляют собой различные стороны одного и того же социального организма, рассматриваемого преимущественно в первом случае в общественно-экономическом, а во втором в политико-культурологическом аспектах. Если провести аналогию (конечно, весьма условную) такого социального образования с многоклеточным организмом, то цивилизационные моменты играют в нем роль его «анатомии», а формационные – «физиологии». Однако, в отличие от представлений «органицистов», данная аналогия является корректной только для данных образований, а вовсе не для каких угодно «социальных организмов».
Так что, в противоположность взглядам Тойнби, «цивилизации» все же являются именно особыми социальными организмами, причем отличающимися не только каким-то (вроде бы достаточно произвольным) набором культурных элементов, но и вполне определенным способом «обмена веществ», т.е. являясь при этом также определенными общественно-экономическими формациями. Но, с другой стороны, при таком подходе и общественно-экономические формации перестают представлять собой ступени развития одного и того же целостного объекта, непрерывно существующего во времени. Они становятся сущностными характеристиками различных объектов, последовательно сменяющих друг друга при качественных переходах.
Если рассмотрение ограничить отдельным социальным организмом, мы имеем классическую диалектику Гегеля практически в чистом виде. При завершении для данного объекта цикла развития (представляющего собой смену субординационного и координационного характера организации), при качественном скачке (т.е. имеющем результатом появление нового качества, а следовательно, нового объекта развития) элиминируется «старый» объект и возникает «новый», к которому опять же применимы открытые Гегелем законы диалектики, но сам этот скачок вызван другими факторами, в гегелевскую диалектику не укладывающимися.
Стало быть, называть эти социальные организмы только общественно-экономическими формациями так же невозможно, как и только цивилизациями (в том смысле, который в это понятие вкладывал Тойнби). Поэтому для их обозначения, за неимением лучшего, мы здесь используем то же наименование «цивилизация», но взятое в кавычки чтобы показать, что в действительности дело далеко не ограничивается только лишь культурно-«цивилизационными» различиями между ними. Может быть, однако, стоило бы использовать и тот же самый термин (без всяких кавычек), но с учетом изложенных соображений – использовали же Маркс и Энгельс появившийся еще до возникновения марксизма термин «класс», наполнив его новым содержанием, или даже взятый из геологической науки термин «формация».
«Глобализация» общественных отношений в эпоху капитализма отмечается в ряде концепций современных исследователей на Западе (в частности, в работах Ф.Броделя51). Наиболее ярко эти представления получили воплощение в концепции мир-системы И.Валерстайна, считающего все современное человечество связанным в единое целое в «мир-экономике» при наличии у этой «мир-системы» «ядра» (промышленно развитые страны Западной Европы, Северной Америки и Японии) и «периферии» (все остальные страны, ряд из которых находится в некотором промежуточном состоянии «полупериферии»)52. С его точки зрения вообще «капитализм только и возможен как надгосударственная система, в которой существует более плотное “ядро” (core) и обращающиеся вокруг него периферии и полупериферии»53. Положительный момент в концепции Валлерстайна заключается в отведении в глобальных отношениях ведущего место отношениям экономическим. Основным же недостатком его теоретических построений представляется то, что он абсолютизирует реально имеющую место «глобализаци» общественных связей при капитализме. Для него «мир-система» во главе с ее «ядром» (т.е. империалистическими странами) содержит в себе весь мир, в качестве «полупериферии» включавший даже Советский Союз (хотя и при «полуавтаркическом» функционировании последнего). Другими словами, Валлерстайн по сравнению с Тойнби впадает в другую крайность, считая «цивилизационные» отличия вообще малосущественными («цивилизации сегодня скорее лишь обозначают границы между социальными группами и экономическими зонами мира»54). Положительный момент учета экономической составляющей, будучи доведен до крайности, превращается в свою противоположность. Не даром Ф.Бродель считал необходимым «поставить ему в упрек … недостаточное внимание к иным реальностям, нежели реальности экономического порядка»55.
Такой «экономический детерминизм» вульгаризует понимание реальных процессов, поскольку игнорирует то, что Маркс называл активной ролью надстройки. Конечно, идеологическая надстройка определяется базисом, но раз возникнув, она оказывает на него активное влияние. Когда новые экономические отношения нарождающегося капитализма потребовали новых надстроечных образований, в Западной Европе произошла Реформация, обеспечивающая в значительной мере условия перехода общественного «менталитета» от общинного к индивидуалистическому, хотя внешне она имела вид религиозного противостояния. Дело в том, что «религиозные воззрения и разногласия сами по себе не повод для раздоров и истребительных войн, но часто являются индикатором глубоких причин, порождающих грандиозные исторические явления»56. Когда возникла потребность в новой идеологии, прежние религиозные представления, казалось бы вполне устраивающие подавляющее большинство населения почти тысячу лет, вдруг многих настолько перестали устраивать, что религиозное противостояние опустошило некоторые европейские страны не хуже чумы. Но без этих процессов нельзя было подготовить переход к капитализму в идеологическом отношении. Не даром в разрушенном СССР попытки ввести другие экономические отношения без учета существующей идеологической надстройки привели (и, повидимому, будут приводить и дальше) к самым негативным последствиям.
Абсолютизация экономических моментов (в данном случае прежде всего глобальности экономических связей при игнорировании упомянутых выше их особенностей в условиях различных общественно-экономических формаций) вообще приводит некоторых «неомрксистов» к отрицанию формационных изменений. Так, «метр левого неомарксистского научного истеблишмента» А.Г.Франк, в отличие от И.Валлерстайна, считает капитализм едва ли не вечным для мировой системы (даже концепцию «протокапитализма» он полагает «неэффективной»). С его точки зрения «мировой (капиталистической) экономике как исторической системе»57 уже много лет: «мировая система, в рамках которой мы в настоящее время существуем, возникла, по крайней мере, пять тысячелетий назад»58. Отличается эта система в своем развитии прежде всего тем, что ее «центральное ядро двигалось по земному шару преимущественно в западном полушарии»59, перемещаясь с Востока на Запад (в настоящее время имея тенденцию к перемещению дальше, т.е. опять на Восток – в Японию). В развитии данной системы наличествует цикличность, чередование подъемов и спадов. Но что касается формационных переходов, то, вообще отрицая продуктивность понятия «способ производства», Франк утверждает, что и до 1500 года «система была такой же самой независимо от способа производства»60, какой она является и сейчас. Поэтому относительно переходов вообще он уверен в отсутствии качественных формационных изменений, вследствие чего «если мы можем определить какие-либо переходы, то это в действительности переходы между переходом и переходом»61. Соответственно «прослеживая корни современной мировой системы, мы ни в коем случае не обязаны приходить к культурно-генетическим объяснениям, еще менее – к цивилизационным … цивилизационные факторы играют весьма ограниченную и вовсе не неизбежную роль»62. Вот какими оказываются результаты «качания маятника» в противоположную сторону от исключительно «цивилизационного» объяснения исторических процессов к сплошной «экономизации» и «глобализации».
Мы уделили здесь главное внимание внешним условиям становления капитализма как общественно-экономической формации и как особой «цивилизации» постольку, поскольку этот момент пока не занял должного места в анализе этого этапа общественного развития. Даже Маркс, рассматривая механизмы функционирования капиталистического общества, фактически сводит их к механизмам только лишь внутренним для стран метрополии. Здесь особенно сказываются общеметодологические установки гегелевской диалектики, вследствие которых он рассматривает становление и развитие общественно-экономической системы капитализма как замкнутой, движимой по сути исключительно собственными внутренними противоречиями. Что касается внешних связей, то Маркс отмечает существенное их значение в первоначальном накоплении: «Открытие золотых и серебряных приисков в Америке, искоренение, порабощение и погребение заживо туземного населения в рудниках, первые шаги по завоеванию и разграблению Ост-Индии, превращение Африки в заповедное поле охоты на чернокожих – такова была утренняя заря (!) капиталистической эры производства. Эти идиллические процессы суть главные моменты первоначального накопления»63. Так что Маркс безусловно учитывает наличие колоний, но как фактора дополнительного, и даже когда ему приходится затрагивать вопросы, связанные с экономической ролью колоний, он не вносит в сам механизм последующего функционирования капитализма в метрополии никаких существенных коррективов.
А ведь дело вовсе не сводится к первоначальному грабежу. Труд в колониях, и в дальнейшем создающий стоимости, имеет другой характер. Маркс сочувственно цитирует Петти: «Если одну унцию серебра можно добыть и доставить в Лондон из перуанских рудников с такой же затратой времени, какая необходима для производства бушеля хлеба, то первый из этих продуктов будет составлять естественную цену второго»64. Другими словами, унция серебра по затратам рабочего времени эквивалентна бушелю пшеницы. Эквивалентному для кого и о чьем рабочем времени идет речь? Естественно, об общественно необходимом времени, – но европейца (которое здесь также затрачено). И никак не работника, непосредственно добывающего это серебро. А просто просуммировать эти затраты нельзя, потому что, по Марксу, в этих случаях вопрос не стоит о равенстве рабочих сил: если отношения основываются на принуждении, то они, соответственно, имеют «своим естественным базисом неравенство людей и их рабочих сил»65. Для того, кто работает в руднике (в колонии), счет другой, ибо для него имеет место внеэкономическое принуждение. Ведь затраты на воспроизводство рабочей силы в колониях по отношению к метрополии не просто были значительно ниже, в полном объеме рабочая сила здесь вообще не воспроизводилась, происходило ее хищническое потребление, шло систематическое вымирание туземцев – на протяжении столетий и в настолько массовых масштабах (за двести лет оно уменьшилось на 90%66), что для метрополии приобрело характер длительно действующего экономического фактора (аналогичное положение имело место в период плантационного рабства в Америке, когда убыль рабов восполнялась новыми поставками, вследствие чего за два столетия Африка по некоторым данным потеряла порядка 120 млн. населения, причем ее хозяйственный уклад претерпел вследствие этого глубокие деформации).
Второй вопрос касается другого компонента богатства – земли. Маркс специально подчеркивает два момента: основа – накопленные богатства, и богатство не создается исключительно трудом, в него входит еще природный материал. «Человек в процессе производства может действовать лишь так, как действует сама природа, т.е. может изменять лишь формы веществ. Более того. В самом этом труде формирования он опирается на содействие сил природы. Следовательно, труд не единственный источник производимых им потребительных стоимостей, вещественного богатства. Труд есть отец богатства, как говорит Уильям Петти, земля – его мать»67. И предполагалось, что капиталистическое общество зиждется на законном (пусть даже и по расчету) браке этих «отца и матери». Но как, по словам классиков марксизма, буржуазный брак «находит свое продолжение … в публичной проституции»68, так и экономические отношения в метрополии предполагали наличие соответствующих «внеэкономических» отношений в колониях, существовать без которых не могли. Однако здесь дело обстояло еще хуже: проститутке хоть деньги платят, а в колониях в этом смысле произошло самое натуральное изнасилование подневольной дворовой девки. И не стоит закрывать глаза на рождение в результате этого «детей», пусть даже «незаконных» с точки зрения классической политэкономии.
Капитализм застает в своей метрополии положение, согласно которому практически вся земля, пригодная к использованию, т.е. в конечном счете все природные ресурсы, необходимые для производства, уже кому-то принадлежат. С этим ему приходится считаться. Земельная рента, уплачиваемая предпринимателем земельному собственнику, отнюдь не способствует развитию промышленности. А в колониях? Там ведь до колонизации тоже на земле жили люди, пользующиеся ее плодами для производства средств к существованию (пусть и не интенсивно). Колонизатор отнимает (внеэкономически, т.е. без эквивалентной компенсации) эту основу народного богатства у аборигенов, что сразу меняет положение для обеих сторон. В «Капитале» в главе о теории колонизации Маркс момент наличия «свободной земли» отмечает как играющий важнейшую роль, но даже здесь не учитывается то, что она вовсе не ничейная, не «дар божий» колонистам, а у кого-то отнята; только не учитывая этого обстоятельства, можно утверждать, что «сущность свободной колонии … заключается в том, что масса земли остается еще народной (это какого же народа!? – Л.Г.) собственностью, и потому каждый поселенец может превратить часть ее в свою частную собственность и в свое индивидуальное средство производства, не препятствуя этим позднейшему поселенцу поступить таким же образом»69.
Но это и понятно: Маркса в «Капитале» в вопросах колонизации «занимает не положение колоний. Нас интересует только тайна, которую открыла в Новом свете и громко возвестила политическая экономия Старого света: капиталистический способ производства и накопления, а следовательно, и капиталистическая частная собственность предполагают уничтожение частной собственности, покоящейся на собственном труде, т.е. предполагают экспроприацию работника»70. Все правильно, без такой экспроприации работника внутри стран метрополии капитализм возникнуть не мог бы. Но дело в том, что он не мог бы возникнуть и только этим путем, без соответствующей «экспроприации работника» (хотя и другими способами) также вне этих стран, в колониях.
В своем анализе капиталистического производства Маркс в качестве исходного положения предполагает всеобщее действие закона стоимости. «Для того, чтобы предмет нашего исследования был в его чистом виде, без мешающих побочных (!) обстоятельств, мы должны весь торгующий (!) мир рассматривать как одну нацию и предполагать, что капиталистическое производство закрепилось повсеместно и овладело всеми отраслями промышленности»71. Другими словами, в качестве базового условия предполагалось то, что в принципе невозможно, ибо собственно капиталистическое производство метрополии, которое изучал Маркс, и по отношению к которому действовал закон стоимости, могло возникнуть и существовать только потому, что в отношениях с колониями действовали совсем другие законы72. Конечно, такая идеализация была необходима и целесообразна для изучения основных законов капиталистического накопления, но распространение на всю капиталистическую систему в целом того, что имело место только для «промышленно развитых стран», неизбежно сказалось на точности прогноза.
Непосредственный толчок развитию капиталистических отношений в Западной Европе дал уже приток дешевого «денежного металла» из Нового Света, а дешевым он был именно по причине наличия двух упомянутых выше внеэкономических (применительно к развитию капиталистических отношений в метрополии) факторов. И дальше развитие капитализма (прежде всего в Англии) хотя и подчинялось открытым Марксом внутренним механизмам, но базировалось на внешнем факторе. Без последнего эти механизмы попросту не работали бы (как двигатель внутреннего сгорания не работает не только без топлива, но и без воздуха, хотя проблем с последним у конкретного автомобилиста вроде бы не возникает) – как не сработали они в других частях мира, не менее феодальных (и не менее готовых к развитию внутри них капиталистических отношений), чем Западная Европа, но не имеющих таких же внешних источников развития, а потому не получивших соответствующего толчка и постоянно действующего фактора.
Мы уже отмечали продолжавшуюся весьма длительное время хищническую (без воспроизводства рабочей силы в полном объеме) эксплуатацию местного населения колоний и привозных рабов. Разве же эти моменты не оказывали существеннейшего экономического влияния не только на становление, но и на развитие капитализма, которым и были вызваны к жизни? Уже один только поток подешевевшего (вследствие действия двух указанных факторов) «денежного металла» из Нового Света в Старый привел к существенным экономическим последствиям как для метрополии, так и для остального мира. А ведь за счет Нового Света в Европе «только за XVI в. запас серебра утроился, а обращение серебряных монет выросло в 8-10 раз»73. Поскольку существовала мировая торговля (пусть в те времена еще в «неполном» виде), то это сразу привело к вполне законному грабежу «западной цивилизацией» также других «цивилизаций», давая оборотистым купцам и первоначальные накопления, и постоянную «подпитку», которые затем вкладывали и в развитие капиталистического производства, и в мировую экспансию. Но и для самой метрополии это также имело те же последствия – перераспределение богатства.
Это только со временем выгоды от колониального грабежа начали получать все слои населения метрополии. На первых же порах эксплуатация населения колоний не только не уменьшила, но усилила эксплуатацию угнетенных социальных групп в метрополии. Появление некоторой дополнительной «оболочки», через которую ее эксплуататорское «ядро» начало осуществлять часть своих «обменных процессов» с окружающей средой, раньше полностью проходивших через «оболочку» из собственных угнетенных классов, дифференцировали эти процессы при их одновременной интенсификации. Это уже вследствие уменьшения разнообразия привело к снижению «степеней свободы» для эксплуатируемых, что парадоксальным образом привело не к уменьшению, а к усилению их эксплуатации при снижении уровня жизни74.
Из-за денежного оброка крестьянин вынужден был продавать произведенный им продукт за деньги, но подешевевшие деньги обесценили и его продукт. Произошла пауперизация трудового населения, подготовив таким образом будущую наемную рабочую силу. Вызванное указанными процессами снижение производства продуктов питания (прежде всего хлеба) компенсировалось их закупкой в «ближнем зарубежье», что привело также к капиталистическим (но здесь опять же парадоксальным образом выразившихся, в частности, в «феодальной реакции», как бы в возврате назад, – «вторичном» закрепощении крестьян и т.п.) преобразованиям в ряде стран Центральной и Восточной Европы. Капиталистическое производство в тех странах Европы, которые в тот момент играли роль «ядра», в значительной мере выросло на польском хлебе, производимом крепостными75. Торговля и наличие накоплений подтолкнули к развитию производства (например, шерсти и сукна в Англии) на экспорт. Возможно ли было все это без дешевого серебра, добываемого из бывшей своей земли полурабамы в Перу?
Однако в экономической теории капитализма, развитой Марксом, внешний экономический фактор в качестве существенного не учитывался. Практически все сводилось к саморазвитию. Соответственно это сказалось и на характере анализа. Если первый том «Капитала», как раз и анализирующий саморазвитие капитализма, воспринимается как монолит, имеющий общие основания и общий стержень, то второй и третий тома такого впечатления уже не производят, ибо в значительной мере заполнены анализом огромного количества частных случаев. Соответственно возникает ощущение, что кроме тех факторов, которые приняты в качестве определяющих в функционировании капитализма, существуют еще какие-то неучтенные «скрытые факторы», наличие которых и вынуждает к скрупулезному анализу частностей, поскольку те прямо не вытекают из исходных посылок. Действительно, когда читаешь Маркса, отличавшегося исключительным умением находить общие закономерности в массе их конкретных проявлений, трудно отделаться от недоумения: зачем ему понадобилось подробное рассмотрение множества случаев конкретного проявления этих закономерностей в самых различных их модификациях? Разве не достаточно было бы сформулировать их в общем виде и указать методику учета конкретных условий их проявления? Ведь все равно всех конкретных случаев не переберешь! Нет, оказалось недостаточно, ибо эти условия в действительности не были результатом всего лишь отклоняющих влияний второстепенных факторов. Они представляли результат действия факторов важнейших, однако в этом качестве не учтенных – внешних связей, не менее существенных, чем внутренние причины развития. И отсутствие их в качестве основных факторов неизбежно вызывало необходимость анализа конкретных проявлений реального бытия капитала, товара, денег, стоимости, ренты и других моментов, характеризующих капитализм как общественно-экономическую формацию.
Разумеется, это не значит, что Маркса вообще не интересовали проблемы взаимовлияния различных социальных образований при изучении развития общественно-экономических формаций. Марксу великолепно были известны соответствующие факты, и он неизменно учитывал их в своем анализе капиталистического общества, но учитывал он вызванные ими влияния именно как флуктуации, как отклонения, влияющие на действие открытых им основных законов капитализма, в то время как они нередко были проявлением действия не менее важных и столь же имманентных данному обществу законов развития и функционирования все той же формации, отражающих те внешние условия, без которых капитализм в «передовых странах» так же не мог состояться, как и без внутренних стимулов. Однако, судя по направлению занятий, Маркс обстоятельно готовился к новому осмыслению исторического процесса. «Хронологические выписки» Маркса – одна из последних его рукописей, – охватывающие почти 2000 лет, составляют 100 п.л. Есть основания полагать, что как раз «в последние годы жизни внимание Маркса привлекла проблема взаимодействия всех одновременно существующих формаций. … За этим, повидимому, стояло намерение сделать новые шаги в диалектико-материалистическом понимании истории. Он стремился представить картину всемирной истории целиком – во взаимодействии различных типов обществ… В особенности его интересовал вопрос о взаимодействии “центров” и “периферии” социального прогресса, о роли колониальных и вообще остальных стран в предстоящих революционных битвах рабочего класса, в процессе перехода от капитализма к социализму во всемирном масштабе»76.
Но какие бы ни были у Маркса намерения, осуществить он их не успел. Однако сейчас без анализа указанного момента вряд ли можно понять не только уже прошедшие, но и сегодняшние общественные процессы в мире. Поэтому мы здесь и уделили им особое внимание. Что же касается внутренних процессов становления капиталистических отношений, сыгравших в нем, разумеется, чрезвычайно существенную роль, то от необходимости их подробного анализа нас избавляет то, что он блестяще осуществлен в трудах классиков марксизма, без самого широкого учета которых, конечно, ни о каком понимании становления и развития капиталистической общественно-экономической формации не может быть и речи.
Однако при рассмотрении роли внешних факторов естественно возникает вопрос: а что было бы, если бы Нового Света вообще не существовало, или его открытие опоздало? Возник бы тогда капитализм? Это событие безусловно стало важнейшим моментом, определившим ход истории не только Западной Европы, но и всего человечества (недаром Адам Смит вообще считал, что открытие Америки и пути в Индию через мыс Доброй Надежды являются двумя наиболее важными событиями в истории человечества). Особо «опоздать» открытие Нового Света не могло, ибо оно как раз и было предопределено общественными потребностями и возможностями именно данного времени. А вот если бы его вообще не было, то история бы существенно изменилась. Развитие действительно замедлилось бы, феодализм «консервировался» бы на более длительное время. Но процесс общественного развития как целое все равно пошел бы тем же путем, приобретя в конечном счете всемирный характер – такова сущность капиталистического разделения труда. Один из регионов раньше или позже по тем или иным причинам приобрел бы превосходство перед другими, получив таким образом возможность дальнейшего развития за счет остальных, став «центром кристаллизации» капитализма как общественно-экономической системы и, соответственно, новой, буржуазной «цивилизации». Дальше процесс точно так же шел бы по принципу положительной обратной связи. Другое дело, что таким «центром» вовсе не обязательно стали бы страны Западной Европы, поскольку в XVI в. «народы и государства Азии, Европы и Северной Африки находились в большинстве случаев на разных стадиях развития феодализма, причем широко распространенным явлением было в это время уже разложение феодальных отношений»77 (достаточно вспомнить позднейшую историю Японии с ее «великой сферой сопроцветания»).
Но всемирная история шла так, как она шла. В результате, как мы видим, начало новой капиталистической «цивилизации» положили некоторые страны западной Европы, выходящие к Атлантическому океану, прежде всего Англия. Только со временем и постепенно к ней в этом качестве начали присоединяться другие западные страны, что, в связи с ограниченностью «нецивилизованной» периферии, неизбежно привело к конфронтации между ними, вылившейся в длинный ряд локальных столкновений и в две «мировые» войны. Эти войны начала Германия как западноевропейская страна, наиболее обделенная при «разделе мира». Но в результате этих войн не столько произошел новый «передел мира», сколько началась консолидация западных стран в единое целое – «ультраимпериалистическое» объединение «цивилизованных стран» как своеобразную метрополию глобальной «буржуазной цивилизации». В свое время Тойнби считал, что для «западной цивилизации» «универсальное государство, которого мы жаждем, та экуменическая республика, которая дала бы покой всему вестернизованному миру, не маячит даже на горизонте»78. Сегодня положение существенно изменилось – «на горизонте» все четче вырисовывается объединенный экономически, идеологически, а со временем, повидимому, и политически Запад, окруженный в качестве «метрополии» империалистического «универсального государства» морем «провинций» – «периферией» и «полупериферией» из стран «зависимого капитализма». Превращение буржуазной «западной цивилизации» в явление глобальное стало свершившимся фактом.
Капитализм с самого начала формировался как явление общемировое, одновременно как процессы в странах капиталистической «метрополии» («ядра») и не менее капиталистической «периферии». При этом данные процессы, являясь существенно различными, но взаимозависимыми сторонами общего процесса, только в своей целостности обеспечили становление и развитие капитализма как всемирной системы, с сохранением, однако, цивилизационных различий регионов. В связи с этим «отличие форм развития капитализма на периферии глобальной системы от форм того же развития в центрах объясняется не “отсталостью” периферии и не “деформирующим” влиянием центров на докапиталистические отношения, а различием мест этих регионов в глобальной системе… Производственные отношения развиваются в масштабах системы, в масштабах эйкумены… единство формации обуславливается не сходством форм и процессов в различных регионах, а их единством, основанном на разнообразии»79. Столь привычная нам «качественная определенность капитализма проявляется первоначально в отдельных странах, но при этом остается результатом мировых процессов. … При этом качественная определенность капитализма на периферии может парадоксальным образом выглядеть как феодальная реакция или возрождение докапиталистических отношений, например, рабства или крепостничества, которые по форме совсем не напоминают “классический капитализм”. Но если бы наука всегда ограничивалась “чистой формой”, кит и дельфин до сих пор считались бы рыбами. … “Второе издание крепостного права” в Центральной и Восточной Европе и плантационное рабство в Америке возникли в процессе именно капиталистического, а не какого-нибудь иного развития, и именно потому, что в Западной Европе мануфактурный капитализм принял свою классическую форму. Эта последняя так же не могла существовать без периферийных “докапиталистических” форм, как и они без нее»80.
Становление капиталистических общественно-экономических отношений самым существенным образом изменило основные характеристики всех общественных явлений как в странах «метрополии», так и в «зависимых», прежде всего тех явлений, которые связаны с характером удовлетворения потребностей членов основных производственных классов этой формации.
Три этапа, три общественно-экономических формации классового общества, равно основывающихся на частной собственности на средства производства, различаются по характеру противостояния классов (и, следовательно, по модификации частной собственности). Если на первом этапе (рабовладельческий строй), особенно вначале, противостояние идет на уровне классов как объединенных производственных групп, то по мере роста производительности труда угнетенных и изменения структурной организации угнетателей оно все больше заменяется индивидуальным их противостоянием, достигая кульминации при позднем феодализме. Капитализм, как третий этап, опять меняет положение. Личные владение, распоряжение и пользование средствами производства здесь не только остаются, но даже укрепляются, приобретая завершенную индивидуальную форму, однако они уже противостоят коллективному характеру применения рабочей силы. Во всех трех случаях господствующий класс, кроме того, осуществляет еще организацию насильственного подавления эксплуатируемых – политическую власть (государственная машина), где он всегда выступает как единое целое по отношению к своему классу-антагонисту. При этом государство в ряде случаев от имени господствующего класса может выступать и как собственник условий применения рабочей силы – полностью или частично.
Итак, буржуазное общество на своей собственной основе проходит определенный путь развития. Сначала это в основном конгломерат лично свободных товаропроизводителей (мелкобуржуазное общество). Следующий этап – классический «рыночный» и «демократический» капитализм. В это время свободно, в идеале без какого-либо внешнего регулирования вступают в договорные отношения владелец капитала и владелец рабочей силы. И, наконец, наступает время монополий, время господства финансового капитала, высшая стадия капитализма – империализм, который также сохраняет основные черты капитализма, но отличается рядом существенных особенностей. С одной стороны, капитализм, оставаясь все в тех же формационных рамках, переходит в свою высшую фазу – империализм, с точки зрения основных характеристик капитализма представляющий его загнивание. С другой стороны, в это время развитие капитализма приводит еще и к другому явлению – социалистическим революциям, кладущим начало новому направлению в развитии человечества.
3.6. Капитализм и социалистические революции
Оставаясь внутренне единым, базирующимся на единой основе – существовании свободных товаровладельцев, буржуазное общество прошло длительный путь развития. Считается, что «в своем чистом виде процесс развития капитализма действительно начался … с режима мелких, раздробленных товаропроизводителей и их индивидуальной трудовой собственности»1. Маркс подробнейшим образом проследил два этапа развития данного общественного строя. Он показал, что неизбежно с ростом производительных сил происходит преобразование общества мелких товаропроизводителей в другое, в такое, где средства производства отделяются от работника (происходит «так называемое первичное накопление капитала»), где владелец материальных условий производства на рынке противостоит владельцу рабочей силы, лишенному средств производства. Маркс считал, что этой экспроприацией мелких товаропроизводителей обобществление средств производства достигает уровня, при котором частнокапиталистическая форма приходит в противоречие с общественным содержанием производства; отжившая оболочка взрывается и форма приводится в соответствие с содержанием. Но, как оказалось, развитие буржуазного общества на этом не закончилось. Оно показало, что своеобразная «экспроприация экспроприаторов», дальнейшее обобществление производства может идти в рамках все той же общественно-экономической формации, без ликвидации частной собственности. Еще при жизни Маркса «дальнейшая экспроприация частной собственности приобретает новую форму. Теперь экспроприации подлежит уже не работник, сам ведущий самостоятельное хозяйство, а капиталист, эксплуатирующий многих рабочих … Один капиталист побивает многих капиталистов»2. Но только гораздо позже, в начале XX века начинается расцвет монополистического капитализма, характеризующийся экономическим господством финансовой олигархии, входящего тем самым в высшую стадию своего развития – империализм. Анализ начальных ступеней этого этапа развития буржуазного общества достался на долю Ленину. Это третий, завершающий этап развития общества на той же базе, – частной собственности на средства производства и личной свободе наемного работника, – доводящий тенденции развития капитализма до предела. Дальше теоретически мыслим только переход общества в новое качество, к новому общественному строю. Но это – в рамках формальной диалектики Гегеля. Объективная диалектика оказалась другой.
Во-первых, выполняя новые исторические задачи, капитализм сам по себе развивался по той же схеме, что и другие классовые общественно-экономические формации. Он последовательно проходил естественные этапы своего развития до тех пор, пока полностью не исчерпал всех заложенных в нем возможностей, после чего столь же естественно, как и другие формации, стал перед перспективой загнивания, что вообще означает господство социальной группы, полностью выполнившей свою историческую роль в развитии общества. Конкретно в данном случае это означает усиление олигархических тенденций в политической сфере. Но есть и одно весьма существенное отличие данного строя от остальных общественно-экономических формаций. Если, скажем, судьба той или иной (пусть очень даже крупной) рабовладельческой «цивилизации» имела сугубо локальное значение, так как рабовладельческий строй находился еще у самого начала всемирного интеграционного процесса, то судьба капитализма, находящегося на завершающем этапе данного процесса, имеет принципиально международное, глобальное, общечеловеческое значение. А поскольку капитализм обеспечил себе монополию во всемирном масштабе, то, «как всякая монополия, она порождает неизбежно стремление к застою и загниванию»3. При этом перед угрозой загнивания, перед угрозой господства олигархии оказалась не просто очередная «цивилизация», но все человечество. Столь глобальной угрозы человечеству в его истории еще не было. Однако такой, закономерный на данной общественно-экономической базе, путь развития был прерван Великой Октябрьской социалистической революцией. Революция эта, знаменующая зарождение новой «цивилизации», так же как процессы генезиса других цивилизаций, произошла не в «большинстве промышленно развитых стран» буржуазной «западной цивилизации», как на методологической основе гегелевской теории развития предполагали классики марксизма, а в другой части мира, которая, однако, оказалась наиболее готовой к такому развитию событий.
Таким образом, во-вторых, история «цивилизаций» не завершилась «цивилизацией» буржуазной. Когда миновала первая эйфория, связанная с преодолением в основном остатков предыдущей ступени общественного развития, а новая экономическая и политическая реальность обнажили язвы уже явно своего собственного происхождения, в западной буржуазной «цивилизации» начинают зарождаться новые идеологические течения как провозвестники следующей «цивилизации» – социалистической. В качестве своей высшей формы, впервые базирующейся не просто на мечтах о лучшей жизни, а на материалистическом естественноисторическом анализе процессов общественного развития, они порождают марксизм, которому суждено было стать идеологическим стержнем нового общества. Но это новое общество («социалистическая цивилизация») опять же, как и во всех остальных случаях, не могло стать просто продолжением развития предыдущего («буржуазной цивилизации») – даже путем ее качественного изменения, так же как не могло и возникнуть без и помимо него.
Понятно, что классики марксизма, изучая общественное развитие, учитывали наличие в мире различных общественных образований и неравномерность для них процессов развития. Но, тем не менее, само это развитие представлялось в виде единого поступательного движения под воздействием внутренних противоречий, т.е. как самодвижение данного, хотя и неопределенного по составу, объекта. В результате, образно говоря, человечество (общество) оказывалось чем-то вроде команды велосипедистов, двигающихся вперед по одному и тому же пути пусть и не с одинаковой скоростью, но совместно, в том числе и со сменой лидирующей группы в команде.
Но в том-то и дело, что общество как некоторая определенная (пусть и относительная) целостность – только потенциальный результат его развития, как раз и представляющего по своей сути процесс формирования этой целостности. Как мы видели, уже начиная с распада первобытнообщинного строя изменения не происходили вне взаимодействия различных общественных образований. В то же время в целом общественное развитие еще не представляло в полном смысле общечеловеческого процесса. Первый целостный объект, который конкретно можно было представить как общество (как общественный организм), исчез с разложением первобытного племени, второй же – объединенное человечество – может возникнуть (на этапе коммунизма) только как результат всего предшествующего процесса общественного развития («предыстории» человечества). А потому само это развитие на протяжении всей известной нам истории шло во взаимодействии различных общественных образований («цивилизаций»), принадлежащих и не принадлежащих к единому (существующему и не существующему) целому, находящихся на одинаковых или различных уровнях развития.
Следует также отметить определенный евроцентризм рассматриваемого представления, который имел основания не только в научных традициях того времени, но и фактические, поскольку в Европе как некотором целом в свое время обнаруживались и первобытнообщинный, и рабовладельческий строй, и феодализм, и капитализм; к тому же Западная Европа в то время существенно вырвалась вперед практически во всех областях общественного развития, как бы сосредоточивая в себе и общественные противоречия, и возможности их разрешения. Действительно, если скачок в общественном развитии – результат его определенного уровня (прежде всего, производительных сил) в данном общественном образовании, то и ожидать его следовало именно в том месте, где этот уровень наивысший, другими словами все в той же Западной Европе. Что касается остального мира, то «раз только реорганизована Европа и Северная Америка, это даст такую колоссальную силу и такой пример, что полуцивилизованные страны сами собой потянутся за нами; об этом позаботятся одни уже экономические потребности»4. При этом понятно, что вследствие все усиливающихся интеграционных процессов первоначальные революционные преобразования ожидались во всех промышленно развитых странах (или, по крайней мере, в большинстве их).
В действительности социальные процессы в мире пошли иначе – новый строй победил совсем в другом месте. Вообще положение о том, что новый общественно-экономический строй появляется именно там, где развитие предшествующего достигло наивысшего уровня, строго соответствующее гегелевской диалектике, подтверждения в истории никогда не находило. Безусловно, определенный уровень развития всегда был необходимым для социального скачка. Но столь же неизменно жизнеспособными оказывались исключительно «боковые побеги» предшествующей «цивилизации», развивающиеся в новую «цивилизацию» с другим социально-экономическим строем.
Еще раз напомним, что рабовладельческий строй в Западной Римской империи был заменен феодализмом первоначально вовсе не в высокоразвитой метрополии, где для этого, в соответствии с теорией саморазвития, давно созрели условия, а на ее отсталой окраине. Причем введение нового строя сопровождалось настолько существенным снижением уровня производительных сил, что даже для его восстановления понадобилось много сотен лет. Равно как и буржуазная революция (не первая, но в известном смысле открывшая эпоху капитализма), произошла вовсе не в передовой стране классического феодализма – Франции, но в социально, а первоначально и экономически более отсталой Англии, где, что еще существеннее, предыдущий строй – феодализм – к тому же существовал в сравнительно неразвитой форме. Что касается уровня развития, то, как мы видели, со становлением капитализма в результате первоначального накопления капитала происходило массовое обнищание по сравнению с последней стадией феодализма, и соответственно «уровень жизни народа в Европе XV в. был … значительно выше, чем в последующие два-три столетия»5. Вообще конкретный «исторический анализ показывает, что новая общественная формация никогда не возникала в странах наибольшего развития предшествующей формации»6. Так что важнейшие факты никак не укладываются в теоретическую схему. Приходится думать, что это вовсе не исключения, а достаточно явственно просматривающаяся закономерность, и что, следовательно, сама методология анализа социального скачка, обеспечивавшая научность и адекватность этого анализа на определенном уровне развития общесоциологической теории, в настоящее время нуждается в весьма существенных уточнениях и коррективах.
Тем не менее именно на эту концепцию опирались марксисты-революционеры, в том числе и те, кто совершил Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Это уже задним числом была придумана для объяснения данного конкретного хода событий, не соответствовавшего предварительным соображениям, и только на эти же конкретные события рассчитанная теория «слабого звена» (типичная теория ad hoc). А вот готовили и совершали революционеры-ленинцы эту революцию только и исключительно как часть (свою часть – по Ленину «узконациональную») революции всемирной. Ленин впоследствии так и говорил: «мы и начали наше дело исключительно в расчете на мировую революцию»7.
Это вообще хорошо видно по работам Ленина. В канун революции летом 1917 года с целью обеспечить теоретическую базу для предстоящих преобразований он пишет работу «Государство и революция». Нет, он не муссирует в ней без конца тезис о всемирном характере предстоящей революции – зачем было снова толковать о том, что ни у одного марксиста тогда и тени сомнения не вызывало. Но сегодня хоть сколько-нибудь вдумчивому читателю (уверовавшему в теорию «слабого звена») не может не показаться странным, что в работе, посвященной функциям нового, созданного революцией государства, ни слова не говорится о его внешних функциях – и это в то время, когда в мире полыхает империалистическая война! Известно, какое значение Ленин придавал аграрной политике партии, действующей в преимущественно крестьянской стране, – и он в этой своей работе практически не затрагивает вопрос о крестьянстве. Можно привести и другие примеры такого рода. Но все это не только перестает быть странным, а становится совершенно естественным, если вспомнить об ожидаемом мировом характере предстоящей социалистической революции (в которой революции в России предназначалось весьма важное, но отнюдь не первостепенное место). При мировой революции указанные вопросы автоматически теряли свою исключительную значимость для нее как целого, зато ее приобретали другие вопросы, которым вполне закономерно Ленин и отдавал предпочтение.
Надежда на всемирный характер была не только до революции, но оставалось еще длительное время и после ее свершения. Даже весной 1918 года Ленин считал российских революционеров всего лишь социалистическим отрядом, «отколовшимся в силу событий от рядов социалистической армии», который вынужден «переждать, пока социалистическая революция в других странах прийдет на помощь»8. И дело было здесь не только в том, что «окончательно победить можно только в мировом масштабе и только совместными усилиями рабочих всех стран»9, но и в судьбе самой российской революции: нужно было «удержаться до тех пор, пока мы не встретим мощную поддержку со стороны восставших рабочих других стран»10, ибо «абсолютная истина, что без немецкой революции мы погибли… во всяком случае при всех возможных мыслимых перипетиях, если немецкая революция не наступит, – мы погибнем»11.
Да, учитывая возрастающую неравномерность развития капитализма, Ленин еще до революции допускал, что она может начаться в одной стране, которая в этом развитии вырвалась вперед и раньше других созрела для преобразований, что «возможна победа социализма первоначально в немногих и даже в одной, отдельно взятой, капиталистической стране»12, но что тут же потребуется борьба «социалистических республик с отсталыми (!) государствами»13. Так что даже трудно определить, результатом недоразумения или сознательного искажения ленинских мыслей являются не такие уж редкие утверждения, что из «ленинского учения о неравномерном развитии при империализме … следует, что революция может произойти только в некоторых относительно или средне или слабо развитых странах”14. На самом же деле, как мы видим, принцип у Ленина тот же, что и у Маркса и Энгельса: вероятность революции в стране возрастает с уровнем ее развития, и ни на какое «слабое звено» в то время и намека не было.
Независимо от общих соображений, усматривались вполне конкретные причины того, что социалистическая революция не произошла там, где предполагалось, т.е. в большинстве передовых капиталистических стран, или хотя бы в одной из них. Выражая достаточно распространенное мнение, Троцкий не сомневался, что победе пролетарской революции в Германии «помешала только и исключительно социал-демократия»15. Однако вопрос, почему социал-демократия «помешала» революции в Европе, зачем ей было «спасать буржуазию», он даже не ставил, ибо ответ ему известен уже давно: потому, что социал-демократия предает интересы рабочих. Но зачем же ей их предавать? Ведь такое “предательство” совершенно не соответствовало интересам самой социал-демократии: преимущества от возможного (а по Троцкому и несомненного) завоевания власти перекрывали любой «подкуп» (в чем бы он не выражался) со стороны буржуазии.
В том-то и дело, что социал-демократия империалистических стран вовсе не предавала, как не предает и сейчас, интересы своих рабочих, наоборот, она их довольно точно отражает, поскольку объективно эти интересы заключаются не в том, чтобы свергнуть буржуазию, тем самым лишив свои страны положения империалистических со всеми вытекающими из него, в том числе и для самих рабочих, выгодами, а в том, чтобы оттягать у буржуазии кусок пирога побольше16. Но ведь именно такую задачу социал-демократия этих стран и рассматривает как главную. Где же тут «предательство интересов»?17 Однако все же расчет на Германию вовсе не был столь уж неосновательным. По ряду причин она в то время в определенном смысле отставала от других стран Западной Европы и была ими «обделена» при разделе мира, в результате чего имела гораздо меньшие возможности «подкупа». Но Германия тем не менее относилась к «западной цивилизации», и даже немецкие рабочие в конечном счете предпочли революционному свержению своей буржуазии войну вместе с ней за «английское наследство».
А Троцкий в противоположность действительному положению вещей (в несомненности которого мы благодаря последующим событиям имели возможность убедиться) утверждал, что «у трудящихся нет ни малейшего интереса защищать нынешние границы, особенно в Европе, – ни под командой своей буржуазии, ни, тем менее, в революционном восстании против нее»18. Очень даже есть интерес, причем самый прямой! Догма «всемирной революции» в «передовых странах», за которую он держится с упорством, достойным лучшего применения, становится причиной того, что коммунисту Льву Троцкому даже в 1936 году непонятно то, что, например, еще в 1920 году прекрасно понимал социал-демократ Бертран Рассел, который писал: «Можно вообразить большевизацию Англии в результате неудачной войны, повлекшей потерю Индии, – последнее не кажется очень неправдоподобным в последующие несколько лет. Но сейчас простой рабочий в Англии не будет рисковать тем, что он имеет, ради сомнительного приобретения в случае успеха революции»19. «Большевизация» только в случае «потери Индии» – можно ли выразиться яснее?
Ну, что ж, у Англии в этом отношении был огромный опыт. Еще значительно раньше, в 1858 году, Энгельс пишет Марксу, что «английский пролетариат фактически все более и более обуржуазивается, так что эта самая буржуазная из всех наций хочет, повидимому, довести дело в конце концов до того, чтобы иметь буржуазную аристократию и буржуазный пролетариат рядом с буржуазией. Разумеется, со стороны такой нации, которая эксплуатирует весь мир, это до известной степени правомерно»20. Именно в эксплуатации «всего мира» и состоит суть дела! Ленин цитирует слова Сесиля Родса, сказанные в 1898 году: «Моя заветная идея есть решение социального вопроса, именно: чтобы спасти сорок миллионов жителей Соединенного Королевства от убийственной гражданской войны, мы, колониальные политики, должны завладеть новыми землями для помещения избытка населения, для приобретения новых областей сбыта товаров, производимых на фабриках и в рудниках. Империя, я всегда говорил это, есть вопрос желудка. Если вы не хотите гражданской войны, вы должны стать империалистами»21. В этих высказываниях отразилась вся суть новой «цивилизации» – «цивилизации» капиталистической, подходящей к высшей стадии своего развития. Недаром О.Шпенглер писал: «в Сесиле Родсе я вижу первого человека новой эпохи»22. И не только прямой грабеж, но и вывоз капитала, по мнению Ленина, «налагает отпечаток паразитизма на всю страну, живущую эксплуатацией труда нескольких заокеанских стран и колоний»23. Капитализм всегда эксплуатировал «внешний мир» и без этой эксплуатации, как мы видели, вообще не могло произойти его становление как особой общественно-экономической формации, с самого начала органично включающей не только страны метрополии («ядро»), но и колониальные страны («периферию»). Однако столь же нещадно он эксплуатировал и собственное трудовое население, вызывая его соответствующую реакцию. И только тогда, когда эксплуатация «нескольких заокеанских стран и колоний» окончательно «накладывает отпечаток паразитизма на всю страну», положение коренным образом меняется. Теперь вместо того, чтобы свергать буржуа, «рабочие преспокойно пользуются вместе с ними колониальной монополией»24.
Имея «дополнительные доходы» от эксплуатации зависимых стран, «империализм … создает экономическую возможность подкупа верхних прослоек пролетариата, и тем питает, оформляет, укрепляет оппортунизм»25. Это порождает «временное загнивание рабочего движения»26. Но почему же «временное», коль скоро источник финансирования подкупа не иссякает, а наоборот, наполняется: «Народный доход Англии приблизительно удвоился с 1865 по 1898 г., а доход от “заграницы” за это время возрос в девять раз»27. Причину такого своего оптимизма Ленин поясняет тем, что «раздел мира доведен до конца; а, с другой стороны, вместо безраздельной монополии Англии мы видим борьбу за участие в монополии между небольшим числом империалистических держав, характеризующую все начало ХХ века. Оппортунизм не может теперь оказаться полным победителем в рабочем движении одной из стран на длинный ряд десятилетий, как победил оппортунизм в Англии во второй половине ХІХ столетия»28.
Другими словами, предполагалось, что теперь-то империализм уже не будет иметь достаточной «экономической возможности подкупа верхних прослоек пролетариата», а если и будет, то, по крайней мере, не во всех «промышленно развитых странах». Как показал исторический опыт, эти надежды не оправдались, не оправдались уже хотя бы потому, что империалистическая система все больше приобретает черты «ультраимпериализма». Сколь бы не стремились отдельные империалистические страны каждая для себя получить кусок пожирнее, объективно только их совместные действия могут обеспечить им неоколониальные сверхприбыли. «Теперь западные страны … покоряют планету не поодиночке, а совместно. Теперь они стремятся покорить все человечество и организовать его так, чтобы они могли удерживать свою мировую гегемонию за собой навечно и чтобы могли эксплуатировать всю планету в своих интересах наивыгоднейшим для себя образом»29. Так что теперь не Англия, а «западная цивилизация» в целом (ныне «золотой миллиард») эксплуатирует «весь мир». Соответственно и «подкуп» приобрел всеобщий и универсальный характер, далеко выходя за пределы «верхних прослоек пролетариата». Оппортунизм «оказался полным победителем», и вовсе не «в одной из стран», а в масштабе всего империалистического лагеря. И, говоря словами Энгельса, «это до известной степени правомерно»: пока есть кого грабить вместе со своей буржуазией, рабочему империалистической страны вовсе незачем ее свергать, нужно только принудить поделиться награбленным. А это уже совсем иной подход к делу.
Рассел в начале двадцатых годов еще не мог знать, что даже «потеря Индии» ситуации не изменит, поскольку неоколониальные механизмы грабежа еще эффективнее, чем колониальные. Поэтому возможность социалистической революции в Европе или Америке уже давно полностью исключена: их «обуржуазившийся пролетариат» сегодня действительно стоит не против, а «рядом с буржуазией». В империалистических странах сейчас просто нет социальных слоев, выступающих естественными союзниками социализма. Если «не менее 40% зарплат американца и западного европейца заработаны не ими, а туземцами, и равны они 3-4 туземным зарплатам туземного пролетария»30 (т.е. рабочего в странах «третьего мира»), то зачем же им социалистическая революция – чтобы лишиться существенной части дохода? А ведь поскольку «освобождающийся пролетариат не может вести колониальных войн, то с этим придется примириться»31. Как показывает опыт, в «цивилизованных странах» желающих «примириться» с такого рода утратами что-то не видать…32
Такое реальное положение нужно принять как данность, хотя тем, кто воспитан на идее всеобщего пролетарского интернационализма, это и нелегко. Вспомним, каким шоком оказалось для советских людей в свое время то, что немецкие рабочие, «одурманенные фашистской пропагандой», без зазрения совести стреляли в советских! Делали же они это вовсе не из-за какой-нибудь там «арийской» идеи, а под влиянием чисто прагматических интересов. Не даром секретная инструкция гитлеровского командования требовала «воспитывать у каждого офицера и солдата германской армии чувства личной материальной заинтересованности в войне»33. Так что не в «одурманивании» было дело, а в том, что немецким рабочим национал-социалистская партия просто пообещала тот самый «социализм за чужой счет», который сейчас столь успешно реализуется в «цивилизованных странах» «золотого миллиарда» (правда, уже не сепаратно на «тоталитарной» националистической основе, как это собиралась сделать обиженная собратьями по «западной цивилизации» Германия, а совместно и «демократически» в масштабе всего «свободного мира»). Проблема социалистических преобразований в нынешних империалистических странах станет актуальной только тогда, когда они лишатся возможности грабежа и эксплуатации всего остального мира, и рабочим в этих странах, как и во времена Маркса, придется полной мерой отдавать капиталистам прибавочную стоимость со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но до этого еще ох как далеко!
Таким образом, социалистическая революция в нашей стране вовсе не была просто «подготовкой революции на Западе». Неизбежная социалистическая революция вообще не могла произойти в империалистических странах (тем более «в большинстве»). К сожалению, специфические условия своего времени не позволили Марксу и Энгельсу, впервые создающим научную теорию развития общества, этого увидеть. Но такое положение – обычное явление в истории науки. Как правило, в переломные моменты возникновения новых фундаментальных научных взглядов наличное состояние объема знаний далеко не всегда позволяет делать научные выводы в виде всеобъемлющих логических построений. Поэтому в науке исключительно большую роль играет интуиция, основывающаяся на подсознательной переработке по диалектическим законам накопленной информации. Благодаря ей не так уж редко из неверных посылок делаются верные выводы, имеющие фундаментальное значение и в тех случаях, когда применение формально-логических операций дало бы отрицательные результаты. Так, например, в 1905 году, когда были выявлены примеры недифференцируемых непрерывных функций, математик Эмиль Пинар писал: «…Если бы Ньютон и Лейбниц знали, что непрерывные функции не обязательно должны иметь производные, то дифференциальное исчисление никогда не было бы создано». Приводя в своей книге это высказывание, М.Клайн справедливо замечает: «Строгое мышление может стать препятствием для творческого начала»34. Точно так же если бы Маркс и Энгельс могли тогда знать, что ожидаемой ими коммунистической революции в промышленно развитых капиталистических странах не произойдет не только в ближайшее время, но и в последующие полтораста лет (более того, что сама по себе она в них вообще невозможна), трудно сказать, смогли бы ли они создать свою материалистическую теорию общественного развития – одно из высочайших достижений человеческого научного гения.
То, что социалистическая революция произошла формально как бы в одной, да еще отсталой стране, дало основания ревнителям «чистоты марксизма» отрицать ее социалистический характер. Наиболее последовательно эта точка зрения развита Л.Д.Троцким в ряде своих работ, в частности, в цитировавшейся выше книге «Преданная революция». В ней как раз и изложены его наиболее важные соображения на этот счет, впоследствии в основном повторявшиеся эпигонами. Вся эта работа Троцкого подтверждает его же положение, что «логические доводы бессильны там, где дело идет об интересах»35. А поскольку теорию «социализма в одной стране» Троцкий называет «карикатурной»36, то и тот строй, который имел место в нашей стране, признать социализмом он не считал возможным, разве что только переходным периодом между капитализмом и социализмом, причем опять же прежде всего в мировом масштабе: «То, что мы строим социализм, есть факт. Но не меньшим, а большим фактом, поскольку целое вообще больше части, является подготовка европейской и мировой революции. Часть может победить только совместно с целым…»37. И влить в нас силы может только революция в передовой стране: «Первая же победа революции в Европе пройдет электризующим током через советские массы, выправит их, поднимет дух независимости, пробудит традиции 1905 и 1917 годов, подорвет позиции бонапартистской бюрократии… Только на этом пути первое рабочее государство будет спасено для социалистического будущего»38. Но как раз этой-то вожделенной «революции в Европе» нет как нет. «Послевоенный революционный кризис не привел, однако, к победе социализма в Европе: социал-демократия спасла буржуазию. Тот период, который Ленину и его соратникам казался короткой “передышкой”, растянулся на целую историческую эпоху»39. Да уж, «растянулся»: что бы сказал Троцкий, если бы знал, что и после второй мировой войны ожидаемая им «революция в Европе» не произойдет…
Исповедуя все тот же принцип «линейного прогресса», социалистическую революцию Троцкий вообще практически напрямую выводит из развития техники, но при этом опирается все на ту же теорию «слабого звена», в котором как раз техника-то и отставала, причем весьма существенно: «Закон неравномерности привел к тому, что противоречие между техникой и имущественными отношениями капитализма разорвало самое слабое звено мировой цепи. Отсталый русский капитализм первым поплатился за несостоятельность мирового капитализма. Закон неравномерного развития дополняется, на всем протяжении истории, законом комбинированного развития. Крушение буржуазии в России привело к пролетарской диктатуре, т.е. к скачку отсталой страны вперед по сравнению с передовыми странами. Однако установление социалистических форм собственности в отсталой стране натолкнулось на недостаточный уровень техники и культуры. Родившись сама из противоречия между высокими мировыми производительными силами и капиталистической собственностью, Октябрьская революция породила, в свою очередь, противоречие между низкими национальными производительными силами и социалистической собственностью»40.
Каким же это образом социалистическая революция в конкретной отдельной стране «родилась из противоречия между высокими мировыми (!) производительными силами и капиталистической собственностью» (мировой? или в данной стране?)? Классики марксизма следствие неравномерности развития понимали несколько иначе, считая, что «призыв к уничтожению классовых различий … завоевывает одну страну за другой, причем в той последовательности, с которой в отдельных странах развивается крупная промышленность, и с той самой (!) интенсивностью, с которой происходит это развитие»41. Тут все понятно: развиваются материальные условия, соответственно развиваются и остальные предпосылки социалистической революции. А у Троцкого? Если не принимать в расчет туманный намек на некий «закон комбинированного развития», то совершенно непонятно, каким это образом высокий уровень развития «техники» в «передовых странах» привел к кризису «имущественные отношения» в России? «Передовые страны» страдают от «противоречий между высокими производительными силами» и «капиталистической собственностью», а скачок происходит в отсталой России, где (если сравнивать с Западом) и не очень-то высокие производительные силы, и капиталистической собственности не густо. Да и само по себе образное выражение о разрыве «самого слабого звена мировой цепи» если означает что-нибудь рациональное, то только то, что разорванная цепь – уже не цепь. А со временем оказалось, что «цепь» даже с «разорванным звеном» все так же опутывает почти весь мир. И это не следствие «исторической заминки», а естественный и необходимый результат развития империализма. Но что касается здесь мимоходом упомянутого Троцким (более подробно развитого им раньше) «закона комбинированного развития», то тут, безусловно, есть рациональное зерно, и уровень и характер развития «передовых стран» несомненно имел исключительно важное, хотя и несколько иное, чем полагал Троцкий, значение для социалистической революции в России.
Непосредственной причиной социалистической революции, как и революций буржуазных, явилось нарастание противоречий внутри общества, в котором вследствие активного стремления стран буржуазной «западной цивилизации» превратить другие «цивилизации» в свою периферию, начали довольно быстро развиваться буржуазные производственные отношения «зависимого» типа при сохранении рудиментов феодализма (прежде всего, в политической области, но отнюдь не только в ней). Россия, проходя свой собственный «цивилизационный» путь развития, не могла просто повторить путь развития западных стран. В результате возникающие противоречия оказались существенно отличными, и они не могли разрешиться аналогичным образом, т.е. посредством буржуазной революции. Но Россия не была и чем-то изолированным от остального мира, а стало быть социальные процессы в ней испытывали самое существенное влияние того, что происходило в остальном мире, в том числе и в идеологическом плане.
А в ряде передовых промышленно развитых стран буржуазные революции произошли уже достаточно давно. Чтобы назревшие преобразования могли вылиться в них в массовые революционные действия, необходимо было, чтобы объективные требования преобразований прошли «через головы» будущих участников революционных событий, т.е. воплотились в определенных идеологических установках. Причем буржуазные революции двигались не только сознанием несправедливости существующего положения (являющимся субъективным отражением назревших социальных противоречий), но и положительными идеалами утверждающегося прогрессивного класса – буржуазии, идеалами, которые воспринимались как общечеловеческие. Однако со временем развитие капитализма показало, что провозглашенная этой идеологией свобода – это свобода для имущих, что равенство сугубо формально и не имеет ничего общего с реальной жизнью, что «священная собственность» – это собственность буржуазная, обеспечивающая возможность меньшинству эксплуатировать большинство.
В результате к концу ХІХ – началу ХХ века буржуазные идеалы полностью проявили свою буржуазную сущность и в качестве таковых потеряли былую привлекательность как для наиболее активных сторонников революционных преобразований, так и для широких масс. Должны были появиться новые идеалы, и они появились. «Когда было свергнуто крепостничество и на свет божий явилось “свободное” капиталистическое общество, – сразу же обнаружилось, что эта свобода означает новую систему угнетения и эксплуатации трудящихся. Различные социалистические учения немедленно стали возникать, как отражение этого гнета и протест против него»42. Таким образом, проявление негативных тенденций, имманентных буржуазному обществу, вело к появлению и развитию внутри «западной цивилизации» социалистической идеологии. Высшим ее научным выражением явился марксизм.
Благодаря все большей глобализации социально-экономических процессов в мире соответствующие идеологические течения, хотя были следствием и отражением общественных процессов именно в буржуазной «западной цивилизации», распространялись гораздо шире тех регионов, социальные условия в которых приводили к их возникновению и развитию, в том числе и на Россию. Вскоре после революции в России А.Грамши писал: «Социалистическая пропаганда обогатила российских людей опытом пролетариата других стран. … Именно социалистическая пропаганда выковала волю российских людей. Почему они должны были ждать, пока история Англии повторится в России, пока поднимется буржуазия, начнется классовая борьба, сформируется классовое сознание и катастрофа капиталистического мира в конце концов действительно ударит по ним? Российские люди – или по крайней мере меньшинство россиян – мысленно уже прошли через этот опыт. Он прошел вдали от них. Теперь пролетариат может извлечь из него пользу, чтобы утвердить себя, точно так же он извлечет пользу из опыта западного капитализма, чтобы быстро достичь того же уровня производства, что и в западном мире»43.
Но дело не только в том, что Россия «отстала» от западных капиталистических стран, дело в том, что она оказалась в особом положении. В связи с этим особым положением Росии Маркс отмечал: «Россия – единственная страна в Европе, в которой общинное землевладение сохранилось в широком национальном масштабе, но в то же самое время Россия существует в современной исторической среде, она является современницей более высокой культуры, она связана с мировым рынком, на котором господствует капиталистическое производство»44. Оказалось, что не сам по себе уровень развития капитализма, а специфическое сочетание различных факторов создало условия для социалистической революции в России, в то время как в других странах этих условий не было.
Обычно же на этот вопрос смотрят существенно иначе. Так, например, Э.Ильенков, верно отмечая, что «система идей, именуемая “марксизмом”, – это естественно созревший результат развития традиций “западной культуры”, или, если быть совсем точным, – западноевропейской цивилизации», ошибочно считал, однако, что «Россия … была интегральной частью “западного мира”, и революция 1917 года была вынуждена решать типично “западную” проблему». А имевшие при этом место непредусмотренные «отрицательные явления» были вызваны прежде всего остатками «добуржуазных, докапиталистических форм регламентации жизни», что «как раз препятствовало здесь утверждению подлинных идей Мркса … и приводило в ряде известных случаев к их “искажению”»45. На самом же деле, как мы видели, все происходило «с точностью до наоборот».
Россия была «интегральной частью западного мира» только в том смысле, в каком лошадь является «интегральной частью» рейтара. И соответственно социалистическая революция в России вовсе не была революцией в «отдельно взятой стране» этого западного мира. Она вообще не была революцией в некоей «отдельно взятой стране». Хотя в тот момент, когда произошла революция, Россия по форме действительно являлась всего лишь одним из государств мира, по сути она была чем-то гораздо большим, чем отдельное государство, а именно особой, «незападной» «цивилизацией», отличающейся особыми же, только ей свойственными характеристиками. Поэтому «Россию необходимо рассматривать как отдельную цивилизацию, самостоятельную и самобытную, анализ которой требует особого методологического и понятийного аппарата»46, а именно того, который как раз и предназначен для анализа цивилизаций как определенных социальных организмов.
Тойнби считал Россию «универсальным государством» «православной христианской цивилизации». Действительно, православная церковь сыграла весьма значительную роль в формировании данного социального организма. Но это имело место только до определенного момента, и тогда Россия еще не была цивилизацией в том смысле, в котором она стала ею позже. Как раз существенное изменение роли христианской церкви и дало возможность ей сформироваться в этом качестве. В результате реформ Петра церковь (в отличие от «западной христианской цивилизации») была подчинена государству и православная религия потеряла роль той исключительной основы, на которой могла бы создаваться цивилизация. Но зато это дало возможность в дальнейшем уже на государственнической основе объединить народы с различным вероисповеданием. Значительную роль сыграла относительная идентичность природных условий, благодаря которой «эта географическая целостность (от Китая до западно-европейского полуконтинента – Л.Г.), населенная разноообразными народами с разными хозяйственными навыками, религиями, социальными учреждениями и нравами, тем не менее всеми соседями воспринималась как некий монолит»47.
Прежде всего это касается тюркских народностей. Взаимодействие с ними славян осуществлялось как в виде разнообразных культурных и хозяйственных контактов, так и военных столкновений. И то, и другое приводило к существенному взаимовлиянию. И начались эти процессы отнюдь не с петровских реформ, а еще даже до того, как православная церковь заняла свое господствующее положение на Руси. «Значительная часть истории России заполнена приграничной борьбой между славянами и тюрками. Эта борьба началась со времен основания российского государства более тысячи лет назад. В тысячелетней борьбе славян с восточными соседями – ключ к пониманию не только российской истории, но и российского характера. Чтобы понять нынешние российские реалии, нужно не забывать о тюркской этнической группе, поглощавшей внимание русских на протяжении многих столетий»48.
Что касается идеологического обеспечения, то как и на Западе эту роль изначально также сыграло христианство. Однако характер его общественного влияния был существенно отличным. Вместе с православием Русью была воспринята также характерная для Византии идея главенства централизованного государства, отражавшаяся уже в самом православии как идеологии, закрепленная формой общественного устройства Киевской Руси. Последовавшая феодальная раздробленность по своим негативным результатам действовала «от противного», укрепляя этот аспект религиозной идеологии. Но «имперская» идеология по необходимости предполагает не только подчинение церкви государству, но и веротерпимость, что также со временем сказалось на характере православной церкви и ее роли «идеологической скрепы» российской («евразийской») цивилизации. Во многом аналогичный характер имела ситуация в Византии, однако то, что в условиях окружения враждебными силами, стоящими практически на той же ступени общественно-экономического развития, привело к краху, дало прямо противоположный результат в условиях взаимодействия с восточной «периферией» России. Нечто подобное (но, учитывая рабовладельческий характер общества, с гораздо более выраженным «силовым компонентом») в свое время имело место в Римской империи (где, кстати, первоначально также существовала широкая религиозная терпимость). В России же религиозная терпимость заходила настолько далеко, что даже религиозный раскол, вызванный реформами Петра, стал не общественным катаклизмом (подобно Реформации на Западе), а всего лишь одним, хотя и весьма важным, из общественных явлений того времени. Что же касается государственнической («имперской») идеологии, то она, хотя и включала религиозный момент, вполне устраивала господствующие социальные группы не только православной «метрополии», но и иноверной «периферии», ибо не только никогда не ставила под удар их господствующего положения, но даже обеспечивала его углубление и стабильность, в частности, за счет перехода на более высокий формационный уровень, закрепляя в классовых структурах уже имеющуюся стратификацию.
Так что хотя Россию преимущественно отождествляют со славянским этносом, российская «евразийская цивилизация» не есть цивилизация исключительно славянская. Некоторые историки утверждают, что уже даже древнерусская народность Киевской Руси складывалась как результат взаимодействия восточнославянских племен со степняками тюркского происхождения. Однако главное влияние на формирование данной цивилизации оказала Золотая Орда. Как известно, Л. Гумилев вообще считал влияние Золотой Орды исключительно благотворным для России, ибо оно спасло ее от неизбежной колонизации Западом. Но как бы там ни было, культурное влияние (ряд культурных и идеологических моментов, важные элементы государственной организации, связи с зарубежными странами, веротерпимость – в отличие от свирепой религиозной нетерпимости на Западе – и многое другое) Золотой Орды на русские княжества было огромным. С другой стороны, во времена российской географической экспансии к востоку это влияние было одним из важнейших факторов того, что указанная экспансия не носила характера колониальной. Теперь уже обратное влияние Руси на тюркские (равно как и многие другие) народы приводило к формированию не национального государства и не империи с метрополией и колониями (типа Римской или Британской) в их классическом виде49, а полиэтнического социального организма – цивилизации. Позже Энгельс писал: «Россия действительно играет прогрессивную роль по отношению к Востоку … играет цивилизаторскую роль для Черного и Каспийского морей и Центральной Азии, для башкир и татар»50. Разумеется, эта ее роль была связана не с особым «русским характером», а тем более не с «гуманизмом» русского царизма, а с объективными условиями того времени, имеющими место как в «метрополии», так и в потенциальных «колониях»51. «Поскольку все эти этносы входили в систему единого евразийского суперэтноса, межплеменные столкновения не переходили ни в истребительные, ни в завоевательные войны. Все эти этносы жили натуральным хозяйством, которое всегда тесно связано с природными особенностями вмещающих ландшафтов»52. В этой цивилизации различные (не только славянские и тюркские) народы «связывала не общность быта, нравов, культуры и языка, а общность исторической судьбы: наличие общих врагов и единство политических задач, основной из которых было не погибнуть, а уцелеть… все эти этносы входили в систему единого евразийского суперэтноса»53. Только такой конгломерат славянских и тюркских (как и, повторим, многих других) народов мог в будущем составить ту основу, на которой затем формировалась новая историческая общность – советский народ.
Среди других важных факторов, сыгравших здесь свою роль, прежде всего следует упомянуть отмечавшееся Марксом существование у многих народов России заметных остатков общинных отношений. Их наличие явилось важным моментом, повышающим вероятность социалистических преобразований в России, становления в ней коллективистских производственных отношений. Община и коллектив как по своей сущности, так и по занимаемому ими месту в общественном развитии, являются весьма различными образованиями, ибо первая представляет собой осколок прошлого, а второй – зародыш будущего целостного общественного организма. Поэтому их основные социальные характеристики достаточно существенно различаются. Однако между ними есть то общее, что они оба представляют собой формы частичной агрегации индивидов. Община не может прямо превратиться в коллектив, она должна быть разрушена, но остатки общинных отношений, представлений, вообще общинной социальной психологии самым существенным образом облегчают становление соответствующих коллективистских установлений, что делает более благоприятными условия для социалистической революции в стране, где капитализм еще не развился в той мере, чтобы полностью вытравить из сознания людей общинные начала, заменив их буржуазным индивидуализмом – в этом смысле, опять же говоря словами Маркса, «община является точкой опоры социального возрождения России»54. В частности, в свое время Маркс пророчески предполагал, что у российских крестьян «привычка к артельным отношениям значительно облегчила бы им переход от парцеллярной обработки к обработке коллективной»55.
Таким образом, в России в то время создались условия, при которых назревшие революционные преобразования имели возможность вылиться не в классическую буржуазную революцию, когда новая, прогрессивная буржуазная идеология пробивает путь к политическому господству прогрессивному классу – буржуазии, а в социалистическую: капитализм в ней еще не развился в достаточной степени, чтобы идеологически сковать возможные социалистические преобразования (в частности, не приобрело еще господствующего положения то, что М.Вебер называл «духом капитализма» – индивидуализм и стяжательство), а буржуазные идеалы уже не работали, будучи к тому времени дискредитированными развитием мирового капитализма. Так что в России созрели условия для социалистической революции. Однако выражая взгляды марксистов своего времени, Ленин о российской революции писал: «Все с.-д. убеждены в том, что наша революция по содержанию происходящего общественно-экономического переворота буржуазная. Это значит, что переворот происходит на почве капиталистических отношений, и что результатом переворота неизбежно станет дальнейшее развитие именно этих отношений производства»56. А она, свершившись, менее чем за год почему-то «переросла» в социалистическую57. На самом же деле никаких двух революций не было. Была одна – социалистическая революция со своими этапами, характеризующимися различными задачами и движущими силами, смена которых вызывалась уже самой логикой начавшегося процесса, т.е. политическими, а не экономическими факторами58. Другими словами, и в этом случае становление нового общественного строя осуществлялось по общему (для всех случаев смены общественно-экономических формаций) сценарию, т.е. первоначально там, где еще не развился в достаточной степени предшествующий строй, но под действием (в том числе идеологическим) окружения, где он не только развился, но прошел значительный путь вплоть до превращения из прогрессивного в реакционный.
Социалистическая революция в России, явившаяся результатом взаимодействия того, что в соответствии с представлениями А.Тойнби можно было бы назвать (как мы видели, достаточтно условно) «цивилизациями» «православной христианской» с одной стороны, и «западной» с другой, привела не просто к смене одного общественно-экономического строя другим в одной из стран (а Россия, как было сказано, не будучи классической «империей», являлась тем не менее чем-то значительно большим, чем обычное буржуазное «национальное» государство), но к рождению нового социального организма, новой, социалистической «цивилизации». Именно в этом отношении процесс рождения новой «цивилизации» с новым общественно-экономическим строем в данном случае осуществлялся так же, как и в предшествующих случаях. Однако уровень «скачка» оказался на порядок выше (в том числе и потому, что речь уже не шла о преобразованиях в рамках классовой организации общества, а о выходе за эти рамки). Вообще сами по себе «буржуазные революции» не представляли собой качественного перехода в социально-экономическом смысле: такой переход фактически совершился уже до них, а они только завершили его в политическом аспекте, приведя его в соответствие с произошедшей трансформацией общества. То же самое происходило при так называемых «феодальных революциях». А вот социалистическая революция и по формационным, и по «цивилизационным» признакам явилась именно социальной революцией.
Соответственно особым условиям, вызвавшим социалистическую революцию, имел место и особый характер смены в определенном смысле уже капиталистической (пусть и не в форме классического капитализма, присущего странам капиталистической метрополии) формации социалистической, особый относительно других известных нам процессов смены общественных формаций. Сравнивая социалистическую революцию с буржуазной, Ленин писал: «Одно из основных различий между буржуазной и социалистической революцией состоит в том, что для буржуазной революции, вырастающей из феодализма, в недрах старого строя постепенно создаются новые экономические организации, которые изменяют постепенно все органы феодального общества. Перед буржуазной революцией была только одна задача – смести, отбросить, разрушить все путы прежнего общества. Выполняя эту задачу, всякая буржуазная революция выполняет все, что от нее требуется – она усиливает рост капитализма.
В совершенно ином положении революция социалистическая»59. Другими словами, буржуазная революция включена в процесс развития буржуазного общества конкретного «национального» государства, а социалистическая революция закладывает новые социально-экономи-ческие отношения, давая начало новой, социалистической «цивилизации». Процесс перехода от капитализма к социализму (как мы видели, на самом деле представляющий собой в определенном смысле еще и «прыжок через формацию», т.е. от «зависимого капитализма», сохраняющего многие черты феодализма), как процесс уже не внутри классового обющества, а приводящий в конечном счете к смене классового общества бесклассовым, носит качественно отличный характер.
При этом в недрах индивидуалистического капиталистического (как, впрочем, и позднего феодального) строя ни коим образом не могут зародиться ростки социалистических коллективистских общественно-экономических отношений – их появление жестко связано с коренной сменой отношений собственности (а не только с их модифицированием как при преобразованиях внутри классового общества), которая ввиду этого может произойти исключительно революционным путем. Следовательно, не может и возникнуть социального слоя, уже в силу своего общественно-экономического положения генерирующего действительно социалистическую идеологию. Возникая на базе реальных противоречий классового общества вообще и капитализма в частности, она может быть только плодом научных разработок. Затем социалистическая идеология внедряется в среду рабочего класса, своим общественно-экономическим бытием наиболее подготовленного к ее восприятию. Овладев массами, она становится реальной силой, способной изменить общество. Что, собственно, и произошло.
Как мы уже говорили, то, что капитализм – последний общественный строй в ряду формаций классовой организации общества, последний уклад, опирающийся на частную собственность, существенно усложняло процесс общественно-экономических преобразований, так как делало предстоящий скачок более фундаментальным, имеющим более высокий порядок, чем все, что имело место внутри классовой организации. Связанные с этим трудности перехода настолько велики, что, быть может, только счастливой случайности – появлению на исторической арене ленинского гения – мы обязаны тем, что этот переход произошел вовремя, избавив человечество от участи длительного глобального господства олигархии, всепланетного загнивания как «естественного» хода дальнейшей эволюции капитализма на собственной основе. Всегда хватало, а сейчас появилось еще больше критиков Ленина, возлагающих на него ответственность за негативные общественные процессы, имевшие место в нашей истории, принижающих его роль в истории мировой. В действительности дело обстоит прямо противоположным образом. Роль Ленина в истории пока что еще далеко не оценена по достоинству. Повидимому, только будущие поколения по-настоящему поймут, что в истории человечества еще не было личности такого масштаба, личности, роль которой была бы столь велика для его судеб, поскольку это человек, в критический момент спасший человечество от коллапса.
История не признает сослагательного наклонения – это общеизвестно. И все же то один, то другой исследователь задается мыслью: как пошла бы всемирная история, если бы не победил Октябрь? В начале XX века в развитых капиталистических странах вполне явственно проявились олигархические тенденции. Будущее мира при дальнейшем развитии и укреплении этих, подмеченных им в США, тенденций рисует Джек Лондон в «Железной пяте». И так ли уж фантастичен был нарисованный им мир? Заметим, что фашизма, доведшего эту тенденцию до реального политического воплощения, тогда еще и в помине не было, но не так то много времени прошло до его появления. Оно явилось «естественной» тенденцией развития, ибо «политически империализм есть вообще стремление к насилию и к реакции»60. Уже в конце первой трети нашего века фашизм пришел к власти в Италии и в Германии, вскоре в Испании, близкая по духу идеология господствовала в Японии, мощные профашистские движения существовали в Скандинавии, в странах Южной и Восточной Европы, были они и в Англии, и во Франции. В тех конкретных условиях политически именно фашизм (в различных разновидностях) явился логическим завершением развития империализма – конкретной политической формой его загнивания. На мировое господство фашизма (или какого-либо другого политического воплощения власти «железной пяты» олигархии) внутренней логикой развития капитализма были обречены «западные демократии» (а следовательно, и весь мир). Но этого не произошло – потому, что в мире свершилась социалистическая революция, нарушившая «всемирную монополию» капитализма, создав тем самым возможность дальнейшего развития.
Можно ли считать сколько-нибудь серьезным предположение, что столь значительные социальные изменения на одной шестой поверхности Земли не сказались самым кардинальным образом на всем мировом развитии, не преобразовали его самым существенным образом? Глобальная миссия социализма на начальном этапе объективно именно в том и состояла, чтобы прервать гибельную линию мирового развития, не допустить тупика, и он эту миссию безусловно выполнил. И не только тем, что первая социалистическая страна встала на пути триумфального шествия фашизма, ценой невероятных жертв сломала ему хребет, хотя переоценить значение этого факта невозможно. Еще более важно другое: само существование мощного социалистического государства (а затем и целого «социалистического лагеря»), сам факт наличия в мире нового общественного строя изменил весь ход общественных процессов, в том числе и в капиталистических странах. Существование социализма позволило трудящимся капиталистических стран более успешно добиваться удовлетворения многих своих требований; оно способствовало крушению колониальной системы; оно заставило капиталистические государства перед лицом всеобщей угрозы положению господствующих классов отнести на задний план противоречия между ними, усилив интеграционные тенденции. Что могло бы обусловить эти (и многие другие) процессы, не будь в мире реального социализма?
Влияние социалистической революции сказалось на соотношении борющихся сил в капиталистических странах немедленно. Ответом на возникновение в мире нового общественного строя в них становится буржуазный реформизм. Не случайно, что как раз с 1919 года, когда стало ясно, что революцию не задушить, положение в этих странах начинает существенно меняться: вводится восьмичасовой рабочий день, появляются пособия по безработице, возникает социальное страхование и т. д. (что не мешало в то же время нарастанию реакции там, где для этого были соответствующие условия, приведшей затем к временной победе в ряде стран олигархических тенденций). Конечно, это не значит, что империализм делает такие преобразования добровольно. Социальные завоевания – прежде всего результат борьбы самого рабочего класса, ставшей на порядок более успешной с появлением на планете социализма. С другой стороны, без поддержки рабочего класса промышленно развитых стран вряд ли революция в России достигла бы успеха в условиях «обратного воздействия» (особенно вначале) на нее со стороны империалистических держав.
Что же касается этого «обратного воздействия» – давления на Страну Советов со стороны мирового капитализма, то оно постоянно представляло собой чрезвычайно важный фактор, в огромной мере сказывающийся на характере и темпах ее развития. Вспомним: сначала интервенция, затем блокада двадцатых годов, небезуспешные попытки направить нацистские поиски «жизненного пространства» на восток в тридцатых, надежда на взаимное ослабление двух борющихся сил (до осознания реальной опасности для себя) в сороковых, атомный шантаж и опять фактическая блокада в пятидесятые годы, затем «холодная война» и гонка вооружений – все это реальные факты такого давления, которому Советский Союз вынужден был (сначала вообще в одиночку) противостоять с колоссальной затратой сил и средств. Не учитывать этот фактор в развитии как капитализма, так и социализма, по меньшей мере нелогично.
Те, кто, рассматривая современное общественное развитие, отбрасывают марксистскую теорию, часто сами по сути дела находятся в плену как раз тех застывших догм, которые действительно следовало бы отбросить. Это прежде всего относится к положению об исключительной роли внутренних факторов в развитии. Они рассматривают развитие капиталистических и социалистических стран фактически (ибо на словах все признают всеобщую взаимосвязь) как изолированное, совершенно самостоятельное, практически независимое друг от друга; «третий мир» вообще как бы выносится за скобки и в расчет не принимается. В этих условиях неизменно декларируемое единство мирового процесса приобретает в некотором роде мистический характер. На самом деле развитие обоих «лагерей» было тесно взаимосвязанным и его результаты для обоих в значительной мере определялись этой взаимосвязью. Но никакое взаимодействие не в состоянии изменить сущность данных общественных систем-«цивилизаций».
Как мы видели, фактически вся история общества при его классовой организации, а особенно на этапе капитализма, представляет собой формирование в конечном счете общественных отношений между «атомизированными» индивидами с углублением этой «атомизации» – вплоть до того, что в «обществе свободной конкуренции отдельный человек выступает освобожденным от естественных связей и т.д., которые в прежние исторические эпохи делали его принадлежностью определенного ограниченного человеческого конгломерата»61. Выходя из первобытного племени, представляющего собой целостный организм, где в полной мере «производящий индивидуум выступает несамостоятельным, принадлежащим к более обширному целому»62, общество последовательно проходило ряд этапов, объективно направленных к достижению данной цели. Перед социализмом стоит аналогичная, но обратная задача смены субъектов общественно-экономических отношений, т.е. формирования из «атомизированных» субъектов коллективистских с расширением их по мере развития социализма как общественно-экономической формации до масштаба всего общества. Выполнение этой задачи в конечном счете представляет собой завершающий этап данного цикла развития человечества – переход к коммунизму, когда общество (теперь уже на уровне всего человечества) снова обретет целостность, образуя всеобщий, глобальный сверхорганизм.
3.7. Высшая стадия капитализма – империализм
Породив (в том числе через сформированную ею идеологию) «дочернюю» социалистическую «цивилизацию», капиталистическая «западная цивилизация» вовсе не закончила свой путь развития. Она сохранилась и дальше продолжает движение и как некоторый социальный организм, т.е. как «цивилизация», и как общественно-экономическая формация. Надежды на социалистические преобразования в ней оказались тщетными. Она пошла – оставаясь все так же капиталистической – другим путем развития. Говорят: современный капитализм уже совсем не тот, каким он был во времена Маркса и даже Ленина, он сильно изменился. Капитализм в самом деле сильно изменился, но в определенном смысле скорее по форме, чем по сути. Он и прежде стремился облегчить себе эксплуатацию одних, подкармливая в то же время других. Но если раньше наиболее важные процессы, будучи невозможными без внешних взаимодействий, носили все же преимущественно внутренний характер, то сейчас они окончательно приняли глобальные масштабы.
Со времени образования рабовладельческого общества система эксплуатации связана с разделением на классы в пределах единого структурного образования – государства. При капитализме, когда общественные процессы начали все больше приобретать общечеловеческий характер, социальная дифференциация дополнительно расширилась до глобального масштаба с разделением уже не только социальных групп, но и государств на эксплуатирующие и эксплуатируемые. Конечно, первое (на уровне социальных групп) разделение также сохраняется – вспомним хотя бы теорию «двух третей», согласно которой при капитализме для его успешного функционирования и в «метрополии» треть населения неизбежно должна находиться за чертой бедности. По мере усиления эксплуатации остального мира эта доля падает, что вызывает весьма существенные последствия как для стран капиталистического «ядра», так и для остального мира.
Известный американский социолог И.Валлерстайн эту мысль выражает так: «Если с 1945 по 1990 год для поддержания высокого уровня дохода 10 процентов нашего населения нам приходилось постоянно эксплуатировать других 50 процентов, вообразите, что понадобится для поддержания 90 процентов нашего населения на довольно высоком уровне дохода! Потребуется еще большая эксплуатация, и это наверняка будет эксплуатация народов “третьего мира”»1. Уже давно внутренние противоречия в империалистических странах существенно сглаживаются именно за счет усиления эксплуатации как населения, так и природных богатств стран «третьего мира». И если внутри своих стран капитализм метрополии действительно во многом становится (не по своей воле) «гуманным», то вовне и сейчас он обращен своим «звериным ликом», причем положение постоянно усугубляется.
Будучи изначально явлением, существенно выходящим за пределы тех «цивилизованных» стран, которые собственно и принято называть капиталистическими, уже в начале ХХ века «капитализм перерос во всемирную систему колониального угнетения и финансового удушения горстью “передовых” стран гигантского большинства населения Земли»2. Таким он остается и сейчас. Та небольшая (всего порядка 15%) часть человечества, которая наслаждается сейчас высоким уровнем жизни, заработала это, конечно, собственным длительным и упорным трудом, но далеко не только им одним. Как указывал Маркс, уже первоначальное накопление в значительной степени осуществлялось за счет ограбления колоний, а сегодня это происходит за счет остального человечества, не в последнюю очередь за счет природных ресурсов всей планеты.
Сейчас мы уже знаем, как они ограничены. В так называемых «цивилизованных странах» идет их непропорциональное потребление. Например, Соединенные Штаты, имеющие 5% населения Земли, потребляют четверть вырабатываемой в мире энергии и сорок процентов природных ресурсов (производя пятьдесят процентов отходов). Так что верхом цинизма было бы утверждать, что только леность и тупость остальных мешают им приблизиться к «цивилизованному» уровню потребления. Мир находится на грани экологической катастрофы – пока только на грани. Но если бы – представим себе это – все человечество скачком вышло на тот же уровень потребления (а, стало быть, и производства), что в промышленно развитых странах, жить на планете стало бы попросту невозможно. Но сделать этого вообще нельзя – прежде всего потому, что сам уровень потребления «цивилизованных стран» в значительной мере как раз и базируется на эксплуатации остального мира.
Уже сейчас результаты хозяйствования империализма на планете ужасающи. Огромная часть человечества страдает от недоедания (только в Африке голодает больше 140 миллионов человек, причем число это не снижается, а растет), миллионы людей в мире ежегодно умирают от голода (ежедневно от голода в мире умирает 35 тысяч человек, большинство из них – дети) – а в то же время Европейский Союз в качестве условия вступления в него требовал снижения производства продуктов. И этот процесс имеет тенденцию к углублению и развитию. Упомянутые процессы – не какая-нибудь местная аномалия, они имеют место во всем «третьем мире», в том числе и в достаточно экономически развитых странах (например, во входящей в десятку самых развитых стран мира Бразилии3). По словам видного западного исследователя А.Франка, в Латинской Америке идет «своего рода “африканизация” региона … В наибольшей же мере “пауперизировалось” население одной из самых богатых и перспективных стран – Аргентины … Латинская Америка и карибские страны с населением около 450 млн. человек сократили свою долю в мировом экспорте до 4% в 1970-1980 гг. и до 3% в 1990 г. Это худший показатель, чем у Голландии с 15 млн. жителей … В Латинской Америке … подушевой ВВП и доход снизились до уровня середины 70-х годов (в Африке – до уровня 60-х годов)»4 (т.е. времени обретения «независимости»). Тот же Валлерстайн по этому поводу говорил: «Я думаю, Маркс оказался прав в одном из самых скандальных своих прогнозов, от которого впоследствии открестились сами марксисты. Эволюция капитализма как исторической системы действительно ведет к поляризации и к абсолютному, а не только относительному обнищанию большинства»5.
Грабеж природных ресурсов планеты «цивилизованными странами» идет все возрастающими темпами. Где только возможно, выкачивается нефть, а в результате – повышение энерговооруженности (и, следовательно, уровня жизни) одним, а загрязнение окружающей среды, парниковый эффект и т. п. – для всех; изводятся в невероятном темпе тропические леса – легкие планеты, а в результате прибыль одним (причем тем, кто для сжигания органического топлива потребляет больше кислорода), а задыхаться будем все; кислотные дожди, уменьшение толщины озонового слоя, другие экологические беды касаются всех, а следствием они являются неудержимого развития производства ради неумеренного потребления в «цивилизованных» странах. Причем существенно, что эти беды затрагивают прежде всего как раз менее развитые страны, у которых меньше возможности противостоять их разрушительным следствиям.
Империализм – последняя, высшая стадия развития капиталистической общественно-экономической формации. И в качестве таковой империализм имеет весьма существенные отличия от предыдущих стадий развития данной формации. Но формация все же продолжает оставаться той же капиталистической. Следовательно, и понять характерные черты империализма возможно только если рассматривать их как результат всего развития капиталистической формации, а желательно также с учетом того места, которое она занимает в общем процессе развития классового общества. Только в этом случае каждое явление, характеризующее современный империализм, предстанет перед нами не как нечто случайное, а как закономерный результат общественного развития на данной его ступени.
Разумеется, оставаясь при этом все в тех же формационных рамках (определяемых частной собственностью на средства производства и личной свободой владельцев рабочей силы), капитализм на данной своей стадии в весьма важных «деталях» действительно существенно меняется, в том числе, что наиболее важно, и в характере производственных отношений. Прежде всего это касается механизмов обобществления производства. Несмотря на то, что здесь всегда наличествовали элементы различных механизмов, на предыдущем этапе своего развития капиталистические производственные отношения в основном носили «либеральный» характер, основываясь главным образом на рыночном механизме («laissez faire», свободе торговли). Так это и воспринималось – как в обыденном, так и в теоретическом сознании: «когда Маркс писал свой “Капитал”, свободная конкуренция казалась подавляющему большинству экономистов “законом природы”»6. Несмотря на то, что в пропагандистском плане идея «свободного рынка» все еще продолжает активно эксплуатироваться, в реальности с того времени положение существенно изменилось и продолжает меняться. И меняется оно в направлении ликвидации рыночных отношений как механизма регулирования и обобществления производства с заменой их другим механизмом – олигархическим управлением.
Процесс изменений вызван вполне объективными причинами. Причин таких существует по меньшей мере три, причем их действие совпадает по направлению, что в конечном счет неизбежно приведет к победе нового механизма регулирования и обобществления производства в масштабе всей капиталистической системы. Совпадение действия причин при этом не является случайным, ибо все они вызваны к жизни закономерным развитием капитализма как общественно-экономической формации, вследствие чего они оказываются взаимосвязанными и взаимозависимыми. Причины эти следующие: во-первых, рост транснациональных корпораций, постепенно сосредотачивающих в своих руках все более полное управление как экономическими, так и политическими процессами в капиталистическом мире; во-вторых, растущая поляризация между странами империалистического «ядра» и странами «зависимого капитализма», что необходимо приводит к нарушению рыночных механизмов в экономических отношениях как внутри «ядра», так и в его взаимоотношениях с «периферией»; в-третьих, исчерпание природных ресурсов, изобилие (неограниченность) которых только и могло создать естественную «линейную» среду для автоматического действия рыночного механизма.
Рыночные отношения в экономике капиталистических стран в качестве господствующих в идеальном виде могут существовать только в относительно непрерывной и безграничной («линейной») среде с потенциально неограниченными ресурсами, в которой капитал, а за ним и рабочая сила способны более или менее свободно переливаться в те области, где норма прибыли выше, беспрепятственно вызывая именно там более интенсивный рост производства. Но экономика — не замкнутая система, а ее важнейшая часть — производство — представляет собой связь общества с природой. По мере количественного роста населения и производительных сил, по мере оскудения природных ресурсов на развитие производства все больше накладываются внешние ограничения (вводятся «нелинейности»), приводящие к сбоям «рыночной экономики» и к стремлению тех, кто имеет такую возможность, установить контроль за данными факторами. Свойственные капитализму как способу производства закономерности развития вели и ведут к укрупнению предприятий, к концентрации капитала, которому в результате оказывались тесными рамки «свободной торговли». Вызванный указанными факторами кризис «рыночных отношений» привел к «великой депрессии» начала тридцатых годов, ставшей как бы водоразделом между предыдущим и нынешним этапами развития капитализма.
Результатом реформ в капиталистической экономике, вызванных ее кризисом, отразившемся в «великой депрессии», стал так называемый «регулируемый рынок». Его объявленной целью было стремление внести дополнительные внешние (со стороны государства) коррективы в рыночные механизмы для приспособления последних к требованиям «социальной справедливости». В случае государственного вмешательства в рыночные механизмы, по мнению М.Вебера, по сути дела происходит «вмешательство государственной бюрократии в дела частно-хозяйственной бюрократии» и «тем самым нарушается фундаментальное условие капиталистической экономики вообще – невмешательство государства в сферу хозяйственно-предпринимательской деятельности частных лиц»7. Не желая при этом отказываться от идеи рыночного регулирования, его сторонники нередко приходят к заключению, что «должны использовать его только в качестве первого шага, призванного обеспечить выпуск товаров и услуг, чтобы затем этим выпуском манипулировать, корректировать и перераспределять его любым желательным для нас образом»8.
Один из наиболее последовательных защитников идеи свободного рынка, Ф.Хайек решительно не согласен с таким подходом, поскольку, с его точки зрения, если рыночная конкуренция «рационально оправдана», то только постольку, поскольку «мы не знаем заранее факторов, определяющих действия конкурентов»9, а следовательно, любое внешнее (помимо самого рынка) регулирование экономики приводит к снижению ее эффективности. В этих условиях «сознательное регулирование … всегда вынуждено стремиться поддерживать цены, которые выглядят справедливыми. На практике это означает сохранение традиционной структуры цен и доходов. Экономическая система, где каждый получает то, что он, по мнению других, заслуживает, неизбежно была бы чрезвычайно неэффективной»10. Что же касается «социальной справедливости», то «какое бы значение ни придавали этому понятию философы и социологи, в практике экономической политики оно почти всегда имеет один и только один смысл – защиту определенных групп от неизбежности абсолютного или относительного ухудшения их материального положения, сохранявшегося ими в течение какого-то времени. Но “социальная справедливость” – это не тот принцип, исходя из которого вообще возможно действовать, не разрушая основ рыночного порядка»11. Так что понятно, что «регулируемый рынок» – это вовсе не некое усовершенствование рыночного механизма регулирования экономики, а его постепенная замена другим экономическим механизмом.
В действительности выход из депрессии фактически знаменовал начало перехода регулирующей роли в экономике от классического «рынка», связывающего между собой разрозненных независимых производителей, к уже набравшим силу монополиям — сначала в лице служащего им буржуазного государства (что позже породило в некоторых странах так называемые «консервативные революции»), а затем и непосредственно. «Свободная игра цен», определяемых соотношением спроса и предложения, осталась в прошлом. Гигантские международные корпорации давно поделили рынки сбыта и источники сырья, установили цены. Они-то и «правят бал», а мелкие производители существуют только постольку, поскольку им это разрешают, а вовсе не потому, что нашли нишу наивысшей эффективности. Что малые предприятия не конкурентоспособны по сравнению с крупными — истина неопровержимая. Но власть монополий в современном мире может быть стабильной только при наличии определенной массы мелких собственников, которая и поддерживается буржуазным государством (зачастую просто искусственно), т.е. их существование определяется не экономическими, а политическими причинами. Концентрация капитала продолжается. В США один процент самых богатых людей владеет сорока процентами всех материальных богатств; в 70-х годах, когда там начинала распространяться акционерная система, 1,6 % взрослого населения страны владело 82,4 % размещенных среди публики акций, и теперь сколько-нибудь существенный пакет акций в акционированных предприятиях имеет не более 20 % (причем только 1% имеет 76% акций и 78% других ценных бумаг); в Западной Европе вообще 80 % населения полностью отчуждено от собственности на средства производства — и это несмотря на наличие множества мелких предприятий. Что касается дифференциации в мировых масштабах, то с 60-х по 80-е годы разница в доходах двадцати процентов наиболее бедного и двадцати процентов наиболее богатого населения мира возросла с 30-и до 60-и раз; в начале 90-х это соотношение достигло уже 150-и раз12!
Финансовая и промышленная олигархия все больше прибирает к рукам не только экономическую, но и политическую власть — как через государственные органы, т.е. через «национальные комитеты миллионеров, называемые правительствами»13, так и непосредственно — через разные «экономические форумы», «трехсторонние комиссии», международные финансовые организации типа Международного валютного фонда или Всемирного банка и т.п. Известный американский ученый Н.Хомский сформулировал это так: «Переход от национальных экономик к единой глобальной экономике также оказывает влияние на подрыв функционирующей демократии. Механизмы этого подрыва достаточно очевидны. Власть все больше переходит от парламентских институтов в руки огромных транснациональных корпораций. В то же время имеющиеся структуры власти сращиваются вокруг этих транснациональных корпораций. Пару лет назад газета “Файнэншл таймс” охарактеризовала это как “де-факто мировое правительство”, которое включает в себя Всемирный банк и МВФ, ГАТТ, Всемирную торговую организацию, руководителей стран “семерки” и т.д.»14.
Так что нарушение рыночных механизмов было вызвано не только «внутренними» причинами. Для самой метрополии «свободная торговля и мирная конкуренция были возможны и необходимы, пока капитал мог беспрепятственно увеличивать колонии и захватывать в Африке и т.п. незанятые земли, причем концентрация капитала была еще слаба»15. С изменением ситуации пришел конец и «laissez faire». Особенно явно конец «рыночных отношений» виден в международных экономических отношениях, в отношениях между империалистическими и прочими капиталистическими странами (т.е. странами «ядра» и «периферии» капиталистической системы). Страны-«капиталисты» с самого начала ставят свой товар — капитал — в неравное положение с другим товаром — рабочей силой, находящейся в странах-«пролетариях». Их требование либерализации международной торговли, свободы передвижения капиталов, ограничения защитного вмешательства государства (разумеется, у других) — одно из главных. В то же время регулирующие циркуляцию рабочей силы иммиграционные законы в ведущих капиталистических странах весьма жестки и все ужестчаются. Какой уж тут «рынок»! Но этот барьер, в корне нарушающий «законы рынка», — только против дешевой рабочей силы из эксплуатируемых стран16. Сами же империалистические страны, наоборот, объединяются, делая все от них зависящее, чтобы не допустить объединения остальных. Образуется (пока, разумеется, в значительной мере лишь в потенции) имеющая внутреннее иерархическое строение единая мировая капиталистическая система. В этих условиях капиталисты зависимых стран включаются в мировое разделение труда не свободно выходя на всеобщий рынок, а на заданных империализмом условиях, и потому объективно внутри своих стран вынуждены проводить политику международной олигархии, образуя ее «пятую колонну».
И, наконец, как мы отмечали выше, любой организм, в том числе и социальный, нормально функционирует в соответствии только со своими «внутренними» законами лишь до тех пор, пока ему обеспечены в принципе неограниченные возможности обмена веществ с внешней средой, т.е. прежде всего бесперебойный подвод «строительных материалов» и столь же бесперебойный отвод продуктов метаболизма – как в «стационарном» (т.е. динамически равновесном) состоянии, так и в «переходных режимах». Только при этом пространство существования данного организма можно считать безграничным и линейным, и ограничиться изучением исключительно внутренних процессов. Но если такое положение нарушается, начинают сказываться внешние обстоятельства, не только нарушая прежнее течение внутренних процессов, но существенно влияя на сам их характер. Это – обычные явления в развитии не только биологической популяции, но и социального организма. Отсутствие подлинной целостности последнего приводит к тому, что появление соответствующих симптомов воспринимается как отдельные явления, не имеющие принципиального характера. Но постепенно эти симптомы усиливаются, в том числе и в экономике, и не замечать их становится невозможным. Возникает и соответствующая реакция – независимо от понимания указанных процессов и желаний участвующих в них людей. Прежде всего это касается тех отраслей экономики, которые в наибольшей степени связаны с непосредственным взаимодействием с природной средой.
Изменение характера экономических процессов началось с сельского хозяйства, а именно с проблемы ограниченности земли, где впервые ограниченность природных ресурсов существенно сказалась на их характеристиках. Уже в конце XIX веке пахотная земля в Европе оказалась полностью введенной в хозяйственный оборот. И сразу же меняются экономические характеристики процессов в этой области, поскольку «ограниченность земли ведет к тому, что цену хлеба определяют условия производства не на среднем качестве земли, а на худшей возделываемой земле»17. И далее: «Эта ограниченность – совершенно независимо от какой бы то ни было собственности на землю – создает известного рода монополию, именно: так как земля вся занята фермерами, так как спрос предъявляется на весь хлеб, производимый на всей земле, в том числе и на худших и на самых удаленных от рынка участках, то понятно, что цену хлеба определяет цена производства на худшей земле (или цена производства при последней, наименее производительной затрате капитала)… Чтобы образовалась… “средняя производительность” и определяла собой цены, для этого необходимо, чтобы каждый капиталист не только мог вообще приложить капитал к земледелию…, но также, чтобы каждый капиталист мог всегда – сверх наличного количества земледельческих предприятий – основать новое земледельческое предприятие. Будь это так, тогда между земледелием и промышленностью никакой разницы не было бы… Но именно ограниченность земли делает то, что это не так»18.
Вообще по мере ограничения того природного «пространства», в котором должна действовать экономика, кардинально меняются и процессы в ней самой. Несколько упрощая положение, можно сказать, что рыночное регулирование экономики по определению предполагает большие или меньшие колебания производства вокруг некоторого значения со стабилизацией (благодаря отрицательным обратным связям) его объема в конечном счете на оптимальном уровне. Для этого-то и необходимо соответствующее «пространство», в котором возможно не только временное уменьшение, но и временное увеличение производства в соответствии с требованиями рыночной конъюнктуры. Тогда процессы в системе имеют линейный характер (т.е. в принципе могут быть описаны обычными дифференциальными уравнениями) и регулирование в ней идет своим «естественным» путем. Если же «сверху» появляются некоторые внешние ограничители для этого пространства, то сбой процессов регулирования неизбежен. По мере того, как все меньше остается места для «свободной игры» капиталов, сужается сфера действия законов рынка как регулятора экономики. Возникает объективная необходимость введения дополнительных, «внерыночных» управляющих воздействий, расширяющих свою роль по мере углубления указанных процессов и постепенно сводящих на нет «свободные рыночные отношения». Как мы уже отмечали, эту роль берут на себя монополии – сначала в лице служащего им буржуазного государства, а затем непосредственно.
Результаты начавшегося в конце девятнадцатого века процесса в области сельскохозяйственного производства в конце двадцатого проявились вполне определенно. В тех странах, где это произошло (т.е. в большинстве стран империалистической «метрополии»), при формально сохранившемся частном сельскохозяйственном производстве главные функции распорядителя приняло на себя буржуазное государство, и свободные рыночные отношения в данной области практически ликвидированы. Первенство в этом отношении держит Япония как страна с наиболее ограниченными земельными ресурсами. Как по этой причине, так и благодаря высокому уровню промышленного развития, здесь уровень государственных дотаций сельскому хозяйству исключительно высок (семьдесят и более процентов стоимости произведенного продукта). Почти так же обстоит дело в Западной Европе (50–70% стоимости производимой продукции дотируется). Здесь не только во многих случаях сельское хозяйство полностью регулируется государством, но и в ряде стран на надгосударственном уровне определяется необходимое количество продукции, квоты для каждой страны и региона, цены на нее и т.п., т.е. осуществляется плановое государственное управление сельскохозяйственным производством. Такое положение облегчает также установление неравноправного обмена с преимущественно аграрными странами «третьего мира», поскольку снижение (вследствие государственного дотирования) на рынках Запада цен на сельскохозяйственную продукцию ниже стоимости ее производства, ведет к грабежу ее «незападных» производителей, таких дотаций не имеющих. А средства для дотаций получаются за счет продажи в страны все того же «третьего мира» промышленной продукции по монопольно завышенным ценам.
Аналогичные процессы происходят и в США, хотя они еще и не достигли указанного уровня вследствие более позднего начала, благодаря масштабному фактору, а также в силу некоторых исторических причин и социально-психологической атмосферы американского индивидуализма. Здесь только крупные капиталистические хозяйства с наемной рабочей силой являются прибыльными – всего 1,4 % крупных «фермеров» производят 32 % всей сельскохозяйственной продукции и дают доход в 21,6 млрд. долларов в год, в то время как мелкие совершенно нерентабельны – 34 % мелких фермеров производят всего 3,2 % сельскохозяйственной продукции, принося убыток в 0,7 млрд. долларов (все данные за 1990 год). Существуют мелкие фермеры только благодаря подачкам буржуазного государства, озабоченного наличием «среднего класса», жизненно необходимого для стабильности буржуазного строя, но все равно десятки тысяч их ежегодно разоряются. В настоящее время дотация «эффективному» фермерскому сельскому хозяйству в США составляет более сорока процентов (против примерно двадцати в свое время «неэффективным» советским колхозам).
Так что ни о каком «вольном хлебопашце на вольной земле» в «цивилизованных странах» давно уже нет и речи. Как видим, здесь впервые произошло своеобразное нарушение «святая святых» рынка – закона стоимости в собственно капиталистическом производстве. Сейчас этот процесс продвинулся значительно дальше – сначала в добывающих отраслях промышленности, затем в тех, которые с ним наиболее тесно связаны и т.д. По мере выработки ресурсов, загрязнения окружающей среды и нарастания проблемы отходов, влияние указанного фактора все больше начинает сказываться на всем капиталистическом производстве. Предыдущий колониализм и нынешний неоколониализм несколько смягчают эти проблемы для стран капиталистического «ядра», но это только оттягивает неизбежные последствия – ликвидацию рынка и введение всеобщего олигархического управления.
Переход капитализма в стадию империализма начался во вполне определенное время. По Ленину, «для Европы можно установить довольно точно время окончательной смены старого капитализма новым; это именно – начало ХХ века»19. Но только эта смена оказалась еще далеко не окончательной. Разумеется, и сейчас «империализм есть прогрессирующее угнетение наций горсткой великих держав», однако уже нельзя однозначно утверждать, что это также «есть эпоха войн между ними за расширение и упрочение гнета над нациями»20. Хотя противоречия между империалистическими державами во многом продолжают сохраняться, превалирующее значение все больше приобретают их общие интересы в совместной эксплуатации, и уж конечно в «упрочении гнета над нациями» всего остального мира.
Соответствующие процессы нашли отражение в так называемой «теории ультраимпериализма». Начало ей было положено работами К.Каутского21. Надо сказать, что эта теория вызвала резкое неприятие со стороны Ленина. Вообще-то Ленин не возражал против того мнения Каутского, что возможно «усиливающееся международное переплетение различных клик финансового капитала … поставит на место борьбы национальных финансовых капиталов между собою общую эксплуатацию мира интернационально-объединенным финансовым капиталом»22. «Рассуждая абстрактно-теоретически, – писал он, – можно прийти к выводу, к которому и пришел … Каутский, именно: что не очень далеко уже и всемирное объединение этих магнатов капитала в единый всемирный трест, заменяющий соревнование и борьбу государственно-обособленных финансовых капиталов интернационально-объединен-ным финансовым капиталом»23. Но, тем не менее, Ленин считал, что к такому выводу можно прийти, только «распрощавшись с марксизмом».
Почему? А потому, что будучи правильной в принципе, в конкретных условиях того времени эта теория, по мнению Ленина, оказалась «самой тонкой и наиболее искусно подделанной под научность и под международность, теорией социал-шовинизма»24 и служила «для оправдания оппортунистов»25. «Можно ли, однако, спорить против того, что абстрактно “мыслима” новая фаза капитализма после империализма, именно: ультраимпериализм? Нет. Абстрактно мыслить подобную фазу можно. Только на практике это значит становиться оппортунистом, отрицающим острые задачи современности во имя мечтаний о будущих неострых задачах. В теории это значит не опираться на идущее в действительности развитие, а произвольно отрываться от него во имя этих мечтаний. Не подлежит сомнению, что развитие идет в направлении к одному-единственному тресту всемирному, поглощающему все без исключения предприятия и все без исключения государства. Но развитие идет к этому при таких обстоятельствах, таким темпом, при таких противоречиях, конфликтах и потрясениях, – отнюдь не только экономических, но и политических, национальных и пр., и пр., – что непременно раньше, чем дело дойдет до одного всемирного треста, до “ультраимпериалистического” всемирного объединения национальных финансовых капиталов, империализм неизбежно должен будет лопнуть, капитализм превратится в свою противоположность»26. Этого, однако, не произошло, и «дело дошло» если еще и не до «всемирного треста», то по крайней мере до транснациональных корпораций, до того, что империализм начал постепенно превращаться в «ультраимпериализм».
Выше мы рассматривали причины, по которым социалистическая революция не могла произойти в передовых капиталистических странах. Развитие капитализма продолжилось на его собственной основе. Соответственно он все больше и больше приобретает реальные черты «ультраимпериализма». Если бы одновременно со свободой обращения капитала существовала и развивалась также в обязательном порядке предполагаемая «рыночной экономикой» свобода циркуляции рабочей силы – которая при нынешней «глобализации» экономики в масштабах всей капиталистической системы также должна была бы иметь всемирный характер, – то теоретически имел бы место все тот же «классический» капитализм, только в разросшихся, глобальных масштабах. Но тогда и капитализм не был бы капитализмом, ибо не имел бы той самой «периферии», без которой ни его становление, ни развитие были бы невозможными. Империализм стал естественной реакцией стран капиталистической «метрополии» («ядра») на постепенное проникновение собственно капиталистических отношений в страны «зависимого капитализма» («периферии»). При свободной циркуляции рабочей силы каждый капиталист руководствовался бы собственными интересами, покупая на рынке наиболее дешевую рабочую силу независимо от ее происхождения, что приводило бы к постепенному выравниванию ситуации в мире. Одновременно в чистом виде действовал бы открытый Марксом закон абсолютного, а уж тем более относительного обнищания пролетариата, особенно если учесть все больше проявляющуюся ограниченность природных ресурсов на планете. Результатом уже давно была бы коммунистическая революция, именно та, на которую рассчитывали Маркс и Энгельс, и оказалось бы вполне справедливым утверждение Ленина, что капитализм «превратится в свою противоположность» раньше, чем образуется «всемирный трест». Именно поэтому капитализм и «выбрал» другой путь, путь империализма, т.е. социальной дифференциации не только на классовом (внутреннем), но и на надгосударственном (внешнем) уровне с разделением теперь уже капиталистических государств на эксплуатирующие и эксплуатируемые, отказавшись при этом от главного своего экономического механизма – свободного рынка со свободной циркуляцией не только капиталов, но и рабочей силы.
То, что Маркс в известном смысле считал сущностью капитализма как общественно-экономической формации, оказалось только временным состоянием, «болезнью роста», «подростковым периодом» системы, когда этот рост, инициированный и первоначально «субсидированный» внешними источниками, «свалился» на плечи трудящихся самого капиталистического «ядра». Уже имманентная данному строю жажда прибавочной стоимости – самой по себе, а не тех благ, которые можно за нее получить, – привела к резкому (даже сравнительно с феодализмом) усилению эксплуатации предпринимателями непосредственных производителей. Но именно эта же жажда прибыли (а не потребления) в дальнейшем привела также к тому, что она не «проедалась», а вкладывалась в расширение производства – первоначально преимущественно в расширение производства средств производства. Одновременное действие расширения производства (что как длительный относительно устойчивый процесс в конечном счете предполагает также обязательное расширение потребления) и его отрицательных социальных следствий (вызывающих все более организованное противодействие пролетариата) в условиях продолжающейся (и усиливающейся!) «внешней» эксплуатации привели сначала к ослаблению, а затем и снятию наиболее антагонистических форм противостояния собственников средств производства и непосредственных производителей в самих «промышленно развитых странах» – вплоть до того, что в условиях современного империализма (империализма, все более превращающегося в «ультраимпериализм») в определенных отношениях, а именно в отношениях с остальным миром (прежде всего трудящимися «развивающихся стран») эти две прежде безусловно антагонистические социальные группы оказались по одну сторону баррикады.
Другими словами, происходит новое структурирование мира капитала. Заканчивается этап его всемирной самоорганизации, наступает этап всемирного же управления. Мировая буржуазия раньше существовала в виде совокупности буржуазий национальных, каждая из которых прежде всего по отношению к окружающей среде имела в качестве ближайшей «оболочки» пролетариат своей собственной страны, а дальше – весьма аморфную колониальную «оболочку». Сейчас она все больше преобразуется в некоторую целостность в границах всего империалистического лагеря, в которой уже олигархия как управляющий «центр» окружает себя более сложной системой «оболочек» – сначала буржуазия помельче (слой «собственников», «средний класс») развитых стран, затем следующая – все остальное население этих же стран. Все вместе это и составляет «ядро» капиталистического мира, окруженное еще и общей «оболочкой» – всеми остальными («зависимыми») капиталистическими странами – «периферией». Но последние в данной системе также играют неодинаковую роль: некоторые из них исполняют функцию «полупериферии» – «промежуточного слоя» между «ядром» и собственно «периферией», функционирование которой определяется потребностями «ядра». Кроме того, каждая из стран этой оболочки имеет собственное «ядро» – компрадорскую буржуазию, являющуюся «проводником» влияния всеобщего «ядра». И вся эта структура как целое пронизана управляющим воздействием олигархической верхушки – всемирной крупной буржуазии, у которой экономическая власть все более непосредственно сращивается с политической.
Чтобы иметь возможность эксплуатировать весь мир, капитал вынужден обеспечить определенную консолидацию внутри своего «ядра», но способы этой консолидации зависят от исторических условий. На стадии империализма она все больше начинает обеспечиваться иерархической организацией управления (обычно именуемой «тоталитаризмом»). Однако до этого в течение длительного времени организация обеспечивалась путем самоорганизации общества за счет механизмов политической демократии. И хотя сегодня демократия и в ее буржуазном варианте свертывается даже в странах капиталистического «ядра», само это понятие все еще достаточно успешно используется для пропагандистских и политических спекуляций. Поэтому данный момент заслуживает специального рассмотрения.
Идея о едва ли не тождественности буржуазного общества и демократии является одним из наиболее распространенных мифов. На самом же деле буржуазия всегда предпочитала политический строй, который в тот или иной исторический момент наиболее полно соответствовал ее интересам. Так, в начальном периоде таким политическим строем был абсолютизм. Именно абсолютистская монархия на протяжении многих лет на взаимовыгодной основе обеспечивала буржуазии наиболее благоприятные политические условия для ее развития. Только защищенная абсолютизмом от давления со стороны феодальной иерархии, буржуазия имела возможность первоначального накопления и организации в качестве класса. В свою очередь, абсолютизм использовал влияние (прежде всего финансовое) зарождающейся буржуазии в своей борьбе с феодальной знатью за утверждение централизованного государства.
По мере укрепления положения буржуазии, развития внутреннего рынка с одной стороны, и расширения рынка мирового с другой, абсолютизм становился помехой для развития буржуазных производственных отношений. Все больше проявляется потребность перехода общественной организации от ступени управления к ступени самоорганизации, ограничиваемой политическими институтами феодального государства. Именно эта потребность вызвала буржуазные революции. Как мы уже отмечали, последние представляли собой качественный скачок не в социально-экономическом развитии общества (к тому времени уже произошедший в результате расширения ойкумены с включением в орбиту влияния некоторых стран Запада обширной периферии и формирования на этой основе новой «западной цивилизации»), а всего лишь «промежуточный» скачок во «внутреннем» развитии буржуазной (капиталистической) общественно-экономической формации, осуществляющегося в соответствии с гегелевской «триадой». Новой формой политической организации, соответствующей этому (второму) этапу развития буржуазного общества, даже там, где по внешней форме сохранилась монархия, стала буржуазная демократия.
Превращение понятия «демократия» в объект идеологических спекуляций привело к неоправданному расширению и размыванию его значения. Буквальный перевод греческого термина, означавшего «власть народа», в какой-то степени может прояснить суть дела только в том случае, если достаточно четко определить, что подразумевается в этом случае под словом «народ». При «демократии» как форме политической организации «народ» никогда не включал – и это принципиально! – всю массу взаимодействующего в рамках определенной «цивилизации» (она же – общественно-экономическая формация) населения. Демократия в классовом обществе всегда (без исключений) представляла собой форму организации (самоорганизации) господствующей социальной группы, которая соответственно и подразумевалась под «народом». Другими словами, координационная организация всегда охватывала только «ядро» данного общественного организма, отношения же его с «периферией» того же социального организма всегда носили характер субординации. Разумеется, локализации «ядра» и «периферии» весьма существенно менялись по мере развития общества. Соответственно менялся и характер демократии, которая, стало быть, никогда не была и не могла быть «демократией вообще».
Рассматривая происхождение и развитие демократии как политической системы на Западе в ее противопоставлении «деспотизму», И.Валлерстайн указывал, что «одним из исторических источников нашей политической традиции была Великая хартия вольностей 1215 года, документ, навязанный королю Англии его лордами и баронами, гарантировавший их права по отношению к нему, но никак не права крепостных.
Мы привыкли представлять деспотическую систему как такую, в которой один или несколько человек наверху имеют возможность управлять и эксплуатировать остальных. Но на самом деле кучка немногих наверху политически ограничена в своих возможностях выжимать многое из низов, да относительно не так уж много им и необходимо, чтобы жить в полном комфорте. По мере того как мы увеличиваем размер этой группы наверху и уравниваем политические права внутри этой группы, становится не только более возможным, но и гораздо более необходимым выжимать больше из низов с целью удовлетворения потребностей тех, кто наверху. Политическая структура с абсолютной свободой для верхней половины может стать для нижней половины наиболее эффективной формой угнетения, какую только можно вообразить. И во многом наиболее устойчивой. Очень может быть, что полусвободная и полурабская страна способна просуществовать очень долго»27. Что всегда и реализовалось в действительности.
Все имевшие место в истории виды демократии безусловно подтверждают два ее характерных момента: появление только в качестве одной из ступеней развития общества в рамках той или иной общественно-экономической формации, и распространение только на «ядро» данного социального организма. Так, демократия в греческом полисе охватывала только свободных граждан, составляющих меньшинство населения и представляющих восходящую к родовому обществу этническую группу. Практически то же относится к определенным периодам Римской империи, с той, однако, разницей, что последняя имела более сложную структуру, включающую в качестве «периферии» не только зависимые от господствующего класса социальные группы, но и зависимые народы и территории (где ни о какой демократии, разумеется, не могло быть и речи). То же самое позже имело место в феодальных республиках, где демократия фактически существовала только для вполне определенных господствующих слоев населения (здесь уже преимущественно на сословной основе).
Для сформировавшейся на втором этапе развития капиталистического общества буржуазной демократии также всегда было характерно наличие охватываемой ею, как политической организацией, господствующей социальной группы, но в основе разделения лежит уже не этнический, и не сословный, а имущественный принцип. Первоначально политическая дифференциация по этому принципу имела даже формальное закрепление, например, в виде имущественного ценза, необходимого для участия в выборах (или, скажем, в виде лишения права голоса экономически зависящих от глав семейств женщин). Но в дальнейшем, по мере развития других, более тонких и внешне менее заметных, механизмов имущественной дифференциации, формальные критерии были ликвидированы28. Однако и при их отсутствии зависимость политического влияния от капитала, т.е. именно буржуазный характер демократии прослеживается достаточно четко, в том числе и в виде существенно различной возможности влиять на политические процессы (в частности, на те же выборы).
Вот в таком – «пропорциональном капиталу» – виде демократия и стала основой развития буржуазного общества на его втором (доимпериалистическом) этапе. При этом уровень развития буржуазной демократии в «ядре» всегда был жестко связан с расширением «периферии». Недаром «колыбелью» буржуазной демократии считается Англия, где эта форма организации внутри метрополии расширялась и углублялась по мере роста и укрепления Британской империи, т.е. по мере расширения колониальной эксплуатации. При потере Великобританией колоний, при формировании всемирной капиталистической (империалистической, неоколониальной) системы во главе с США, именно эта сверхдержава становится «форпостом демократии» Запада, мечом и долларом насаждаемой во всем остальном мире. Необходимость внутренней консолидации по отношению к большей части мира действительно приводила к развитию и укреплению в США демократических институтов (разумеется, при одновременном развитии и укреплении их буржуазного характера, т.е. с фактической градацией «демократии» по капиталу при формальном всеобщем равенстве). Что же касается остального мира (в особенности «третьего мира», ныне фактически представляющего общую «периферию» всех «цивилизованных стран» во главе с США, а теперь и «второго»), то там их отношение к демократии носит чисто пропагандистский и конъюнктурный характер (достаточно вспомнить знаменитую фразу американского президента о латиноамериканском диктаторе: «он, конечно, сукин сын, но это наш сукин сын», или положительное отношение другого президента США к «демократу» Ельцину, из танковых пушек расстрелявшему законно избранный парламент, который, вообще говоря, по идее как раз и является политическим воплощением буржуазной демократии).
С переходом в третью, империалистическую стадию развития буржуазное общество потребовало и новой политической организации, по общему закону опять представляющей субординационнную систему управления, но на новом, более высоком уровне развития. Попытка возродить в известном смысле имперскую систему, предпринятая фашизмом, не удалась. Сейчас также речь идет о становлении централизованной политической системы господства, но иерархическая («тоталитарная») система в капиталистическом мире формируется сращиванием экономической и политической власти, причем в качестве высшей управляющей группы выделяется олигархия. Иначе и быть не может, поскольку «по объективным законам управления огромными человеческими объединениями и даже всем человечеством, на что претендует западный мир во главе с США, демократия в том виде, как ее изображает западная идеология и пропаганда, абсолютно непригодна»29. А потому столь же объективно демократия как система организации господствующего класса себя постепенно изживает, а ее формальные институты все больше принимают на себя роль фигового листка, прикрывающего растущее влияние и политическую роль олигархии как «управляющего центра».
Империалистический характер нынешнего капитализма, охватывающего большую часть мира, вызвал еще одно явление, начинающее все больше сказываться на социальных процессах – национализм. Национализм как явление имеет уже достаточно длительную историю, связанную со становлением буржуазных наций. Усиление хозяйственных связей внутри отдельных государств, стремление буржуазии к политической власти и другие факторы привели к образованию в «ядре» капиталистической «мир-системы» национальных государств как ее основных структурных элементов. Предельным выражением в развитии этого типа национализма стали фашистские (нацистские) попытки создания иерархической имперской структуры с национальной вершиной-ядром. Однако в дальнейшем интеграционные процессы вели ко все большему нивелированию национальных различий. И вдруг именно на этапе далеко зашедшей «общечеловеческой интеграции» произошел новый всплеск национализма – на этот раз преимущественно в странах «зависимого капитализма».
Как известно, возможность существования общества связана с воспроизводством как самой жизни, так и ее материальных условий. «Согласно материалистическому пониманию, определяющим моментом в истории является в конечном счете производство и воспроизводство непосредственной жизни. Но само оно, опять-таки, бывает двоякого рода. С одной стороны – производство средств к жизни: предметов питания, одежды, жилища и необходимых для этого орудий; с другой – производство самого человека, продолжение рода. Общественные порядки, при которых живут люди определенной исторической эпохи и определенной страны, обуславливаются обоими видами производства»30. При этом, когда речь идет о воспроизводстве жизни, имеется в виду, естественно, не просто воспроизводство биологического существования индивидов – без этого вообще ни о чем другом речи быть не может, – а воспроизводство человека как носителя определенных общественных отношений. Учитывая двойственный характер задачи, каждый человек должен быть поставлен в положение некоторой двуединой целостности, способной эту задачу выполнить.
В первобытном обществе указанная задача решалась дуальной организацией данного целостного общественного организма. На всем протяжении переходного периода от первобытного общества к классовому, когда происходило разложение родового строя, обе части задачи решала община – сначала в виде отдельного образования, а в конце в качестве элемента образования более широкого, с внутренней структурой и социальной стратификацией («варварского государства»). Со становлением же классового общества происходит разделение структур, ответственных за производство средств к жизни и воспроизводство самой жизни. На этапе классовой организации общества обе эти задачи решались в пределах тех относительно самодостаточных социальных организмов («цивилизаций»), в которых на том или ином этапе развития существовало общество. В этих организмах всегда шли одновременно два процесса, связанных с обеспечением производства средств для поддержания жизни и воспроизводства самой жизни общественного человека. Будучи двумя сторонами одного и того же процесса функционирования общества, они здесь, однако, уже существенно отличались друг от друга как по внутреннему содержанию, так и по структурному оформлению (соответственно формационные и цивилизационные механизмы). Непосредственное воспроизводство конкретных форм общественной жизни становится задачей особого социального образования – этноса. В процессе решения другой из указанных выше задач – обеспечения средств существования – происходит образование особых производственных социальных групп (классов) и возникает государство как аппарат господства одной из этих социальной группы над другой.
Как мы видели, на начальном этапе классового общества, когда одно этническое образование порабощает другие, этническое и классовое деление общества практически совпадают. Однако если обычно господствующим классом становился один этнос, то порабощенным им оказывался ряд иногда достаточно различных этносов. И эти этносы продолжали существовать внутри единого социального образования, рождаясь, развиваясь и умирая по присущим данному процессу законам. Выше упоминалось, что этот вопрос стал предметом подробного исследования Л.Гумилева, выявившего ряд общих закономерностей, присущих указанным образованиям в их становлении и развитии. Однако в его интерпретации этнические процессы приобрели как бы внеисторический характер и оказались идентичными на различных этапах общественного развития. На самом же деле на различных этапах общественного развития этнические процессы существенно различались. Значительную роль, причем различную на разных этапах общественного развития, играло также взаимодействие двух упомянутых социальных образований – этноса и государства.
Поскольку государство возникает как аппарат насилия, обеспечивающий господство одного класса над другим, то с точки зрения как характеристик властных структур, так и функции «государство есть продукт и проявление непримиримости классовых противоречий»31. Но в то же время оно также организует некоторое единое социальное образование, состоящее из этих социальных групп, взаимодействие которых составляет те производственные отношения, в которых совершается добывание средств к жизни. Поэтому в течение всей писаной истории государство являлось также тем квазиорганизмом, внутри которого обычно и шли все социальные процессы, оказывая воздействие также и на процессы этнические. При этом по мере изменения классовых отношений это воздействие было достаточно различным.
Если, как было сказано, первоначально классовое и этническое в известном смысле совпадали, то затем интеграционные процессы (и внутренние, и под внешним воздействием) идут в направлении формирования внутри государства единого этнического целого, имеющего, однако, классовое (поначалу сословное) расслоение. Другими словами, здесь имеют место одновременно два процесса: объединительный, приводящий к слиянию различных этносов в народность, и разъединительный, в результате которого формируются классы-сословия. Человек, относясь к тому же этническому целому, уже с рождения входит в сословие, представляющее собой часть данного целого. Происходит это на стадии феодализма. В буржуазном обществе, с одной стороны, благодаря формированию внутри государства единого народнохозяйственного комплекса завершается процесс этнической консолидации. В результате преодоления былой феодальной раздробленности формируется единое этническое целое – нация. Но с другой стороны определенным образом снижается социальная дифференциация, ибо сколь бы ни было сильным (и в чем то результативным) желание господствующего класса превратить его в замкнутую касту, в полной мере это уже невозможно: в принципе теперь «поверхность раздела» между классами допускает двухстороннюю инфильтрацию «атомизированных» индивидов (именуемую в буржуазной социологии «социальной мобильностью»).
Рассматривая вопросы изменения классовой организации, Ленин писал: «Известно, что в рабском и феодальном обществе различие классов фиксировалось в сословном делении населения, сопровождалось установлением особого юридического места в государстве для каждого класса. Поэтому классы рабского и феодального (а также крепостнического) общества были также и особыми сословиями. Напротив, в капиталистическом, буржуазном обществе юридически все граждане равноправны, сословные деления уничтожены (по крайней мере, в принципе), и потому классы перестали быть сословными. Деление общества на классы обще и рабскому, и феодальному, и буржуазному обществам, но в первых двух существовали классы-сословия, а в последнем классы бессословные»32. Выше мы видели, что положение о сословности в полном объеме верно только в отношении феодального общества. Однако действительно в обоих этих случаях по наследству передается фиксированное от рождения место в обществе, тогда как в буржуазном обществе – главным образом отношение к средствам производства, что в принципе создает возможность социальной мобильности, способствуя этническому единству и, как следствие, формированию нации.
Этнические процессы идут параллельно политическим и экономическим, но в гораздо меньшей мере ограничиваются рамками государства. С одной стороны при этом происходит этническая консолидация (также в основном в рамках государства), приводящая в конечном счете к образованию наций, а с другой – процесс передачи культуры следующим поколениям не может ограничиваться только рамками того или иного государственного образования, в той или иной мере он неизбежно включает в себя результаты культурного развития в цивилизационных масштабах, а на стадии империализма – даже в глобальных. Другими словами, здесь имеют место одновременно два процесса: с одной стороны формируется и поддерживается особая национальная культура (язык, традиции и другие социальные установления такого же рода), отличающая данную нацию от других, а с другой идет культурное заимствование (в области искусства, науки, тех же традиций), когда явления локальной культуры получают более широкое, вплоть до общечеловеческого, значение.
Первая составляющая культурного строительства представляет собой поступательное движение, вторая имеет явно выраженную нелинейность: вначале движение имеет ограниченные темпы, а затем, по мере усиления интеграционных тенденций, темпы прогрессивно нарастают. Культурный обмен между этносами в истории во многом имел двусторонний характер. Однако на стадии буржуазного общества процессы культурной интеграции в значительной степени определяются положением соответствующих стран в мировой капиталистической системе и преимущественно направляются от ее «ядра» к «периферии». На стадии империализма процесс культурной экспансии приобретает настолько выраженный характер, что ей подвергаются уже не только страны «периферии», но и государства, входящие в «ядро», со стороны так сказать «ядра ядра» – наиболее экономически мощной державы. «Американизация» культуры происходит не только в странах «третьего мира», но и в самих странах Запада. Таким образом, наряду с политическим и экономическим империализмом развивается также империализм культурный, что не может не вызывать соответствующей реакции. Одной из наиболее выраженных реакций в современном мире и стал рост национализма, прежде всего в странах капиталистической «периферии».
Экономические причины такого «второго издания» национализма существенно отличны от первого. Специфическую роль играет здесь фактор хозяйственной интеграции, который в свое время оказался наиболее существенным в процессах национальной консолидации развитых капиталистических стран. Сейчас же, ввиду различного места разных стран в мировой капиталистической системе при все возрастающей глобализации экономических процессов, направление действия данного фактора в том или ином государстве различно, и как раз и определяется этим местом. Страны «ядра», противостоящие всемирной «периферии», заинтересованы в продолжении его консолидации, что, несмотря на наличие также рудиментарных противоположных тенденций, сегодня и происходит. Что касается «периферии», то здесь местная буржуазия заинтересована не в хозяйственной интеграции определенного региона (как это имело место в «первом мире», где она осуществлялась в том числе и с опорой на этнические факторы), а в политической власти.
Дело в том, что ни о какой национальной хозяйственной интеграции прежнего типа в условиях глобализации экономических процессов не может быть и речи. Экономическая ситуация в каждом регионе определяется не его собственными потребностями и интересами, а навязывается империалистическим «ядром» в соответствии с экономическими интересами самого «ядра». В этих условиях даже «говорить о формировании нации не приходится, ибо народы этих стран не обладают господством над материальными условиями своей жизни. … Существующие общественно-экономические связи, вплоть до государственной структуры, являются следствием колониальной зависимости и служат интересам международного капитала. Это диктуется международным империалистическим разделением труда»33. Местная буржуазия вследствие этого в принципе не может стать буржуазией национальной, но только компрадорской, выполняющей «поручения» буржуазии международной в качестве ее местного «агента». А для того, чтобы успешно, с выгодой функционировать в этом качестве, нужна политическая власть, к которой и стремятся различные группировки местной буржуазии. И если у той или иной группировки нет перспектив добиться власти в сравнительно большом государственном образовании, то она легко идет на сепаратные действия, наиболее удобным предлогом к которым является «национальная независимость». Причем в данном случае такая группа может опираться на поддержку не только международной буржуазии, и сегодня проводящей все тот же старый, но действенный империалистический принцип «разделяй и властвуй», но в известной мере и народов своих стран, которые в условиях все ухудшающегося экономического положения оказываются достаточно восприимчивыми к идее сепаратного выживания.
Указанные процессы протекают также в странах бывшего «второго мира». В условиях социализма даже в последние перед «перестройкой» годы экономическая ситуация была относительно благоприятной и вопрос физического выживания на повестке дня не стоял. В условиях же кризиса при перманентно ухудшающейся экономической ситуации этот вопрос стал едва ли не основным, и немедленно же возникли подозрения, что совместное проживание оказывается более выгодным для одних за счет других, что дало толчок развитию национализма. Этим воспользовались различные социальные группы, роль которых в данном процессе мы рассмотрим ниже. Здесь же только отметим, что результатом его стало не только дальнейшее ухудшение политической и экономической ситуации, но и полная беззащитность новообразованных «суверенных» и «независимых» стран перед империализмом. Что тому и требовалось.
Эксплуатация большинства человечества «цивилизованными странами» (и не только непосредственно в так сказать классическом виде, но и за счет несправедливого международного разделения труда, неэквивалентного обмена, в том числе за счет «ножниц» цен на продукцию промышленного и сельскохозяйственного производства34, ограбления интеллектуальных ресурсов, опутывания долгами и т.п.) вызывает нарастание противоречий между эксплуататорами и эксплуатируемыми сейчас прежде всего в международном масштабе. В его результате мир оказался перед лицом глобального противостояния (его иногда называют противостоянием по линии Север-Юг), чреватого, несмотря на все меры, принимаемые империализмом как в экономическом, так и в идеологическом плане, разрушительным взрывом с тяжелейшими последствиями. И нет другой силы, кроме социализма, которая могла бы их предотвратить.
Пройдя все три стадии своего развития, капитализм как система неизбежно вступает в период загнивания. Конкретной, слишком хорошо нам знакомой политической формой процесса этого загнивания явился фашизм – раковая опухоль человечества, грозившая ему гибелью. В результате столь дорого обошедшейся «хирургической операции» непосредственная угроза ликвидирована. Но как раковые клетки постоянно рождаются самим организмом человека, так и буржуазное общество, начиная с определенного уровня развития, само из себя все снова и снова порождает тенденции вполне «тоталитарного» характера. Благодаря действию «иммунной системы» – демократических институтов, достигших значительного развития в буржуазных странах под влиянием угрозы самому существованию капитализма как общественного строя, в том числе и в связи с наличием в мире социализма, таким «клеткам», прежде всего в наиболее опасном виде фашизма, пока не удается превратиться в опухоль.
Распад мирового социалистического лагеря, внутренние процессы в Советском Союзе, вызвавшие экономическую и политическую нестабильность, привели к катастрофическому ослаблению влияния социализма на мировые процессы; и это немедленно же привело к явственному усилению империалистических тенденций (прежде всего в политике Соединенных Штатов Америки), которые, несомненно, будут усиливаться и дальше по мере снижения влияния социализма в мире, даже не столько за счет снижения военной мощи или экономического потенциала, сколько за счет дискредитации социалистической идеи, ослабления социализма как противоядия власти олигархии.
Уже с самого начала снижение международной роли социализма США ознаменовали крупной жандармской акцией против Ирака. Не военной, а именно жандармской. Помнится, во время проигранной «грязной войны» во Вьетнаме любимым занятием американской прессы был подсчет соотношения трупов – своих и вьетнамских. Во время не менее грязной, но победоносной операции в Персидском заливе этого уже не понадобилось, поскольку и войны никакой не было – имел место массированный отстрел иракцев во имя справедливости, свободы и демократии. А если точнее – ради безраздельного контроля над ближневосточными энергоресурсами: «Очевидно, что война против Ирака в 1991 г. была войной за американскую гегемонию и за сохранение существующего американского образа и уровня жизни, основанного на потреблении дешевой энергии и огромном количестве отходов»35. После развала Союза и торжественно провозглашенной президентом США «победы над оплотом коммунизма» последовал еще ряд «миротворческих операций», в которых все большую роль играет блок НАТО, уже прямо, не считаясь с так называемым «мировым сообществом»36, берущий на себя функции мирового жандарма (как, например, в Югославии в 1999 году). Такие тенденции неизбежно будут нарастать, пока социализм не преодолеет кризис, не справится со своими проблемами, не выйдет на очередной этап своего развития. Тогда, как и в 20 – 30-е годы, когда социализм был на подъеме, резко повысится его влияние на мировые процессы и ситуация в мире коренным образом изменится. Поэтому направление дальнейшего развития в мире сегодня в огромной степени зависит от судеб социализма, к рассмотрению которых мы теперь и переходим.
Раздел четвертый
ПЕРЕХОД К ГЛОБАЛЬНОМУ СВЕРХОРГАНИЗМУ
4.1. Социализм как общественно-экономическая
формация
Как мы видели выше, уже возникновение капитализма по самой сути этой общественно-экономической формации явилось результатом взаимодействия одной из цивилизаций (западноевропейской) с другими, а потому с самого начала вышло за рамки определенной цивилизации. Дальнейшее же развитие капитализма вело к тому, что социальные процессы все больше начали приобретать уже в полном смысле глобальный характер. Капитализм во все большей степени осуществляет функцию объединения всего человечества в единое целое. Однако таким образом действительный процесс объединения человечества завершен быть не может, ибо в данном случае оно осуществляется с одновременной дифференциацией составляющих. Выстраивается и упрочняется иерархическая пирамида, структурирующая человечество по функции управления не только между теми его частями, что входит в «периферию» и в «ядро», но и внутри самого «ядра».
Однако закон функционирования сложных систем предполагает непременную смену формы их организации по мере развития, а следовательно, замену субординационной организации (управления) организацией координационной (самоорганизацией). В данном случае это значит, что вершиной общественной организации на данном этапе развития общества явится коммунизм, когда каждый элемент общества (индивид) приобретет полную и абсолютную свободу и его действия будут направляться только и исключительно его же собственными потребностями, а не управленческой структурой общества. Поэтому одновременно с развитием и упрочением организации общества с субординационным механизмом управления все больше проявляются условия для координационной организации общества, включающего все человечество.
Однако на пути к такой организации нынешнему социально дифференцированному обществу предстоит пройти еще один важный этап – переходный этап между этими двумя состояниями, двумя фундаментальными видами его организации, аналогичный, но обратный по знаку переходному этапу между первобытным и классовым состоянием общества. Таким (вторым) переходным этапом является социализм. Поэтому рассмотрение эволюции общественного организма было бы неполным без рассмотрения социализма, его становления, развития и перспектив.
Прежде, чем рассматривать социализм как определенное общественное явление, необходимо все же более подробно определить, что конкретно понимается под этим термином. Как всегда в таких случаях (выше мы уже сталкивались с этим при определении понятия «общество»), здесь возникают определенные методологические сложности: с одной стороны, до того как исследовать какой-либо объект, следует определить, что же именно мы собираемся исследовать, выделить объект исследования из ряда других объектов; с другой стороны, удовлетворительное определение того или иного объекта может быть получено только в результате его исследования, когда выявлены его характерные черты, обуславливающие упомянутое его выделение. Указанное противоречие разрешается только в самом процессе изучения данного объекта. Однако термин «социализм» имеет уже достаточно длительную историю, и невозможно обойтись без того, чтобы определиться в отношении того содержания, которое в этот термин вкладывалось раньше и вкладывается теперь.
Прежде всего следует отметить, что слово «социализм» многозначно, и чтобы избежать путаницы, необходимо четко различать по крайней мере два основных его употребления: как наименование определенного состояния общества, и для обозначения определенного течения общественной мысли. Первоначально слово «социализм» использовалось для обозначения будущего общества, основывающегося на идеалах социальной справедливости. Разное понимание принципов социальной справедливости приводило к возникновению различных «моделей» предполагаемого общественного устройства, по названию романа Т.Мора получивших наименование «утопий». Социалисты-утописты рассчитывали реализовать свои проекты идеального общества, убедив остальных в их преимуществах. Они полагали, что «истинный разум и истинная справедливость до сих пор не господствовали в мире только потому, что они не были еще надлежащим образом поняты»1. Стремление идеологов различных социальных групп обосновать и внедрить в общественное сознание свои представления об «истинной справедливости» породили соответствующие течения общественной мысли, которые также получили название социализма. Когда Маркс и Энгельс в «Манифесте коммунистической партии» писали о «феодальном социализме», «мелкобуржуазном социализме», «буржуазном социализме», они, естественно, не допускали и мысли о возможности действительной реализации такого рода общественного строя, и говорили о них только как о соответствующих комплексах представлений той или иной социальной группы. Что касается развитого Марксом и Энгельсом научного социализма, то он, в отличие от других видов социализма, прежде всего не рисует конструкцию «общества социальной справедливости», а указывает «такие силы, которые могут – и по своему общественному положению должны – составить силу, способную смести старое и создать новое»2.
Именно это, а не «проект» нового общества, Ленин считал содержанием научного социализма. Более того, по его мнению вообще «никаких особенно перспектив будущего научный социализм не рисовал; он ограничивался тем, что давал анализ современного буржуазного режима, изучая тенденции развития капиталистической общественной организации – и только»3. Разумеется, классики марксизма не могли не пытаться спрогнозировать результаты такого развития, но, как видим, такой прогноз имел факультативное значение и вовсе не входил обязательной составляющей в понятие научного социализма. Таким образом, в марксистской литературе было принято слово «социализм» использовать для обозначения определенного общественного устройства. А система взглядов, отражающая представления о законах развития капиталистического общества, результатом которого должно явиться его революционное преобразование, называлась «научным социализмом» (Маркс и Энгельс вопрос о разных видах социализма в «Манифесте…» соответственно и рассматривают в разделе, посвященном социалистической и коммунистической литературе).
Что касается самого Маркса, то он для обозначения нового общества предпочитал не применять слово «социализм», а называть его коммунизмом, особо выделяя в нем первую – переходную – ступень, для которой потом использовалось указанное понятие. Зато этим понятием широко пользовался Энгельс, чему имелись веские причины4. Еще позже этот термин столь же широко применял Ленин. Именно так он называл тот общественный строй, который под его руководством развивался у нас после Великой Октябрьской социалистической революции.
Да, результат этого развития во многом расходится с предположениями классиков марксизма. Но следует учитывать и то, что тот строй, при котором мы прожили столько десятилетий, исторически получил такое наименование. Вся наша история, все наши победы и поражения связаны с общественным строем, именовавшимся социализмом. Этот строй определял жизнь не одного поколения советских людей, он оказывал и продолжает оказывать огромное влияние на ход мировой истории. И вряд ли нам следует сейчас по каким бы то ни было соображениям отказываться от того наименования, которое он носил на протяжении многих лет. Единственная причина, по которой это можно было бы сделать – если бы было практически доказано, что реально возможен предполагавшийся (еще раз повторим – предполагавшийся только в самом общем виде) социализм. Но таких данных мы не имеем – именно потому, что последний не был практически реализован. Поэтому когда мы в данной работе говорим о социализме, то имеется в виду именно принятое у нас значение данного слова.
А вообще-то, говоря словами Ленина (относящимися, правда, к другому вопросу), «совершенно несерьезен тот спор о словах… Называйте, как хотите; это безразлично»5. Дальше ведь речь пойдет не о предполагаемом, а о том реальном общественном строе, который существовал у нас на протяжении нескольких десятилетий, а также и сегодня существует в ряде стран. А коль скоро новый общественный строй в том или ином виде был практически реализован, то «ныне о социализме можно говорить только по опыту»6. И целью нашей будет не судить этот строй, в каком бы виде он перед нами не выступал, на основе неких априорных представлений о том, каким ему надлежало быть, а постараться понять сам этот строй как данность, его место в процессе развития общества, его сущностные характеристики, закономерности функционирования и развития, его нынешнее положение и будущие судьбы – независимо от того, совпадают ли они с чьими бы то ни было представлениями о том, какими они должны быть для «истинного» социализма – что бы под ним не понимали.
Относительность истины как нельзя более ярко проявила себя в представлении о социализме как первой фазе коммунизма, «уже существующего, хотя еще и незрелого коммунизма»7, отмеченного «родимыми пятнами» капитализма – того общества, из которого он закономерно появляется в результате внутреннего развития последнего. В момент своего возникновения такое представление имело конструктивный характер, позволяя в первом приближении представить себе контуры будущего общества, но в качестве «теории» стало настоящими путами для теоретической мысли тогда, когда возникла необходимость анализа конкретного процесса его построения. Только его «отрицание», отказ от определения социализма как «пятнистого коммунизма», представление его тем, чем он на самом деле и является, а именно, совершенно особой общественно-экономической формацией, отличающейся по своим основным общественно-экономическим характеристикам от коммунизма никак не меньше, чем от капитализма, причем не столько количественно, сколько качественно, открывает сегодня возможность действительно научного анализа данного строя, его становления и развития8.
Другим, не менее важным моментом является то, что социализм как новый общественный строй мог быть установлен только в масштабах вполне определенной цивилизации, причем это не могла быть «западная» буржуазная цивилизация. Но и без наличия (равно как и определенного уровня развития) такой цивилизации социализм возникнуть также не мог. Таким образом, становление социализма одновременно представляет собой и осуществление непрерывности в общественном развитии, и воплощение перерыва постепенности в нем. Становление и развитие социализма стало конкретным проявлением социального образования («цивилизации»), представляющего собой ту относительную целостность, в которой на протяжении всего периода классового общества воплощалось и воплощается общество как организм.
Что касается социализма как определенного общественного строя, то на него в настоящее время имеется три достаточно существенно различающиеся точки зрения. Имея генетическую связь с представлениями о социализме социалистов-утопистов, они, тем не менее, формировались по мере того, как убеждение последних в том, что социализм может быть создан в соответствии с заранее заданным определенным проектом, заменялось представлениями о развитии общества в соответствии с объективно существующими законами.
Первая такая точка зрения принадлежит социал-демократам. Они считают, что в настоящее время по крайней мере в промышленно развитых капиталистических странах достигнута добротная основа для общественного устройства, когда в принципе человек как суверенная личность может удовлетворить свое стремление к достижению собственных целей в условиях уважения выгоды других, хотя вследствие наличия реальных недостатков и нуждающаяся в совершенствовании. При обеспечении совершенной кооперации и имел бы место социализм, но поскольку, вследствие индивидуалистической природы человека, такая цель недостижима, то к ней нужно только постоянно стремиться, в чем и заключается глобальный смысл социал-демократического движения — при всех частных различиях между его отдельными течениями. Так, в принятой в 1989 г. «Декларации принципов Социалистического Интернационала» так называемый «демократический социализм» определяется как «непрерывный процесс социальной и экономической демократизации, наращивания социальной справедливости», каковой процесс, по мнению авторов, уже и в настоящее время имеет место в «цивилизованных странах». Другими словами, здесь социализм представляется результатом прогрессивного развития нынешнего (буржуазного) состояния общества, и стало быть, не имеющим каких-либо особых собственных законов развития.
В доказательство справедливости такой точки зрения приводят достаточно высокий уровень жизни и социальной защищенности в этих самых «цивилизованных странах». При этом не только не рассматривается вопрос, что же делать гораздо более многочисленным странам «нецивилизованным», которым даже в силу нынешней ограниченности природных ресурсов планеты «цивилизованный» путь западных стран заказан. Но, что гораздо важнее, в рассуждениях о таком «социализме» стыдливо обходится то обстоятельство, что «социализация» западных стран своим экономическим основанием имеет прошлую и нынешнюю эксплуатацию остального мира и грабеж его природных ресурсов. Так когда-то в Древней Греции высокое развитие культуры ограничивалось свободными гражданами, а гораздо более многочисленные рабы, за счет эксплуатации которых существовало все общество, в расчет попросту не принимались. То же сейчас с «социализацией» на буржуазный манер. Как мы уже отмечали, в свое время германским национал-социалистам не удалось построить свой «социализм» за чужой счет на национальной основе. А вот «цивилизованные страны» сегодня гораздо более успешно добиваются той же цели совместно на основе региональной («цивилизационной»)9. Ясно, что такой весьма удобный (для «всадника», но не для «лошади») «социализм за чужой счет» будущего не имеет – не вечно же эксплуатируемое большинство будет покорно его терпеть.
Коммунисты, базирующиеся на теоретической основе марксизма, представляют себе социализм как вполне реальное и достижимое посредством собственных усилий состояние общества. Однако в том, что касается его сущности вообще, и тех законов развития, которым он подчиняется, в частности, здесь также имеются весьма существенные различия.
Вторую точку зрения представляют те, кто ранние, доопытные гипотезы классиков марксизма возвел в ранг непогрешимого догмата веры. Для них социализм — первая фаза коммунистического общества, в качестве таковой уже имеющая его сущностные характеристики, но еще несущая на себе последствия своего происхождения из общества капиталистического. Другими словами, для них это «ранний», еще «незрелый» коммунизм, чье развитие детерминировано конечной целью — полным коммунизмом, которым он должен стать после «созревания». Таким образом, и здесь социализм управляется не собственными законами развития, а законами развития другого общества. А поскольку это будущее общество, то тут мы имеем достаточно явственный случай телеологического подхода, к науке отношения не имеющего.
Вообще понятия (а точнее, категории) «раннего» и «зрелого», которое сейчас все чаще используется для характеристики социализма – в нашей стране (как, впрочем, и в других социалистических странах) именно «раннего», применительно к общеметодологическим положениям имеет явно выраженный телеологический характер. Этимологически данные понятия восходят к определению относительно устойчивой «зрелой», взрослой формы биологического организма по сравнению с ее «ранними», еще «незрелыми», изменяющимися в сторону достижения «зрелости» формами. В этом случае конечная цель — взрослая форма — действительно как бы «из будущего» определяет в значительной степени (но не полностью, поскольку и «незрелый» организм находится в окружающей среде и вынужден взаимодействовать с ней как некоторое отдельное образование независимо от конечных результатов его развития) путь развития «ранней», т.е. как бы обратным воздействием влияет на формы незрелые, превращая их таким образом в ступени достижения зрелой формы. В этом случае такая возможность существует в связи с онтогенетически циклическим развитием биологических организмов. Но в филогенезе это якобы детерминирующее «будущее» на самом деле является «прошлым» — результатом борьбы за существование, эволюции, и ничего общего с мистическим влиянием конечного результата на процесс не имеет. Интересно, например, как сторонники такой точки зрения различали бы «ранние» или «зрелые» формы какого-нибудь вида? Каждый вид имеет свою историю, свои этапы становления и упадка, но не имеет и иметь не может каких-то «ранних» или «зрелых» форм. Вообще когда речь идет о действительном становлении того или иного объекта, входящего в определенный ряд развития (в том числе о том или ином общественном устройстве), рассуждения о его «зрелости» или «незрелости» уже впрямую приобретают мистическую форму телеологической заданности процесса развития конечным результатом.
На самом деле характер реально существующего объекта на каждом этапе его развития определяется не мистическим стремлением к «зрелости», а исходными условиями и действующими законами. Ступенью же развития некоего «зрелого» объекта (принятого нами почему-либо за таковой) каждый этап становится только после его «созревания», но не в момент существования — в этом случае он имеет самодостаточный характер, не привязанный к конечному результату, как тот выявится впоследствии (и который, кстати, мог бы оказаться и другим, если бы в процессе развития условия существования, редко остающиеся неизменными, изменились иным образом). Только «в искаженно-спекулятивном представлении делу придается такой вид, будто последующая история является целью для предшествующей… Таким способом бесконечно легко придать истории “единственные” обороты: для этого достаточно изображать каждый раз самый новейший ее результат в виде “задачи”, которую “она искони ставила перед собой”… Можно, например, утверждать, что подлинная “задача”, которую “искони ставил себе” институт земельной собственности, заключалась в вытеснении людей овцами — последствие, обнаружившееся недавно в Шотландии»10. Пользуясь такой методологией, «излагают историю только с той целью, чтобы изобразить рассматриваемую эпоху как несовершенную, предварительную (“раннюю”, “незрелую” — Л.Г.) ступень, как еще ограниченную предшественницу истинно исторической (“зрелой” — Л.Г.) эпохи»11.
И, наконец, все явственнее начинает проявляться третья точка зрения на социализм, согласно которой социализм представляет собой особую общественно-экономическую формацию со своими собственными законами функционирования и развития, существенным образом отличающимися от законов как капиталистического, так и коммунистического общества. Более того, как мы видели выше, социализм как общественно-экономическая формация характеризует определенный новый социальный организм – социалистическую «цивилизацию», еще не совпадающий со всем человечеством, как при коммунизме. В этом случае социализм сам по себе (а не только как продолжение капитализма или преддверие коммунизма) становится объектом изучения. Это уже строго научный подход, не имеющий ничего общего ни с метафизической консервацией «старых» законов общественного развития, ни с телеологическим управлением «из будущего», а представляющий этот общественный строй как качественно отличный самостоятельный этап в ряду других этапов общественного развития (хотя и отличающийся от остальных определенным своеобразием). Другими словами, с этой точки зрения «социализм – это особая общественно-экономическая формация, качественно отличающаяся как от капитализма, так и от коммунизма и характером производительных сил и типом производственных отношений»12.
Соответственно и вопрос о том, является ли социализм первой фазой коммунизма или особым состоянием общества, также тесно связан с тем, имеет ли социалистическая революция «всемирный» характер и одновременно происходит в большинстве наиболее развитых стран буржуазной «цивилизации», или первоначально локальный в относительно отсталой стране, представляющей совсем другую «цивилизацию»: в первом случае ввиду особого (господствующего) положения «западной цивилизации» на планете внешние влияния в принципе несущественны, во втором же они играют важнейшую роль. Если бы верным оказался первый вариант, то действительно речь шла бы только о простом переходе из одного «агрегатного состояния» в другое путем выведения «родимых пятен», и действительно социализм представлял бы собой первую фазу коммунизма. Но в действительности верным оказался второй, всемирная (в упомянутом смысле слова) революция «задержалась» на неопределенное время, а значит «смесь» вновь возникшего строя со «старым» (как смесь воды и пара во влажном паре) в мире должна достаточно долго существовать в виде особого, специфического состояния. Ее реальное существование показало, что она имеет также собственные, весьма специфические характеристики, отличные как от одного, так и от другого крайних состояний. И это действительное состояние общества нужно изучать, выявляя присущие ему закономерности, а не навязывать ему априори заданные определения.
Тот скачок в общественном развитии, который происходит при переходе от классового к бесклассовому обществу, является диалектическим переходом более высокого порядка, чем происходившие ранее переходы в пределах классового общества между различными его этапами. Однако, признавая фундаментальный характер соединяющих данные этапы скачков в общественном развитии, некоторые «диалектики» совсем не диалектически переходный период между этими этапами представляют себе как период сочетания старого и нового и постепенного «вытеснения» старого новым. Но ведь именно фундаментальность перехода (в отличие, скажем, от переходов между этапами развития внутри классового общества) имеет следствием не только его протяженность во времени, но и необходимость внутри данного периода ряда качественных скачков низшего порядка, своеобразных «ступенек». В частности, что касается перехода между классовым и бесклассовым обществом, то при этом из отдельных «атомов»-индивидов, характерных для классового общества, не может быть непосредственно сформирован монолитный «кристалл» общества коммунистического, общества «ассоциированных индивидов», просто путем их постепенной агрегации. Такой «переходный период» недиалектичен теоретически и невозможен практически.
И теоретически, и реально он возможен только как период, качественно отличный как от предыдущего, так и от последующего периодов, как такой период, когда внутреннее строение общества не является ни «атомизированным», ни «ассоциированным», и, главное, не составляет «смеси» одного и другого. Это период формирования из «атомов» неких «молекул», на базе которых только и сможет в будущем сформироваться «кристалл». Потому этот период — социализм — и представляет собой состояние общества, качественно отличное как от капитализма, так и от коммунизма, что он является уже не обществом разрозненных индивидов, но еще и не единым обществом-человечеством. Это не «государственный капитализм» и не «незрелый» коммунизм, а совершенно особенное общественно-экономическое образование, общество тех самых «молекул» — коллективов. Эти «молекулы» – специфический социальный элемент именно данного «переходного» общества, их не было при капитализме и не будет при коммунизме.
Дело в том, что речь здесь идет вовсе не об одном из различных объединений людей, характерных для любого общества. Коллектив – принципиально новый тип объединения людей, возможность которого появляется только при социализме, хотя соответствующие идеи имели место задолго до появления возможностей их воплощения: «…Идея превратить все общество в добровольные группы принадлежит Фурье. Но у Фурье эта идея предполагает полное преобразование современного (капиталистического – Л.Г.) общества и основывается на критике существующих “союзов”»13. При коммунизме, когда человек в социальном смысле непосредственно войдет в общество в качестве его элемента, необходимость в коллективах как особых типах объединения, опосредующих это вхождение, исчезнет.
Положение о коллективистском характере социалистического общества имело у нас широкое распространение (равно как и сегодня в социалистическом Китае считают «принципиальной основой – коллективизм»14), но главным образом для его обобщенной характеристики. А вот «само понятие коллективизма в большинстве случаев анализировалось нашими учеными в качестве момента, сопутствующего анализу других понятий»15, в то время, как именно коллективизм является наиболее важным, исходным моментом для понимания сущности социализма, отличающим его от всех других формаций, в том числе как от предыдущей (капитализма), так и последующей (коммунизма).
О грядущем обществе Маркс говорил, что оно будет обществом, «основанном на началах коллективизма»16. Следует, однако, отметить, что Маркс, говоря о коллективистском характере будущего общества, понимал его тем не менее именно в виде всеобщей «ассоциированности». Для него «коллективное» – это просто «совершаемое совместно с другими»17. Коллективам же как особым локальным социальным образованиям Маркс специального внимания не уделял: «он даже не успел оставить нам намека о том, как будут относиться друг к другу производственные коллективы людей, что является ключевым вопросом в сфере производства»18 в социалистическом обществе.
Таким образом, Маркс, впрочем, как первоначально и Ленин, не являлись коллективистами в предложенном здесь понимании. Фактически в качестве единственного «коллектива» понималось некое «общество» (или, говоря словами Энгельса, «на первое время» государство). Отдельным производственным предприятиям не придавалось специального значения, в будущем им предназначалась роль не более чем чисто технологических (но не социальных!) элементов всеобщей «фабрики». Предполагалось, что именно в эту «фабрику», а не в конкретный производственный коллектив, должен непосредственно входить отдельный работник, непосредственно же внося свой труд в общее дело и получая именно от «общества» соответствующее труду вознаграждение. Но при реальном социализме между индивидом и обществом (равно как и государством) оказалось особое социальное образование – коллектив.
Другими словами, если при социализме, в отличие от капитализма, труд отдельного индивида опосредуется коллективом, в который он входит, то в отличие от коммунистического общества он не носит еще непосредственно общественного характера. Труд становится «непосредственно общественным трудом» только тогда, когда общество применяет принадлежащие ему средства производства «в непосредственно общественной форме»19, т.е. когда отношение индивида к средствам производства именно как непосредственно общественное не опосредуется никакими социальными структурами (государство, класс, коллектив и т.п.). Но тогда, поскольку социализму социальная дифференциация все еще присуща, совершенно неправомерно утверждать, что «прямое соединение совокупного работника общества с принадлежащими ему как субъекту собственности средствами производства» есть базовая характеристика не только коммунистического, но и социалистического общества. Автор приведенного высказывания не может все же полностью абстрагироваться от данного обстоятельства, а потому добавляет: «Разумеется, в рамках социализма здесь возникают кое-какие опосредования, но они не могут изменить сути»20. Вот именно, что могут! И не только могут, но и действительно меняют. В том-то и дело, что любой конкретный способ производства (кроме первобытного и коммунистического) как раз и представляет собой особый вид такого «опосредования» между индивидом и всегда и неизменно по сути общественным производством. И если при социализме процесс производства, скажем, организуется государством через посредство конкретного предприятия, входящего в ту или иную производственную систему, то это и есть опосредование труда индивида определенной социальной (а не просто технологической) структурой (как государством, так и предприятием), т.е. говорить здесь о его непосредственно общественном характере неправомерно. Как мы увидим далее, на разных этапах развития социализма это опосредование имеет различный характер, но при всех условиях в цепь опосредующих звеньев неизменно входит коллектив.
При представлении же труда при социализме в принципе непосредственно общественным любой учет специфических социальных интересов отдельного коллектива (именно как коллектива, т.е. как определенного социального образования, а не просто как по технологическим соображениям административно объединенных в некоторую рабочую группу «ассоциированных индивидов») воспринимался как проявление анархо-синдикализма. И, в общем-то, правильно воспринимался, ибо анархо-синдикалистские проявления действительно имели место и находили выражение в представлениях об абсолютной, а не относительной отдельности каждого коллектива (что бы под последним не понималось). Действительно, анархо-синдикализм, т.е. фактическое отрицание более высокой, чем коллективы, и не сводящейся к простой сумме последних целостности – идея вполне мелкобуржуазная. Но это никак не меняет того, что при социализме именно коллектив, опосредуя как особое социальное образование участие индивида в общественном производстве, является субъектом экономической деятельности.
Но чтобы коллектив оставался органической частью общества как некоторой более высокой целостности, он, становясь субъектом деятельности экономической, не должен одновременно являться также и субъектом политической деятельности, в частности, не может быть источником властных функций. Противоположный взгляд, однако, достаточно распространен среди «левых» различного толка. В последовательном виде он отражен в статье Зденека Млынаржа «Трудовой коллектив как субъект политической системы». Отмечая необходимость «создания институциональных форм, в которых трудовой коллектив может проявить себя как субъект в процессе принятия решений и управления внутри предприятия или учреждения», т.е. «в самом трудовом (экономическом) процессе»21, автор считает также, что не только «трудовой коллектив должен выступать как субъект, владеющий средствами производства»22, но и иметь «статус реального субъекта политической системы»23. В свое время опасность анархо-синдикализма в какой-то мере как раз и оказалась реальной вследствие первоначального формирования органов политической власти – Советов по производственному признаку. Чтобы противостоять этой опасности, субъектом политической власти, как это не парадоксально, при «развитом» коллективизме должен являться не коллектив, а индивид. Только в этом случае могут создаваться целостные (а не «составные») «надколлективные» образования, предупреждающие «групповой эгоизм» анархо-синди-кализма. Вот почему в дальнейшем не может быть и речи о формировании Советов по производственному принципу, только по территориальному. В экономической же области что касается собственности на средства производства, то владение ими должно осуществляться как раз упомянутыми «надколлективными» образованиями, ибо их принадлежность коллективу неизбежно превращала бы его из элемента социалистического общества в буржуазную кооперацию. Такова диалектика взаимодействия общества (государства), коллектива и индивида при дальнейшем развитии социализма. Эти вопросы, однако, более подробно будут рассмотрены ниже.
Мы уже отмечали, что классики марксизма такое специфическое социальное образование как отдельный коллектив (для существования которого в их время не было даже предпосылок) фактически в расчет не принимали. И позже особая роль коллектива в социалистическом обществе была осознана не сразу. В этом смысле работа Ленина «О кооперации» действительно представляла «коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм»24, ибо в ней впервые в марксистской литературе в качестве базового экономического образования фактически признается коллектив (в виде кооперации), но при обязательной интегрирующей роли государства – через владение им средствами производства. Последнее представляет собой важнейший, принципиальный момент, именно «коренным образом» отличающий точку зрения Ленина также от «мечтаний» многочисленных прошлых и нынешних сторонников «кооперативного социализма». С этой работы Ленина вполне могло начаться развитие теории социализма как особой общественно-экономической формации, субъектом экономических отношений в которой, в отличие от предыдущих формаций, является не индивид (или группа индивидов), а особое относительно целостное социальное образование – коллектив. Но не началось – по причинам, на которых мы остановимся ниже.
Ввиду столь важной роли коллективизма для характеристики социализма как общественно-экономической формации, необходимо все же более точно определить, какое содержание вкладывается в понятие коллектива. Конечно, и здесь, как и относительно общества вообще, «единственно реальной дефиницией оказывается развитие самого существа дела»25, однако хотя бы предварительное определение того, что здесь понимается под коллективом, может оказаться полезным для дальнейшего изложения.
Дело в том, что группа, в которую объединяются индивиды для достижения целей, недостижимых порознь, обеспечивающая синергетический эффект их действий, в подразумеваемом здесь смысле коллективом еще не является, — как некоторое количество даже органически соединенных между собой клеток еще не являются не только организмом, но и органом последнего. Коллектив возникает тогда, когда вследствие качественного скачка данное объединение выходит за рамки узко утилитарных целей его членов.
С социально-психологической точки зрения классовое общество (тем более в его высшей стадии общества буржуазного) является конгломератом «атомизированных» индивидов. По словам Маркса, «в “гражданском обществе” различные формы общественной связи выступают по отношению к отдельной личности как средство для ее частных целей, как внешняя необходимость»26. Живя в антагонистическом обществе, эти индивиды, ввиду общественной сущности человека, не могут не включаться в различные структурные образования, но, тем не менее, остаются все же «атомами», не вступающими в «химическую реакцию» с образованием нового качества, и, стало быть, не создают таких социальных структурных образований, которые можно было бы назвать коллективами. Это касается не только экономических, но и политических отношений буржуазного общества: «там трудовой коллектив как субъект политической системы – явление неизвестное»27. В противоположность этому коммунизм есть, по Марксу, обществом «ассоциированных индивидов». Здесь все общество представляет собой целостный организм, каждый член которого если и включается в отдельные структурные образования, то только с конкретными «технологическими» целями, а в общем уже сам по себе выполняет роль органического элемента целого, не нуждаясь в промежуточных формах объединения — коллективах — как неких социальных структурных образованиях.
Переход от одного к другому, представляя собой качественный скачок высшего порядка, неосуществимый эволюционным путем постепенного нарастания всеобщей агрегации упомянутых «атомов», может и должен пройти (и прежде всего — в области материального производства) через этап локальной организации, первичной агрегации с формированием из «атомов» тех «молекул», которыми, в частности, являются производственные коллективы. Но настоящий производственный коллектив появляется не тогда, когда какое-то количество людей внешней силой или по собственному почину объединяются для более успешного выполнения определенных функций (это необходимая подготовительная стадия, которую в массовом порядке осуществляет капитализм посредством укрупнения производства28), а когда данное объединение приобретает функциональное единство, базирующееся на этих функциях, но не сводящееся к ним, когда связанная производственным процессом группа людей приобретает существенные признаки целостности как социальный «квазиорганизм». Вот тогда-то из собранных вместе в едином производственном цикле работников возникает производственный коллектив. Это происходит при социализме.
Так что образование коллектива требует определенных общественных условий, и они-то как раз и появляются со становлением коллективистского социалистического строя. Другими словами, данные моменты жестко взаимосвязаны и взаимообусловлены: будучи коллективистским по своей сути, и следовательно невозможный без коллективов, социализм, в свою очередь, только и создает саму возможность образования коллективов, те условия их образования, которых до социализма просто не могло быть (в этом одна из важнейших причин отмечавшегося Лениным отличия социалистической революции от буржуазной, уже застающей готовыми буржуазные отношения). Образование коллективов предполагает определенный характер взаимосвязей в цепочке «индивид-коллектив-общество», т.е. такое положение в производственных отношениях, когда эта группа — не самостоятельное объединение индивидов, а элемент, впаянный в целостную общественную систему, через который индивид в своих главных социальных функциях включается в общество.
Таким образом, чтобы производственная группа превратилась в коллектив, т.е. составила не простой конгломерат, а некоторое (относительное) целое, требуется по крайней мере наличие двух моментов, отражающих необходимые внутренние и внешние связи этого образования. Нужно иметь в виду, что:
Во-первых, люди всегда объединяются ради совместного достижения некоторой цели, для удовлетворения какой-то потребности. Но в определенных условиях это объединение позволяет эффективно удовлетворять также другие потребности, кроме тех, ради которых оно было создано, в том числе, что еще более существенно, и просто посредством самого вхождения в данную группу. В последнем случае коллектив для человека из средства превращается также и в цель, что и является характерной особенностью его как коллектива.
Во-вторых, коллектив есть именно относительное целое, не замкнутое само на себя (как, к примеру, кооперативное предприятие в капиталистическом окружении), но представляющее органическую часть действительного целого — социалистического общества. Другими словами, это не самостоятельный организм в некоторой социальной среде, но орган социального организма («клеткой» которого является отдельный индивид), без него и вне его теряющий свою качественную определенность (в невозможности соблюдения этого условия — причина неудачи «идеальной промышленной общины» Оуэна, как и других подобных образований). Человек может входить во многие коллективы, хотя наиболее важным и существенным из них является коллектив производственный.
Первый момент создает условия для трансформации характера удовлетворения основных общественных потребностей человека, освобождая его от порой антиобщественной формы, которую он имеет в классовом обществе. Второй включает коллектив в общество и способствует постепенному расширению границ коллектива – в перспективе до границ всего общества в целом. Только совместное осуществление этих двух функций обеспечивает формирование человека коммунистического общества, т.е. выполнение основной социально-психологической «задачи» социализма.
Таким образом, в обществе, которое при социализме еще не охватывает в качестве единого организма все человечество (что является непременным условием коммунистического общества – ни о каком коммунизме «в отдельно взятой стране» или группе стран, и даже в отдельной «цивилизации» не может быть и речи) и имеет внутреннюю социальную дифференциацию, между индивидом и обществом располагается особая социальная группа с непосредственными технологическими, экономическими и социальными связями — коллектив. Непонимание данного фундаментального момента — принципиально коллективистского характера социализма, отличающего его как от всех до сих пор имевших место, так и от будущей общественно-экономических формаций, — делает абсолютно безнадежными попытки понять характер современного общественного развития.
Важнейший момент нового строя — коллективизм — связан с весьма существенным изменением социальной психологии. Человек-коллективист ощущает себя хотя еще и не органической частью всего человечества (что будет присуще человеку коммунистического общества), но уже и не изолированным индивидом, интересы которого в принципе противостоят интересам всех остальных людей (что присуще человеку в обществе буржуазном). Он ощущает себя частью определенного общественного образования, через которое он включается в общество, в которое входит как составной элемент, интересы которого отражают его интересы, а в некотором смысле имеют для него даже более высокий уровень приоритета, чем личные. Такое изменение представлений составляет настоящий психологический перелом – равный (но обратный по знаку) тому перелому, который происходил при разрушении первобытной общественной целостности, последним (и частичным) воплощением которой являлась община. Потому такой психологический перелом значительно облегчен для тех общественных образований, которые сохранили остатки общинных отношений. Как мы уже отмечали, община и коллектив именно вследствие своего различного положения в процессе общественного развития (первая – осколок прошлого, второй – зародыш будущего), достаточно существенно различаются в социально-экономическом отношении, однако важно то, что они оба характеризуются частичной агрегацией индивидов. Вытравить из сознания людей общинные начала не так-то просто, на Западе для такой «перестройки» понадобились века борьбы «всех против всех», тяжелейшие процессы Реформации, одной из главных целей которой объективно и было внедрение социальных и психологических установок индивидуализма. Там, где население не прошло такой «обработки» (т.е. во всем мире кроме «западной буржуазной цивилизации»), это очень способствует социалистическим преобразованиям, облегчая становление коллективистской психологии.
Социализм как строй с более высоким (по отношению ко всем предыдущим) уровнем обобществления уже для своего становления потребовал соответствующих условий как в экономической, так и в социальной сферах. Поэтому он возникает под воздействием капитализма (в его «западной» форме), но не из него. Дело в том, что капитализм отличается и в этом отношении определенными, внутренне присущими ему противоречиями. Его развитие ведет к повышению уровня обобществления производства (со временем вплоть до глобального), однако при столь же необходимой и неизбежной дальнейшей «атомизации» индивидов в социальном отношении, на основе которой только и может осуществляться капиталистическое обобществление производства. О разрешении этого противоречия в духе классической диалектики можно было бы говорить только в том случае, если бы капитализм представлял собой замкнутую систему (т.е. если бы в мире, например, существовали только «промышленно развитые страны») и, следовательно, развитие его определялось бы только этими противоречиями. Но в реальном капиталистическом («западном») мире с возможностью выноса «энтропии» вовне вместо разрешения противоречий в нем происходит загнивание. А разрешается данное противоречие иначе. Именно приглушающий внутренние противоречия «вынос» капиталистических производственных отношений за пределы «ядра», в те социальные системы (цивилизации), где еще достаточно сильны остатки общинной психологии, вызывает в них резкое обострение и социальных, и экономических отношений, чреватое взрывом, скачком, становлением нового социального качества.
Когда рассматривается проблема социализма как соответствующего состояния общества, невольно возникает вопрос: а не имеют ли место здесь разногласия чисто терминологического характера? В конце концов, не все ли равно, называть социализм первой фазой коммунизма (тоже ведь представляющей собой своеобразный «переходный период») или особой общественно-экономической формацией, переходной между классовым и бесклассовым обществом? Может, это и было бы все равно, если бы речь шла о неких абстрактных определениях. Но нам знания о социализме прежде всего нужны для конкретной оценки происходящих процессов и определения программы действий. И если социализм считать первой фазой коммунизма, то для его понимания следует руководствоваться механизмами последнего, т.е. исходить из общественной собственности на средства производства, непосредственно-общественного характера труда и т.п. В этом случае при всех их особенностях, связанных с «незрелостью» этой фазы коммунизма, они все равно уже представляют собой самый высший тип общественной организации. Следовательно, в его анализе отпадает необходимость в том, что составляет основу марксистского материалистического анализа процесса общественного развития — в исследовании противоречий между революционными производительными силами и относительно консервативными производственными отношениями.
В результате у нас все дело сводили к устранению «родимых пятен» капитализма и расчистке дороги уже имеющимся закономерностям коммунизма. Да еще и антагонистические классы, оказывается, отсутствовали, были одни «дружественные», соответственно не существовало и объективной базы для социальных потрясений. А они, эти потрясения, вдруг произошли, да еще какие! Но как же их объяснить в русле марксистской социологии, если фактически отказались от ее основного инструмента для анализа общественных процессов? Значит, либо искать причины вовне, либо ставить во главу угла субъективные факторы: кто-то заблуждался и чего-то не понял, не учел, не сделал, или, наоборот, извратил, сделал не так, а кто-то не внял предупреждениям, отступил от «генеральной линии» и заветов, допустил то, чего допускать не следовало, а то и вообще предал идеалы… Или же, отрешившись от реальных социально-экономических процессов, искать ответ в какой-то абстрактной «незрелости» социализма? Фактический переход в анализе общественных процессов от материализма к идеализму — вот цена ошибок в решении казалось бы сугубо терминологических проблем.
Итак, социализм мы здесь рассматриваем как специфическую общественно-экономическую характеристику особого социального организма – «цивилизации» «четвертого поколения». Порождается она внутренними процессами в «цивилизациях» «второго поколения» совместно с взаимодействием последних с «цивилизацией» буржуазной («третьего поколения») в лице ее «ядра» («передовых промышленно развитых стран»), вследствие растущей глобализации общественных процессов все больше затягивающего эти «цивилизации», во многом еще сохраняющие основные черты самостоятельных социальных организмов, в сферу своего влияния в качестве своей «периферии» («полупериферии»). Данная «цивилизация» по отношению к предыдущим отличается той особенностью, что она является последним – переходным – все еще относительно локальным социальным организмом, непосредственно предшествующим полному объединению человечества в единое целое – коммунистическое общество. Соответственно этому, повторим, главной социальной характеристикой социализма как общественного строя является его коллективизм, обеспечивающий так сказать «первичную агрегацию» индивидов, завершающуюся при коммунизме полным их «ассоциированием» в единый всепланетный, глобальный общественный организм (и, соответственно, полным растворением в нем коллективов как особых социальных образований).
4.2. Производственные отношения социализма
С общественно-экономической точки зрения главная ошибка тех, кто настаивает на определении социализма как первой ступени коммунизма (т.е. коммунизма еще неразвитого, незрелого) лежит в представлениях об отношениях собственности на средства производства. Когда Маркс говорил о первой фазе коммунизма, он имел в виду, что собственность на средства производства при этом уже будет такой же общественной, как и при полном коммунизме, никаких отличий в этой области не предполагалось. Да их и не могло быть, поскольку вообще предполагалось существование всего двух форм собственности — частной и общественной. Если цель коммунистов — «отрицание частной собственности» — достигнута, то результат может быть только один — установление собственности общественной. Но в «Критике Готской программы» Маркс, говоря про новые общественные порядки («обычно называемые социализмом, а у Маркса носящие название первой фазы коммунизма»1), показывает, что данное общество, выйдя из недр общества капиталистического, несет на себе его отпечаток, — однако не в отношении собственности на средства производства, а в распределительной сфере. Говоря словами Ленина, «Маркс показывает ход развития коммунистического общества, которое вынуждено сначала уничтожить только ту “несправедливость”, что средства производства захвачены отдельными лицами, и которое не в состоянии сразу уничтожить и дальнейшую несправедливость, состоящую в распределении предметов потребления “по работе” (а не по потребностям)»2. Другими словами, дело в том, что отношения в производственной сфере преобразуются сразу же в результате коммунистической революции, а в сфере распределения — только через некоторое время, когда коммунизм «разовьется на своей собственной основе» (которой прежде всего и является общественная собственность на средства производства).
Итак, разделяя коммунизм на две фазы, Маркс и Ленин предполагали, что на первой из них в сфере производства будут уже коммунистические отношения, а в сфере распределения еще некоторое время будут действовать старые, или, как они выражались, сохранится «буржуазное право». Но право, как мы знаем, только отражает «возведенную в закон волю господствующего класса». Если этим классом в переходный период является пролетариат, то почему же это «буржуазное право»? Потому, отвечает Ленин, что коммунизм выходит из капитализма и не может сразу освободиться от него. Производственные отношения, прежде всего, отношения собственности – базовые. Они революционно меняются, ибо этого требует развитие производительных сил, которое подготовило такую перемену. Происходит скачкообразное изменение производственных отношений (по крайней мере, в части отношений собственности). Право же – надстроечное образование, и в качестве такового быстро изменяться не может. Другими словами, речь идет действительно всего лишь о переходном периоде, когда надстройка приводится в соответствие с базисом нового общественного строя, о том времени, когда последний еще не существует как некоторая целостность с относительно гармоническим сочетанием своих составляющих. А коль скоро это так, то нет ничего удивительного, что для Маркса и социализма как особой общественно-экономической формации не существовало. Логика, как всегда у Маркса, железная.
Наши «номенклатурные теоретики», взяв на вооружение представления Маркса о социализме как первой фазе (ступени) коммунизма, уже поневоле и по собственному почину дополнили их идеей «целой эпохи» его существования в этом качестве, повидимому даже не замечая внутренней нелогичности такого сочетания. Победа социализма в одной стране (а затем и в ряде стран) при сохранении капиталистического окружения (которое оказалось вовсе не склонным следовать предписаниям в отношении революционных преобразований) определило длительное существование нового общественного строя как локального образования. Стал вопрос о «построении социализма в одной, отдельно взятой стране». Но даже сам смысл термина «построение социализма» как чего-то более или менее определенного и стабильного, со своими собственными общественно-экономическими характеристиками, прямо противоречил представлениям Маркса о нем как принципиально не имеющем стабильных общественно-экономических характеристик, так как суть его в том и состояла, чтобы они постоянно (и весьма быстро) менялись в сторону «полного коммунизма». Энгельс эту мысль выразил так: «Так называемое “социалистическое общество” не является, по моему мнению, какой-то раз навсегда данной вещью, а как и всякий другой общественный строй его следует рассматривать как подверженное изменениям и преобразованиям»3.
Представление о социализме как об относительно длительном периоде развития со своими собственными общественно-экономическими характеристиками, с собственной надстройкой и т.п. приходит в прямое противоречие с представлениями Маркса. Ведь, по его мнению, «структура распределения полностью определяется структурой производства. Распределение само есть продукт производства – не только по содержанию, ибо распределяться могут только результаты производства, но и по форме, ибо определенный способ участия в производстве определяет особую форму распределения, форму, в которой принимают участие в распределении»4. «Всякое распределение предметов потребления есть всегда (!) лишь следствие распределения самих условий производства. Распределение же последних определяет характер самого способа производства»5. «Полностью определяется», «не только по содержанию, но и по форме», «всякое», «всегда лишь следствие» – как видим, мысль выражена предельно ясно. Способа производства, в котором имело бы место расхождение между характером производства и распределения (например, отношения собственности коммунистические, а распределение осуществляется согласно «буржуазному праву») просто не может быть в природе. Потому, повторим, и не использовал Маркс термина «социализм», для него такого общественно-экономического строя вообще существовать не могло, ибо для него «производство, распределение, обмен и потребление идентичны», поскольку «все они образуют собой части целого, различия внутри единства»6. То ли дело первая (переходная, установочная) фаза коммунизма, тот период, в течение которого просто факторы вторичные приводятся в соответствие с первичными (для чего и необходима диктатура пролетариата, причем «в период борьбы за разрушение старого общества пролетариат действует еще на основе старого общества»7).
Но если принять за истину совершенно справедливые утверждения Маркса, что распределительные отношения — функция отношений производства, что в конечном счете «каждая форма производства порождает свойственные ей правовые отношения»8, то на каком же основании будут продолжать достаточно длительное время существовать «буржуазные» отношения в сфере распределения при коммунистических отношениях в производстве? Ответа нет. Да классики марксизма и не должны были его давать, поскольку ими предполагалось, что ввиду отсутствия внешних препятствий вследствие всемирного характера революции, т.е. революции во всех (или большинстве) промышленно развитых стран, уже готовых по уровню развития производительных сил к коммунистическому обобществлению средств производства, этот переход будет относительно кратковременным и произойдет вследствие готовности производительных сил как бы «по инерции». Образно говоря, скорость вращения колес автомобиля однозначно определяется оборотами двигателя и включенной передачей, и на может быть никакой иной. Чтобы получить другую скорость движения, нужно изменить если не обороты двигателя, повысив развиваемую им мощность (в данном случае – уровень производительных сил, что в дальнейшем предполагается в обязательном порядке, но на что требуется достаточно длительное время), то хотя бы передачу. Сделать это вполне возможно «на ходу»: в то время, пока будет производиться «переключение», движение не прекратится (хотя и замедлится), ибо «автомобиль» ранее набрал определенный запас инерции. Скорость движения при этом будет определяться именно ею, и при «отключенном сцеплении» ни характеристики «двигателя», ни установленная «передача» не будут иметь здесь существенного значения. Но оказалось, что процесс проходит не в мировых масштабах, да при первоначально относительно слабом развитии средств производства, да еще и слишком длителен, чтобы все время идти «по инерции». В результате теперь нам вот и приходится самим искать ответы на те вопросы, которые классиками марксизма даже и не ставились.
Но суть дела заключается именно в инерции, в использовании предварительно запасенной энергии, а следовательно, весь процесс должен быть кратковременным, притом настолько кратковременным, чтобы за его время была использована лишь допустимая часть этой инерции – без существенного изменения «скорости движения». Умудренный опытом Энгельс в 1891 году писал: «Возможен новый общественный строй, при котором исчезнут современные классовые различия и при котором – повидимому, после короткого (!), связанного с некоторыми лишениями, … переходного времени – средства для существования, пользования радостями жизни, получения образования и проявления всех физических и духовных способностей в равной мере, со всевозрастающей полнотой будут предоставлены в распоряжение всех членов общества благодаря планомерному использованию и дальнейшему развитию уже существующих огромных производительных сил»9. «Короткого» – вот в чем суть! Ведь на «целую историческую эпоху» никакой инерции не хватит (даже при самых «огромных» производительных силах в начале периода и «некоторых лишениях» в «переходное время») – необходимо опять жестко связать распределение с производством – «включить передачу». И если реально переходный период коротким (в изложенном понимании) не получается, то неизбежно становление и длительное функционирование на собственной основе определенного общественного способа производства (в котором производство и распределение, как и положено, соответствуют друг другу), по сути своей еще не являющегося коммунистическим. Называть ли этот строй социализмом – дело вкуса. Но как бы мы его не называли, необходимо совершенно ясно отдавать себе отчет в том, что он не только никогда реально не соответствовал представлению о первой стадии коммунизма, но и в принципе ему соответствовать не может, являясь вполне определенным особым общественно-экономическим строем, характеризующимся своими собственными производственными отношениями (в том числе особенными только ему присущими отношениями собственности на средства производства, и собственным «сцеплением» между производством и распределением) и соответствующими им надстроечными установлениями – и все это на весьма продолжительное время и наряду с существованием в мире капитализма.
Отношения собственности на средства производства имеют решающее значение для характеристики этого нового строя (как, впрочем, и любого другого). Если отношения распределения еще не коммунистические, то, значит, и определяющие их отношения собственности также еще таковыми вполне не являются — той стороной, которой они обращены к производству, они уже общественные, а той стороной, которой они обращены к распределению (и потреблению) — еще нет (или не полностью). Другими словами, отношения собственности при социализме в отличие и от капитализма, и от коммунизма, где такое соответствие существует, оказываются нецелостными. Следовательно, это – не имеющий места ни в классовом, ни в бесклассовом обществе совершенно особый характер отношений собственности (и не частной, и не общественной). Но тогда, опять же, получается, что и социализм — и не «первая фаза коммунизма», и не «госкапитализм», но особый социальный строй с только ему одному свойственными отношениями собственности на средства производства.
Производственные отношения, в которые вступают субъекты производственной деятельности, всегда в качестве важнейшего компонента включают в себя определенные отношения собственности на средства производства, специфические для каждой общественно-экономической формации. Специфическими они являются и для социализма, и в соответствии с тем, что здесь именно коллектив является субъектом экономической деятельности, можно было бы говорить о коллективной форме собственности, если бы не та путаница, которая сегодня связана с этим понятием. Достаточно сказать, что коллективной собственностью иногда называют собственность акционерную или кооперативную. Это действительно особые формы собственности, но они представляют собой не более, чем различные виды частной собственности, и коллективными в собственном смысле слова не являются — ибо не коллективы, а индивиды (хотя и в составе группы) являются их субъектами. А если собственником выступает индивид, то, по Марксу, «безразлично, выступает ли он как отдельный капиталист или капиталист комбинированный, как в акционерных обществах»10. Что касается кооперации, то она также имеет вполне буржуазный характер, если в ней, по словам Ленина, «выделяется слой пайщиков», которым она «дает выгоды (дивиденды на паи и т.п.)»11. Во всех этих случаях капитал имеет адресный, индивидуальный характер, что сказывается на характере и производства, и распределения.
Любая кооперация безусловно вносит определенные системные моменты в объединение индивидов – именно в той мере, в которой они становятся элементами системы. Но кооперация в обществе буржуазном все же не становится целостной системой в полном смысле слова, ибо в конечном счете в качестве субъекта экономических отношений предполагает отдельного индивида. Применительно к производственным отношениям предполагается индивидуальное (хотя и парцеллярное) отношение к средствам производства, к капиталу. Коллектив – это уже нечто другое. Здесь индивидуальное отношение к средствам производства полностью элиминировано. При социализме субъектом экономической деятельности является не индивид (или группа индивидов со своими индивидуальными «паями»), а производственный коллектив как нерасчлененное (в этом отношении) целое. Конечно, в кооперативных предприятиях при отсутствии наемной рабочей силы тоже проявляются некоторые элементы коллективизма, но они не могут полностью развиться, поскольку распределение определяется здесь отнюдь не только трудовым вкладом, вносимым каждым в общее дело, но и индивидуальным паем (т.е. распределение частично идет — или может идти — по капиталу, а значит, в том числе и за счет использования индивидом продукта, создаваемого «живым трудом» других членов коллектива). И только при социализме, где в принципе нет иных критериев распределения между индивидами, кроме трудового вклада, создаются условия для подлинно коллективистских отношений, в том числе и для особых, только ему свойственных, коллективистских отношений собственности. Что же они собой представляют?
Прежде всего, эти отношения не являются ни частными, ни общественными. Условия господства частной собственности на средства производства в основном ликвидируются в результате социалистической революции. Но поскольку социалистическое общество все еще не представляет собой в полном смысле целостного организма (ибо сохраняет в том или ином виде социальную дифференциацию между членами общества), то не имеет места и та общественная собственность, при которой в качестве субъекта соответствующих отношений выступает общество как целое (что как раз и будет характерно для коммунизма). До полного коммунизма «рассматривать общество как один-единственный субъект значит рассматривать его неправильно. У одного субъекта производство и потребление выступают как моменты одного акта»12. Понятно, что при социализме, при сохраняющейся социальной дифференциации, такое положение еще не может иметь места. Поэтому здесь собственность, уже перестав быть частной, еще не становится общественной. В связи с этим она перестает быть целостной и оказывается расщепленной по формам своей реализации: владению, распоряжению, пользованию. Отношения владения, распоряжения и пользования к средствам производства оказываются существенно различными для различных социальных групп социалистического общества, образующих коллективные субъекты этих отношений. Поэтому социализм не имеет целостных отношений собственности; при социализме они в целом представляют собой достаточно сложное переплетение указанных частных отношений.
Для лучшего понимания самого существа расщепленности отношений собственности проведем такую образную аналогию. Казалось бы, что может быть естественнее и привычнее белого цвета. И тем не менее, белого цвета как отдельного физического явления (т.е. как следствия воздействия на наш глаз электромагнитного излучения вполне определенной длины волны, как это характерно, скажем, для красного или синего) в природе вообще не существует. Он – результат сбалансированного действия по меньшей мере трех излучений с различными длинами волн. В условиях солнечного света, где соответствующее соотношение цветов всегда наличествует, это обстоятельство для нас не имеет никакого значения; поэтому в привычных условиях мы никакого расщепления попросту не замечаем. Но представьте, что вы видите на экране цветного телевизора зимний пейзаж. При этом экран светится только одним цветом – белым. Однако присмотритесь к нему поближе. Изображение на нем состоит из множества светящихся точек, и среди них нет ни одной белой! Так что мы в соответствии с привычкой и «здравым смыслом» сколько угодно можем считать белый цвет физически существующим, но при практическом использовании данного явления приходится отказываться от столь привычных представлений и обращаться к действительному положению вещей, ибо тот же цветной телевизор без правильного понимания действительной природы белого цвета построить не удастся.
То же и с собственностью. Пока господствует частная собственность на средства производства, без особых погрешностей можно не принимать в расчет того факта, что данное отношение и в этом случае как таковое не существует, что и здесь оно представляет собой взаимодействие отношений владения, распоряжения и пользования, поскольку все три отношения пересекаются на одном субъекте – частном собственнике. Но когда устранена частная собственность и еще не введена общественная (где опять же все три отношения пересекутся на одном субъекте – обществе), понять сущность социализма как общественного строя без учета расщепленности отношений собственности на средства производства по владению, распоряжению и пользованию (субъектами которых становятся различные коллективные образования – от производственного коллектива до государства), столь же невозможно, как понять сущность капитализма без учета прибавочной стоимости, в общем-то также предполагающей физически не существующее, но от этого не менее реальное «расщепление» рабочего времени на необходимое и прибавочное.
В этих условиях вообще оперировать понятием собственности на средства производства как отражающим некоторое целостное общественное отношение, непродуктивно – ни к чему, кроме путаницы, это не приводит. Такие расщепленные отношения собственности на средства производства свойственны вообще социализму. Но на каждом данном этапе его развития конкретный характер этих отношений весьма существенно меняется. Соответственно и рассматривать этот вопрос мы будем ниже при рассмотрении развития социализма как общественно-экономической формации. Здесь же для нас важно только отметить коллективистский характер отношений собственности.
Коллективизм существенно влияет на производство, обращение и распределение. Наиболее важную роль, разумеется, играют те изменения, которые происходят в сфере производства, и прежде всего это относится к отмеченным особенностям отношений собственности. Теперь коснемся такого важного момента, как изменение при социализме стимула к труду. Во всех случаях базой стимула к труду являются потребности. Но рассматривать их как нечто единое в какой-то степени можно только применительно к прежним производственным отношениям, имеющим индивидуалистический характер. Для анализа производственных отношений социализма этого уже совершенно недостаточно.
Как мы неоднократно повторяли выше, совокупность потребностей человека отражает нужды сразу двух связанных, но относительно самостоятельных целостностей: индивида как биологического существа, и общества — не просто как совокупности индивидов, а как некоей высшей целостности. И складывается эта совокупность соответственно из двух достаточно различных типов потребностей, одинаково являющихся жизненными потребностями каждого человека. Еще раз напомним, что первые включают в себя те группы потребностей, которые отражают жизненные нужды индивида как биологического существа, а именно: связанные с обменом веществ, т.е. собственно потреблением; параметрические потребности, отражающие необходимые условия существования; и, наконец, те, что связаны с психической и физиологической активностью индивида. Вторые выражают нужды общества как высшей целостности, несводимой к совокупности индивидов: условия этой целостности (эстетическое отношение); необходимость общественных связей (потребность в общении); способ регулирования обществом поведения индивида (потребность в самоутверждении).
При капитализме стимулы к труду главным образом создаются системой экономического принуждения. Эта система достигает максимума эффективности тогда, когда речь идет прежде всего об удовлетворении индивидуальных потребностей человека. Капитализм на протяжении столетий именно прессом голода и холода вырабатывал у рабочего привычку обеспечивать свое существование, продавая свою рабочую силу: «если бы рабочие могли питаться воздухом, их нельзя было бы купить ни за какую цену»13. В дальнейшем с развитием производства и ростом потребления в промышленно развитых странах, составивших «вершину айсберга» капиталистической системы, индивидуальные потребности большинства удовлетворялись все более гарантировано, и по мере этого к ним все больше добавлялись потребности общественные, образуя целую систему потребностей, создающую стимулы к трудовой деятельности.
Главным из них является то, что Макс Вебер называл «духом капитализма». Это выражение он использует «для определения того способа мышления, который связан с систематическим и рациональным стремлением к наживе в рамках своей профессии». И дело здесь не в том, что человек стремится побольше заработать, а в том, «чему отдается предпочтение – личным потребностям или независимому от них стремлению к наживе и возможности получения прибыли»14. Но как раз это «стремление к наживе», действительно по своей сути однозначно не связанное с «личными (индивидуальными, «жизненными») потребностями», и представляет собой стремление к удовлетворению (пусть и в деформированном, извращенном виде) потребностей общественных, прежде всего потребности в самоутверждении.
В условиях относительной обеспеченности индивидуальных «жизненных потребностей» общественные потребности (потребности эстетические, в общении, в самоутверждении) все сильнее выходят на роль определяющих, все четче прослеживаются, а значит, неизбежно все больше будет выявляться их истинная сущность, до сих пор опосредованная деньгами, вещами – в общем тем, что М.Вебер называет «наживой». Это не значит, естественно, что в принципе капитализм как строй изменился. Капиталисты-«собственники» как и раньше удовлетворяют свои общественные потребности за счет роста прибавочной стоимости, обеспечивающего рост влияния и власти, но их сравнительно немного. Для остальных же появляется ряд новых проблем, и эти проблемы уже не могут решаться традиционно за счет извращенных способов удовлетворения потребностей. Все больше выступают наружу коренные требования природы человека, коренные потребности в красоте, общении, общественно-значимой деятельности в чистом, неопосредованном виде. Эти потребности должны удовлетворяться и там, где в настоящее время человек реализует главные свои потенции, – в производительном труде, что резко меняет роль и соотношение тех факторов, которые у нас называли «моральными» и «материальными» стимулами.
Посмотрим на то положение, которое создалось сегодня в ведущих капиталистических странах. Например, в Соединенных Штатах, где угрозы голода уже практически нет ни для какой социальной группы, наряду с традиционным стремлением к обладанию вещами в качестве стимула к труду все больше выступает «американская мечта» об успехе в широком смысле этого понятия. А в практическом плане американские предприниматели все чаще стремятся поставить рабочего (отнюдь не только экономически) по отношению к другим в зависимость от его трудовых достижений, фактически применяя таким образом систему «моральных стимулов».
Но то, что с большим трудом (вследствие традиционного индивидуализма американцев) пробивает себе дорогу в США, еще недавно находило исключительно широкое применение в Японии. Сам феномен Японии, ее недавнее бурное развитие объясняется прежде всего тем, что наряду с обычными здесь были использованы другие стимулы к труду. Работник в силу специфических традиций здесь с самого начала оказался включенным в целую систему взаимоотношений, не определяемых полностью непосредственными экономическими интересами. Именно не полностью свободный (в европейском, а тем более американском понимании, т. е. в смысле чисто экономического интереса в качестве движущей силы) японский работник оказывался наиболее производительным. Вообще в современных условиях только там, где удается достаточно полно использовать неэкономические, «моральные» стимулы к труду, возможно резкое повышение производительности труда. И сейчас, когда традиционные отношения в Японии в значительной степени разрушены капиталистическими, это свое преимущество она утратила – с соответствующими экономическими результатами, характеризующимися резким спадом темпов развития.
При индивидуалистическом характере производственных отношений производство обычно является только источником средств удовлетворения указанных потребностей, само же их удовлетворение в основном осуществляется вне его. Таким оно остается и при коллективистском характере производственных отношений, но уже только для индивидуальных потребностей. Что же касается потребностей общественных (также, повторим еще раз, являющихся личными потребностями каждого человека), то с возникновением коллектива одновременно возникает возможность все более полного их удовлетворения непосредственно в самом процессе производства, т.е. производительный труд превращается в средство удовлетворения эстетических потребностей, потребностей в общении и общественном самоутверждении, становясь, таким образом, сам по себе жизненной потребностью человека.
Естественно, это происходит не вдруг, а является результатом развития социализма как общественно-экономической формации. Но по мере этого развития именно сам производственный процесс приобретает эстетические качества как процесс реализации жизненных потенций индивида и раскрытия его неповторимой индивидуальности, служит условием и содержанием общения, а эффективность этой реализации — средством самоутверждения, приобретая таким образом истинно человеческую, соответствующую своей общественной сущности форму. При коммунизме выполнение необходимых для общества функций (к тому времени далеко перешагнувших рамки собственно материального производства) будет в значительной мере удовлетворять общественные потребности человека. Естественно, что при социализме как обществе, непосредственно вышедшем из общества классово-антагонистического, индивидуалистического, еще достаточно большая часть общественных потребностей продолжает удовлетворяться, так сказать, старым способом, т.е. через распределение между индивидами предметов потребления, но понять его сущность и функционирование только на этой основе уже невозможно, ибо в данном смысле социализм как раз и представляет собой переход от опосредованного к непосредственному удовлетворению общественных потребностей.
Та часть потребностей человека, которые определены выше как индивидуальные, и при социализме полностью удовлетворяются посредством индивидуального потребления продуктов производства — предметов потребления. Уже капитализм подготовил производительные силы, способные полностью удовлетворять данные потребности, но только изменение характера распределения при социализме создает условия для реализации этой возможности, в том числе и за счет изменения характера удовлетворения потребностей общественных. Сама же реализация этой возможности происходит по-разному на разных этапах развития социализма. Решение этой задачи определяется свойственными данным этапам отношениями распределения, и обеспечивается посредством системы обращения, которым коллективистский характер производственных отношений также придает и соответствующее содержание, и соответствующую форму.
Что касается распределения, то общие черты, свойственные социализму на любом этапе его развития, сводятся к формированию системы распределения в соответствии с трудовым вкладом. Разумеется, далеко не всегда эта система реализуется в полном объеме. Однако благодаря производственному коллективу впервые в истории обеспечиваются условия подлинного равенства входящих в него индивидов в экономическом отношении, ибо их экономическое положение как членов коллектива определяется только трудовым вкладом. Другое дело — положение социальное, которое определяется также прошлыми (и не только производственными) заслугами — но опять же собственными, в принципе ничем иным, кроме собственного вклада, не определяемыми. Но, тем не менее, именно потому, что критерий распределения — трудовой вклад, каждый член производственного коллектива экономически свободен. Он не привязан к данному производственному коллективу овеществленным трудом, так как не имеет пая в средствах производства (ими владеет не трудовой коллектив, а государство), а свой «живой труд», если это почему-либо покажется ему целесообразным, может влить в труд другого коллектива, свободно выбирая его. Это черты, вообще более или менее свойственные социализму. Однако они существенно модифицируются теми специфическими моментами, которые определяют особенности производственных отношений, характерные как для различных локальных модификаций социализма, так и для отдельных этапов данного общественного строя.
Коллективистский характер производственных отношений существенно модифицирует также характер обращения. При их индивидуалистическом характере, когда субъектом экономической деятельности выступают индивиды (безразлично, по отдельности или в группе), когда эта их деятельность направлена на удовлетворение собственных потребностей каждого из них, субъект экономической деятельности совпадает с субъектом потребностей, ради удовлетворения которых экономическая деятельность и ведется. Для удовлетворения потребностей при общественном разделении труда посредством обмена его продуктами и необходима сфера обращения, в которой действуют субъекты экономической деятельности. При любых возможных технических модификациях и дроблениях, сфера обращения, тем не менее, при этом представляет собой некое единое целое.
Разделение труда, требующее обмена его результатами, характерно для весьма значительного периода развития общества, в том числе и для социализма. Но, как показывает исторический опыт, отношения между индивидами – не единственно возможный принцип организации обмена при разделении труда. В истории известна его организация с иными субъектами – коллективными. Поэтому вообще должны различаться случаи, когда, говоря словами Энгельса, «завязывается отношение между двумя лицами или общинами»15. Последнее и имело место на этапе формирования отношений обмена – именно между общинами; оно же опять появляется (но уже на уровне коллективов) при социализме. В этом случае субъектом экономической деятельности выступает производственный коллектив как целостное (в этом отношении) образование.
Что касается потребностей, то их субъектом, естественно, по-прежнему выступает все тот же индивид. Но раз совпадение указанных субъектов здесь уже не имеет места, то в сферу обращения неизбежно должен быть введен еще один контур, охватывающий, с одной стороны, производственные коллективы (производящие – непосредственно или опосредованно – предметы потребления), и составляющих их индивидов (потребляющих эти предметы) – с другой. Таким образом, при социализме формируется характерная именно для этого общественно-экономического строя совершенно особая – двухконтурная – система обращения, где первый контур, связанный в основном с производственным потреблением, главным образом включает средства производства, охватывая производственные коллективы, а второй, обеспечивающий обращение предметов потребления, в качестве субъектов включает также составляющих эти коллективы индивидов. Являясь следствием коллективистского характера производственных отношений, такая система – характернейший признак социализма независимо от его «моделей» и этапов развития. А вот конкретный ее характер, как и характер других социально-экономических явлений, самым существенным образом определяется этими этапами.
Например, известно, что в системе обращения, характерной для минувшего этапа советского социализма, одновременно функционировали два вида денег – «наличные» и «безналичные». Это и были совершенно различные их виды, а вовсе не разные формы существования одних и тех же денег (как, например, наличные деньги и различные системы безналичных расчетов в капиталистическом обществе), ибо преимущественно предназначались для обслуживания разных контуров обращения – отдельно средств производства и предметов потребления. Но, будучи раздельными, они состояли в нерасторжимой связи. И как раз в месте их пересечения и вершилось таинство взаимного превращения этих денег, обеспечивавшего связь производства с потреблением. Конкретное рассмотрение работы этого механизма составляет предмет специальных исследований, здесь лишь отметим, что это был один из важнейших механизмов управления экономическими процессами в нашем обществе16.
Таким образом, обобщенный анализ производственных отношений социализма показывает, что и в области собственно производства, и в распределении, и в обращении они имеют существенные отличия от производственных отношений других общественно-экономических формаций, и главной их отличительной особенностью является коллективистский характер. Эти производственные отношения, как и в других общественно-экономических формациях с социальной дифференциацией, реализуются в отношениях основных социальных групп, принимающих в них участие и имеющих различное отношение к общественным средствам производства (в чем-то аналогичных классам), и меняются в соответствии с развитием данной общественно-экономической формации.
4.3. Социализм и проблема классов
Объективные законы развития общества в любой общественно-экономической формации реализуются в действиях людей, стремящихся к достижению своих целей. Однако марксизмом «действия “живых личностей” в пределах каждой такой общественно-экономической формации, действия, бесконечно разнообразные и, казалось бы, не поддающиеся никакой систематизации, были обобщены и сведены … к действиям классов»1. Только классовый анализ дает научные основания для «сведения индивидуального к социальному»2, составляя таким образом основу марксистского социального анализа.
Как мы видели, классовое деление общества началось с тотального противостояния больших социальных групп, имеющих различное этническое происхождение. По мере изменений отношений собственности эта тотальность противостояния классов снижается, границы классов размываются, и вообще весь процесс в своей тенденции носит затухающий (но не плавно, а скачкообразно) характер. Завершится этот процесс полным исчезновением классового деления с полным же обобществлением средств производства. Важным этапом этого процесса, этапом завершающим, являются классовые преобразования в социалистическом обществе.
Рассмотрение вопроса о классах в социалистическом обществе начнем с ленинского анализа. Каковы же его основные положения?
Прежде всего, совершенно определенно предполагается, что это общество — классовое, ибо «мы не можем уничтожить различия классов до полного введения коммунизма»3. Именно при социализме как раз и происходит процесс ликвидации этого различия — Ленин говорит (и повторяет): «социализм есть уничтожение классов»4. Заметим: не состояние, а именно процесс, не бесклассовое общество (как коммунизм), и не общество со стабильными, более или менее устоявшимися классами (как капитализм), а процесс, результатом которого явится исчезновение классового деления общества.
Заметим также, что Ленин специально подчеркивал специфичность классов для каждого общественного строя, то, что каждый класс характерен только для данного конкретного строя — и ни для какого другого. Достаточно вспомнить его пояснения по поводу того, является ли классом крестьянство. Тем, кто не понимает диалектики изменения классов, кто склонен мыслить застывшими категориями, вливая новое вино в старые мехи, Ленин поясняет, что в буржуазном обществе «крестьянство не представляет из себя особого класса» — это при феодализме оно действительно «выступает как класс, но только как класс крепостнического общества» в противопоставлении феодалам-крепостникам, а с развитием капитализма «внутри его самого складываются классы буржуазии и пролетариата»5.
А что же при социализме? Неужели такие существенные преобразования общественного строя, которые происходят уже при «экспроприации экспроприаторов», не приводят к изменению классового состава? Ленин и на этот вопрос отвечает совершенно четко в том смысле, что на первом этапе у нас «классы сохранились, но каждый видоизменился»6 (вспомним, что Энгельс также предполагал исчезновение при социализме именно «современных (!) классовых различий»7). Основные классы буржуазного общества — буржуазия и пролетариат. Значит, остались они. А как «видоизменились» после революции? «Пролетариат стал, свергнув буржуазию …, господствующим классом»8, и осуществляет по отношению к ней диктатуру. Ясно же, что при этом самым существенным образом меняются социально-экономические роли классов, их взаимоотношения, психологические установки и т.п., т.е. даже на этом этапе классы уже не те — они действительно «видоизменились».
Второй вопрос касался многочисленного крестьянства. Здесь, учитывая, что, по Ленину, крестьянин с одной стороны труженик, а с другой — мелкий собственник, задача диалектически заключалась в поддержке труженика и подавлении собственника. Предполагалось, что под влиянием рабочего крестьянин также будет меняться. И если по мере приобретения рабочими опыта управления промышленностью буржуазия исчезнет как класс, то изменения не только крестьянина, но и рабочего приведут к тому, что классовые различия между этими двумя социальными группами тружеников полностью сотрутся. И Ленин пишет: «Чтобы уничтожить классы, надо … уничтожить разницу между рабочим и крестьянином, сделать всех — работниками»9.
Не правда ли, как это далеко от столь привычной нам теории «двух дружественных классов и одной прослойки»? Сколько сил потратили наши теоретики, чтобы обосновать такое, с позволения сказать, классовое деление, «забывая» при этом основные положения марксизма. Ведь еще когда классики этого учения (на примере буржуазного общества) показали, что классы — это «две стороны одного и того же отношения»10. Одного и того же целостного и неделимого, единого в этих двух сторонах производственного отношения! А тут, изволите ли видеть, сразу целых две «основных» формы собственности — «государственная» и «кооперативно-колхозная», и соответственно «два дружественных класса»! В свое время К.Каутский справедливо писал, что вообще «понятие класса является понятием коррелятивным. Нельзя представить себе класса für sich (т.е. класса «для себя» – Л.Г.), это понятие всегда нуждается в другом противоположном (!) понятии»11. Для тех, кто входит в класс, «различие выступает лишь в их противоположности к другому классу»12. Ведь «в каждом обществе производственные отношения образуют некоторое единое целое»13. А здесь отношения какие-то ущербные, односторонние, т.е. при отсутствии класса, воплощающего другую сторону диалектически противоречивого единства производственных отношений. Как могла возникнуть столь явная (для любого марксиста) нелепость? Но в том-то и дело, что о нелепостях говорить не приходится, когда в игру вступают групповые, классовые интересы.
В реальной действительности не только сопротивление буржуазии и того собственника, что сидел в крестьянине, создавали помехи строительству социализма. Оказалось, что и сами рабочие пока еще в своей массе не были готовы к социализму, поскольку существовали «старые предрассудки, приковывающие рабочего к старому миру»14, а поэтому «перевоспитывать надо в длительной борьбе, на почве диктатуры пролетариата, и самих пролетариев»15. Кто же должен их «перевоспитывать», если в первоначальном понимании диктатура пролетариата — это «простая организация рабочих масс», причем «без особого аппарата»16?
Но так марксисты думали о диктатуре пролетариата до начала социалистических преобразований. В действительном же их ходе постановка вопроса кардинально меняется: в скором времени уже не весь пролетариат как «самоорганизующаяся масса», как это предполагалось ранее, а только лишь «авангард пролетариата взял в свои руки строительство власти», начала устанавливаться «диктатура революционных элементов (!) класса»17. Другими словами, дружной и всеобщей трансформации рабочего в работника не получилось: появились «перевоспитуемые» и «перевоспитующие». Как всегда при смене общественного строя началась новая социальная дифференциация прежних социальных групп. В данном случае социальная дифференциация началась внутри рабочего класса (как, впрочем, и других социальных групп), и в ее результате происходило «выделение революционной и только революционной части пролетариата в партию и такой же части партии в руководящие центры ее»18. Место диктатуры пролетариата как «самоорганизующейся массы» занимает диктатура той сравнительно узкой группы людей, которые «выделились» в упомянутые «руководящие центры», организованные в иерархическую структуру, т.е. партийной, хозяйственной и административной номенклатуры. Сформировались две, хотя и весьма специфические, производственные социальные группы (которые вполне можно было бы, с учетом упомянутой специфики, определить как классы19), характерные для данного этапа развития социализма, в полном соответствии с марксистской теорией совместно реализующие диалектическое единство его производственных отношений.
Как и любые другие классы, эти социальные группы были поставлены в различное отношение к средствам производства всего общества. Специфичность этого отношения связана прежде всего с тем, что господствующая социальная группа («номенклатурный класс») уже не осуществляет всех функций собственника средств производства, а только распоряжения ими (более подробно этот вопрос будет рассмотрен ниже). Поэтому для «парной» социальной группы (состоящей из рабочих, крестьян, технической интеллигенции, различающихся между собой не социальным статусом, а только конкретным характером труда), членов которой мы привыкли называть «трудящимися», оставалась только одна производственная функция — функция класса-исполнителя.
Таким образом, реальная диалектика классового процесса оказалась такой, что выявилась невозможность непосредственной ликвидации классов как тех классов, которые существовали в буржуазном обществе. Потребовался переход к этому через этап специфических для данного этапа социализма социальных групп, занимающих свое необходимое место в длительном ряду классовых превращений с очередным — но особо существенным — снижением «уровня классовости», «неполных» (т.е. только в связи с распоряжением средствами производства, но не владением и не пользованием ими) в качестве последней ступени ликвидации разделения общества на противоположные классы (или, можно сказать, страты). С ликвидацией этого (последнего!) проявления классовой социальной дифференциации она окончательно исчезнет. Но не за счет постепенного сближения противоположных социальных групп (по Марксу, «уравнение классов — бессмыслица, на деле неосуществимая»20), а путем ликвидации одной из них («номенклатурного класса»), и трансформации при этом второй («класса трудящихся») в свободный «класс-производитель» (тех самых «работников», о которых говорил Ленин). Этот последний будет уже противостоять не противоположному классу, а весьма относительно – своему непосредственному окружению, различным социальным слоям, выполняющим вспомогательные функции в отмирающем социальном разделении труда. И именно потому, что вопрос касается качественных изменений, этот процесс, объективно составляющий в конечном счете содержание нынешних преобразований, идет так сложно, медленно, непоследовательно и болезненно.
Но вернемся, однако, в двадцатые годы, в тот период нашей истории, когда «классы», определяющие все ее дальнейшее течение, еще только формировались. Их характер и формирование в значительной степени определились особенностями социалистической революции. Еще раз напомним, что одним из важных отличий социалистической революции от буржуазной явилось то, что последняя давала простор развитию буржуазных отношений, уже достаточно проявившихся в недрах предыдущего строя, в то время как социалистические общественные отношения еще только предстояло сформировать после победы социалистической революции21. Как мы видели, пролетариат, рабочий класс в целом еще не был готов к решению этой задачи. В таких условиях именно диктатура «революционного авангарда», опираясь на теоретически разработанную социалистическую идеологию и новую форму собственности, могла обеспечить преодоление потенциального барьера «старых предрассудков» большинства. И вывести общество в ту точку социально-экономического развития, начиная с которой социалистическое сознание в массах вырабатывается автоматически, ибо опирается на реально существующие социалистические общественно-экономические отношения («общественное бытие определяет общественное сознание»).
«Номенклатурный класс», заняв важнейшее место в обществе, начал преобразовывать его соответственно своим интересам, в том числе превращая все остальные социальные группы, связанные с производством, в единый «класс-исполнитель». Рабочие, ввиду своего прежнего социального положения, сравнительно легко вошли в эту социальную роль. Намного сложнее обстояло дело с другим отрядом тружеников — крестьянами, сильно зараженными мелкобуржуазной идеологией. Здесь только чрезвычайное давление могло преодолеть частный экономический интерес мелкого производителя. На селе началась ожесточенная классовая борьба со всеми присущими ей эксцессами и потерями — не только с кулаками, но с крестьянством как мелкобуржуазным классом, оставшимся от старого общества. Победил «номенклатурный класс» как исторически прогрессивный и лучше организованный. Через создание колхозов крестьяне также стали, как и рабочие, частью того же «класса-исполнителя» — «парной» номенклатуре в новых общественных условиях социальной группы, — образуя вместе с рабочими и технической интеллигенцией единый социалистический класс трудящихся.
Таким образом, на данном этапе развития социализма соответствующие преобразования осуществлялись господствующим «номенклатурным классом» и отражали его собственные социально-групповые (классовые) интересы. Но это не отменяло их прогрессивного значения и для всего общества в целом. Сначала эти интересы объективно совпадали с коренными интересами большинства советских людей и соответственно получали их широкую поддержку. Бурное экономическое развитие нашей страны стало одним из важнейших результатов такого совпадения интересов. Всеобщий трудовой энтузиазм того времени — не миф и не результат «обмана». Благодаря проведенным преобразованиям, равно как и их массовой поддержке, за какие-нибудь двадцать лет страна из полуколонии превратилась в могучую индустриальную державу. Быстрыми темпами развивалась культура, охватывая все более широкие слои населения. Повышался жизненный уровень трудящихся. Формировалась новая социальная общность – советский народ. И все эти преимущества социализма реализовались под непосредственным руководством номенклатуры.
Однако выведением страны на путь развития социализма на собственной основе «номенклатурный класс» выполнил полностью свою историческую миссию, исчерпал свою прогрессивную социальную роль. Настал черед выполнения главной задачи социализма (уже частично выполненной за счет существенного снижения уровня противостояния между номенклатурой и трудящимися по сравнению с буржуазией и пролетариатом) — ликвидации классов. Но ни одна господствующая социальная группа никогда добровольно не сходила с исторической арены. «Номенклатурный класс», который держал в своих руках все рычаги власти, в том числе и репрессивный аппарат, всеми доступными ему методами воспротивился исполнению приговора истории. Однако никакой репрессивный аппарат не способен обеспечить прочное положение господствующей социальной группы без соответствующего идеологического обеспечения. И оно, естественно, появилось. Его «теоретической базой» стал «официальный марксизм» (с «легкой руки» Сталина получивший наименование «марксизм-ленинизм»).
В отличие от марксизма научного, «официальный марксизм» был предназначен не для анализа и прогноза процессов в реальной действительности, но исключительно для последующего оправдания принимаемых (в интересах все той же номенклатуры) решений, с чем он успешно справлялся22. Да, не зря Ленин говорил, что «ни единому профессору политической экономии, способному дать самые ценные работы в области фактических, специальных исследований, нельзя верить ни в одном слове, раз речь заходит об общей теории политической экономии»23 (то же, разумеется, относится и к другим отраслям общественных наук). Приятно было бы думать, что сказанное касается только буржуазных ученых, но, собственно, почему? Во все времена музыку заказывал тот, кто платил (деньгами ли, академическими званиями ли, другими благами), во все времена люди интеллектуального труда в массе своей вынуждены были обслуживать интересы господствующего класса. И идеологическая обслуга «номенклатурного класса», понятно, не могла составлять исключения, она добросовестно развивала и углубляла «официальный марксизм».
Как отмечал Ленин, люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся разыскивать за любыми социальными фразами, заявлениями, обещаниями интересы тех или иных классов. А это не всегда просто, особенно если учесть, что нередко господствующий класс заинтересован как раз в сокрытии самого факта классового господства. Чтобы по возможности скрыть преследование господствующим классом собственных интересов, особенно когда они со временем начинают все больше расходиться с интересами общества как целого, его идеологи стараются «стереть само понятие “класса”, устранить самую идею классовой борьбы»24. Но еще удобнее дурачить публику, подменяя реальное классовое деление иллюзорным, основанным на неких удобных для господствующего класса формальных признаках (именно с этой целью, например, буржуазные идеологи придумали понятие «среднего класса»). Ни сама номенклатура, ни те, кто осуществлял ее идеологическое обеспечение, не могли допустить, чтобы действительное классовое деление нашего общества стало явно видным, и стремились его закамуфлировать (иное дело, что «спрятать уши» господствующего класса не так-то легко, и как мы убедимся ниже, они оказываются торчащими в самых неожиданных местах). Важным средством, изобретенным с этой целью «официальным марксизмом», и стала та самая теория «двух дружественных классов».
Будучи одним из ключевых моментов упомянутого идеологического обеспечения, эта теория разрабатывалась массированно и детально. Но вряд ли есть смысл анализировать все ее хитроумные извивы. Основные ее моменты полностью выявляются в двух «руководящих» публикациях: статьях в Большой Советской и Философской энциклопедиях. Их разбором и ограничимся. Вот цитаты из этих статей, дающие характеристику общественных групп и отношений собственности в нашей стране с точки зрения «официального марксизма»: «…и на ступени социализма сохраняются известные классовые различия между рабочим классом и крестьянством. Эти различия связаны с наличием двух форм социалистической собственности: государственной общенародной и кооперативно-колхозной, существование которых обуславливается, в свою очередь, неодинаковой степенью обобществления, развития производительных сил в промышленности и сельском хозяйстве»25; «…различия между рабочими и крестьянами уже не являются коренными. Но своеобразие путей этих классов к социализму оставило свой отпечаток в виде различия двух форм социалистической собственности — всенародной, государственной и кооперативно-колхозной. С этим связаны и различия между рабочим классом и крестьянством по их отношению к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, по формам получения дохода. Существование классовых различий между рабочими и крестьянами … обусловлено остатками старых форм общественного разделения труда»26. Рассмотрим вкратце приведенные соображения.
Неодинаковая степень обобществления производства и развития производительных сил носит количественный характер и вряд ли может служить классообразующим признаком (даже при отсутствии «коренных различий» между классами). Однако к «степени обобществления», как и к «роли в общественной организации труда» мы еще вернемся. А вот что касается развития производительных сил, то здесь нестыковки видны невооруженным глазом. Когда марксизм рассматривает соответствие между уровнем развития и характером производительных сил с одной стороны и производственными отношениями с другой, то считается само собой разумеющимся, что и то, и другое относится к обществу как к некоторому целостному объекту. Здесь же хитрым маневром указанная взаимозависимость переносится с целого на часть — на развитие производительных сил (а фактически технических средств) отраслей народного хозяйства (промышленного и сельскохозяйственного производства), что не только методологически недопустимо, но и попросту неверно. В лучшем случае это вульгаризация марксизма, в худшем — обычная подтасовка.
То же самое можно сказать и о намеках относительно «старых форм разделения труда». Неужели людям, считающим себя марксистами, нужно разъяснять разницу между разделением труда технологическим — по конкретному характеру производства и производимому продукту (в том числе между отраслями народного хозяйства, где, в частности, определенное различие между промышленным и сельскохозяйственным тружеником по характеру труда существует даже независимо от формы собственности), и социальным — по роли различных общественных групп в единых производственных отношениях данного общества, их отношению к средствам производства как единому целому (что, если верить теории о двух раздельных для них формах собственности на разные — или одни и те же? — средства производства применительно к рабочему и крестьянину вообще не имеет смысла). Но ведь нигде и никогда «не существует производства вообще… Производство всегда есть особая отрасль производства, например земледелие, животноводство, мануфактура и т.д.»27. И их техническая оснащенность часто оказывается различной. Что же здесь специфично для социализма? Хорошо все же говорил Владимир Ильич: «Какая замечательная глубина анализа! Различие между профессиями смешать с различным положением классов во всем (!) строе общественного производства, — как это наглядно иллюстрирует научную беспринципность»28.
Что же касается различия «форм получения дохода», то и здесь лучше всего просто процитировать Ленина: «Искать основного отличительного признака классов общества в источнике дохода — значит выдвигать на первое место отношения распределения, которые на самом деле суть результат отношений производства. Ошибку эту давно указал Маркс, назвавший не видящих ее людей вульгарными социалистами»29. Вернемся поэтому к отношениям производства.
А реальные производственные отношения на анализируемом этапе развития социализма складывались в соответствии с объективными законами этого развития и знать не желали ни о каких теоретических упражнениях. Теоретики дискутировали об особенностях «двух форм собственности», а райком, не мудрствуя лукаво, безо всяких там теорий совершенно одинаково командовал что фабрикой, что совхозом, что колхозом. Ибо, в отличие от упомянутых теоретиков, в полном соответствии с действительным положением вещей считал не конкретный коллектив или абстрактное государство, а именно себя распорядителем (хотя и не владельцем!) и «государственных общенародных», и «кооперативно-колхозных» средств производства (существовавшие формальные различия без малейших затруднений преодолевались практически). Именно он (как и другие уровни и участки номенклатуры — каждый в соответствии со своей компетенцией) фактически назначал и снимал руководителей заводов и колхозов, определял направление деятельности этих предприятий, их степень развития, производственные связи, систему и уровень оплаты и все остальные вопросы упоминавшейся выше «общественной организации труда» (иногда вплоть до вопросов технологии), полностью таким образом нивелируя любые возможные различия в «уровне обобществления». Это настолько ясно и понятно, что уж и не знаешь, чем, кроме как выполнением идеологического заказа, можно объяснить утверждения теоретиков, что, оказывается, в этих условиях «впервые в истории создается равенство людей по отношению к средствам производства»30.
Усилия по идеологическому обеспечению господства номенклатуры, по формированию выгодного ей как господствующему классу представления о классовой структуре нашего общества, особенно выразительно отражались в работах того, кто в силу как своего особого положения, так и выдающихся личных качеств оказывал на данный процесс исключительно сильное влияние — И.В.Сталина. Поэтому рассмотрение указанного отражения представляет особый интерес. С этой точки зрения весьма показательна эволюция взглядов самого Сталина на классовую структуру советского общества.
Первоначальная точка зрения в этом вопросе вполне ясно представлена в беседе Сталина с Уэллсом. Везде, где вопрос касается капитализма, Сталин многократно, неизменно и последовательно говорит о рабочем классе, как и о других классах, характерных для данного строя. Применительно же к социализму он ни разу не упоминает ни о «рабочем классе», ни о классах вообще. Вместо этого он просто повторяет: «мы, советские люди»31 — и все. Классов в советском обществе для него явно не существует.
Позже в беседе с председателем американского газетного объединения Р.Говардом эта точка зрения выражена уже без всяких околичностей и умолчаний, точно и прямо: «нет классов», «остается лишь некоторая, но не коренная разница между различными прослойками (!) социалистического общества», — а по его мнению «наше общество состоит исключительно из свободных тружеников города и деревни — рабочих, крестьян и интеллигенции», прямо называемых Сталином «прослойками»32. Здесь его ранее сформировавшиеся представления о социальной структуре социалистического общества выражены с предельной ясностью, не оставляющей места для идеологических спекуляций.
Это происходило в начале 1936 года. Социализм победил. Ситуация стабилизировалась. Номенклатура выполнила свою историческую миссию, заключавшуюся в том, чтобы руководить «беспартийной массой рабочих…, а затем и крестьян, для того, чтобы она могла прийти и пришла бы к сосредоточению в своих руках управления всем народным хозяйством»33. И вот это время пришло: действительно далеко продвинувшаяся (хотя еще и неполная) социальная однородность трудящихся, завершившаяся культурная революция, единый народнохозяйственный комплекс — все говорило за то, что появляется реальная возможность выполнить намеченную Лениным задачу «сосредоточения в руках беспартийной массы управления всем народным хозяйством». Но это значило, что объективно время номенклатуры как господствующего класса закончилось: ясно, что для выполнения этой задачи номенклатуре пришлось бы уходить с арены истории. Ну, так в чем же дело?
Сталин с присущей ему точностью формулировок объясняет: «Дело в том, что классы, которые должны сойти с исторической сцены, последними убеждаются в том, что их роль окончена. Убедить их в этом невозможно»34. Ирония истории заключалась в том, что прекрасно понимая это абсолютно верное положение в общем виде, Сталин и не подозревал, что оно может относиться конкретно также и к тому (номенклатурному) «классу», интересы которого он так блестяще выражал и так прекрасно защищал — в бытность того прогрессивной социальной группой. Но все проходит. По мере выполнения своей миссии номенклатура из прогрессивной социальной группы неуклонно превращалась в реакционную. Все больше начинали чувствоваться «трещины в прогнившем здании старого строя», все труднее становилось скрывать классовое расслоение и противоречия между все сильнее расходящимися интересами трудящихся и номенклатуры. А потому номенклатура как класс вынуждена была, подобно другим отжившим господствующим классам, опять же говоря словами Сталина, «всеми средствами отстаивать свое существование как господствующего класса».
Соответственно усилилась деятельность в идеологической области. Началась подготовка Конституции, которой предстояло играть охранительную роль, закрепляя то, «что уже есть, что уже добыто и завоевано теперь, в настоящем»35. В связи с этим перед номенклатурой встала задача «уточнить социально-экономические основы Конституции в смысле приведения Конституции в соответствие с нынешним соотношением классовых сил в СССР (создание новой социалистической индустрии, разгром кулачества, победа колхозного строя, утверждение социалистической собственности как основы советского общества и т.п.)»36. Как видим, в этом постановлении VII Съезда Советов Союза ССР, принятом в феврале 1935 года, также еще речь только о неких «классовых силах». А вот уже в ноябре 1936 года в докладе «О проекте Конституции Союза ССР» на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов Сталин дает совершенно четкую схему классового деления советского общества, включающую «рабочий класс», «класс крестьян» и «интеллигенцию»37, т.е. ту схему социального деления, которая, приобретя канонический характер, сохранилась без каких-либо существенных изменений в нашей общественно-экономической и пропагандистской литературе практически по сегодняшний день.
И не удивительно, что сохранилась. Она оказалась чрезвычайно удобной для номенклатуры, ибо полностью запутывала существо дела, сам смысл классового деления. Как мы уже отмечали, в марксизме классовое деление всегда, независимо от его конкретного характера, отражало наличие двух полярных производственных социальных групп, одна из которых в том соединении живого и овеществленного труда, которое и характеризует в определенном смысле процесс общественного производства, всегда олицетворяла рабочую силу, а другая — условия ее применения, т.е. средства производства (что отражалось в различном характере отношений собственности этих групп к совокупности имеющихся у данного общества средств производства – «основной признак различия между классами их место в общественном производстве, а следовательно, их отношение к средствам производства»38). Как мы видели выше, ничего подобного, в отличие от всех остальных случаев, в данном случае места не имело, т.е. данное деление не имело ничего общего (кроме упоминания всуе понятия «класс») с марксизмом и его материалистическим пониманием общественных процессов, зато надежно затушевывало не только социальную роль, но и само существование господствующей социальной группы, той самой социальной группы, которая как целое действительно распоряжалась всей совокупностью средств производства нашего общества. Поскольку полностью скрыть ее наличие все же не удавалось, был введен в обиход жупел «бюрократии» (об этом ниже). Если ко всему этому прибавить еще и использование для наименования классов при социализме тех терминов, которые в марксизме применялись для обозначения классов других формаций (рабочий класс в капиталистической39, крестьянство в феодальной40), то можно только поражаться мастерству этой грандиозной мистификации.
При этом надо отдать должное Иосифу Виссарионовичу: он честно предупредил, что «рабочий класс СССР — это совершенно новый, освобожденный от эксплуатации рабочий класс, подобного которому не знала еще история человечества»41 (равно как и «советское крестьянство — это совершенно новое крестьянство, подобного которому еще не знала истории человечества»42). Предупредить-то он предупредил, да формула «рабочий класс СССР» немедленно «рационализировалась» (в том числе и им самим) и ее никто больше не употреблял в указанном (т.е ограничительном по существу) смысле, хватало и просто «рабочего класса», а если и прибавляли «СССР», то уже только в смысле указания «страны пребывания». А вот любые характеристики, которые марксизм выработал собственно для рабочего класса как класса буржуазного общества, можно было, благодаря этой, вроде бы совершенно незначительной коррекции, при необходимости относить и к сталинскому «рабочему классу СССР», напрочь забывая, что это «совершенно новый класс».
Аналогично обстояло дело относительно политической власти. Как мы видели, ранее у Сталина речь не шла о политическом господстве какого-либо класса, да и как ей было идти при отсутствии классов («классов нет»), хотя непосредственно власть почему-то все же осществляли некие «лучшие представители рабочего класса»43. Теперь же положение кардинально меняется, да и речь уже идет не вообще о власти, и даже не о господстве, а о диктатуре! И опять мы имеем терминологический финт. Во-первых, если говорить о диктатуре рабочего класса (пролетариата) как о государстве переходного периода, то, по Марксу и Ленину, он в этом случае осуществляет диктатуру как масса, как «вооруженные рабочие» — «простая организация рабочих масс»44 без особой политической машины, которая в этом отношении как раз и составляет предмет Конститутции. То есть, в данном случае мы опять уже имеем дело с чем-то другим, а не с той диктатурой, о которой говорили Маркс и Ленин, хотя используется для нее все то же наименование.
Во-вторых, здесь, как и в случае с понятием «рабочего класса», сам термин «диктатура» есть результат подсовывания значения одного понятия под другое. Ленин понятие диктатуры определил с предельной научной строгостью: «Научное понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть. Не что иное, как это (выделил сам Ленин! — Л.Г.), означает понятие “диктатура”»45. Именно такой характер и имела диктатура пролетариата тогда, когда она в строгом соответствии с положениями марксизма имела место у нас непосредственно после революционного взятия власти. Другими словами, диктатура — это не любой, а вполне определенный вид власти (и «не что иное, как это»!). А тут вдруг диктатура — власть, «никакими законами не стесненная», — вводится в Основной Закон! Поэтому можно утверждать, что совершается научный подлог, когда отождествляют власть вообще и конкретный вид этой власти — диктатуру. Полностью отождествляя «диктатуру» с любым «государственным руководством обществом»46, делают все возможное, чтобы посильнее запутать вопрос о власти в советском обществе. В результате таких манипуляций уже легко делается вывод, «что общество состоит из двух дружественных классов, из рабочих и крестьян, что государственное руководство обществом (диктатура) принадлежит рабочему классу, как передовому классу общества, что конституция нужна для того, чтобы закрепить общественные порядки, угодные и выгодные трудящимся»47.
Ирония истории опять же в том, что в конце концов Сталин оказался прав: не прошло и года после принятия новой Конституции, как власть действительно приобрела форму неприкрытой (сколько бы ее не старались закамуфлировать), «никакими законами не стесненной» диктатуры номенклатуры (а уж конечно не «рабочего класса»!). Закончилась трансформация Советов, которые уже при Ленине народжающаяся номенклатура стремилась превратить из «органов управления через трудящихся» в «органы управления для трудящихся»48. Конституция юридически закрепила это превращение посредством «прямого, равного и тайного» избирательного права.
Известно, что даже самая демократическая буржуазная конститутция путем демократического «прямого» избрания представительных органов только закрепляет власть тех, кто имеет возможность обеспечить избрание нужных людей, в конечном счете надежно гарантируя власть буржуазии, имеющей в руках все средства воздействия на избирателей. То же самое произошло и в данном случае, разве что средства воздействия несколько отличались, но распоряжалась ими по своему усмотрению номенклатура как господствующая социальная группа, гарантируя необходимое течение «избирательного процесса». При многоступенчатой системе выборов тех, «настоящих» Советов, избирающие близко знали избираемых, что затрудняло манипулирование избирателями, и благодаря этой близости имелась реальная возможность организации отзыва депутатов в любое время с любых постов (на чем особо настаивал Ленин и без чего о народовластии не приходится и говорить). С ликвидацией многоступенчатости избираемые резко «отдалялись» от избирающих, уже не оставалось возможности непосредственной оценки качеств первых последними, а следовательно, открывалась широчайшая возможность манипулирования выборами для тех, кто эту возможность имел (прежде всего через средства массовой информации − «печать надо прибрать к рукам обязательно»49); да и право отзыва становилось чисто номинальным. А Сталин, никак не обосновывая свое мнение, в противоположность действительному положению вещей утверждал, что «непосредственные выборы на местах во все представительные учреждения вплоть до верховных органов лучше обеспечивают интересы трудящихся нашей необъятной страны»50. Нет, не лучше. На самом деле введение прямых выборов надежно ликвидировало остатки народовластия и окончательно превратило Советы в декоративные органы.
Итак, за неполный год, прошедший от беседы с Р.Говардом до доклада о проекте Конституции, Сталин диаметрально поменял точку зрения на классовую структуру советского общества. В конечном счете причиной этого стало то, что номенклатура, сначала являвшаяся прогрессивным классом, интересы которого в основном совпадали с задачами прогрессивного развития общества (и который потому противостоял преимущественно остаткам отживающих классов), к тому времени превратилась в класс, все больше становящийся реакционным вследствие все увеличивающегося расхождения этих интересов (т.е входящий в коллизию уже с большинством трудящихся ради сохранения своего господства). Естественно, что обеспечение господства теперь превращается в самостоятельную задачу, решение которой для данного класса является жизненной необходимостью, и решать которую нужно было в том числе и в идеологической области.
Рассматривая, как классовое деление советского общества отражается в работах Сталина, не лишнее обратить внимание на критерии, по которым выделяются «дружественные классы и прослойка». Как уже отмечалось, в марксизме классовое деление принято производить прежде всего по отношениям социальных групп к основным средствам производства. А вот как это делается в рассматриваемых сталинских работах. Сталин считал, что, в отличие от рабочего класса капиталистического общества, «рабочий класс СССР» нельзя назвать пролетариатом (но почему-то можно «рабочим классом», хотя, как известно, классики марксизма использовали эти понятия как равнозначные), ибо «наш рабочий класс не только не лишен орудий и средств производства, а наоборот, он ими владеет совместно со всем народом»51. Если «совместно», то чем он в социальном смысле отличается от «всего народа», зачем «рабочий класс СССР» выделять в некий отдельный класс? Ответа нет. Крестьянство как «класс мелких производителей» также отсутствует: «в основе хозяйства нашего крестьянства лежит не частная собственность, а коллективная собственность, выросшая на базе коллективного труда»52. Ну, чего стоит определение собственности в сельском хозяйстве как «коллективной» видно из сталинской директивы: «партийным организациям придется и впредь, на определенно короткий срок, заниматься вплотную сельскохозяйственными делами со всеми их мелочами, пахотой, севом, уборкой и т.п.»53; так «впредь» «вплотную» и занимались «со всеми мелочами», несмотря на «коллективность», вот только с «определенно коротким сроком» не получилось54. Но почему же это крестьянство? А потому, что имеется «личное (!) хозяйство, личный двор и т.п.»55. Вот и все. Зачем же именовать «рабочим классом» и «крестьянством» те социальные образования, которые не имеют их наиболее существенных, по мнению самого же именующего, конституирующих признаков? Оказывается, потому, что раз классы у нас «не исчезли», то полагается нецелесообразным «вычеркивать из лексикона установившиеся для них (?) наименования»56 (даже если эти классы «совершенно новые»!).
Еще лучше обосновывается, почему интеллигенция считается не классом, а прослойкой. Оказывается, «интеллигенция никогда не была и не может быть классом, — она была и остается прослойкой, рекрутирующей своих членов среди всех классов общества»57. И это тоже все: только вопрос о «рекрутировании членов» и ни слова о социально-экономических характеристиках этой группы.
Таким образом, все это пресловутое деление на «два дружественных класса и прослойку» имело сугубо конъюнктурный характер и в своих истоках не содержало и намека на научное обоснование. Это уже после, когда за дело принялась услужливая идеологическая обслуга (идеологические холуи из той самой «прослойки», и являющейся-то таковой именно постольку, поскольку не имеет собственного отношения к средствам производства, а потому вынуждена обслуживать потребности господствующего класса), было сделано все возможное для «обоснования» указанных положений.
Дальше лексикон резко меняется. В докладе на Пленуме ЦК ВКП(б) «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников» уже речь идет не о «советских людях» и даже не о «рабочих и крестьянах», а именно о «рабочем классе» (уже не о «рабочем классе СССР»), причем в массированном порядке (например, только на с.157-й четырнадцатого тома сочинений Сталина это словосочетание употреблено десять раз). Оно и понятно: в своей борьбе за власть номенклатура демонстрирует именно классовый подход, говорит от имени класса — хотя и не от того, в интересах которого на самом деле действует.
А действует она в интересах того господствующего «класса», которым сама же и является. И как бы не хотелось это прикрыть, шила в мешке все же не утаишь, это обстоятельство выпирает даже в указанном докладе. Естественно, вещи своими именами не называются, но господствующая социальная группа просматривается достаточно четко — под эвфемизмом «наши люди» («наши партийные товарищи»). Выражение это столь же массированно сменяет «рабочий класс», как только докладчик от политических деклараций переходит к практической политике. Но, может быть, эти «наши люди» — просто другое выражение, по своей сути соответствующее все тому же «мы, советские люди»? Отнюдь. Из контекста совершенно ясно, что здесь речь идет вовсе не о всех советских людях вообще, а только о некоторой их части, а именно, о четко ограниченной по отношению к остальным руководящей группе. И это тем более ясно, что для остальных имелось совсем иное наименование, а именно «простой советский человек», или, как это звучит у Сталина в заключительном слове на том же пленуме: «…Маленький человек… даже не секретарь ячейки, а (!) простой человек»58. И в общем виде это различие Сталин также формулирует вполне определенно: «Мы — руководители и они — руководимые»59.
Интересно отметить еще один курьезный момент. «Руководящие слои» партии Сталин сравнивает с военной организацией, образующей иерархическую структуру, отмечая наличие, как в армии, слоев высших, средних и низших руководителей. Сравнение весьма точное. Но в данном случае стремление к точности формулировок даже при таком образном сравнении оказывает Сталину плохую услугу, открывая то, что у него вряд ли было желание демонстрировать. Он чувствует, что дело не только в характере организации и функциональной роли, но и в социальном статусе «наших людей» в обществе (т.е. в реально имеющей место стратификации), а потому выбирает сравнение не просто с армейской структурой, но со старой кастовой структурой с соответствующими названиями — вплоть до именования «нижнего партийного командного состава» «партийным унтерофицерством»60 (какового унтерофицерства в советской-то армии не было ни тогда, ни позже). Штрих мелкий, но характерный.
Ну, и наконец разговор о характеристиках номенклатуры как особой социальной группы по материалам сталинских работ будет неполным, если не сказать о способах «рекрутирования» ее членов (вспомним, какое значение Сталин придавал ему при характеристике интеллигенции). Что бы там не говорилось о выборах, данная группа самовоспроизводилась помимо воли и влияния «рабочего класса» или «народа» путем кооптации, и этому процессу придавалось особое значение: «Задача состоит в том, чтобы взять полностью в свои руки дело подбора кадров снизу доверху»61, сосредоточив «дело изучения, выдвижения и подбора кадров» в одном месте, и «таким местом должно быть Управление кадров в составе ЦК ВКП(б)»62. Как известно, до последнего времени такой метод подбора «слуг народа» реализовался неукоснительно — одновременно с шумихой о «советской демократии».
Таковы были методы идеологической «подмены» тех реальных классовых отношений, которые достаточно полно сложились в нашей стране уже к середине тридцатых годов. Однако господствующая социальная группа (номенклатура) слишком сильно выделялась на общем социальном фоне, чтобы можно было в анализе социальной структуры общества вот так просто ограничиться «двумя дружественными классами и прослойкой». Нужно было как-то объяснять это социальное явление. И тогда был изобретен еще один прием — представление номенклатуры (а точнее, особо одиозной ее части, на которой и стремились сфокусировать основное внимание, превратив ее в козла отпущения) в качестве некоторого «внесистемного» (т.е. не входившего «законным» элементом в официально признанную социальную структуру) образования — бюрократии. Прием оказался настолько удачным, что последствия его применения сказываются до сих пор, разве что в качестве упомянутой «бюрократии» и в обыденном представлении, и в теоретических рассуждениях выступает теперь уже вся номенклатура, которой (именно в этом качестве) и приписывается вина за все наши действительные и мнимые беды. При этом соответствующие общественные отношения выводятся за пределы основных производственных отношений (прежде всего отношений собственности), вопрос переводят в плоскость политическую (и даже нравственную), уводя от анализа реально существующего положения в некий фантастический мир. Несмотря на мистификацию ими реальных общественных отношений, представления о демонической роли «бюрократии» настолько распространены, что оставить в стороне этот вопрос сегодня просто невозможно. Посмотрим же, как обычно представляют себе сущность и роль этого социального пугала.
При анализе внутренних процессов Л.Д.Троцкий совершенно справедливо во главу угла ставил влияние и роль номенклатуры (как раз и именуемой им «бюрократией»). Сам в свое время являясь видным представителем этой социальной группы, он знал, о чем говорил, и его свидетельство имеет для нас сейчас чрезвычайно важное значение. Но, видя и показывая всевластие «бюрократии» во всех областях жизни страны, Троцкий, тем не менее, не соглашается с ее определением в качестве класса, даже класса «государственной буржуазии», ибо она не имеет «ни акций, ни облигаций. Она вербуется, пополняется, обновляется в порядке административной иерархии, вне зависимости от каких-либо особых, ей присущих отношений собственности. Своих прав на эксплуатацию государственного аппарата чиновник не может передать по наследству. Бюрократия пользуется привилегиями в порядке злоупотребления»63. Об «особых отношениях собственности» мы уже говорили и еще будем говорить более подробно. А что касается проблем наследования (как и «вербовки» и «пополнения»), то следовало бы вспомнить хотя бы «первое сословие» феодального общества в Западной Европе – церковную иерархию, отличающуюся практически всеми теми же чертами, и тем не менее (даже невзирая на целибат) являвшуюся вполне «законной» частью господствующего класса. А здесь вообще особый случай – речь-то идет о социализме, классы в котором имеют «неполный» характер. Сам же Троцкий признает, что в данном случае имеют место «величайшие отличия. Ни при каком другом режиме, кроме советского, бюрократия не достигала такой степени независимости от господствующего класса»64. Пусть «степень независимости» велика, «акций и облигаций» нет, но коль скоро эта господствующая социальная группа вообще существует, то она каким-то же способом должна осуществляет свое господство? И при чем тут еще какой-то «господствующий класс»? Но в том-то и дело, что вместо того, чтобы исследовать способ осуществления господства «бюрократии», Троцкий вдруг ни с того, ни с сего говорит о «диктатуре пролетариата»!
Уж коль из всего сказанного о всевластии номенклатуры делается столь неожиданный вывод, то тут бы и рассмотреть этот важнейший момент, т.е. показать реальные механизмы такой странной «диктатуры пролетариата». Но он только как-то скороговоркой, походя отмечает, что «бюрократия» «все еще остается орудием диктатуры пролетариата» – правда, только «одной стороной». Какой же? Оказывается той, что она «вынуждена защищать государственную собственность как источник своей власти». А почему бы и не защищать? Номенклатура была не «вынуждена», а заинтересована это делать – раз это источник ее власти. Ведь сам же Троцкий всей своей книгой показывает, что «бюрократия» вполне могла сказать: «государство – это я!». И дело не только в «бюрократической» (политической) власти, а во вполне определенной экономической, доходящей до социальной дифференциации: «Неограниченная власть бюрократии является не менее могущественным орудием социальной дифференциации. В ее руках такие рычаги как заработная плата, цены, налоги, бюджет и кредит»65. При наличии таких «рычагов» стоит ли говорить о каком-то «злоупотреблении» привилегиями? Какие еще «акции и облигации» нужны для осуществления экономической власти и «законного» пользования ее плодами? По мнению Троцкого, «наемный труд не перестает и при советском режиме нести на себе унизительное клеймо рабства»66. «Рабства» у кого? Да все у той же «бюрократии», больше не у кого, коль скоро «советский Термидор» принес «бюрократии полную независимость и бесконтрольность, а массам – хорошо знакомую заповедь молчания и повиновения»67. «Бюрократия» – орудие диктатуры ей же «молчаливо повинующихся рабов»! Большего издевательства не только над научным анализом, но и над обыкновенным здравым смыслом придумать невозможно.
Таким образом, несмотря на все основания для вывода, что советская «бюрократия» осуществляет функции действительного господствующего класса, Троцкий этого вывода не делает, поскольку «констатация классовой сущности бюрократии нанесла бы весомый удар по основам политической стратегии Троцкого»68. В случае такой констатации следовало и относиться к «бюрократии» как к классу, т.е. как к сплоченной социальной группе, имеющей общие социально-экономические интересы. Но для Троцкого «в период написания “Преданной революции”, и позже бюрократия оставалась в теоретическом плане неустойчивым образованием, раздираемым растущими антагонизмами»69, и он надеялся на конечную победу (в блоке с «центристами») имеющейся в «бюрократии» также «подлинно большевистской» тенденции меньшинства – против столь ненавидимой им окончательно «обуржуазившейся» части (что абсолютно бессмысленно, если «бюрократия» в действительности представляла собой производственный класс) 70.
Однако, тем не менее, сам по себе вопрос воспроизводства социального класса заслуживает самого серьезного внимания – без того, как происходит воспроизводство положения члена господствующего класса так же невозможно понять процесс воспроизводства жизни общества, как нельзя понять производства средств к жизни без понимания того, как происходит соединение прошлого (овеществленного) и нынешнего (живого) труда. В классовом обществе уже при рождении индивид вследствие самого этого факта занимает в нем некоторое положение, определяемое положением его родителей. В рабовладельческом обществе это прежде всего принадлежность к одной из двух больших социальных групп с различным генезисом – рабовладельцев или рабов. Это настолько фундаментальный факт, что все остальные моменты имеют подчиненное значение (а они также наличествуют вследствие социальной стратификации господствующего класса). В обществе феодальном человек с самого рождения занимает строго определенное место именно в иерархии господствующего класса как части консолидирующегося этноса. Что касается общества буржуазного, то здесь по наследству передается уже не столько четко определенное место в общественной системе, сколько отношения к средствам производства (имущественные отношения), позволяющие впоследствии занять это место. Разумеется, на все это в реальных условиях накладывается ряд привходящих обстоятельств, существенно модифицирующих данное явление, но не меняющее его по сути, причем личные качества мало влияют на положение, переданное по наследству.
При социализме дело меняется еще более существенно. Уже капитализм в основном ликвидирует непосредственное наследование сословного положения. Социализм же, ликвидировав частную собственность на средства производства, окончательно освобождает индивида не только от сословной, но и от имущественной предопределенности его общественного положения, заданной от рождения. Это, конечно, вовсе не значит, что при социализме положение родителей не сказывается на положении детей. Однако даже на том этапе социализма, когда имеется господствующий класс с особыми отношениями к средствам производства, положение члена господствующего класса просто по наследству не передается ни прямо, ни косвенно, поскольку по отношению к средствам производства господствующий класс выполняет только функцию распорядителя, но не владельца. Поэтому члены господствующего класса не могут передавать свое общественное положение детям уже при их рождении.
Соответственно и пополнение господствующего класса при социализме не происходит преимущественно по наследственному признаку. Достаточно просмотреть биографические данные сколько-нибудь значительного количества членов высших и средних слоев номенклатуры, чтобы убедиться в этом: в большинстве своем они – выходцы из среды класса-исполнителя, класса трудящихся (в основном из крестьян как наиболее обширной в свое время социальной группы71). Более того, сами условия жизни и карьеры отпрысков членов господствующего класса отнюдь не способствовали воспитанию в них качеств, необходимых для того, чтобы занять место в этом классе, особенно в его высших эшелонах. Каждый будущий член номенклатуры проходил серьезный «искус» – долгий путь по ее ступеням, постепенно врастая в нее в качестве ее органической части. Разумеется, это не означает ни отсутствия стремления родителей повлиять на положение детей, ни того, будто положение первых не влияет на социальное положение последних. Такая возможность, безусловно, существовала как благодаря особым возможностям подготовки, так и связям родителей. Но, как правило, результатом являлось определение вышеупомянутых отпрысков не в саму номенклатуру, а в обслуживающие ее высшие слои творческой и научной интеллигенции, чиновников, связанных с торговлей и международными отношениями и т.п. В формировании же господствующего класса реализовалась его воля как целого, а не как воля его отдельных представителей. Таким образом, при социализме впервые в истории господствующий класс в своем воспроизводстве оказался генетически связанным с обществом как целым.
Что касается других, в том числе более поздних обоснований особой социальной роли «бюрократии» при социализме, то они обычно не отличаются особым разнообразием, поэтому рассмотреть их можно на любом примере такого «анализа». Вот, например, определяя сущность бюрократии, иногда утверждают, что «бюрократия — это аппарат управления, который работает сам на себя, то есть аппарат управления, который превратился в самоцель»72. Такой абсолютно неверный вывод может быть сделан разве что из столь же ошибочной посылки, будто вообще «административный аппарат выражает, защищает общие интересы» (даже если последние представляют некую непонятную «псевдообщность» — философы любят разные такие слова: придумал название, и вроде бы все объяснил). Из указанной посылки делается заключение, что «при разрыве между общими интересами, с одной стороны, и единичными и особыми интересами, с другой, аппарат управления неизбежно в той или иной степени оторван от управляемых, а следовательно, работает на самого себя, превращается в самоцель». Но без «разрыва» между общими и единичными интересами «аппарат управления» в таком («силовом») виде, в каком он пока известен в истории, вообще был бы не нужен, ибо в таком случае его деятельность свелась бы к чисто технической функции координации, когда «распределение общих функций приобретает деловой характер и не влечет за собой никакого господства»73. Однако это дело будущего, и даже в социалистическом обществе, все еще имеющем социальную дифференциацию, пока неосуществимо. А главное: «административный аппарат» в обществе с социальной дифференциацией (т.е. классовом) всегда имел классовый характер и никогда не защищал некие «общие интересы», всегда и без исключения он защищал интересы господствующего класса (которые, по обыкновению, с «общими интересами» в достаточной мере совпадают только в период прогрессивного развития общества). Другое дело, что этот «аппарат управления» не всегда представлял собой отдельное социальное образование.
Так, феодализм эпохи раздробленности не знал бюрократии как особого «сословия» — каждый феодал сам был главным администратором, судьей, военачальником. Бюрократия как особый социальный слой возникает в эпоху абсолютизма, когда она «была создана, чтобы управлять мелкими буржуа и крестьянами»74. Однако так продолжалось только до тех пор, пока власть принадлежала «одной только неограниченной монархии с ее бюрократами»75. А «с того момента, как управление государством и законодательство переходят под контроль буржуазии, … гонители буржуазии превращаются в ее покорных слуг»76, выполняющих как целое роль ее органа управления государством. Как целое, поскольку «что касается отдельного бюрократа, то государственная цель превращается в его личную цель, в погоню за чинами, в делание карьеры»77. Поэтому в некоторых особых случаях, при нарушении «нормального» функционирования государственной власти, государственная машина может проявлять определенную самостоятельность — но только кратковременно, смиренно возвращаясь затем опять в лоно господствующего класса, поскольку в конечном счете всегда и неизменно «бюрократия при всем своем стремлении к самовластию была орудием господствующего класса»78.
В не меньшей степени это касается и социализма как общества все еще классового (точнее – стратифицированного), сколь бы ни был своеобразен характер его «классов». Естественно, и здесь никакой «работы аппарата управления самого на себя» никогда не было и быть не могло (как не может работать «сама на себя», скажем, интеллигенция или какое-либо другое надстроечное социальное образование, хотя оно, обладая относительной самостоятельностью и собственными интересами в качестве социального слоя, неизменно будет пытаться это делать; в противоположных представлениях мы имеем дело с застарелым рецидивом идеализма в обществоведении). И вовсе не потому, что «аппарат управления» «оторван от управляемых» (как же он тогда управляет?), а потому, что он также выполняет волю господствующего «класса». Другое дело, что на прошедшем этапе развития социализма, как и при феодализме (почему это так — вопрос особый), «аппарат управления» в значительной мере совпадал с господствующей социальной группой, которой являлась госпартхозноменклатура, в своей целостности распоряжавшаяся средствами производства, т.е. занимавшая особое место в отношениях собственности и, стало быть, входящая в базис. Представление же ее в виде некоей «бюрократии», т.е. надстроечного «аппарата управления», лучше или хуже, но все же выражающего «общие интересы» в качестве «слуг народа», было особенно желательно для нее самой именно как для господствующей социальной группы, заинтересованной в камуфлировании не только своего господства, но и самого факта существования в этом качестве. Этим камуфляжем занималась ее идеологическая обслуга, да так успешно, что запущенная «деза» «работает» до сих пор.
4.4. Становление и развитие социализма
Рассмотрев некоторые характерные черты социализма, мы, таким образом, получили возможность взглянуть на него в целом как на некоторое достаточно определенное социальное явление. Как и любое другое социальное явление, социализм появился на основе некоторых общественных условий. Но, будучи в определенном смысле обществом переходным между обществом классовым, состоящим из «атомарных» индивидов, и бесклассовым обществом индивидов «ассоциированных», осуществляющим переход между ними через коллективистские отношения социализма, уже по самой этой причине он вынужден проходить через этапы развития, существенно различающиеся по своим общественно-экономическим характеристикам, и на новых (коллективистских) основах как бы повторяет путь развития классового общества. Его становление и развитие включает в себя революционное преобразование отношений собственности, формирование производственных коллективов как субъектов экономической и социальной деятельности и их расширение до уровня всего общества, причем представляет собой не однократный (пусть даже растянутый во времени, как строительство средневекового собора) «акт творения», а процесс с существенно различными последовательными стадиями (как метаморфоз насекомого). Поэтому при всей качественной определенности социализм не является строем с относительно неизменными общественно-экономическими характеристиками (как не является таковым классовое общество в целом), но проходит в своем развитии ряд этапов, достаточно существенно различающихся в основных социальных и экономических характеристиках.
Мы уже подчеркивали, что фактически вся история общества при его классовой организации представляет собой формирование в конечном счете общественных отношений между «атомизированными» индивидами, а перед социализмом стоит аналогичная, но обратная задача смены субъектов общественно-экономических отношений, т.е. формирования из «атомизированных» субъектов коллективистских. Понятно поэтому, что между этапами развития в обоих случаях можно ожидать наличия определенной аналогии (естественно, весьма существенно ограниченной как этими различиями, так и направлением движения). В обоих случаях достаточно четко выделяются три основные этапа развития. Первый этап связан с коренной сменой всей общественной ситуации (осуществляемой, вследствие этого, исключительно насильственным путем), устанавливающей вооруженное господство одной социальной группы над другой. Различие же состоит в том, что в первом случае это относится к племенным (т.е. первоначально практически полностью разделенным) образованиям, а в другом – к классам (т.е. образованиям, сложившимся внутри некоторой целостности). Второй этап наступает в результате внутренней дифференциации возникнувшего в результате упомянутых процессов нового социального образования с установлением иерархической системы управления, обеспечивающей эту целостность (соответственно феодальная и номенклатурная иерархия). И, наконец, третий этап, завершающий каждый цикл, на котором ранее начавшиеся процессы (соответственно «атомизации» и «ассоциирования») доводятся до их логического завершения, причем в основу общественно-экономических отношений ложится самоорганизация субъектов социальной и экономической деятельности (соответственно индивидов и коллективов); в первом случае этот этап в значительной степени пройден, во втором он еще только предстоит. Таким образом, тем, что на всех этапах объединяет социализм как единую формацию, является его коллективистский характер (и, соответственно, расщепленные отношения собственности на средства производства), в то время как его основные социально-экономические характеристики существенно меняются в зависимости от этапов развития. Рассмотрим вкратце эти этапы.
Итак, рассмотренные выше условия создают возможность пролетариату под руководством революционной партии совершить революционный переворот, взять власть в свои руки и произвести «экспроприацию экспроприаторов». При этом пролетариат устанавливает свою революционную диктатуру и осуществляет ее до тех пор, пока не будет в основном ликвидирован его класс-антагонист – буржуазия (именно как класс!). Этим исчерпывается действие той негативной стороны (части) идеологии, которая вырабатывалась в определенных общественно-экономических условиях в результате противостояния с классом капиталистов и формировалась посредством внесения в среду рабочего класса социалистических идеалов, исчерпывается с окончанием в основном этого противостояния на уровне классов. В целом же идеология рабочего класса в момент взятия власти еще не может соответствовать социалистическим общественно-экономическим отношениям (т. е. в собственном смысле слова быть социалистической), поскольку последних попросту не существует. Их еще не создает сам факт экспроприации буржуазной собственности, да и процесс этого создания весьма длителен, поскольку «дело идет об организации по-новому самых глубоких, экономических основ жизни десятков и десятков миллионов людей»1. Идеология класса как целого в своей основе долго остается той же, что и раньше, т. е. буржуазной (и мелкобуржуазной); потому-то Ленин и говорил о необходимости «перевоспитывать и самих пролетариев».
И опыт Парижской Коммуны, и опыт первых лет Советской власти говорит об одном и том же: на первом этапе революции, когда речь идет прежде всего о подавлении эксплуататорских классов, осуществляется диктатура пролетариата как класса, как вооруженного народа, когда отсутствует «учреждение общественной власти, которая уже не совпадает непосредственно с населением, организующим самое себя как вооруженная сила»2. Какие же при этом устанавливаются производственные отношения? Прежде всего следует иметь в виду, что вследствие «особо» переходного характера этого этапа (т.е. определяющей на этот период роли инерции) об определенных производственных отношениях здесь можно говорить только достаточно условно. Однако когда при победе социалистической революции на первом этапе развития социализма государственную власть под руководством партии берет рабочий класс, пролетариат, «первый акт, в котором государство выступает действительно как представитель всего общества – взятие во владение средств производства от имени общества»3. Частная собственность ликвидируется. Какой же она становится? Характер политической власти, направленной на построение социализма и с этой целью использующей собственность на основные средства производства, делает последнюю социалистической, но не общественной – государство здесь ведь не представляет не только общество как целое, но даже все население страны. Отношение собственности расщепляется по субъектам. Поскольку в то время «вооруженный пролетариат был правительством»4, то и владение основными средствами производства, являясь государственным, тем самым относится именно к пролетариату как целому. А «все граждане превращаются здесь в служащих по найму у государства, которым являются вооруженные рабочие»5.
С ликвидацией эксплуататорских классов изменился также характер пользования средствами производства: теоретически социалистическая собственность, обращенная «на пользу всего народа»6, в конечном счете и должна была использоваться пролетариатом как целым для обеспечения средств к жизни населения страны. Но то, что к началу революционных преобразований в России капитализм еще не достиг своего полного развития, прежде всего то, что он в этой преимущественно аграрной стране в отношении концентрации капитала еще сравнительно мало затронул сельское хозяйство, наложило на указанные процессы существенный отпечаток. На рельсы социалистических преобразований стали практически только промышленные предприятия, в сельском хозяйстве царила мелкобуржуазная стихия, для которой интересы пролетариата не были своими. В условиях разлада экономических механизмов это не могло не привести к нарушению снабжения продовольствием. Из-за необходимости обеспечить возможность существования несельскохозяйственного населения – прежде всего промышленного пролетариата – власть диктатуры пролетариата неизбежно должна была обернуться также и против крестьян, и вынуждена была на проведение соответствующих мероприятий с целью внеэкономического изъятия у последних продовольствия (сначала путем продразверстки, а затем продналога).
Что же касается распоряжения средствами производства, то в то время оно носит локальный, раздробленный характер. Осуществляется оно через органы самоуправления – Советы, сформированные по территориально-производственному признаку, следовательно, еще не отражающие общих интересов пролетариата как целого, а только его отдельных трудовых коллективов, которые, по выражению Ленина, «в наследство от капитализма… получили неумение, непривычку к общей солидарной работе»7. В рабочей среде превалировали синдикалистские настроения. Но на том этапе, вследствие отсутствия объективных условий для выработки в рабочей среде социалистического сознания (наличных в более или менее полном объеме социалистических производственных отношений), еще и нельзя было ожидать всеобщего объединения – «исторически показано, что рабочие не могут объединяться иначе, как по производствам»8.
Такое распоряжение средствами производства обеспечивало решение задачи «экспроприации экспроприаторов», разрушения старого строя, т.е. выполнение деструктивных функций революции. Когда положение изменилось, когда на первый план постепенно стали выходить ее конструктивные задачи, оказалось, что буржуазная идеология живуча и до победы новых общественно-экономических отношений воспроизводится, в том числе и в среде рабочего класса, что отсутствие соответствующих общественно-экономических отношений во всем объеме не позволяет рассчитывать на самоорганизацию всего рабочего класса в процессе производства, что для этого нужен специальный аппарат и что «жить без этого аппарата мы не можем, всякие отрасли управления создают потребность в таком аппарате»9. И тогда уже не весь пролетариат как масса (как предполагалось ранее), а только некий «авангард пролетариата взял в свои руки строительство власти»10.
Начала формироваться (поначалу преимущественно из рабочих, но далеко не только из них) новая социальная группа, в функции которой первоначально входило только общее управление социалистической собственностью, находящейся под широким рабочим контролем «снизу». Но те же интересы производства вскоре потребовали резкого усиления единоначалия. Необходимость «бороться с недостатками в рабочей среде сознания общности интересов, с отдельными проявлениями синдикализма»11 потребовала усиления влияния социалистического государства – неизбежно за счет уменьшения контроля «снизу». «Это прошлое, когда царил хаос и энтузиазм, ушло». Единоначалие потребовало руководителя, который «умеет утвердить, осуществить твердую власть, хотя бы и единоличную, но осуществить ее во имя интересов пролетариата», когда «волю класса… осуществляет диктатор, который иногда более сделает и часто более необходим», чем «сплошная коллегиальность»12. Но такой «диктатор» уже подотчетен не массам, а тем, кто его таковым сделал, т.е. партийному и государственному аппарату. По мере структурной организации этого слоя представителей государства из них формируется особая группа партийных, административных, хозяйственных руководителей-профессионалов (позже получившая наименование номенклатуры), в своей совокупности осуществляющая диктатуру по отношению ко всем остальным слоям «во имя интересов пролетариата» – с целью построения общественно-экономической базы социалистического общества.
Итак, с победой социалистической революции возникает ситуация, когда в развитии общества образуется как бы потенциальный барьер «старых предрассудков», и когда общественно-экономические преобразования должны осуществляться против действия социально-психологического фактора. Как мы видели, в предыдущих революционных преобразованиях, в преобразованиях в пределах классового общества новые политические институты давали свободу развития новых, но уже проявившихся и доказавших свою более высокую эффективность общественно-экономических отношений. Здесь же они оказываются перед задачей формирования таких отношений, имея для этого три предпосылки: теоретически разработанную социалистическую идеологию, коллективистскую собственность на основные средства производства и политическую власть. В этих условиях именно политическая власть, диктатура «революционного авангарда», опираясь на первые две предпосылки, могла обеспечить преодоление указанного потенциального барьера, вывести общество в ту точку социально-экономического развития, начиная с которой социалистическое сознание в массах вырабатывалось бы автоматически, опираясь на социалистические общественно-экономические отношения.
Переходный период не может тянуться слишком долго. Необходимость организации в новых условиях производства вызывала все возрастающее внеэкономическое давление со стороны формирующихся иерархических структур на большинство населения, в том числе и на большинство рабочего класса. И столь же естественно оно вызывало ответную реакцию, стремление сохранить уже достигнутый уровень демократии и самоуправления. Это приводило, с одной стороны, к подъему общедемократического движения, в том числе и выливающегося в ряд акций, подобных кронштадтскому мятежу, а с другой – в соответствии со своими демократическими убеждениями новым явлениям в стране и в партии оказывала сопротивление «старая гвардия». В результате указанных процессов вполне явственно возникает угроза отката назад – сначала на основе анархо-синдикалистских устремлений, на мелкобуржуазно-демократической основе, – что неизбежно привело бы в конечном счете к реставрации капитализма. Объективная логика движения требовала изменения общественных отношений, перехода к новому этапу развития социализма.
Этот качественно новый (второй) этап социализма наступил в начале двадцатых годов. Можно считать, что первый этап завершился так называемой «дискуссией о профсоюзах», формально направленной на определение роли профсоюзов в новых условиях, а в действительности посвященный судьбе диктатуры пролетариата. Фактически решался вопрос: может ли диктатура пролетариата на данном этапе строительства социализма осуществляться так сказать в классической форме посредством массовой самоорганизации пролетариата как класса, или же политическая власть должна пойти по пути организации особых властных структур (что классиками марксизма категорически не допускалось и против чего до революции столь яростно выступал Ленин). Однако объективная логика развития настоятельно потребовала, независимо от каких бы то ни было предшествующих соображений, перехода власти от «вооруженных рабочих» к «руководящим центрам» партии.
«Для нас принципиально не может быть сомнения в том, – говорил в то время Ленин, – что должно быть главенство коммунистической партии… которая господствует и должна господствовать над громадным государственным аппаратом»13. Поскольку еще достаточно долго после победы революции буржуазная и мелкобуржуазная идеология имели господствующее положение (в том числе охватывая и подавляющее большинство рабочего класса), только диктатура узкой сплоченной группы, опирающейся на передовую часть трудящихся, но движимой собственными интересами, могла вести по пути социалистического развития первую страну, вставшую на этот путь. В тот момент, на том этапе развития социализма для преодоления «потенциального барьера» необходима была именно диктатура меньшинства, как бы ни были привержены идее демократии основатели Советского государства – «революционная целесообразность выше формального демократизма»14. Осуждением Х-ым съездом партии анархо-синдикалистского уклона фактически завершилась смена предполагавшейся классиками марксизма непосредственной диктатуры пролетариата как класса, как самоорганизующейся массы (когда «сам вооруженный пролетариат был правительством»), сохранившей то же название, но коренным образом от нее отличающейся диктатурой его «революционного авангарда» – «руководящих центров» партии (номенклатуры). Что касается противодействующих сил в самой партии, то на их нейтрализацию была направлена резолюция «О единстве партии». Сама же партия из партии рабочего класса стала превращаться – по целям и задачам, независимо от своего членского состава – в партию номенклатуры.
Это был первый кризис социализма, закономерно вызванный объективной необходимостью смены его этапов в соответствии со сменой задач – от разрушения старого к созиданию нового, первая «узловая точка» развития. Переход этот оказался чрезвычайно болезненным, ибо новые задачи требовали соответствующей идеологической переориентации, смены ориентиров, а это исключительно трудно для активных участников процесса, а для кого-то и совершенно невозможно. Поэтому многими такая смена ориентиров воспринималась как измена делу революции. В результате партия, до сих пор, несмотря на большие потери в гражданской войне, быстро растущая, сразу лишилась 27% своих членов. Многие были в растерянности. Одной из причин такого положения было отсутствие теории социализма, но условий для ее создания к тому времени еще не было. И только благодаря гению Ленина, практически интуитивно определявшего требуемое направление развития, его уникальной антидогматичности, его воле и авторитету удалось выйти из кризиса с относительно небольшими потерями. Но все же произошла неизбежная потеря темпа социалистических преобразований, что потребовало проведения новой экономической политики.
Обращаясь к вопросу о новой экономической политике, чаще всего рассматривают характер ее внутренних механизмов. Но главное-то ведь не в них. Главное состоит в том, что новая экономическая политика (НЭП) по своей внутренней сути представляла собой использование старых экономических механизмов для преодоления разрухи в условиях, когда новые еще не могли работать в полную силу. Один из ведущих наших экономистов сравнил как-то экономику с самолетом. Если продолжить данное сравнение, то НЭП – это пикирование самолета, двигатель которого еще не обрел требуемой мощности, с целью набрать необходимую для дальнейшего полета скорость. Пикирование опасно, можно врезаться в землю, но и при потерянной скорости самолету не удержаться в воздухе, а других способов повысить ее в настоящий момент не имеется. Но это отнюдь не нормальный режим полета, а увеличение скорости – не смена курса. Долго так лететь нельзя, выйти из пикирования нужно вовремя. У нас во время так называемой «перестройки» применительно к НЭПу из конъюнктурных соображений ухватились за слова «всерьез и надолго» (приписываемые Ленину) и знать не желали того, что Ленин всегда – именно всегда! – говорил о НЭПе как о временном отступлении; он же сам вскоре и объявил: «отступление, которое мы начали, мы уже можем приостановить и приостанавливаем. Достаточно. Мы совершенно ясно видим и не скрываем, что новая экономическая политика есть отступление, мы зашли дальше, чем могли удержать, но такова логика борьбы»15. Это – «всерьез и надолго»? Но вернемся к рассмотрению основного пути развития нашего социализма.
На втором этапе развития социализма, при сохранении и углублении его коллективистского характера, весьма существенно изменились его основные социально-экономические характеристики, прежде всего отношения собственности на основные средства производства. Эти отношения остались такими же расщепленными по владению, распоряжению и пользованию, но произошла смена их субъектов. Что касается владения, на данном этапе развития социализма собственность так и осталась государственной, хотя изменился характер государства – государственная власть от «вооруженных рабочих» (диктатура пролетариата) перешла к «руководящим центрам» («диктатура номенклатуры»), но зато в той или иной мере стала представлять все население. Иначе дело обстоит с другими аспектами отношения собственности. В частности, по мере постепенного повышения однородности советского общества укреплялся общенародный характер пользования. Это даже принято было выражать в так называемом «основном законе социализма». Бесплодность попыток придать этому «основному закону» такую же универсальность, какую имеет основной закон капиталистического производства, определялась тем, что сказанное относится только к одной «ипостаси» собственности на средства производства – пользованию. Но в этом смысле собственность на данном этапе действительно становится общенародной.
Иначе обстоит дело с распоряжением. Как мы видели, в условиях «потенциального барьера» организация производства, объективно направленная на дальнейшее развитие социализма, возможна была только посредством диктатуры сравнительно узкой, сплоченной и дисциплинированной группы функционеров. Эта социальная группа и взяла на себя в своей совокупности распоряжение социалистической собственностью, средствами производства. Люди, составляющие данную группу (не каждый в отдельности, разумеется, а именно в совокупности, как определенная, связанная общностью интересов социальная группа), оказались, таким образом, поставленными в особое отношение к средствам производства. Группу же, поставленную общественным развитием в особое отношение к средствам производства, в марксистской социологии принято называть классом, причем тот класс, который благодаря этому отношению имеет возможность контролировать условия применения рабочей силы, становится классом господствующим. Таким классом на втором этапе социализма и стала данная социальная группа, со временем получившая наименование номенклатуры. Однако определяя ее как класс, опять же следует помнить, что вследствие нецелостности отношений собственности в условиях социализма, данный «номенклатурный класс» уже достаточно существенно отличается от господствующих классов классового общества, в котором они замыкали на себя все три «ипостаси» отношений собственности.
Однако сколь бы ни был своеобразным общественно-экономический статус данной социальной группы, ее особое положение в социалистическом государстве было слишком очевидным, чтобы не вызвать попыток определить ее в качестве особого класса. Но исследователи, не являющиеся марксистами, в принципе иначе смотрят на эту проблему; марксисты же, как мы видели выше, были зажаты в жесткие рамки официальных доктрин, не признающих такой постановки вопроса. И тем не менее такие попытки делались. Упомянем здесь Милована Джиласа, который еще в 1957 году и, повидимому, первым заговорил об этой группе как о «новом классе». Но, по его же словам (сказанным гораздо позднее), это определение у него носило, скорее, пропагандистский характер; оно не было (и у него, и у других – например, в работе М.С.Восленского, в ряде других работ, написанных в последнее время) наполнено общественно-экономическим содержанием. Во главу угла ставились властные, а не экономические функции номенклатуры, благодаря чему производственные отношения ставились с ног на голову: «Главное в номенклатуре – власть. Не собственность, а власть. Буржуазия – класс имущий, а потому господствующий. Номенклатура – класс господствующий, и потому имущий»16. А без развернутой общественно-экономической характеристики данного «класса» с учетом характера собственности при социализме подход и не мог быть другим, поскольку проблема классового деления – это прежде всего проблема различного отношения устойчивых социальных групп к средствам производства. Понять же эти отношения при социализме без учета расщепленного характера отношений собственности не представляется возможным.
Выше мы уже говорили о роли «номенклатурного класса» на определенном этапе социализма. Здесь затронем только некоторые особенности «номенклатурного класса», прежде всего характер его организации. Господствующий класс при экономической форме господства не нуждается во внутренней структурной организации. Но она необходима при осуществлении государственной власти по поручению господствующего класса административной системой, состоящей из общественного слоя чиновников. Именно такое положение имеет место в классическом буржуазном обществе в отличие, например, от феодального, где наличие внеэкономического принуждения вызывает отождествление экономически господствующего класса с иерархической управляющей системой. Необходимость в жесткой внутренней организации существует и для «номенклатурного класса», распоряжающегося социалистической собственностью. Целостность же свойственна этой социальной группе постольку, поскольку социалистическая собственность во владении выступает как единое целое.
Устойчивость такой системы обеспечивается ее иерархической организацией, когда она представляет собой пирамиду – наиболее устойчивое сооружение, в котором управляющее воздействие передается сверху вниз. Каждый очередной этаж имеет при этом строго фиксированный статус (ни одна иерархия не может существовать без этого весьма важного средства самоутверждения ее членов, гарантирующего их статус независимо ни от каких других обстоятельств) формально установленных различий по рангам (а уж церковной иерархией, «Готским альманахом», «Табелью о рангах» или перечнем номенклатуры партийных комитетов различного уровня – это все равно). В этой номенклатурной системе важны все этажи, причем Ленин даже считал необходимым на «коммунистов, занимающих должность внизу иерархической лестницы, обратить особое внимание, ибо они часто важнее, чем стоящие наверху»17.
Как мы уже отмечали, в результате этих социальных преобразований на втором этапе социализма, вместо «видоизмененных» буржуазии и пролетариата первого этапа, на втором этапе сформировались два других класса (еще раз подчеркнем – «неполных» вследствие неполноты отношений собственности), необходимых в организации производства. Первый - «номенклатурный класс», распоряжающийся средствами производства, для которого данное отношение обеспечивало возможность определять процесс производства, т.е. класс-распорядитель. Второй – класс трудящихся (включающий рабочих, крестьян и техническую интеллигенцию), лишенный такой возможности, но для которого средства производства (которыми он не мог распоряжаться) составляли необходимые условия применения рабочей силы его членов, – класс-исполнитель. Однако кроме этих двух производственных классов одновременно сформировались еще две прослойки (т.е. социальные группы, не имеющие собственного отношения к средствам производства, а следовательно, вынужденные обслуживать интересы господствующего класса, реализующие в усложнившемся мире по его поручению те или иные его функции в рамках дальнейшего разделения труда).
Реальное воздействие «класса-распорядителя» на «класс-исполнитель» осуществляется, как правило, не непосредственно, а через многочисленную (существенно превышающую по численности сам «номенклатурный класс») прослойку служащих – мелких чиновников18. Представители этого слоя не входят непосредственно в рассмотренную иерархическую структуру «номенклатурного класса», но соединены с ним плотью и кровью, составляют как бы его основание и продолжение, являются его функциональным органом. Этот слой также организован номенклатурой в особую иерархическую структуру, создающую возможность управления функционированием всего этого слоя, а через него – всей жизнью общества.
Другая социальная группа, также не имеющая самостоятельного отношения к средствам производства и, следовательно, не являющаяся классом даже в ограниченном смысле, но, как и в других формациях, обслуживающая интересы господствующей социальной группы, – интеллигенция. В капиталистическом обществе беспокойное и внешне как бы неуправляемое племя работников умственного труда, не связанных непосредственно с производством, в действительности управляется тысячами различных видимых, а чаще невидимых, достаточно гибких и эластичных, экономических в своей основе нитей, благодаря чему в массе своей оно верой и правдой служит интересам буржуазии, сохраняя при этом респектабельность и видимость независимости от господствующего класса.
Иначе дело обстоит при наличии внеэкономических факторов господства. В этом случае управление приобретает недопустимую для столь тонких материй грубую осязаемость, способную ощутимо снизить интеллектуальный потенциал и продуктивность данного слоя. Поэтому у нас «номенклатурный класс» для подчинения интеллигенции своим целям, для обеспечения ее управляемости при сохранении в необходимых для достаточно успешного функционирования дозах иллюзии самостоятельности избрал другой, не связанный с непосредственным индивидуальным воздействием путь – путь ее структурирования, создания некоторых управляемых целостностей с внутренней организацией, аналогичной собственной и обеспечивающей эту целостность, – путь своеобразной «коллективизации» интеллигенции. Такими «колхозами» здесь стали многочисленные творческие союзы, академии и другие подобные им образования. Они позволили внести организационное начало в высшие слои художественной, научной и другой интеллигенции, приручить, включить в иерархические структуры, заставить выполнять роль элементов этих структур в обмен на предоставление средств самоутверждения «элите» и кормушки рядовым членам, а также соответствующих рангу каждого льгот и привилегий.
Способ ранжирования – главным образом введение многочисленных и строго субординированных степеней и званий, жестко связанных как с этими привилегиями, так и с возможностью самореализации (но вовсе не обязательно отражающих действительную роль и значение конкретного индивида). Так, в искусстве кроме членства в творческих союзах (что уже само по себе ставило человека в особые условия) были введены звания заслуженного артиста автономной республики, союзной республики, народного артиста союзной республики и, наконец, народного артиста СССР. Получение каждого очередного звания сопровождалось достаточно определенными льготами и привилегиями. В науке процесс «остепенения» вообще был тщательно формализован. Если на Западе (прежде всего в англо-саксонских странах) вхождение в клан ученых фиксировалось получением степени «доктора философии», а дальше достаточно было экономических рычагов управления, то в СССР кроме соответствующей ей степени кандидата наук дальше следовала степень доктора наук, потом звание члена-корреспондента республиканской академии (забавно, что это звание, первоначально использовавшееся всего лишь для наименования такого же члена академии, но не присутствующего непосредственно на ее заседаниях, в последующем было превращено в ступень для так сказать «академиков второго сорта»), ее же действительного члена, затем членкорра союзной, и, наконец, вершина – академик АН СССР. И уж тут льготы и привилегии (конечно, и материальные, причем весьма существенные, но прежде всего «моральные», в том числе возможность самореализации) были расписаны не менее тщательным образом. А поскольку все это также «сверху» регулировалось номенклатурой (в том числе «творческой»), то создавались весьма удобные условия для успешного управления высшими слоями интеллигенции.
Рассмотренные отношения собственности на средства производства и соответствующее им классовое деление наложили отпечаток на все общественные отношения, и прежде всего на отношения экономические. Экономику длительного периода нашей истории, начиная с конца двадцатых годов, сторонники социализма называют плановой, а противники – командно-административной. Последнее определение вряд ли стоит принимать всерьез: противникам все равно словами ничего не докажешь, а марксисты, казалось бы, и без того должны понимать, что любая экономическая система (при любом «тоталитаризме») строится не на «командах» и «администрировании», а на действии объективных экономических законов (в частности, в определенных условиях как раз и создающих возможность «командовать»), специфических для каждой общественно-экономической формации, в том числе и для социализма. При этом, как и в других общественно-экономических формациях, «законы политической экономии при социализме являются объективными законами, отражающими закономерности процессов экономической жизни, совершающихся независимо от нашей воли»19. Вопрос только в том, что собой представляют эти законы.
Со времени выхода знаменитой сталинской работы «Экономические проблемы социализма в СССР», одним из главных таких законов социализма считался «закон планомерного развития народного хозяйства». Этот закон якобы «возник на базе обобществления средств производства, после того, как закон конкуренции и анархии производства потерял силу» и «дает возможность нашим планирующим органам правильно планировать общественное производство»20. Оказывается все же, что не так уж он, этот закон, «независим от нашей воли». Чтобы он начал действовать, «чтобы эту возможность превратить в действительность, нужно изучить этот экономический закон, нужно овладеть им, нужно научиться применять его с полным знанием дела»21. Не знаешь дела – и закон действовать не будет, или будет действовать плохо. А Маркс-то думал, что объективный закон – это такой закон, который пробивает себе дорогу независимо от того, знают ли его и считаются ли с ним, т.е. действует «с железной необходимостью», «насильственно (!) в качестве регулирующего естественного закона, действующего подобно закону тяготения»22. «Ибо закон нарушить невозможно: он составляет ту определенность предмета, которая не может отсутствовать без того, чтобы перестал существовать и сам предмет»23. Чтобы использовать закон земного тяготения для своих целей, его нужно знать и уметь им пользоваться. Но это именно для своих, других целей, а не для обеспечения самого земного тяготения – с этой задачей он, будучи объективным, прекрасно справляется и без нашей помощи. В не меньшей степени это относится и к экономическим законам: скажем, закон стоимости в «рыночной экономике» действует независимо от того, знают ли его и считаются ли с ним. А тут вот такой своенравный «объективный закон» планомерного развития, который само же планомерное развитие обеспечивает только в умелых руках! Да была ли при таком «объективном законе» наша экономика в самом деле плановой?
По самому своему существу планомерность предполагает установление по тем или иным соображениям (скажем, в соответствии с научным расчетом) желательного уровня изготовления необходимых продуктов и такого управления их производством, которое позволило бы его достичь. Ничего подобного у нас не было. Имело место стремление всемерно расширять производство – и только. Больше, больше, больше – вот идеология того периода. А потому и многократно высмеянное «планирование от достигнутого» было не результатом чьей-то тупости или злой воли, а действительно объективным выражением реального процесса, естественной необходимостью определенного этапа общественного развития, реализующейся независимо от чьего бы то ни было желания или понимания. И тому были совершенно определенные конкретные причины.
Капиталист стремится к выколачиванию прибавочной стоимости главным образом не для увеличения объема собственного потребления, в общем-то достаточно ограниченного. Прежде всего он жаждет таким образом удовлетворить свою потребность в самоутверждении (в том числе через растущую вместе с ростом капитала власть). И здесь он ненасытен, ибо данная потребность пределов не имеет. Равно и в условиях минувшего этапа социализма тот, кто попадал в номенклатуру, стремился не столько к «пайкам» и аналогичным потребительским благам, сколько к самоутверждению, которое обеспечивалось как самим вхождением в номенклатурную иерархию, так и занимаемым в ней местом. А потому стремление каждого члена этой иерархии к сохранению и упрочению своего статуса – столь же фундаментальный стимул к действию в условиях данного этапа социализма, как и жажда прибыли (прибавочной стоимости) в условиях капитализма. Поэтому централизованное управление при государственном владении средствами производства однозначно предполагает наличие номенклатурной иерархии, положение в которой является наиболее действенным стимулом к деятельности для каждого ее члена (все остальные стимулы существенно уступают данному и сами по себе эффективного управления централизованной экономикой не обеспечивают). Централизованное управление экономикой и номенклатура – «близнецы-братья».
Но указанный статус определяется (при всех издержках) в конечном счете эффективностью функционирования данного элемента системы. А оценивалась эта эффективность неизбежно по количественным критериям (иначе их формализовать в качестве критериев просто невозможно). Потому-то и «планировали от достигнутого». И до некоторого момента такая система давала блестящие результаты. Но при определенном уровне развития производительных сил потребовались качественные изменения в производственных отношениях, и система начала давать сбои, старые критерии потеряли эффективность. Неудивительно, что при всех попытках реформирования системы в области управления именно этим критериям уделялось основное внимание. Однако найти идеальный критерий, адекватно отражающий общественные нужды, именно вследствие его количественного характера, в новых условиях оказалось принципиально невозможно, а следовательно, и сама система оказывается практически нереформируемой – что и доказали неудачи многочисленных попыток. Нужно было менять систему.
Речь шла пока что о функционировании не всей экономики, а только самой системы управления, которое имеет смысл лишь в том случае, если в его результате удается соответствующим образом воздействовать на производство, в данном случае – через производственные коллективы, процесс производства непосредственно осуществляющие. Здесь уж одними «командами» задачи не решишь, внеэкономическим принуждением (что в прошлом также практиковалось) этого сделать в нужных объемах и с необходимой эффективностью также не удается. Пока интересы номенклатуры в основном совпадали с интересами большинства трудящихся, выручал энтузиазм, имевший значительную «экономическую потенцию». Но и тогда, и тем более дальше требовались соответствующие экономические механизмы. И они, естественно, использовались. Укажем хотя бы на упоминавшийся выше один из таких важнейших механизмов, используемый для воздействия на производственный коллектив как звено, соединяющее индивида и общество, т.е. узел пересечения двухконтурной системы обращения – «двухвалютную» денежную систему с «наличными» и «безналичными» деньгами. Их превращение друг в друга происходило по правилам и под контролем номенклатуры – но на этот раз уже не отдельных, хотя и включенных в систему, ее представителей (как в «командном» управлении), а именно как целостной социальной группы, которая имеет для этого специальные органы, реализующие функцию распоряжения средствами производства как целым. Нарушение с началом «перестройки» данного механизма немедленно вызвало нарушение работы всей экономической системы социализма и положило начало ее разрушению. Важнейшее значение имели централизованное снабжение, нормирование и т.п. Во всех этих случаях сама возможность распоряжения средствами производства и определялась тем, что номенклатура как господствующая социальная группа представляла собой иерархическую пирамиду с достаточно четко определенными слоями. И составляла не конгломерат субъектов хозяйственной и политической деятельности, объединенных только общим классовым интересом (как, например, это в значительной мере имело место в иерархии феодального общества), а действительно единое образование, функционирующее как целостная система взаимосвязанных элементов, т.е. также представляла собой своего рода «коллектив».
Как социальная группа, распоряжающаяся (но не владеющая) средствами производства, в отношениях производства номенклатура, выступая как единое целое, обеспечивала целостное функционирование народного хозяйства. Соответственно и в распределении она участвовала в качестве такого целостного образования. Именно она определяла «правила игры» в этой сфере, она же через централизованное установление уровней оплаты и ценообразование обеспечивала их практическую реализацию. Она же определяла уровень и характер собственного потребления.
Все так называемые привилегии номенклатуры были не чем иным, как формой распределения в соответствии с трудовым вкладом между членами этой группы (всеобщего «коллектива» распорядителей), а фактически в соответствии с занимаемым иерархическим уровнем, в наиболее общем виде воплощавшей этот вклад. В соответствии со своим господствующим положением данная группа выделяла себе при распределении относительно бóльшую долю, но при этом стремилась создать видимость равенства в оплате труда с другими социальными группами, особенно с трудящимися в сфере материального производства. Формальная оплата имела сопоставимые значения, что не соответствовало реальному соотношению функций в системе производственных отношений. «Недобор» компенсировался соответствующими «довесками», для затушевывания истинного положения этой группы маскируемыми, в первую очередь, под пользование общественными фондами потребления, которые в нашем обществе получали все расширяющееся значение.
Потому, кстати, эти фонды имели как бы «перекошенный» вид: в них, например, не были введены такие важные моменты, как бесплатное питание на производстве, бесплатный городской транспорт и т.п. Но особо показательно отсутствие такого важнейшего момента, как содержание всех детей на государственный счет, всегда считавшегося классиками марксизма имеющим принципиальное значение и долженствующего быть реализованным при социализме в первую очередь. Но для камуфлирования своего «усиленного» потребления номенклатуре все это не требовалось, а следовательно, и не реализовалось. Результатом такого положения явились также и знаменитые очереди. Ничто не препятствовало повысить цены на особо дефицитные товары, направив полученные средства на увеличение их производства. И «дефицит», и очереди за ним были бы сразу же ликвидированы. Но для номенклатуры «дефицита» не существовало, а платить больше не хотелось.
Рассмотрение имевшего место до сих пор развития социализма в основном осуществлялось нами на материале России и Советского Союза. Это связано с тем, сто именно здесь развитие социализма продвинулось дальше всего, да и было оно достаточно характерным. Однако уже давно социализм как процесс вышел за эти рамки, действительно стал явлением всемирным. Поэтому и анализировать это явление в конечном счете необходимо с учетом данного обстоятельства, в том числе и в отношении роли социализма в приближении того момента, «когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся». Социализм ведь не просто очередная общественно-экономическая формация наряду с другими; каждая из них играла свою роль в общем интеграционном процессе, но социализм должен оказаться наиболее важным, завершающим шагом. Именно в процессе развития социализма указанное объединение и должно осуществляться практически.
Однако согласно положениям классического марксизма ситуация выглядела несколько иначе: не только по своей роли, но и сама по себе социалистическая (коммунистическая) революция представлялась явлением общемировым, интернациональным. Как мы отмечали выше, Ленин и его соратники готовили и совершали социалистическую революцию в нашей стране также только как свою часть мировой революции. Но Ленин уже до революции в связи с неравномерностью развития предполагал возможность первоначальной ее победы в одной, первой достигшей соответствующего уровня развития, стране. В данном отношении это мало меняло суть дела, ибо дальше опять же сразу предполагалось развитие революции в мировую. Но коль скоро в революцию вступают не все даже промышленно-развитые страны одновременно как некое целое, то здесь появлялся дополнительный момент, который не играл бы существенной роли при ранее предполагавшемся течении процесса – взаимодействие между государствами как некоторыми отдельными образованиями, причем государствами по преимуществу национальными, да еще и находящимися на различном уровне развития. В реальности положение усугубилось тем, что социализм первоначально победил вовсе не в «передовой стране», а тем более, что она вообще была не столько государством в классическом смысле, сколько особой цивилизацией и представляла собой сложное многонациональное образование. Все это соответственно требовало и решения новых задач по формированию единого целого уже после социалистических революций в каждом таком отдельном образовании, в том числе и заметно отстоящих друг от друга во времени.
Образ действий при победе революции в нескольких странах Ленин определил четко и однозначно: «Федерация является переходной формой к полному единству трудящихся разных наций… Признавая федерацию переходной формой к полному единству, необходимо стремиться к более и более тесному федеративному союзу, имея в виду … тенденцию к созданию единого, по общему плану регулируемого пролетариатом всех наций, всемирного хозяйства как целого, каковая тенденция вполне явственно обнаружена уже при капитализме и безусловно подлежит дальнейшему развитию и завершению при социализме»24. Сразу же после революции Ленин уделял огромное внимание объединению усилий коммунистов в мировом масштабе, в частности, организации ІІІ Интернационала.
Но уже тогда обнаружилось явление, о котором Ленин говорил: «Признание интернационализма на словах и подмена его на деле, во всей пропаганде, агитации и практической работе мещанским национализмом и пацифизмом составляет самое обычное явление не только среди партий ІІ Интернационала, но и тех, кои вышли из этого Интернационала, и даже нередко среди тех, кои называют себя коммунистическими»25. А после смерти Ленина интеграционные процессы даже в коммунистическом движении были практически ограничены только Советским Союзом. Через некоторое время был распущен Коминтерн, за ним последовал заменивший его Коминформ. В известном смысле даже появление новых социалистических государств не привело к активизации интеграционных процессов. Не говоря уж о государственной интеграции, даже созданное экономическое объединение (СЭВ) не только не объединяло все социалистические страны, но и уровень интеграции состоявших в нем стран существенно отставал от уровня, а главное темпов интеграции европейских капиталистических стран в ЕС. Какова же была причина столь явного пренебрежения ленинскими заветами? Можно, конечно, попытаться найти исторические фигуры, на которые удобно было бы возложит за это персональную ответственность. Но для нас здесь важно, что тому имелось два ряда объективных причин, связанных с характером становления социализма с одной стороны, и его развития – с другой.
Рассмотрение процесса развития человечества как «линейного прогресса» не только принципиально, но и конкретно единого образования, сколь бы ни были различными его темпы в различных частях, делало различие между отдельными странами и народами явлением несущественным с точки зрения конечного результата, характеризующим всего лишь частные отклонения, «флуктуации» в этом процессе и соответственно представляющим только определенные помехи в развитии. Раз процесс развития мыслился для всех частей человечества состоящим из типичных последовательных этапов, то его «выравнивание» «передовыми странами», в том числе и насильственное, в целом представлялось явлением прогрессивным. «Конечно, при этом дело не обходится без того, чтобы не растоптали несколько нежных национальных цветков. Но без насилия и неумолимой беспощадности ничто в истории не делается», и «приходится либо быть революционером и принимать последствия революции, каковы бы они ни были, либо броситься в объятия контрреволюции»26.
И действительно, в той же Европе «передовые нации» на протяжении веков, а особенно на заре капитализма, усиленно стремились «подтянуть» «отсталые». Так, например, поступали немцы (а после и мадьяры) по отношению к славянам. «Со времен Карла Великого немцы прилагали самые неуклонные, самые настойчивые усилия к тому, чтобы завоевать, колонизовать или, по меньшей мере, цивилизовать Восток Европы. Завоевания, сделанные феодальным дворянством между Эльбой и Одером, и феодальные колонии военных рыцарских орденов в Пруссии и Ливонии лишь пролагали пути для несравненно более широкой и действенной систематической германизации при посредстве торговой и промышленной буржуазии. …Выяснилась необходимость вывозить из Германии почти все элементы духовной культуры. Вслед за немецким купцом и ремесленником на славянской земле осели немецкий пастор, немецкий школьный учитель, немецкий ученый»27. Исходя из представлений о конкретном единстве исторического процесса такое «культуртрегерство», несущее просвещение и новый, передовой общественный строй отсталым народам, которые сами не дали «ни одного доказательства своей способности выйти из состояния феодализма, основанного на закрепощении сельского населения»28, при всех имевших место издержках, представлялось процессом прогрессивным: «Словом, оказывается, что эти “преступления” немцев и мадьяр против упомянутых славян принадлежат к самым лучшим и заслуживающим признательности деяниям, которыми только могут похвалиться в своей истории наш и венгерский народы»29.
Таково, по мнению Энгельса, объективное направление развития, в котором «прогрессивным» народам противостоят «реакционные», и вследствие которого «в ближайшей мировой войне с лица земли исчезнут не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные народы. И это тоже будет прогрессом»30, поскольку усилит некоторые передовые, а следовательно, революционные нации. Все равно «всем остальным большим и малым народностям и народам предстоит в ближайшем будущем погибнуть в буре мировой революции. Поэтому они теперь контрреволюционны»31, причем еще и «упорствуют, сохраняя свою ненужною национальность в чужой стране»32. Вследствие этих коллизий революционности и контрреволюционности различных народов «ненависть к русским была и продолжает еще быть у немцев их первой революционной страстью; со времени революции к этому прибавилась ненависть к чехам и хорватам… Мы знаем теперь, где сконцентрированы враги революции: в России и в славянских областях Австрии; и никакие фразы и указания на неопределенное демократическое будущее этих стран не помешают нам относиться к нашим врагам, как к врагам»33. Вот к каким выводам закономерно приводят представления о конкретном единстве мирового развития как поступательном общественно-экономическом «линейном» процессе.
Дело обстоит иначе, если общественное развитие на этапе классового общества не сводить только к одной его стороне – смене способов производства, но принять во внимание другую – цивилизационный характер развивающихся социальных организмов. Только тогда и можно понять, почему «контрреволюционные» народы не только не погибли в последовавших войнах и революциях, но и сыграли важную роль в дальнейшем общественном развитии, в том числе и в социалистических преобразованиях. А колонизаторские устремления некоторых народов Западной Европы на Восток представляются не выполнением цивилизаторской миссии, а усилиями по формированию периферии, жизненно необходимой для становления и развития капиталистических отношений в буржуазной «западной цивилизации» (особенно в Германии, обделенной заморскими колониями, для которой поэтому главным становится Drang nach Osten). Той самой периферии, в которой, как мы видели выше, «состояние феодализма, основанного на закрепощении сельского населения» было не результатом собственной «реакционности», а имело характер вторичного явления, вызванного развитием капитализма в «прогрессивных» странах Западной Европы. По мере формирования буржуазной «западной цивилизации» как единого целого, некоторые из колонизованных областей подверглись «систематической германизации» и влились в метрополию, другие оказались в промежуточном состоянии «полупериферии». Последнее касается практически всех центральноевропейских стран и народов. Что касается Восточной Европы, то ей была предназначена роль периферии.
Но получилось иначе. Промышленно развитые капиталистические страны «ядра», это свое развитие веками привычно базировавшие на эксплуатации капиталистической периферии, давшие в период наивысшего напряжения внутренних противоречий революционную теорию (марксизм), на практике по мере развития экономических методов эксплуатации периферии становились все менее революционными. В результате первая социалистическая революция произошла в одном из районов такой периферии. Как мы видели, произошло это благодаря соединению действия двух факторов: кризиса российской «евразийской цивилизации», фактически еще находившейся на предшествующей ступени общественно-экономического развития, на которую налагались отношения «зависимого капитализма» – с одной стороны, и восприятия ею родившейся в недрах буржуазной «западной цивилизации» социалистической идеологии (научного социализма) – с другой.
Однако идеологическая составляющая, явившаяся для социалистической революции фактором не менее важным, чем характер и уровень общественно-экономического развития, будучи разработанной на основе представлений о «линейном прогрессе» с расчетом на революционные преобразования «передовых стран», не «накладывалась» точно на реальные процессы становления и развития социалистической цивилизации. Не даром цитировавшаяся выше резко полемическая статья А.Грамши, опубликованная в газете «Avanti!» непосредственно после революционных событий в Петрограде, называлась «Революция против (!) “Капитала”». По мнению автора, в соответствии с марксизмом «события должны были развиваться по заранее предопределенному сценарию, предусматривающему развитие буржуазии, наступление в России капиталистической эры с установлением западного типа цивилизации, еще до того, как пролетариат мог бы хотя бы подумать о своем восстании, о своих собственных классовых требованиях, о своей революции… Большевики отвергли Карла Маркса, и их четкие действия и победы являются свидетельством, что каноны исторического материализма не настолько незыблемы, как кому-то казалось, и как кто-то думал»34. Это создало весьма значительные трудности и настоятельно потребовало адаптации теоретических представлений к конкретным условиям, принципиально отличающимся от тех, на которые они была рассчитаны; более того, каждый раз к конкретным условиям.
Нет, необходимости «отвергать Карла Маркса» и сомневаться в базовых положениях исторического материализма не было, но и нельзя же было превращать все положения данного этапа развития последнего в незыблемые «каноны». И если «четкие действия и победы» большевиков на практике отнюдь не означали столь же четкого теоретического представления об особенностях происходящих процессов, то для этого еще просто не существовало достаточных опытных данных и необходимого уровня знаний о механизмах общественного развития. В дальнейшем это неоднократно сказывалось и на успешности практических действий. Внутренняя логика развития неуклонно преодолевала неточности теоретических представлений, однако последние неоднократно вызывали также существенные издержки на практике, заставляющие волей-неволей вносить в них определенные коррективы – кстати, с учетом интересов господствующего класса. В результате всех этих процессов и формировались определенный комплекс более или менее согласованных между собой представлений, которые, наложившись на остатки общинных отношений, и стали весьма своеобразной (хотя и сохранившей наименование марксизма) идеологической основой социалистической цивилизации, политически оформившейся в виде Советского Союза («официальный марксизм» или «марксизм-ленинизм»).
Аналогичная ситуация позже сложилась в Китае. Там тоже создались особые условия, приведшие к социалистической революции. С одной стороны Китай все больше превращался в периферию мировой капиталистической системы – со всеми вытекающими из этого последствиями. С другой стороны, что касается социалистической идеологии, представляющей собой вторую необходимую предпосылку социалистических преобразований, то в ее формировании и внедрении важную роль сыграл тот идеологический фактор, который определял в значительной степени общественную ситуацию в Китае, и который в изменившихся условиях не только не препятствовал, но и способствовал внедрению марксистской (соответствующим образом модифицированной) идеологии – конфуцианство. «Чем же конфуцианство способствовало победе марксизма? Прежде всего тем, что оно являлось учением об обществе. Китайцы поняли, что искать ответы на современные проблемы в традициях, восходящих ко временам Яо и Шуня, означает утрату Китаем независимости, их мысль устремилась на поиски новой, нетрадиционной современной доктрины, но опять-таки доктрины социальных отношений, правильной организации общества. …Марксизм был воспринят как современное учение о правильном общественном устройстве, базирующееся на писании, не менее авторитетном, чем конфуцианство”35. Таким образом, основные положения марксистской теории попали здесь на специфическую почву китайской цивилизации и были преобразованы в ней соответственно ее истории и традициям с одной стороны, и логике общественного развития в данных специфических условиях с другой (опять же с учетом интересов господствующей социальной группы). В результате было получено учение о «социализме с китайской спецификой» – явление в той же мере не научное, а идеологическое, что и «официальный марксизм».
То, что становление и развитие социализма происходит одновременно и как новой общественно-экономической формации, и как новой же (но имеющей собственную предысторию) цивилизации, естественно вызывало весьма существенные различия в их характере применительно к различным цивилизациям. С этим просто необходимо считаться как с закономерным и неизбежным явлением, которое в принципе не препятствует социалистическому развитию, но делает данный общественный процесс конкретно-специфическим. Однако отсутствие последовательной и непротиворечивой научной теории становления и развития социализма привело путем насильственных операций над научной теорией марксизма к формированию применительно к конкретным обстоятельствам отдельных «цивилизационных» идеологий. Совместно с реально существующими противоречиями между интересами господствующих социальных групп обоих государств как отдельных самостоятельных иерархических систем это вызывало напряженность отношений и взаимные обвинения в «ревизионизме» и «гегемонизме» между советской и китайской номенклатурами.
Иначе дело обстояло с социализмом в странах Восточной (точнее, Центральной) Европы. Практически все эти страны не входили в российскую «евразийскую цивилизацию»; в своем большинстве не являлись они и полноправной частью буржуазной «западной цивилизации». Но не составляли эти страны и особой цивилизации. Это были в основном страны периферии и полупериферии западного капитализма (а Югославия еще и с заметным влиянием цивилизации российской, что определило в дальнейшем ее особое положение). Поэтому рассчитывать на социалистические преобразования в этих странах как результат их собственного общественного развития (пусть и с учетом внешних влияний) не приходилось. Те социалистические преобразования, которые там произошли после окончания второй мировой войны, в значительной мере были произведены извне (разумеется, с опорой на определенные внутренние силы), что наложило существенный отпечаток на их дальнейшую судьбу.
Таким образом, положение в странах Восточной Европы отличалось прежде всего тем, что в них социалистические преобразования происходили не в соответствии с внутренней логикой развития. Основные задачи по подавлению сопротивления эксплуататорских классов в значительной мере были выполнены советской Красной Армией. Господствующий номенклатурный класс в этих странах не сформировался в результате внутренних процессов. Во многом шло копирование структур советского общества, а происходило это тогда, когда у нас в стране социализм как общественная система, не перейдя к следующему этапу своего развития, находился в состоянии загнивания. Это не могло не сказаться на характере социализма в этих странах (как, кстати, и в некоторых советских республиках и регионах). Вследствие этого социализм в них воспринимался в какой-то мере как нечто внешнее, неорганичное. Однако там шли реальные социалистические преобразования, и если бы не последовавший кризис социализма в СССР, эти страны постепенно вошли бы органичной частью в данную социалистическую цивилизацию.
Особое положение в этом отношении занимала Югославия. В результате курса ее руководства на сепаратное существование, Югославия оказалась между двумя лагерями, борющимися в «холодной войне». Такое положение длительное время было для нее весьма удобным. С оной стороны существование социалистического лагеря предохраняло страну от насильственного капиталистического вмешательства в ее жизнь. С другой для противодействия социалистическому лагерю империалистический лагерь оказывал Югославии весьма активное экономическое содействие, что позволило ее руководству вести «независимую политику» и проводить социально-экономические «эксперименты» без немедленной расплаты за них. А вот платой за помощь было то, что социалистические преобразования в стране не были проведены достаточно последовательно и глубоко. В результате Югославия застряла в некоей формационной неопределенности, что впоследствии ввергло страну в настоящую катастрофу, самую страшную и всеобъемлющую во всем «социалистическом лагере».
Другие социалистические страны в своем развитии и сохранении в основном опирались на опыт и поддержку Китая (Северная Корея, социалистические страны Юго-Восточной Азии) и Советского Союза (Куба, в какой-то мере Вьетнам), без которых они просто не смогли бы выжить.
Что же касается интеграционных процессов по мере развития социализма в различных странах, то им препятствовало различие интересов господствующих классов этих стран, проявлявшееся в стремлении номенклатуры каждой страны к максимально возможному самовластию. Обнаружилось это явление уже при создании СССР в сталинском плане «автономизации». Начавшей формироваться в господствующую социальную группу номенклатуре не нужна была демократическая форма объединения – федерация, ей нужна была такая форма объединения, которая бы наиболее полно вписывалась в ту жесткую иерархическую пирамиду власти, которую она стремилась создать. Только авторитет Ленина смог изменить ситуацию в тот момент. Но после него процесс протекал так сказать «естественным» путем, на котором интеграционные процессы рассматривались «номенклатурным классом» только через призму собственных интересов. И когда появились другие социалистические страны, номенклатура каждой из них свято блюла свой самостийный статус – настолько, насколько ей это удавалось в условиях прессинга со стороны верхушки номенклатуры Советского Союза. Когда же создались благоприятные для этого условия, все та же номенклатура развалила не только «нерушимое социалистическое содружество», но и Советский Союз, в котором разразился следующий (второй после кризиса начала двадцатых годов) кризис социализм
4.5. Кризис социализма
То, что в Советском Союзе на втором этапе развития социализма преобразования осуществлялись под руководством господствующего «номенклатурного класса» соответственно его собственным интересам, ни коим образом не снижает их прогрессивного общественного значения, в том числе эффективности для экономического развития страны. Поскольку на начальном этапе эти интересы совпадали с коренными, глубинными интересами большинства народа, они получали все более широкую поддержку.
И по справедливости, ибо социализм коренным образом изменил к лучшему положение в нашей стране. Несмотря на ряд достижений в промышленном развитии, в начале ХХ века в ней при этом нарастали также прогрессирующее отставание от уровня промышленно развитых стран Запада и зависимость от них. В те времена интенсивной индустриализации может быть самым точным показателем уровня промышленного развития было производство чугуна и стали. По этому показателю (как, конечно, и по многим другим) Россия очень сильно отставала от стран Запада. Но не столь важно то, что в 1900 году она отстала от США по производству чугуна в 8 раз, а стали – в 7,7 раза, сколько то, что к 1913 году, году ее наивысшего дореволюционного развития, это отставание существенно возросло — до 11 и 9 раз. Не лучше обстояло дело и по отношению к европейским странам: например, указанное «возрастание отставания» по отношению к Германии увеличилось соответственно от 6 и 5,7 до 8 и 7,4 раза. Почти весь свинец и цинк, весь алюминий и никель в 1913 году импортировались; импортировалось 58% даже сельскохозяйственных машин, а наиболее прогрессивного тогда оборудования — металлорежущих станков — и вовсе 80%, автомобилей и тракторов — 100%. Еще более важно, что банковский капитал России, контролирующий промышленность, на три четверти принадлежал западным странам (да и непосредственно треть акционерного капитала в промышленности перед революцией была иностранной, а, например, на Украине в наиболее развитой отрасли — угольной — капитал почти на девяносто процентов был бельгийским). Ухудшалось положение и в аграрном секторе – в сельскохозяйственном производстве в результате реформ Столыпина прирост продукции (1,4% в год) в 1909-1913 гг. упал значительно ниже прироста населения. Если при этом учесть еще и специфический характер культурного развития (тогда в России при массовой неграмотности высших учебных заведений было всего 91, в то время как монастырей 1000, церквей 78000; количество «служителей культа» почти в шесть раз превышало количество врачей), то понятно, что Россия прямым ходом шла к положению колонии.
Социализм в нашей стране не только обеспечил ей независимое развитие, но и темпы этого развития, невиданные в истории. Разруха, вызванная первой мировой войной, затронула почти все страны (разве что кроме США, которые, начиная с систематического уничтожения индейцев для захвата их земель, всегда наживались на чужих бедах), сильно пострадала и наша страна. А потом еще была не менее разрушительная война гражданская. Тем не менее, уже в начале двадцатых годов в СССР начинается бурный рост промышленности, темпы которого, даже еще до «великой депрессии», намного превышали темпы ее развития в капиталистических промышленно развитых странах. Вот как это выглядело (в процентах прироста):
1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
СССР 30,7 52,9 16,4 66,1 43,2 14,4 24,8 25,9 29,8
кап. страны 19,1 9,2 2,4 7,1 1,0 6,8 4,2 5,7 -13,8
1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938
СССР 24,9 14,3 8,5 20,1 23,1 30,2 11,4 11,3
кап. страны -13,3 -16,0 13,2 8,0 10,9 11,8 6,7 -10,0
Как бы не относиться к достоверности конкретных цифр, конечные результаты развития — превращение СССР в мощную индустриальную державу — сомнений не вызывают. Противники социализма толкуют теперь о «рабском труде», изображая страну как один огромный ГУЛАГ, как будто не знают, что принудительный труд не бывает производительнее свободного, вроде бы им ничего не известно о поистине огромном энтузиазме, охватывавшем широчайшие массы тружеников. И не надо ссылаться на «обман» и «пропаганду» — уже не было «темного народа»: у нас с успехом шла культурная революция, плоды которой признаны во всем мире. Да и не выстояли бы мы в самой страшной в истории человечества войне, если бы не было такого развития и такого энтузиазма.
А в послевоенные годы как не трудно было восстанавливать народное хозяйство без посторонней помощи (в то время как Западной Европе значительную помощь оказали США, по обыкновению опять нажившиеся на войне, — их промышленный потенциал за эти годы возрос на 50%, сельскохозяйственное производство — на 36%), эта задача была решена достаточно быстро. И восстановившиеся темпы развития опять оказались значительно выше темпов роста в капиталистических государствах (кстати, высокие темпы развития оказались и у «порабощенных стран» бывшего «социалистического лагеря»). Вот среднегодовые темпы роста за 1951-1976 гг. (в процентах):
Национальный Объем промышлен-Объем сельхоз.
доход ного производства производства
СССР 8,0 9,4 3,4
Страны СЭВ 7,7 9,5 3,2
США 3,4 4,2 1,6
Страны ЕС 3,4 4,9 2,1
В результате промышленный потенциал СССР по отношению к США из менее чем 30% в 1950 году вырос до более чем 80% в 1976 году. И после этого толкуют о неэффективности социалистической экономики!
Таким образом, наша социалистическая экономика на протяжении длительного периода развивалась исключительно быстрыми темпами, невиданными в истории. А вместе с развитием экономики укреплялся ее коллективистский характер. Резко возрастал уровень производительных сил, и не только их материальный, но и, главным образом, личностный компонент. А ведь в конце концов «первая производительная сила всего человечества есть рабочий, трудящийся»1. Повышались образовательный уровень и квалификация работников, менялась их психология. Отмечавшаяся Лениным «непривычка к солидарной работе» заменялась прочными коллективистскими навыками. Соответственно менялась и роль трудовых коллективов, им все более тесными становились те рамки, в которые их ставила номенклатура. Новые производительные силы, вызванные к жизни социализмом, все больше приходили в противоречие с наличными производственными отношениями данного этапа социализма, выполнившего свою историческую задачу. Это неизбежно вело к снижению эффективности общественного производства, падению темпов экономического роста, к возрастанию напряженности в обществе.
Формирование в нашей стране социалистических общественно-экономических отношений, соответствующих данному этапу социализма, в котором важнейшую, ничем не заменимую роль сыграл «номенклатурный класс», было практически завершено ко второй половине тридцатых годов. С их окончательным становлением полностью был ликвидирован «потенциальный барьер» в развитии социализма, создались условия спонтанного генерирования социалистического сознания на базе социалистического же бытия. Следствием этого явилась возможность (и необходимость!) дальнейшего развития социализма на основе объективно действующих внутренних законов. Но тем самым изжил себя как исторически необходимая общественная сила класс людей, в интересах построения социализма долгое время распоряжавшихся социалистической собственностью на средства производства. Дальнейшее «внедрение» социализма с непосредственной опорой на политическую власть не только потеряло смысл, но стало тормозом общественного развития – искусственное дыхание в критические моменты нужно только до тех пор, пока не заработает автоматическая дыхательная функция организма, дальше оно может только мешать.
Таким образом, развитием, окончательной победой социализма в нашей стране «номенклатурный класс», обеспечивший эту победу в качестве основной движущей силы, как общественное явление был обречен на исчезновение. Но никогда ни один класс в истории не мог безропотно принять такую перспективу. То, что произошло в конце тридцатых годов в политической жизни страны, и было реакцией данного класса на требование истории, а потому и нельзя все, что тогда (как, впрочем, и позже) происходило, просто сводить к неким ошибкам, недомыслию, злой воле и т. п., а тем более объяснять все действиями одного человека, как бы ни усугублялись объективные тенденции особенностями его личности. Маркс писал: «При исследовании явлений государственной жизни слишком легко поддаются искушению упускать из виду объективную природу отношений и все объяснять волей действующих лиц»2. Как мы видели, в это время Сталин прежде всего выполнял волю партийно-хозяйственной «бюрократии», стремящейся в качестве класса к обеспечению своей устойчивости в условиях, когда общественное развитие объективно потребовало его ликвидации.
Под потребности этой социальной группы подводилась и теоретическая база, в частности, так возникла печально знаменитая теория усиления классовой борьбы по мере построения социализма. Парадокс же заключался в том, что эта теория по-своему, в искаженном виде отражала объективную реальность, то обстоятельство, что по мере развития социалистических общественно-экономических отношений нарастало действительное противоречие между интересами «номенклатурного класса» и основной массы трудящихся. Это противоречие наиболее остро чувствовали (и тем или иным образом на него реагировали) передовые представители этого же самого класса. Против них и было в основном направлено острие репрессий (хотя они, конечно, задевали и многих других): достаточно сказать, что между XVII и XVIII съездами (1934-1939 гг.) партия потеряла 700 тыс. членов. Если после десятого съезда началось, то на восемнадцатом полностью завершилось ее превращение в «номенклатурную». Устранялись старые бойцы, у которых идеи коммунизма и социализма превалировали над соображениями «номенклатурной солидарности». Они в широких масштабах заменялись новыми людьми, уже полностью проникшимися корпоративным духом, для которых средства, по необходимости применяемые на определенном этапе, приобрели статус единственной цели. Преобразования, назревшие к тому моменту, были блокированы. Дальнейшее общественное развитие затормозилось. Социализм как система вступил в нашей стране в стадию загнивания.
Сейчас трудно себе представить, да и вряд ли стоит гадать, к чему привело бы дальнейшее развитие указанных тенденций, однако внутренние процессы в нашей стране были существенно модифицированы войной и послевоенным восстановительным периодом. Во-первых, вновь понадобилась жесткая дисциплина, без которой невозможно было бы противостоять столь мощной враждебной силе, и сформировавшаяся структура, несомненно, сыграла здесь положительную роль. Во-вторых, война, будучи величайшим общенародным бедствием, восстановила в значительной степени положение, когда окружающая среда оказывает давление не только на всю иерархическую структуру «номенклатурного класса» в целом, но и на каждый ее элемент в отдельности, что сделало ее менее замкнутой в себе. Поневоле вводились новые порядки, приходили новые люди; критерий компетентности получил более высокий статус. Все это притупило остроту болезни, а в послевоенный период она в основном перешла в хроническую форму. «Искусственное дыхание» продолжали делать, но уже стремясь как-то приноровиться к естественным ритмам организма. Но беда в том, что ритмы эти сложны, приноровиться невозможно и процесс постоянно дает сбои. А перестать делать «искусственное дыхание», т. е. централизованно управлять жизнью страны как в общем, так и в частностях «номенклатурный класс» был просто не в состоянии: ведь это и значило потерять свою общественную роль, сойти с арены истории. Добровольно это не делается никогда. Реформы, как всегда в таких случаях, ничего не решают – необходимы революционные преобразования, которые привели бы к изменению формы собственности на средства производства и как следствие – к новой классовой организации, к новому этапу развития социализма.
Социализм – последний строй в разделенном мире (коммунизм будет уже иметь глобальный характер). Его развитие, как и развитие остальных формаций, происходит на основе внутренних законов, но в переломные моменты, как и в других случаях, в нем важную роль играет внешний фактор – ведь «мы живем не только в государстве, но и в системе государств»3. То внешнее воздействие на социализм, без которого не могло бы произойти его революционных преобразований, на переходных этапах может оказать только все тот же (хотя и измененный под его воздействием) капитализм. И вне взаимодействия социализма и капитализма понять характер современного общественного развития как одной, так и другой системы не представляется возможным. Пока темпы нашего экономического развития, хотя и снижающиеся по мере удаления от «естественной» генеральной линии развития, превышали совокупные темпы развития капиталистических государств, мы имели достаточно ясные перспективы и во внутреннем, и в международном плане. Это обеспечило стабильность нашего социалистического государства, всей социалистической системы в мире, а также – что чрезвычайно важно ввиду роли социализма в развитии всего человечества – выполнение нашего интернационального долга, поскольку «главное свое воздействие на международную революцию мы оказываем своей хозяйственной политикой»4.
А темпы эти все еще были достаточно высокими. Даже в послевоенный период, как мы видели, они более чем вдвое превышали темпы развития ведущих капиталистических стран. Какой же огромный «запас прочности», какую громадную положительную инерцию должен был накопить социализм, чтобы, несмотря на крайне неблагоприятные условия (действие реакционных сил внутри, последствия разрушительной войны, внешнее давление «цивилизованного мира» и т. п.), за счет собственных возможностей продолжать, пусть и с замедлением, вызванным прогрессирующим загниванием, движение в темпе, столь существенно превышающем темп развитых капиталистических государств, опирающихся на ресурсы всего мира!
Но даже такой колоссальный запас инерции не вечен, и если его не пополнять, неизбежно должен израсходоваться с течением времени. А внутренний источник исчерпался полностью. Достаточно взглянуть на приведенные ниже цифры, характеризующие «динамику застоя», – среднегодовые темпы роста национального дохода страны по пятилеткам (в процентах):
8-я (1966–1970) 9-я (197 –1975) 10-я (1976–1980) 11-я (198 –1985)
7,8 5,7 4,3 3,6
Приведенные значения просто-таки с исключительной точностью укладываются в классическую экспоненту, описывающую замедляющееся движение системы без активного движущего начала. А это уже не «отдельные недостатки» или «ошибки» тех или иных руководителей. Так что попытки выйти из предкризисной ситуации простым усилением прежних методов, заведомо были обречены на провал5. Печальная закономерность на протяжении достаточно длительного (два десятилетия!) периода прослеживалась с поразительной для социальных процессов четкостью, и никаких оснований ожидать ее изменения не было6. Однако политическое положение в стране давно стабилизировалось, и кто знает, сколько бы мы еще вот так скользили по «кривой затухания», все больше замедляя ход, если бы не внешнее – да еще и враждебное – окружение.
Но неуклонный спад темпов развития раньше или позже должен был привести к существенным последствиям в наших отношениях с капиталистическим окружением, а в результате – и во внутреннем положении страны. И этот переход количественных изменений в качественные произошел в середине восьмидесятых годов. За предшествующее десятилетие темпы роста национального дохода в СССР лишь в 1,3 раза превышали соответствующий показатель в США, а потому разрыв в национальном доходе между нами теперь не только перестал сокращаться, но и начал увеличиваться. Это значит, что в международном плане мы потеряли свои главные преимущества, что не могло не сказаться самым неблагоприятным образом и на положении страны, и на международном коммунистическом движении в целом. По причинам, изложенным выше (т.е. вследствие назревших – и перезревших – противоречий между производительными силами и производственными отношениями) социализм в евразийской социалистической цивилизации объективно оказался не в состоянии дальше существовать в условиях того же этапа развития. Перемены столь же объективно стали неизбежными.
Преобразования в стране начались «сверху», и тому были важные причины. Хотя социализм в своем развитии связан с конкретными странами, по своей глубинной сути он – явление глобальное, ибо представляет собой переход от общества разрозненного к обществу-человечеству. Поэтому международные аспекты развития социализма не менее важны, чем характер его развития в данном социальном образовании. Советский Союз постоянно подвергался мощному давлению империализма, оказывающему существеннейшее влияние на все происходящие в нем социальные процессы7.Изменение нашего положения в мире к худшему непосредственно затрагивало прежде всего статус самого верхнего этажа управляющей иерархической системы, поскольку, в отличие от групп остальных уровней, данная группа вынуждена была отождествлять свои интересы с интересами системы, свои судьбы с судьбами страны. Таким образом, на данном этапе развития интересы высшего руководства совпали с интересами всего народа. Появилась реальная возможность коренных, революционных преобразований социализма.
Как мы видели, необходимость в коренных преобразованиях социализма имела объективный характер. Они были предопределены всем ходом общественного развития и должны были произойти независимо ни от чьего бы то ни было уровня понимания данного процесса, ни от сознательных намерений как отдельных людей, так и социальных групп. Однако, тем не менее, всякие преобразования совершаются людьми, преследующими свои цели, социальными группами, руководствующимися своими интересами. Именно благодаря этой деятельности, а не велению некоей «высшей силы», реализующей диалектические законы общественного развития, осуществляется последнее. А потому необходим конкретный анализ действующих сил, определяющих конкретное течение нынешних революционных (ибо связанных с изменением отношений собственности на средства производства, и соответственно классового строения общества) преобразований.
Поскольку каждая революция решает двуединую задачу разрушения старого общественного порядка и становления нового, то она неизбежно должна последовательно проходить деструктивную и конструктивную фазы развития. Конечно, было бы прекрасно, если бы обе задачи могли решаться параллельно, и новое возникало по мере разрушения старого, занимая его место. Но характер движущих сил революции делает это недостижимым. В первой фазе революции ее движущие силы вдохновляются главным образом неприятием существующего порядка вещей; именно эта неудовлетворенность является основным стимулом разрушения старого порядка, тем стимулом, который позволяет преодолеть сопротивление его защитников. В определенной степени люди движимы «жаждой мести, которая в революционные времена является одним из самых могучих стимулов к энергичной и страстной деятельности»8. Поэтому на первый план начального этапа революционной диалектической «триады» выходит отрицание старого.
Положительные идеалы находятся как бы на втором плане и, как правило, также носят «негативный» характер по отношению к существующему состоянию общества и строятся на его отрицании. Что же касается собственно положительной части этих идеалов, то для придания последним наглядности в них обычно в том или ином виде включаются элементы прошлого, представляемого в качестве «золотого века», разрушенного злыми силами, против которых и ведется борьба за его «возрождение». Но поскольку никому еще не удавалось дважды войти в ту же реку, то осуществление этого идеала в его положительной части в изменившемся обществе неизменно наталкивается на непреодолимые препятствия. Только тогда – и никак не ранее – приходит время того истинного положительного идеала революции, который будет более или менее полно воплощен ею в жизнь (на третьем, завершающем этапе все той же «триады»).
Соответственно этому меняются и те социальные силы, которые, будучи движимыми собственными интересами, берут на себя основную тяжесть революционных преобразований. При этом следует иметь в виду, что поскольку задачи деструктивной и конструктивной фаз в известном смысле прямо противоположны, то истории не известны такие революции, в которых все связанные с ними преобразования с начала до конца были бы выполнены под воздействием одних и тех же движущих сил.
Чтобы хотя бы в первом приближении представить себе ход революционных преобразований, необходимо проанализировать расстановку общественных сил в начале революционного процесса, определить коренные интересы различных социальных групп, связанные с их общественным положением, а затем проследить неизбежное изменение как этого положения, так и интересов в ходе революционных преобразований. В соответствии с изложенным ранее это значит, что прежде всего необходимо определить общественные группы, заинтересованные в сохранении существующего положения, которые поэтому оказывают наибольшее сопротивление революционным изменениям.
Главной социальной группой, положение которой было затронуто преобразованиями, инициированными высшими слоями номенклатуры, являлся сам «номенклатурный класс» как целое, благодаря выполнению функции распоряжения основными средствами производства занявший в сложившихся к тому времени общественно-экономических отношениях ключевое место. В ходе революционных преобразований социализма с его переходом от второго этапа развития к третьему, данная функция в конечном счете должна будет перейти от этой социальной группы – «класса-распорядителя», – стоящей как бы над производством, непосредственно к производителям в лице производственных коллективов. Разумеется, номенклатуру как целое не могло устроить развитие событий, конечным результатом которого могла бы стать ее ликвидация как господствующей социальной группы, и потому поначалу она в массе своей оказывала так называемой «перестройке» упорное сопротивление. Однако объективно назревшие изменения, раз начавшись, приобретают спонтанный характер, идут в соответствии с внутренними законами, далеко отходя от провозглашенных первоначально целей, и остановить их уже невозможно. Поэтому по ходу их номенклатуре пришлось коренным образом менять свою позицию.
Спонтанный характер развития ситуации определялся тем, что даже малейшее снятие давления, оказываемого номенклатурой на все общество, малейшее расширение прав трудовых коллективов (которое первоначально, хотя и довольно робко, проводилось верхушкой номенклатуры как еще одна попытка нащупать более эффективные методы воздействия на них, не меняя ничего принципиально), как и, с другой стороны, некоторая свобода «частной инициативы» (первоначально в форме кооперативов), послабление паразитирующим элементам, допущенные на первом этапе «перестройки», благодаря «перенасыщенности раствора» сразу же вызвали социальные процессы с так называемой «положительной обратной связью» (когда результат воздействия дополнительно усиливает само воздействие).
Первоначально начавшиеся процессы большинством трудящихся были восприняты как «антиноменклатурные», т.е. благоприятные для них, а потому получили их широкую поддержку. Классовое чутье – великая вещь! Большинство советских людей и раньше достаточно четко различало, где «мы», а где «они». Но великие преимущества социализма перевешивали. Вот и терпели по привычке, а в это время среди рабочих расцветал «пофигизм», витийствовала на кухнях интеллигенция. А тут вдруг открыто заговорили о чувствах униженности и бессилия перед давно превратившимися в особую касту «слугами народа», о лжи и фарисействе официальной пропаганды, прославляющей бесправного «гегемона», о «выборах без выборов» и других прелестях номенклатурного господства. Причем заговорили не в плане ликвидации социализма, а в плане его реформирования – «перестройки». Так почему бы и не поддержать?
Соответственно эти процессы и приобрели спонтанный характер. Ситуация начала выходить из под контроля «номенклатурного класса» и стала для него угрожающей. Терять свое положение он ни в коем случае не собирался, но и возврата назад уже не было: и смысла не имело, да и стало нереальным. Вот тогда-то (но далеко не сразу, и не всеми, и с зигзагами, и с экивоками) номенклатурой было принято единственно возможное для нее в этих условиях решение: не мытьем, так катанием! Если нельзя больше оставаться господствующим классом при социализме, так надо стать господствующим классом при капитализме в качестве буржуазии. Понятно, что о «решении» здесь говорится в образном смысле, как об определенном векторе классового поведения; вначале номенклатурой это еще не осознавалось в столь четкой формулировке. Конечно, с точки зрения логики внутреннего развития «социалистической цивилизации» попытка «вернуться» в капитализм еще более абсурдна, чем возвращение в «загнивающий социализм», ибо означает не только еще больший шаг назад в общественно-экономическом развитии, но и объективно неосуществимые (и уж, конечно, не соответствующие интересам большинства населения) «цивилизационные» изменения. Но в том-то и дело, что внутренними процессами дело не ограничилось, в игру вступили внешние силы.
В наше время интеграционные процессы в мире достигли высокой степени интенсивности. Империалистическое «ядро» в лице так называемых «цивилизованных стран» подчинило себе почти все существующие сегодня «цивилизации», основывая свое благосостояние на эксплуатации человеческих и грабеже природных ресурсов этих «цивилизаций», превращенных в периферию буржуазной «западной цивилизации». Но окончательному «обустройству» всего мира на сей манер препятствовали два момента: все большее исчерпание природных ресурсов и существование в мире «социалистических цивилизаций» с другой социальной системой.
Социализм (прежде всего в нашей стране) мешал «цивилизованным», как бельмо на глазу. И вдруг такая удача – началась «перестройка»! Империализм сразу осознал, что появился неожиданный шанс подгрести под себя уже действительно весь мир. И он этим шансом не преминул воспользоваться, делая все возможное, чтобы привести нашу страну к виду, удобному для употребления. А для этого нужно было внедрить у нас «нормальную» (т.е. капиталистическую) «рыночную экономику», открыв простор экономическому господству капитала, и «демократию» (естественно буржуазную, когда политическое влияние пропорционально капиталу), обеспечив политическую власть денежного мешка. Дальше превратить нас в сырьевой придаток – дело голой техники, хорошо отработанной Международным валютным фондом и другими подобными организациями. Поскольку даже в период «перестройки» прямое силовое вмешательство для проведения нужных преобразований не годилось (и опасно, и малоэффективно), то потребовались «агенты влияния», своего рода империалистическая «пятая колонна» внутри страны. И они, конечно, нашлись.
Если наши «партократы» не сразу поняли, что на грядущем этапе их классового бытия мировой империализм является для них естественным союзником, то их идеологическая обслуга – элитарная интеллигенция, давно уже снедаемая черной завистью при виде гонораров некоторых коллег в «цивилизованных странах», почувствовала это гораздо быстрее. Имея в своих руках все средства массового воздействия, опираясь на привычку трудящихся верить ей как плоти от своей плоти, она, подло обманув это доверие, и стала основным проводником влияния международной буржуазии в нашей стране. Разумеется, сама по себе интеллигенция никогда не была в состоянии перестроить общественные отношения. Но в данном случае по мере осознания своих новых классовых интересов к ней все больше подключалась номенклатура всем своим колоссальным общественным потенциалом, что есть сил тужась повернуть вспять колесо истории, трансформировав наше общество из социалистического обратно в капиталистическое. Парадоксально, что именно ненавидевшие номенклатуру «диссиденты» объективно сыграли едва ли не наиболее важную идеологическую роль в осуществлении этих ее интересов.
Так что же получилось в результате контрреволюционного переворота, при полном безразличии (а то и одобрении) много лет обманываемых и идеологически дезориентированных «широких масс» совершенного номенклатурой с опорой на свою идеологическую обслугу – элитарную интеллигенцию, на криминальные «теневые» элементы, на поддержку международного империализма (т.е. на втором этапе упоминавшейся революционной «триады»)? Его безусловной конечной целью является капитализация нашего общества с превращением номенклатуры и иже с ней в буржуазию, а трудящихся – в пролетариат. Начало положено, но до окончательного решения поставленной задачи еще очень далеко. Пока что ни буржуазии, ни пролетариата не получается.
Буржуазия – это, по определению Маркса и Энгельса, «класс современных капиталистов, … применяющих наемный труд»9, богатеющих за счет присвоения прибавочной стоимости, создаваемой пролетариями в процессе производства в неоплаченное рабочее время, и для этой цели стремящихся это производство развивать. Но разве в производстве наживают свои огромные богатства «новые русские (украинцы, казахи и т.д.)»? Выше мы уже упоминали, что по мнению Маркса «капиталист как надсмотрщик и руководитель … должен выполнять определенную функцию в процессе производства»10. Какую функцию, помимо его развала, выполняют в производстве наши «капиталисты»? Производство они систематически гробят, а богатеют за счет прямого грабежа того, что ранее нажито упорным трудом поколений советских людей11. Их поддерживает и направляет мировой империализм, кровно заинтересованный в устранении конкурентов и превращении нашей страны в сырьевой придаток, а для этого в разрушении «высоких технологий» и колониальной реструктуризации производства.
Кто же они – эти претенденты на статус современного «третьего сословия»? Да все та же бывшая «коммунистическая» номенклатура и ее ставленники. Кажется, только мы никак не можем признать того, что уже предельно ясно даже за рубежом в так называемых «цивилизованных странах». Например, газета «Гардиан» прямо так и писала: «большинство новых хозяев – это прежние аппаратчики». Но и у нас постепенно начинают прозревать. Вот что по данному вопросу писала в газете «Известия» специально исследовавшая данный вопрос зав.сектором изучения элиты Института социологии Российской академии наук О.Крышталовская12:
«В Советском Союзе правящий класс (или элита) назывался “номенклатурой”. Это была замкнутая группа, и ее члены утверждались ЦК КПСС. В этом смысле вся советская элита была партийной. Внутри номенклатуры были две основные группы: партократы (партийно-комсомольские функционеры) и технократы (хозяйственники, министры, директора).
Во время перестройки номенклатура раскололась на политическую и экономическую элиты. По данным исследований … более 75% политической и 61% бизнес-элиты – выходцы из старой советской номенклатуры. Новая политическая элита состояла главным образом из бывших партийных и советских работников, а новая экономическая элита рекрутировала кадры из комсомольцев и хозяйственников». Нижеследующая приводимая ею таблица дает достаточно полное представление о метаморфозах номенклатуры:
Рекрутация современной элиты
из советской номенклатуры (в % по столбцу)
Окружение Лидеры Региональная Правитель-Бизнес-
президента партий элита ство элита
Всего из советской 75,0 57,1 82,3 74,3 61,0
номенклатуры
В том числе из:
партийной 21,2 65,0 17,8 0 13,1
комсомольской 0 5,0 1,8 0 37,7
советской 63,6 25,0 78,6 26,9 3,3
хозяйственной 9,1 5,0 0 42,3 37,7
другой 6,1 10,0 0 30,8 8,2
Речь здесь о России, но, разумеется, аналогичным образом дело обстоит и в других «постсоветских независимых государствах».
Правда ведь, не очень-то это похоже на невесть откуда взявшихся «новых русских» (украинцев, казахов и др.)? Не видно здесь что-то также «теневиков» и других, столь привычных по разоблачительным статьям в левой прессе, «буржуев». Их что, не существует? Еще как существуют! Не следует только видимость принимать за сущность. Обратимся еще раз к упомянутой статье. В период приватизации, где «главным действующим лицом была технократическая номенклатура (хозяйственники, профессиональные банкиры и проч.), происходило как бы спонтанное создание коммерческих структур, непосредственного отношения к номенклатуре вроде бы не имевших. Во главе таких структур появлялись люди, изучение биографий которых никак не наводило на мысль об их связях с номенклатурой. Однако их головокружительные финансовые успехи объяснялись только одним – не будучи сами “номенклатурой”, они были ее доверенными лицами, “трастовыми агентами”, иначе говоря, – уполномоченными».
Соответственно указанные исследования логически приводят к выводам, согласно которым сегодня «экономическая элита – это закрытая группа людей, которая контролирует крупные капиталы и отрасли промышленности с разрешения властей. Self-made men`ы (т.е. люди, не входившие в номенклатуру и не служащие ей, “сделавшие себя сами”) вытеснены в средний и мелкий бизнес».
Мифом оказываются и утверждения, что мы сейчас имеем «дикий капитализм» периода первоначального накопления. Номенклатуре ведь не было необходимости в «первичном накоплении капитала» – «так называемое первоначальное накопление есть не что иное, как исторический процесс отделения производителя от средств производства»13, и это ею уже было сделано ранее. Таким «накоплением» пытались заниматься, по словам все той же О.Крышталовской, разве что «только физики-неудачники, решившие стать брокерами, или инженеры-технологи, переквалифицировавшиеся во владельцев ларьков и торгово-закупочных кооперативов». Но у них-то оно как раз крайне редко перерастало во «вторичное».
Вот эта-то номенклатура и ее ставленники, разными путями «экспроприировав» то, что нажито поколениями советских людей, желают теперь считаться буржуазией. Ах, как мечтают эти «капиталисты», чтобы мы признали их буржуазией, а себя – пролетариями, и начали с ними «нормальную» классовую борьбу, признав тем самым «законными» (пусть хотя бы по буржуазным законам) результаты их грабежа! Не выйдет! Бандиты и мошенники – они и есть бандиты и мошенники, – по любым законам, и именовать их буржуа – слишком много чести.
А где же «новый пролетариат»? Его также нет. Наши колхозники, долго не допускавшие ликвидации коллективных хозяйств, из последних сил и едва ли не бесплатно на остатках техники предупреждали окончательный развал сельского хозяйства. А «его величество рабочий класс» вместе с технической интеллигенцией разрушению производства противостоять не смогли, а сами раскололись на достаточно различные социальные группы: деклассирующиеся элементы, перебивающиеся случайным заработком и уже голодающие; мелкие лавочники, «челноки» и прочие такие же бесталанные «бизнесмены»; группы обслуживания, питающиеся объедками со стола «новой буржуазии», судорожно спешащей прогулять награбленное; неплохо зарабатывающая «рабочая аристократия» (особенно в областях добывающих и первичной переработки), объективно помогающая «новым» грабить страну, – таков диапазон сегодняшней дифференциации. И все это вместе – наш советский народ, старающийся как может пережить годы лихолетья
На следующем, конструктивном этапе нынешних революционных преобразований именно трудящиеся («класс-исполнитель» второго этапа развития социализма) станут их главной движущей силой. В результате указанных преобразований эта социальная группа превратится в свободный «класс-производитель» – «такой класс, которому не приходится отстаивать против господствующего класса какой-либо особый классовый интерес»14. Проявить себя в настоящее время этому классу мешает то, что будучи «парным» к господствующему «номенклатурному классу», он неизбежно был заражен пороками господствующего класса. Влияние длительного загнивания привело к определенному развращению входящих в данный класс групп трудящихся, конкретный характер которого в значительной степени определяется конкретной же спецификой непосредственной производственной деятельности этих групп. Общими для них всех являлись социальная апатия, низкая трудовая и производственная дисциплина, безразличие к конечному результату труда и ряд других отрицательных моментов, возникших как реакция на тлетворное влияние отживший свой век номенклатуры.
Для того, чтобы было понятно, что имеется в виду, в качестве примера приведем такое явление эпохи «загнивающего социализма», как «несуны». Одним из способов обеспечения власти «номенклатурного класса» в этих условиях являлось то, что можно было бы назвать «теневым распределением». Жестко контролируемые и бдительно охраняемые номенклатурой способы распределения со временем неизбежно приходили в противоречие с изменяющейся ситуацией, в том числе и с возросшим уровнем производства, что приводило к тому, что часть получаемого продукта явочным порядком начинала распределяться трудящимися так сказать ненормативными способами (в виде мелких хищений). Сейчас это явление клеймят как «всеобщее воровство», но на самом деле по своей общественно-экономической и социально-психологической сути оно являлось именно дополнительной формой распределения (вроде номенклатурных «пайков»), и достаточно жестко регламентировалось неписаными (в том числе, как ни парадоксально, и этическими) нормами и правилами. Разумеется, номенклатура могла бы просто привести официальные способы распределения в соответствие с новыми условиями, но тогда она лишилась бы мощнейшего рычага воздействия, которым обладала, оставляя эту часть распределения «в тени». Вследствие того, что он внешне имел полукриминальную форму, этот вид распределения позволял номенклатуре держать трудящихся «в подвешенном состоянии» как в психологическом (чувство вины), так и в юридическом (возможность административного и даже судебного преследования) плане. Нужно ли говорить о том, какое сильнейшее разлагающее влияние оказывало такое положение на трудящихся (да и на саму номенклатуру).
Сейчас к такого рода отрицательным факторам добавилось деклассирование и другие неблагоприятные моменты как следствие уже самого кризиса. Разумеется, все это существенно затрудняет выполнение классом трудящихся своей исторической миссии. Не следует, однако, абсолютизировать современное «страдательное» состояние трудящихся. Раньше или позже ухудшающееся положение вынудит их к стихийным и непосредственным действиям, включающим формирование Советов на предприятиях, взятие ими на себя как производственных, так и политических функций, установление классического двоевластия и прямое противостояние с нынешними антинародными режимами. Тогда и начнется конструктивная фаза нынешних революционных преобразований. И тогда особо важным моментом станет то, будет ли к тому времени сформирована новая социалистическая идеология – идеология третьего этапа социализма15, и будет ли кому вносить ее в сознание трудящихся, чтобы направить и возглавить это движение.
Но к этим вопросам мы вернемся ниже, а здесь пока упомянем о судьбе еще одного социального слоя нашего общества – слоя служащих-управленцев. Этот слой мелких чиновников, социальная задача которого состоит в проведении в жизнь воли господствующего класса, по самому своему существу является общественно пассивным, не способным на самостоятельные действия в качестве некоторой целостности. Он будет верой и правдой служить в том же качестве любой обладающей властью и обеспечивающей ему пропитание социальной группе, тем более, что данный слой еще долго будет необходимым в качестве составного элемента общественной организации. Гораздо более сложным является положение другого социального слоя нашего общества – интеллигенции, оказавшего (и оказывающего) исключительно сильное влияние на социальные процессы в нашей стране.
Будучи «интеллектом народа», интеллигенция всегда наиболее чувствительна к любым симптомам общественного неблагополучия. Нуждающаяся в свободе для своего эффективного функционирования и имеющая определенную, пусть даже очень урезанную, свободу, по необходимости предоставляемую ей с этой целью господствующим классом, она наиболее оперативно отреагировала на изменившуюся ситуацию, внеся огромный положительный вклад в преобразования нашего общества. То, что делала интеллигенция в начале «перестройки», разоблачая привычную номенклатурную полуправду, она объективно делала в интересах всего народа. Однако, как и каждой социальной группе с определенным общественным положением, интеллигенции свойственны и свои специфические интересы, которые не могут не сказываться на характере ее деятельности. И эти интересы, мягко говоря, вовсе не всегда совпадают с интересами большинства населения страны. Иногда следуя этим интересам интеллигенция предает интересы своего народа, тем самым подписывая приговор самой себе. Вот какую, применительно к аналогичным случаям, оценку интеллигенции дает известный западный историк: «Интеллигенция – это некоторый класс служащих связи, которые изучили все обычаи и законы вторгшейся в их общество цивилизации для того, чтобы помочь своим соотечественникам сохранить свою сущность в социальной среде, в которой люди перестают жить в согласии с местными традициями и все более и более заимствуют стиль жизни, навязываемый победоносной цивилизацией чужестранцам, попавшим под ее власть … Интеллигенцию ненавидит и презирает ее собственный народ, поскольку она укоряет самым фактом своего существования. Пребывая в самой его сердцевине, она является постоянным живым напоминанием о ненавистной, но неизбежной чужой цивилизации, которой не дано миновать, а потому приходится приспосабливаться к ее требованиям. …Итак, никто не любит интеллигенцию у нее дома, и одновременно она не приобретает ни славы, ни чести в стране, чьим манерам и обычаям она так старательно и мастерски подражает. …Интеллигенция … существует одновременно в двух обществах, а не в одном, и в обоих является чужеродным элементом; и если на первом этапе она может утешать себя тем, что является необходимым органом для обоих обществ, то с течением времени теряет даже это утешение … начинает страдать от сверхпроизводства и безработицы. …Несчастливая судьба интеллигенции ухудшается в геометрической прогрессии»16. Печальная, но точная картина.
Как мы уже говорили, интеллигенция как особая социальная группа не является производственным классом, т. е. она не имеет собственного отношения к средствам производства, не участвует непосредственно в основных общественно-экономических отношениях, характеризующих общественный строй. Но, выполняя определенную общественную роль, интеллигенция также ведет некоторое «производство» – производство «духовных ценностей». «Производство» в данной сфере большей частью по своему существу носит индивидуальный характер и независимо от формы реализации его результатов является «мелкотоварным». Отсюда склонность интеллигенции к мелкобуржуазной идеологии. Личная политическая свобода – изначальное и совершенно необходимое условие эффективности мелкотоварного производства. Отсюда роль соответствующих лозунгов во всех мелкобуржуазных идеологических течениях, в которых всегда видную роль играла интеллигенция.
Не являясь производственным классом, интеллигенция сама по себе не может перестроить производственные отношения. Максимум, что ей доступно – это способствовать дезорганизации существующих (и в этом есть резон, так как не сломав старых производственных отношений нельзя построить новые). Но, активно способствуя отстранению от экономической власти господствующего класса, она не может (да и не стремится) сама взять эту власть. Кто же это может сделать? Либо трудовые коллективы и Советы, либо новые буржуа; больше некому. Мелкобуржуазная идеология, свойственная интеллигенции, толкает ее ко второму решению. Создалось парадоксальное положение: интеллигенция у нас стремится проводить идеологию класса, который еще и не сформировался. Это было бы совершенно невозможно, если бы между «цивилизациями» в современном мире существовала «китайская стена». Но надгосударственные, межцивилизационные процессы сегодня приобретают все большее значение. Господствующее положение в мире международной буржуазии неизбежно оказывает идеологическое влияние и в странах, где ее не существует. Именно это влияние, даже независимо от намерений, в качестве «агента влияния» чужой цивилизации проводит наша либеральная интеллигенция, его она в конечном счете пропагандирует всеми доступными ей средствами.
Идея «деидеологизации», под флагом которой наши либералы поначалу сражались с социалистической идеологией, сегодня практически полностью показала свою несостоятельность. Без определенного идеологического стержня, организующего и направляющего в основных чертах его функционирование, общество существовать не может. Та или иная идеология неизбежно приобретает доминирующее положение. Но не какая угодно. Господствующей идеологией, подчиняющей себе все остальные ее виды, всегда является идеология, связанная с общественно-экономическими отношениями – как известно, прежде, чем заниматься, скажем, политикой, люди должны питаться, одеваться, иметь жилище. Сегодня, несмотря на множество оттенков, имеются только два основных типа такой идеологии: социалистическая и буржуазная. Новые идеологи капитализма сделали все возможное, чтобы развенчать идеологию социалистическую и внедрить буржуазную. Пока ни того, ни другого до конца сделать не удалось, и целостной идеологии у нас сейчас нет; но и идеологический вакуум также невозможен. Поэтому до кардинального решения вопроса возможно – но исключительно временное, «суррогатное», – использование в качестве ведущей идеологии, связанной с той или иной общностью людей, т. е. идей национальных, патриотических, религиозных и др. Их, как и любые другие идеи, вырабатывает и стремится широко внедрить «в массы» интеллигенция.
Одним из первых следствий освобождения интеллигенции из-под мощного пресса господствующего класса, учитывая полиэтнический характер нашей страны, явился рост национализма: желание занять лучшее место под солнцем привело ее к попыткам использовать тот рычаг, который ближе всего оказался под рукой. Это мы видим во всех республиках – от самых малых до самых больших. Вовсе того не желая, выпустили джинна из бутылки, и сама же национальная интеллигенция, попытавшаяся использовать национальный фактор в своих целях, во многих случаях оказалась заложницей пробужденных сил.
Национализм как общественное явление есть такой подход к любому вопросу, когда в основу его решения кладется национальная идея, превращаемая таким образом из одного из факторов в решающий. Как мы отмечали выше, на определенном историческом этапе, а именно на этапе формирования наций, это явление, безусловно, прогрессивное, ибо лежит в русле интеграционных процессов: разнородные части, оказавшиеся в пределах единой территории, сплавляются в единое целое – нацию, объединительные процессы превалируют над разъединительными. Иное дело – национализм в нашу эпоху. Конечно, там, где указанные процессы интеграции данного типа в самом разгаре, национализм – явление достаточно прогрессивное (например, в ряде стран Африки, где он противостоит трайбализму). А вот в «цивилизованных» странах, где сегодня столь явственно проявляются надгосударственные интеграционные процессы, национализм олицетворяет противоположную тенденцию – сепаратистскую, разъединительную и однозначно имеет реакционный характер.
Безусловно реакционны и деструктивные процессы в «бывшем» Советском Союзе. Мы вместе прошли длительный (и «особый») путь развития, и как бы не раздражало это националистов всех мастей, все же реально составляем ту самую «новую социальную общность» – советский народ, объявленный либералами и националистами коварной выдумкой сталинистов. Эта общность еще не раз обнаружит себя на всем пространстве того самого Советского Союза, который действительно разрушен сейчас деструктивными силами как политическая реальность, но все еще сохраняется (и, безусловно, сохранится в дальнейшем) как реальность социально-психологическая, как особая «цивилизация», и не учитывать этой реальности нельзя.
Национализм как таковой сегодня не пользуется в нашей стране массовой поддержкой – «национальная идея» практически не привлекает к себе людей за пределами узкого круга свихнувшейся на ней «национально сознательной» интеллигенции, да еще элементов со слабой социализацией (экзальтированная молодежь, люмпенизированные слои и т.п.), которым все равно за что бороться, лишь бы обеспечить себе возможность самоутверждения. Зато в широких пределах национализм (как и другие виды «разделительной» идеологии, например, те же религиозная или трайбалистская) используется как прикрытие для «разборок» мафиозных кланов (конфликт между Арменией и Азербайджаном, так называемая «война в Чечне», другие аналогичные явления тому яркое подтверждение).
Роль интеллигенции меняется по мере развития революционных процессов. Если роль «номенклатурного класса» как определенной социальной группы в нынешней общественной ситуации однозначно реакционна, то роль такого общественного слоя, как интеллигенция, не поддается однозначной оценке. Безусловно прогрессивная в начале преобразований, когда интеллигенция выражала интересы большинства населения, по мере их осуществления эта роль существенно модифицируется собственными интересами данной социальной группы. А интересы эти определяются опять же необходимостью обслуживать нужды господствующего класса, которым оказалась все та же номенклатура, но рвущаяся к положению буржуа. Соответственно основой для интеллигенции все больше становится буржуазно-либеральная и социал-демократическая идеология, а основным направлением деятельности – реставрация капиталистических общественных отношений. Учитывая социалистический характер нашего общества и столь же социалистический в конечном счете характер нынешних революционных преобразований, эта деятельность, не имея объективных возможностей достичь успеха, становится в результате контрреволюционной, соответственно объективно вступая в противоречие с интересами большинства населения страны.
Такое положение не может не сказываться на общем состоянии интеллигенции. Фактический отказ «общественного интеллекта» надлежащим образом выполнять свою социальную функцию приводит даже к чему-то вроде «социальной шизофрении». Началось увлечение парапсихологией, оккультизмом, восточными и другими экзотическими религиозно-философскими системами, а уж «заигрывание с боженькой» (Ленин) и церковью (прежде всего православной, но не только) в среде интеллигенции (особенно художественной) вообще приобрело характер повальной моды. А чего стоит поддержка значительной частью интеллигентской «элиты» нынешних явно антинародных режимов!
Соответственно снижается и результативность деятельности в интеллектуальных сферах. Тяжелое положение в нашей науке хорошо известно, хотя (если исключить так называемые «общественные науки», практически полностью поставленные многими бывшими «верными марксистами-ленинцами» на службу капитализации и сепаратизму) оно зависит не только от желаний и возможностей ученых. Еще более показательным в этом отношении является искусство, в котором «качество продукции» зависит от художника самым непосредственным образом, и плачевное состояние которого сегодня в комментариях, пожалуй, не нуждается. Интеллигенция как целое оказалась в состоянии полного маразма. Но, конечно, положение это временное. То, что довольно много представителей этого слоя и в сегодняшних труднейших условиях сохранили высокие моральные и профессиональные качества и не предали интересов своего народа, вселяет надежду, что по завершении социальных преобразований интеллигенция опять займет подобающее ей место в общественной жизни и будет снова успешно выполнять роль интеллекта советского народа.
Итак, кризис в нашем обществе явился следствием прежде всего внутренних процессов в нем, развивающихся в непосредственной связи с процессами во всем мире, и привел к весьма существенным изменениям положения всех его социальных групп. Господствующий класс (номенклатура), все еще сохраняющий свое господствующее положение, приложил и прилагает колоссальные усилия, чтобы в результате настоящего кризиса у нас установились капиталистические общественные отношения. Но достичь поставленной цели ему пока не удалось, реставрация капитализма как способа производства у нас не состоялись и, как видно, не состоится.
Но если у нас сейчас не капитализм, то что же? Рудименты оциализма. Такой ответ вызывает бурю негодования не только записных «философов-марксистов», толкующих о «реставрации капитализма», но и рядовых приверженцев социализма: да разве же то безобразие, которое у нас творится, можно назвать социализмом? Нельзя, если представлять себе социализм коль уж не царством небесным на земле, то во всяком случае «предбанником» к нему. И очень даже можно, если смотреть на социализм всего лишь как на определенный общественно-экономический строй в не менее определенной цивилизационной системе.
Каждый общественный строй, не меняя своей общественно-экономической сущности, вполне может принимать едва ли не полярные формы (сравним, например, все тот же – но какой разный! – капитализм в гитлеровской и в современной Германии), а социализм, как строй переходной, тем более. Человек, без сознания находящийся в реанимации, все тот же человек – пока он жив. Да только какая это жизнь… Она не только куда как далека от «нормы», но и вообще может прерваться. И социализм в нашей стране сегодня в глубочайшем, жесточайшем кризисе, можно сказать, в коматозном состоянии. Вот это и есть наша задача – вывести его из комы. А то кое-кто, чьи эстетические чувства оскорбляет наше нынешнее жалкое состояние, уже готов списать «неудавшийся опыт» в убыток, чтобы затем приступить к «воскрешению из мертвых» – ко «второму изданию социалистической революции».
Но мы-то еще живы. Ситуация не вернулась – и не может вернуться – к той, которая была в начале двадцатого века. С нами восьмидесятилетняя история нашей борьбы, история не только горьких поражений, но и великих побед, – история действительно реального социализма, реальной новой цивилизации, созданной новой исторической общностью – советским народом. Эту историю уже никуда не денешь. Он еще существует, советский народ, на собственном опыте узнавший, что такое социализм (а теперь все ощутимее сталкивающийся с настоящим, не витринным капитализмом – а ведь это пока только его «элементы»!), с глубоко укоренившимся в сознании коллективизмом, и он не позволит списать его со счета и начать все «с чистого листа».
И вообще для нашей «евразийской цивилизации» сегодня просто нет другой возможности выжить и развиваться кроме возврата на путь социалистического развития, и раньше или позже это обстоятельство станет определять поведение большинства наших людей. Да, пока что активность советского народа оставляет желать лучшего. А чего же мы хотим после массированной идеологической дезориентации, проводимой «номенклатурным классом» и его идеологической обслугой и до, и после «перестройки», причем в прямо противоположных направлениях? Пока что он в основном только вынужденно приспосабливается к невыносимой ситуации, как приспосабливался к ней в годы войны на оккупированных врагом территориях (где хотя только немногие становились партизанами, а кое-кто шел и в полицаи, но большинство просто оставалось советскими людьми), в принципе не приемля капиталистические «правила игры» и в глубине души ожидая, когда же наконец «придут наши», хотя, к сожалению, не очень-то представляют себе, кто же это такие.
4.6. Будущие судьбы социализма
Так что вопрос прежде всего в том, кто же это – «наши»? А потому первое, что следует рассмотреть при попытках прогноза дальнейшего развития нынешней ситуации, это вопрос о тех, кто станет в первых рядах борцов за социализм, возглавит и направит то массовое движение в его защиту и против нынешних антинародных режимов, которое раньше или позже, но совершенно неизбежно поднимется в нашей стране. Мы видели, что трудящиеся еще не готовы к осознанию своего истинного положения и к организованной борьбе за его изменение. Но политические оппозиционные «левые» силы все же существуют. Посмотрим же, что они собой представляют.
Врут хулители социализма, утверждая, будто бывшие партократы тоскуют по прошлому, по преданной ими «команде ихней молодости»: чего нет, того нет. Большинство бывшей номенклатуры, «рванув» социализм, вовсе не пострадало и не хочет ни «назад к социализму», ни «вперед к социализму». Они все так же у власти, и им совсем неплохо живется и при той пародии на капитализм, которую мы сейчас имеем. А меньшинство, по разным причинам (кто по неспособности, а кто и по причинам идеологического характера) не найдя своего места в новом истеблишменте, ударилось в оппозицию. Но «номенклатурное нутро» дает себя знать и здесь. Многие из этой части номенклатуры, нередко занимая благодаря связям и опыту видное место и в коммунистическом движении, толкают его в соглашательское русло, стремясь в складывающихся сейчас общественно-экономических отношениях занять нишу вполне респектабельной оппозиции как части «цивилизованного гражданского общества», спокойно «защищать интересы трудящихся», отодвигая при этом проблемы возврата на путь социалистического развития на второй план и неопределенное будущее. Коммунистическое же движение им требуется как солидный фундамент, с которым нельзя не считаться. Но при этом и сами они считают необходимым стать респектабельными в духе «ерокоммунизма», еще лучше слегка отдавать социал-демократией. Партии, в которых старая номенклатура занимает ведущее место, несмотря на наличие в них многих настоящих коммунистов, объективно защищают интересы именно этой социальной группы.
В коммунистическом движении есть и еще один слой людей, в основном раньше занимавших место у подножья номенклатуры (или самые нижние ее ступеньки). Чего хочет эта «мелкая номенклатура»? Правильно — стать крупной. Поэтому в отличие от «настоящей» номенклатуры она действительно революционна. И цели своей эти люди не скрывают — вернуться в старые добрые времена, но избавившись от предателей идеалов и желательно под их собственным чутким руководством. Считая наше общество отброшенным в ситуацию, аналогичную той, которая была в начале века (в советский народ они не верят, а восемьдесят лет нашей истории согласны скрепя сердце «списать» в убыток), они готовы начать все заново, в любой момент подняв и возглавив новую социалистическую революцию, чтобы восстановить то, что называлось «плановой экономикой» и «диктатурой пролетариата», т.е. реально «диктатуру номенклатуры». Большинство же из них над теоретическими вопросами не задумываются, а просто хотели бы вернуться назад, сохранив положительные черты минувшего этапа социализма и устранив отрицательные, что, по их мнению, в принципе сделать несложно — нужно только чтобы во главе оказались «хорошие люди», которые не станут совершать прежних «ошибок» (лучше всего, если это будут они сами). По сравнению с первым случаем здесь ситуация приобретает драматические черты, поскольку это честные люди, беззаветно преданные коммунистическим идеалам — как они их понимают. Их критика соглашательства крупной номенклатуры безусловно справедлива и борьба с ним несомненно полезна. В то же время их цель, в конечном счете фактически предполагающая восстановление «номенклатурного социализм», реакционна по своей сути, и это не может не сказываться на результатах. Искренне желая блага, они уже сегодня наносят также и ощутимый вред коммунистическому движению, своей приверженностью «номенклатурному социализму» объективно блокируя широкую народную поддержку этого движения, а когда дело дойдет до активных действий, могут стать важной помехой на пути революционных преобразований и повторить судьбу «народников» или других мелкобуржуазных революционеров времен социалистической революции.
Во многих случаях в коммунистических партиях нет достаточно четкого организационного разделения между этими двумя течениями, и в их идеологии соответствующие моменты объединяются иногда самым удивительным образом, создавая весьма причудливую идеологическую окрошку. Особенно это заметно там, где имеются достаточно влиятельные «левоцентристские» партии социал-демократического типа1, взявшие на себя роль основных проводников соглашательской политики, что заставляет компартии дистанцироваться от наиболее одиозных ее проявлений (такая ситуация, например, имеет место на Украине). Но в принципе это положения не меняет.
При таком «номенклатурном» характере всех нынешних коммунистических партий в нашей стране не приходится удивляться отсутствию их массовой поддержки трудящимися. Да, классовое чутье – великая вещь! Оно проявляло себя всегда, не позволяя широким массам тружеников глубоко увлечься чуждыми им идеями, даже если они приправлены их действительными проблемами. Об одном из таких явлений Маркс и Энгельс писали: «Аристократия размахивала нищенской сумой пролетариата как знаменем, чтобы повести за собой народ. Но всякий раз, когда он следовал за нею, он замечал на ее заду старые феодальные гербы и разбегался с громким и непочтительным хохотом»2. Сколь бы не рыдали идеологи нынешних компартий над действительно тяжелой долей народа, пока они будут при этом призывать прежде всего «защищать интересы трудящихся от буржуазии» в создавшихся условиях (т.е. фактически к оппортунистическому принятию нынешнего положения) или к восстановлению «диктатуры пролетариата» (т.е. к возврату власти «обновленной» номенклатуры), трудовой народ будет замечать «на заду» тех, кто как знаменем размахивает его «нищенской сумой», старое номенклатурное клеймо, и «разбегаться с непочтительным хохотом», со злостью повторяя при этом: «Все они одинаковы!». Но других лозунгов они не имеют, вот и приходится отсутствие массовой поддержки списывать на озабоченность людей физическим выживанием, на усталость, несознательность масс да на козни враждебной пропаганды.
Если члены нынешних, называющих себя коммунистическими, партий возмутятся их определением как номенклатурных, считая его слишком огульным и уж во всяком случае не относящимся к их собственной партии, можно предложить простой тест, показывающий, верно ли такое определение по отношению к той или иной конкретной партии. Он заключается в том, чтобы отыскать в программе данной партии положение, соответствующее категорическому требованию, предъявляемому классиками марксизма к преобразованиям уже в самом начальном периоде построения нового общества. Среди всего трех первоначальных мероприятий «переходного периода» Энгельс называет «воспитание всех детей на государственный счет»3. Важным моментом преобразований в ходе революции он считал следующий: «Воспитание всех детей с того момента, как они могут обходиться без материнского ухода, в государственных учреждениях на государственный счет. Соединение воспитания с фабричным трудом»4. А на практике? В тяжелейшее время начала 1919 года Ленин «ближайшими задачами» считает «осуществление тесной связи обучения с общественно производительным трудом» и «снабжение всех (!) учащихся пищей, одеждой и учебными пособиями за счет государства»5. Очень хорошо, скажут нам, но причем здесь «тест»? Ведь есть же, казалось бы, немало гораздо более важных принципиальных вопросов, которые должны быть отражены в программах? А вот потому-то и тест. Если классики считали этот момент важнейшим, а у нынешних коммунистов до него «руки не доходят» за более важными вопросами, то одно это уже говорит само за себя. Но еще важнее другое. Одно дело громко шуметь о «защите интересов трудящихся» и о «диктатуре пролетариата» – номенклатура никогда не жалела сил на такого рода шумиху, не несущую никакого конкретного содержания, а другое – программно заявлять вполне конкретное мероприятие, номенклатуре не только не нужное, но и вредное, потенциально подрывающее ее господство. Не нужное, поскольку бремя воспитания подрастающего поколения для номенклатуры в материальном отношении бременем не являлось – в отличие от тех самых трудящихся, интересы которых предполагается защищать. Заявить: «все лучшее – детям» – это пожалуйста, а вот дать всем действительно равные шансы, реально поставить своих детей в одинаковые условия с остальными, да еще чтобы они занимались «производительным трудом», – на это номенклатура как господствующий класс никак согласиться не может. Но главное заключается в том, что при таком эгалитарном воспитании подрывалась бы сама основа господства номенклатуры: уже через одно поколение такого воспитания трудящимся не удалось бы внушить, что вкалывая под мудрым руководством ими даже не избираемого всяческого начальства они таким странным образом как раз и осуществляют «диктатуру пролетариата». Вот почему это тест, и он дает достаточно точные результаты.
Та путаница, которую – чаще всего вполне благонамеренно – идеологи различных течений современного коммунистического движения вносят в вопросы их социальной принадлежности, влияет даже на теоретиков-марксистов, приводя их к фантастическому выводу о возможности каких-то «неклассовых» партий. В результате при достаточно корректном (хотя и не совсем полном) анализе нынешнего состояния коммунистического движения, показывающем, что, например, «основная сила», на которую опирается КП РФ, «это стоящие на средних и нижних ступенях иерархии бывшей КПСС партийные работники, часть средней интеллигенции», а основу РКРП составляют «в основном мелкие служащие, представители самых нижних слоев партийного аппарата, низшие слои интеллигенции», делают более чем странный (для марксиста) вывод, что эти партии «не являются классовыми партиями»6! И это вместо того, чтобы просто показать различие между провозглашаемыми и действительно защищаемыми этими партиями классовыми интересами.
Нет, никогда не существовало, не существует и существовать не может «неклассовых» партий. Как политическая организация партия для того и создается, чтобы отстаивать интересы вполне определенного класса (правда, чаще всего не всего класса как целого, а тех или иных его групп, частей, слоев и т.п., что не меняет существа дела, а только плодит множество партий, – как это сейчас и имеет место в коммунистическом движении). Иное дело, что действительные цели партии не так уж часто совпадают не только с провозглашаемыми, но и теми, которыми – особенно вначале, пока условия не принуждают к четкому проявлению ее классовой сущности, – субъективно руководствуются многие ее конкретные члены. Но, что бы не провозглашали партийные идеологи, какими бы ни были искренними в своих убеждениях и они, и тем более рядовые члены партии, раньше или позже фактическое развитие событий обязательно выявит, каковы объективно были классовые цели. По прошествии времени это ясно проявилось в эволюции практической деятельности мелкобуржуазных партий, существовавших в нашей стране в начале века. Ведь очень многие члены этих партий не только считали себя, но и были беззаветно преданными делу революции, готовыми пожертвовать всем ради обездоленного народа. Но если такие революционеры, порвав с интересами – пусть и революционной! – мелкой буржуазии, ясно и четко не становились на действительные позиции действительно революционного класса – пролетариата, то логика борьбы раньше или позже, но неизменно приводила их в лагерь его противников, в лагерь контрреволюции (достаточно вспомнить судьбу меньшевиков, эсеров, украинских социалистов и др.).
Определение нынешних коммунистических партий в нашей стране как номенклатурных вовсе не значит, что таким образом всей их деятельности дается отрицательная оценка. Ни в коем случае! Они выполняют целый ряд важнейших функций, давая возможность консолидироваться сторонникам социализма, уже самим своим существованием пробуждая надежду у противников капитализации нашего общества и страх и нервозность у ее сторонников, по мере сил уже хотя бы этим препятствуя особо одиозным мерам последних. Но они, не идя против собственных классовых (номенклатурных) интересов, не в состоянии предложить трудящимся ясной и четкой перспективы такого общества, которое соответствовало бы именно их, трудящихся, интересам (и являлось бы результатом не утопических мечтаний, а прогноза реального общественного развития), а следовательно, не могут и организовать их на борьбу за него. В связи с таким характером нынешних коммунистических партий вполне справедливым выглядит утверждение, что сегодня «передового борца попросту нет, есть арьергардные бойцы, позволяющие отступать, если есть кому, более-менее в порядке и спасающие остатки разбитой армии от полного уничтожения. Но быть передовым борцом, то есть наступающим первым, сейчас ни одна партия не в состоянии как в силу объективных, так и в силу субъективных причин»7. Такой «передовой борец» появится тогда, когда будет образована Коммунистическая партия трудящихся, выражающая интересы не различных (в том числе региональных) групп номенклатуры, а всех трудящихся Советского Союза.
Так что когда сегодня для тех, кто считает себя коммунистом, возникает необходимость ясно и четко стать на позиции трудящихся нашей страны, речь не в том, чтобы провозгласить себя защитниками их интересов (всех трудящихся, или преимущественно какой-то их группы – реально имеющейся или придуманной, вроде давно уже не существующего «пролетариата»), а в том, чтобы действительно свою деятельность подчинить именно этим интересам. Это значит – интересам всех советских трудящихся, т.е. не отдельных «самостийных» государств-неоколоний, а именно трудящихся Советского Союза. Тогда сама собой отпадет и «коммунистическая многопартийность».
Вот этого, доходящего до мозга костей, сознания своей принадлежности к нашей общей социалистической «цивилизации», к советскому народу, как раз и недостает подавляющему большинству нынешних коммунистических идеологов. В бытность свою одним из редакторов коммунистического журнала, мне приходилось прочитывать множество статей таких идеологов, которые, вполне искренне считая себя интернационалистами, при рассмотрении реальных сегодняшних задач фактически становились на вполне номенклатурную позицию великодержавности или сепаратизма. Так, в очень многих статьях, присланных из России, их авторы, даже прямо заявляющие о необходимости воссоздания СССР, при анализе конкретных вопросов всегда реально ограничивались анализом ситуации и перспектив ее развития только в самой России (дескать, решим свои задачи в России, а там и до Союза очередь дойдет), всегда как бы забывая (или и не подозревая?) о том, что проблема социализма – это одновременно и проблема Советского Союза, и что иначе как одновременно эти задачи вообще неразрешимы. А, например, на Украине такие же убежденные интернационалисты, на словах отдавая дань какому-то непонятному «союзу братских народов» или «обновленному Союзу», на деле немедленно погружаются в решение локальных задач, также практически не увязывая их с общими задачами всех советских людей. Естественно, многие задачи действительно могут и должны решаться по частям, но при этом ни на минуту нельзя забывать, что их решение имеет смысл и возможность только как часть целого – и никак не иначе: выше мы видели, что социализм одновременно явление и общественно-экономическое, и «цивилизационное». Вот понимания этого, не на словах, а на деле пронизывающего всю пропаганду, агитацию и практическую деятельность представления о неразрывности проблем социализма и Союза – политического воплощения нашей социалистической «цивилизации», катастрофически не хватает нынешнему коммунистическому движению.
Это необходимо и в чисто практическом плане. Мы ни на минуту не имеем права забывать об империалистическом характере нынешнего капиталистического мира. Не для того империализм потратил столько сил и средств, помогая нам «обрести свободу», чтобы позволить вытащить самим себя из того болота, в которое мы угодили в результате произошедшей аварии, и вернуться на твердый путь социалистического развития. Он сделает все от него зависящее, чтобы не лишиться жизненно важной для него сегодня возможности эксплуатировать наши природные ресурсы, дешевую рабочую силу, размещать вредные производства и т.п. И противостоять этому ни одна республика в одиночку не в состоянии. Только Советский Союз обладал человеческими, природными и иными ресурсами, достаточными для того, чтобы быть в состоянии существовать в качестве особого социального организма («цивилизации») во враждебном окружении, постоянно стремящемся к его ассимиляции. И он убедительно доказал это как в периоды мирного развития, так и в военные годы. Даже огромная Россия на это не способна, а уж о социализме в «отдельно взятой» Украине, как и в любой другой республике, не может быть и речи.
Капитализм, занимающий господствующее положение в мире, и социализм, оказавшийся сегодня в исключительно трудном положении, — два существенно различных по своему «метаболизму» общественно-экономических организма, и для сохранения своей специфики они должны быть разделены проницаемой, но прочной перегородкой-мембраной. То, что еще не успело окрепнуть, должно защищаться от неконтролируемого внешнего воздействия. Если бы первые млекопитающие попытались в свое время на равных, без занятия особой экологической ниши, конкурировать с динозаврами, их участь была бы предрешена. Социализм на данном этапе должен быть прочно защищен государственным барьером. Сказанное, естественно, ни в коей мере не исключает необходимости и возможности включения в равноправное разделение труда в мире. Но все экономические внешние связи должны составлять государственную монополию и осуществляться в интересах всей нашей социалистической «цивилизации» как целого. А возможность этого однозначно связана с могучим Советским Союзом, а не с «идиотской системой мелких государств и национальной обособленностью»8 – решить какие бы то ни было социалистические задачи в отдельном национальном государстве в принципе невозможно. Поэтому для нас социализм и Союз нераздельны.
Чтобы передовой отряд действительно смог организовать борьбу трудящихся за возврат нашей страны на путь социалистического развития, он должен хотя бы в общих чертах представлять те конкретные цели, которых предполагается достичь. Было бы недопустимым утопизмом пытаться в деталях предсказывать все особенности того третьего этапа развития социализма, который явится закономерным завершением нынешних революционных преобразований. Но коль скоро мы убеждены в существовании объективных закономерностей общественного развития, то есть основания полагать, что его анализ применительно к социализму может дать основу для научного прогноза наиболее общих характерных черт его третьего этапа. Ниже мы попытаемся изложить некоторые из тех выводов, к которым позволяет прийти проведенное выше рассмотрение развития социализма.
В наиболее общем виде «будущий» социализм можно бы было определить как социализм без номенклатуры. Мы уделили столько внимания номенклатуре потому, что ее ликвидация является наиболее важным социальным изменением, без которого невозможен переход к новому этапу развития социализма. Но такого определения слишком мало, поскольку ликвидация этой особой социальной группы, игравшей столь важную роль в политической и экономической системе прошедшего этапа социализма, весьма существенно повлияет на основные характеристики его следующего этапа, в том числе и на те, которые отражены в «триедином символе веры» советских коммунистов — Социализм, Советы, Союз. Понятно, что речь при этом должна идти именно об особой социальной группе, а не об отдельных личностях. В этом смысле оценка не должна быть огульной, ибо и среди номенклатуры также были и есть настоящие коммунисты, и их опыт является бесценным достоянием коммунистического движения. То, что интересы номенклатуры как социальной группы сегодня враждебны интересам трудящихся, не является помехой для конкретного выходца из ее среды в отстаивании этих последних, коль скоро он стал на соответствующие позиции, — как, скажем, буржуазное происхождение Энгельса не помешало ему быть признанным вождем пролетариата. Поэтому «здесь дело идет о лицах лишь постольку, поскольку они являются олицетворением экономических категорий, носителями определенных классовых отношений и интересов»9.
Итак, какие же общественно-экономические отношения должны стать результатом перехода социализма к третьему этапу своего развития? В основном их определяет система собственности на средства производства. Какую же форму собственности можно считать органичной для третьего этапа социализма, закономерно вытекающей из всего предшествующего его развития, соответствующей социально-психоло-гическим условиям в нашем обществе и обеспечивающей высокую эффективность производства? Прежде всего следует еще раз подчеркнуть, что для этого этапа, как и для предыдущих этапов социализма, характерным является расщепление отношений собственности по владению, распоряжению и пользованию. На данном этапе реализация отношений собственности будет осуществляться через государственное владение, общенародное пользование и коллективное распоряжение средствами производства. Посмотрим, каким образом это может быть осуществлено и к каким социальным последствиям приведет.
В плане производственных отношений одной из наиболее характерных черт будущего этапа социализма станет демократизация экономической жизни, выражающаяся прежде всего в усилении роли трудовых коллективов. Эта роль вовсе не будет сводиться лишь к некоему «рабочему контролю» (дескать, «слуги народа» управляют, а трудящиеся их контролируют, следя, чтобы те их не надули). Именно трудовой коллектив окончательно станет главным звеном производственных отношений. Через демократически сформированный совет трудового коллектива он будет полностью распоряжаться средствами производства предприятия, находящимися в его полном хозяйственном ведении. Только трудовой коллектив предприятия, без какого либо внешнего принуждения, будет выбирать направление хозяйственной деятельности и, являясь ее полноправным субъектом, полностью отвечать также за ее результаты. Предприятие будет самостоятельно определять также способ использования хозрасчетного дохода, и столь же самостоятельно подразделять его на фонд заработной платы, фонд социального развития, фонд развития производства и другие нужды, устанавливать систему оплаты, разные формы материального и другого поощрения. Непосредственное управление производством как технологическим процессом будет осуществляться администрацией, нанимаемой советом трудового коллектива и подконтрольной ему10.
Не такие ли формы организации производства имел в виду Ленин, когда писал, что «строй цивилизованных кооператоров при общественной собственности на средства производства… – это и есть строй социализма»11? В своей, во времена «перестройки» столь часто упоминавшейся, статье «О кооперации» он ведь говорил вовсе не о той кооперации, которую тогда усиленно стремились насаждать. В ней он специально (и неоднократно!) обращает внимание на то, что «с принципиальной стороны» кооперация в его понимании (т. е. специфически социалистическая кооперация) сохраняет «собственность на средства производства в руках государства»12. Как раз в этом смысле никакой «перемены взглядов на социализм» здесь у Ленина нет – он последовательно развивает взгляды на кооперацию основателей марксизма. Вот как они выглядят у Энгельса: «Что при переходе к полному коммунистическому хозяйству нам придется в широких размерах применять в качестве промежуточного звена кооперативное производство, – в этом Маркс и я никогда не сомневались. Но дело должно быть поставлено так, чтобы общество – следовательно, на первое время государство – сохранило за собой собственность на средства производства и, таким образом, особые интересы кооперативного товарищества не могли возобладать над интересами общества в целом»13. Мы уже упоминали, что Ленин совершенно определенно считал кооперацию буржуазной, если в ней «выделяется слой пайщиков, составляющих меньшинство населения», и если она «дает выгоды (дивиденды на паи и т. п.) группе особых пайщиков»14. Так какой же выход из этого положения? «А выход один – слияние кооперации с Советской властью»15. Только в этом случае можно получить предприятия, в которых их члены, во-первых, равноправны, а во-вторых, свободно распоряжаясь средствами производства, соблюдают тем не менее интересы общества в целом – именно потому, что не им, а «государственной власти принадлежат все средства производства»16. Сейчас много говорят о некоторых коллективных предприятиях на Западе, представляя их едва ли не «ростками социализма». Но мы должны ясно отдавать себе отчет в их буржуазной природе – уже хотя бы потому, что вообще «кооперация в обстановке капиталистического государства является коллективным капиталистическим учреждением»17. Так что не они, а те «кооперативы» в ленинском понимании, т. е. трудовые «арендные» коллективы, базирующиеся на находящихся во владении государства средствах производства, определят будущее социалистической экономики. Что же касается других форм собственности, в том числе и собственно кооперативной, то они вполне могут (в той мере, в какой они совместимы с социалистической собственностью) существовать и в дальнейшем – многоукладность народного хозяйства некоторое время вполне может сочетаться с господством форм собственности, определяющих саму сущность производственных отношений на данном этапе развития общества.
Мы стоим еще только на пороге третьего этапа развития социализма, а потому трудно сколько-нибудь определенно говорить о конкретных формах осуществления распорядительной функции. Демократизация всей нашей, в том числе экономической, жизни, открыв свободу творчества трудящихся, позволит отыскать оптимальные формы, а пока наиболее целесообразно «не связывать себе… рук какими-либо предписаниями, директивами или правилами, пока мы недостаточно собрали фактов хозжизни на местах»18. Исходя из изложенных соображений, можно только предположить, что в наиболее вероятном варианте отношений в сфере материального производства (как в промышленности, так и в сельском хозяйстве) основной ячейкой станет трудовой коллектив, «арендующий» находящиеся во владении государства средства производства, которыми он распоряжается непосредственно или через демократически избранный совет трудового коллектива, а управляет средствами производства по его поручению назначаемая и сменяемая советом трудового коллектива администрация. И это все при условии, что производственная деятельность данного коллектива в конечном счете направлена на пользу всего народа. Это последнее имеет важнейшее значение и обеспечивается именно государственным владением средствами производства через Советы.
На третьем этапе развития социализма владение средствами производства, как и на первых двух этапах, останется государственным, но будет осуществляться через систему Советов. Советская система уже в принципе значительно отличается от парламентской представительной системы в буржуазном обществе, и не только тем, власть какого класса каждая из них осуществляет. Отличается она также тем, что здесь речь идет не только о политической (и тем более не только о законодательной) власти. Лозунг времен революции гласил: «Вся власть Советам!» Именно вся, а не только политическая, т. е. и экономическая власть — через владение средствами производства. Без этого нет Советской власти. Только вся полнота власти у Советов каждого уровня обеспечивает реальную возможность народовластия, возможность определять всю (в том числе и экономическую) жизнь советского народа им самим во всех его частях сверху донизу. Только Совет, будучи владельцем практически всех средств производства, расположенных на его территории, сможет координировать деятельность всех использующих их предприятий. По этой же причине он будет иметь также реальную возможность обеспечить социальную защищенность всех проживающих на своей территории граждан через создание каждому условий общественной самореализации, а не условную посредством социального вспомоществования, закрепляющего за иногда вполне дееспособными гражданами статус «людей второго сорта», «живущих унизительным хлебом благотворительности»19 — частной ли, государственной ли.
Для обеспечения целостности социалистического государства как зародыша будущей целостности общества владение средствами производства должно носить иерархический характер (и в этом отличие характера владения на третьем этапе развития социализма от второго, где государство функции владельца выполняло через свои центральные органы, создавая таким образом возможность распоряжаться сверху вниз всеми принадлежащими ему средствами производства организованному в иерархическую систему господствующему классу). Это значит, что непосредственным владельцем средств производства, расположенных на его территории, выступает местный Совет. Только он может принимать решения как их владелец, и никто, кроме Совета более высокого уровня, не может изменить эти решения. Что же касается Совета более высокого уровня, то он, как представитель всего населения более широкого региона, также выступает в качестве владельца, но уже всех находящихся в данном регионе средств производства, каждая часть которых одновременно находится также во владении Советов более низкого уровня. Так выстроится вся пирамида владения всеми основными средствами производства — вплоть до Верховного Совета всей страны, являющегося воплощением всеобщего государственного владения (но не распоряжения!) всей совокупностью ее средств производства, поскольку он представляет в совокупности весь советский народ. Такая иерархическая система владения допускает сколь угодно большое расширение количества входящих в нее элементов, создавая возможности дальнейшего объединения. Основная власть при этом сосредоточится в низовых Советах, причем их относительное значение будет все время возрастать.
Политическая власть в обществе всегда базируется на экономических отношениях, конкретно воплощаясь в определенные политические институты. В капиталистическом обществе экономическая власть полностью сконцентрирована в руках буржуазии как класса, а политическая осуществляется по ее поручению административной системой, организация которой должна быть максимально эффективной для достижения поставленной цели. Управляющая административная система должна выражать волю буржуазии именно как класса. Но существование различных групп буржуазии, имеющих определенные (хотя бы и частные по отношению к коренным интересам класса) различия в интересах, может приводить, и иногда приводит, к тому, что политическая власть склоняется в ту или иную сторону, что, в свою очередь, ведет к дестабилизации общественной жизни и в пределе может поставить под угрозу интересы класса как целого. Этому противостоит демократия как форма организации господствующего класса, выражающая его совокупную волю и своими механизмами наиболее полно обеспечивающая его интересы как целого. Одним из главных таких механизмов, предотвращающим указанную угрозу, является разделение властей, обеспечивающее стабильность и баланс интересов различных групп господствующего класса в соответствии с его коренными общими интересами.
Переход к третьему этапу социализма при отсутствии внеэкономических факторов организации (как это было на предыдущих его этапах) также требует создания специальных стабилизационных механизмов, способных согласовывать интересы все еще существующих при социализме различных социальных групп и слоев. Как и в предыдущем случае, они неизбежно будут связаны с определенным взаимодействием экономических и политических факторов. Однако, если в буржуазном обществе господствующий класс объективно заинтересован в сохранении экономических механизмов своего господства над остальными социальными группами политическими методами, то при отсутствии господствующего класса, при сохранении только одного производственного класса механизмы стабилизации должны быть направлены только на «внутреннее» регулирование. Становление и развитие народовластия, самоуправления через Советы (то есть без особой административной системы, базирующейся на представительной демократии) не оставляет места для «разделения власти, вообще столь дорогого буржуазии»20. Поскольку трудовому народу не с кем разделять свою власть, то нет и необходимости в каком-либо ограничении политического полновластия Советов (и их органов).
Но это не означает, что проблема общественной стабилизации, обеспечения баланса интересов снимается, ибо на данном этапе общественного развития еще сохраняется наличие общественных групп с различными интересами, сохраняется до полного обобществления средств производства, которое произойдет только в конце этапа. Следовательно, сохраняется и необходимость в специальных стабилизационных механизмах. Их роль будет выполнять упомянутое ранее разделение экономической власти, связанное с юридическим разделением субъектов владения, распоряжения и пользования, при их значительном и все усиливающемся физическом совпадении (что является также базой политической власти через Советы). Именно это разделение (при общей базе) станет противоядием для вызываемого существованием таких групп «группового эгоизма».
Для выполнения таких задач Советы также должны быть избавлены от влияния номенклатуры. Чтобы они, говоря словами Ленина, стали «органами управления через трудящихся», необходимо вернуться к ленинским принципам их формирования и функционирования. Опора на низовые (районные) Советы как основу Советской власти, формирование высших уровней Советской власти — вплоть до общегосударственного — не прямыми выборами (результаты которых всегда и неизбежно будут определять те, кто имеет политическую или экономическую возможность манипулировать избирателями), а на съездах Советов, реальная возможность отзыва депутатов в любое время с любого уровня, — вот те основные условия народовластия, без выполнения которых о нем не может быть и речи. Они и должны быть реализованы на третьем этапе социализма.
Таким образом, на третьем этапе социализма разделение по владению, распоряжению и пользованию будет иметь юридический характер, связанный с функционированием средств производства, но не произойдет разделения физического субъекта, поскольку в основном здесь действуют одни и те же люди. Они пользуются собственностью для создания средств своего жизнеобеспечения, но они же владеют ею через органы самоуправления – Советы, и распоряжаются как члены трудового, производящего коллектива. Собственно, именно поэтому они и имеют возможность пользования. Как мы отмечали, такое совпадение на начальном этапе будет только частичным. По мере развития отношений, характерных для третьего этапа социализма, оно будет становиться все более полным, что фактически означает постепенное формирование целостного отношения теперь уже действительно общественной собственности на средства производства, в своем развитом виде реализующейся только в коммунистическом обществе. Но уже на начальном этапе такие отношения, даже если их за неимением нового термина назвать арендными, существенно отличаются от классических отношений имущественного найма при разделении вступающих в них физических субъектов. Соответственно меняется и характер обмена между производителями.
В спорах о том, каким быть социализму в будущем, немалое внимание уделяется теме «социализм и рынок», но при этом редко дают себе труд определить, что же именно понимается под рынком. А ведь если под ним, как нередко и делается, понимать наличие любого обмена продуктами деятельности индивидов, неизбежного при любом разделении труда в обществе (даже половозрастном в обществе первобытном), то это понятие приобретает столь расширительное значение, что рынок становится неизменным атрибутом едва ли не любого общественно-экономического строя. Тогда нет и предмета для обсуждения.
Однако марксизм под рынком понимает механизм отнюдь не любого обмена, но стихийно складывающегося эквивалентного обмена продуктами производства между самостоятельными производителями, который по своей общественной функции в качестве такового является средством обобществления и регулирования производства. Другими словами, рынок – экономический механизм саморегулирования производственной деятельности общества, в отсутствие внешнего (по отношению к отдельным производителям) управляющего центра обеспечивающий целостность общества как общественно-экономического организма. А его характер определяется характером производственных отношений, и стало быть, может быть различным. Другое дело, что нам пока известен только один вид такого экономического механизма в его достаточно развитом виде – применительно к буржуазному обществу, где в качестве субъектов экономической деятельности выступают отдельные индивиды (или их группы). Однако в принципе такого рода отношения возможны не только между «лицами» (или группами «лиц»), но и между «общинами» (выше мы приводили высказывание Энгельса по этому поводу)21.
Рынок как экономический механизм давно уже стал объектом идеологических и политических спекуляций. Его усиленно отождествляют вообще с капиталистическими производственными отношениями – на том основании, что на определенном этапе их развития (особенно в домонополистический период) рынок действительно был основным механизмом обобществления и развития производства. Но с вхождением капитализма в стадию империализма положение начало качественно меняться. Образование транснациональных корпораций, сращивание монополистического капитала с государственными структурами, разделение капиталистических государств на эксплуатирующие («цивилизованные») и эксплуатируемые (все прочие), истощение природных ресурсов – все эти факторы неизбежно ведут к усилению олигархического управления мировой капиталистической системой (через государственные органы и межгосударственные образования или непосредственно) за счет систематического снижения роли и значения рыночных механизмов, которые в настоящее время в капиталистическом мире стремительно теряют свою ведущую роль как в обобществлении производства, так и в регулировании экономики.
И наоборот, социализм неизбежно войдет в следующий этап своего развития, где жесткое управление со стороны номенклатуры закономерно сменится самоорганизацией экономики, но уже построенной на коллективистских началах. При желании такую экономику также можно назвать «рыночной» – при условии, что учитывается ее специфический характер.
Тем, кто стремится изобрести новую «модель» социализма, обращаясь к рыночным механизмам и заимствуя буржуазный опыт, приходится учитывать существенные трансформации этого механизма в последнее время, возрастание роли внешних по отношению к нему факторов, не только оказывающих все большее влияние на его функционирование, но и все сильнее ограничивающих сферу его действия. Соответственно появляются «гибридные» концепции вроде «регулируемого рынка». Просто поразительно, как при этом не замечают отмечавшейся нами выше внутренней противоречивости самой этой логической конструкции. Коль уж рынок – это регулятор экономики, на который возлагается столько надежд как на механизм ее «естественного» саморегулирования, то о каком же еще его регулировании может идти речь? Ведь в этом случае нарушается сам принцип рыночного саморегулирования экономики. И тем не менее, происходящая сейчас смена экономических механизмов капиталистического общества, замена одного из них (рыночного саморегулирования) другим (управление со стороны постепенно организующейся в мировую систему олигархии) принимается за некий «новый» механизм – «регулируемый рынок». И вот на этого-то мифического кентавра возлагают надежды не только приверженцы капитализма, но и некоторые сторонники социализма. Когда понимание существа происходящих процессов подменяется их простой констатацией, всегда возникает искушение избежать «односторонности», прибегнув к эклектике, обычно имеющей мелкобуржуазный характер (поскольку «мелкий буржуа … состоит из “с одной стороны” и “с другой стороны”»22); то же и с «мелкой номенклатурой».
В результате открывается широчайший простор для манипулирования (вспомним гоголевскую Агафью Тихоновну, желавшую нос одного жениха приставить к губам второго, да еще кое-что взять от третьего…). И создают «экономические программы» с эклектическим сочетанием приглянувшихся элементов, тщась соединить «преимущества» капитализма и социализма, отбросив их «недостатки». А ведь это не кубики детского «конструктора», допускающие любое желаемое сочетание, а органические элементы разнородных общественно-экономических систем, в рамках которых они взаимосвязаны и взаимообусловлены, и существовать друг без друга не могут. Их механическое соединение никогда не образует органической целостности. Это вообще невозможно для любых сколько-нибудь сложных систем. «Суть системного подхода – сосредоточить внимание на всей системе в целом, а не на ее частях, взятых в отдельности… Предположим, например, что нами отобраны по одному автомобилю каждой из имеющихся в продаже марок. Затем обращаемся к группе экспертов с просьбой изучить их и выбрать самый лучший карбюратор, после этого выбрать наилучший двигатель, распределитель, трансмиссию и т.д., пока не соберем все автомобильные части. Навряд ли нам удастся собрать автомобиль из этих частей, а если и удастся, то едва ли он будет хорошо работать»23. Тем более это относится к различным элементам общественно-экономических систем24. Произвольно комбинировать их нельзя. Вот что действительно возможно, так это временное существование их рядом друг с другом – с неизменным стремлением каждого решить в свою пользу вопрос «кто кого» (что, кстати, чаще всего и происходит в переходные периоды).
На предстоящем этапе социализма будет совсем другой «рынок», и сходство его с «рынком» буржуазным будет ограничиваться, главным образом, тем, что в обоих случаях имеет место саморегулирование экономики. Однако уже то, что субъектом экономических отношений при социализме выступает не только индивид, но и производственный коллектив, приведет к существенным отличиям. Первое из них заключается в том, что государство здесь, как мы видели, в отличие от капиталистического «регулируемого рынка», играет роль не внешнего по отношению к данному экономическому механизму фактора, а входит в него органической составляющей, ибо включено в отношения собственности на средства производства. Влияние государства (в лице Советов) как владельца средств производства приводит к тому, что несмотря на наличие товарных отношений, «продукт социалистической фабрики … не есть товар в политико-экономическом смысле, во всяком случае не только товар, уже не товар, перестает быть товаром»25. Другими словами, это хоть и товар, но не в том смысле, который ему придает классическая политэкономия – нецелостный характер социалистической собственности накладывает отпечаток и на эту категорию. Посредством ренты за «арендуемые» средства производства (а не налога!26), госзаказа, инвестиций и других экономических механизмов государство будет в своем качестве владельца средств производства иметь возможность действительно планового согласования интересов отдельных коллективов с общегосударственными интересами, не вмешиваясь при этом непосредственно в распоряжение средствами производства, целиком и полностью осуществляемое производственными коллективами. Последнее не только развязывает инициативу производственных коллективов, но и впервые действительно создает их глубокую заинтересованность в результатах своего хозяйствования.
«Новые» рыночные отношения станут повторением «старых» в новых условиях и, следовательно, никак не будут сводиться к последним, так что и рыночными их можно будет называть только условно. Они будут отличаться прежде всего разделением сфер обращения средств производства и предметов потребления, вообще специфичным для социализма. Как уже отмечалось, экономический субъект, вступающий в отношения обмена продуктами производства, при социализме не всегда совпадает с субъектом потребностей, ради удовлетворения которых вообще ведется производство; соответственно разделяются и сферы обращения. В условиях капиталистической системы рынок всех товаров принципиально един, сколь бы ни были различны его варианты для их различных типов. При социалистическом «рынке», как и на предыдущем этапе социализма, обращение будут осуществляться в виде двухконтурной системы обращения с разделением сфер обращения средств производства и предметов потребления, образуя как бы два круга кровообращения. Производственное предприятие все так же останется узлом пересечения этих контуров, однако контроль над происходящими в нем процессами возьмет сам трудовой коллектив. «Рыночные отношения» будут действовать во внешнем контуре, в отношениях между предприятиями (коллективами), но не внутри коллективов – здесь функции распределения примет на себя сам коллектив, и отношения в этой сфере будут носить отнюдь не «рыночный» характер.
Прежде всего существеннейшее значение имеет то обстоятельство, что экономическим субъектом в первой сфере может являться только производящий коллектив, поскольку им исключается возможность продажи индивидом своей рабочей силы и, следовательно, эксплуатации. Не являясь экономическим субъектом, индивид не может выходить на рынок с этим специфическим товаром. Да и кто будет покупателем? Не может же работник, становясь членом экономически самостоятельного производящего коллектива, сам быть покупателем своей же рабочей силы. Иначе придется прийти к высмеянному еще в свое время Марксом выводу, что «рабочий, ссужающий самого себя не только жизненными средствами, но и средствами труда, является в действительности своим собственным наемным рабочим»27. Не сможет он также совместно с другими членами коллектива покупать рабочую силу другого работника, поскольку не они владеют условиями ее применения (средствами производства), а государство (которое, однако, ими не распоряжается, и следовательно, не нуждается в покупке рабочей силы). В результате труд перестает быть наемным; совершается очередной важный шаг к его освобождению.
Разделение сфер обращения, другие особенности социалистического «рынка», как, впрочем, и сама необходимость в нем на определенном этапе развития – следствие все еще неполного обобществления средств производства, что связано со сложным и длительным переходом от частной собственности к общественной. В это время сохраняется также индивидуальный характер потребления – но только частично. Как мы уже упоминали, удовлетворение индивидуальных потребностей, связанных с существованием индивида в качестве биологического организма, всегда индивидуально; что же касается потребностей общественных, отражающих функцию индивида как элемента общественного организма, то оно разделяется на две части. Одна часть их удовлетворяется адекватно в производящем коллективе (ее адекватность обуславливается общенародным характером пользования), вторая – посредством «социальной компенсации» (т.е. через те или иные «вещные» факторы), все еще необходимой из-за того, что социализм также еще не является (даже на третьем этапе) обществом, адекватным природе человека. Но государственное владение и общенародное пользование собственностью создают условия для доминирования и постепенного вытеснения извращенных форм удовлетворения общественных потребностей людей адекватными, соответствующими их общественной природе. На третьем этапе делается завершающий шаг в уровне обобществления, а следовательно, существенно расширяются также изменения в характере мотивации у индивидов в отношении трудовой деятельности.
У нас много лет ситуация была такой, что при общем скромном уровне жизни обеспечивалась сравнительно высокая социальная защищенность. Да и вообще у наших людей нет веками выработанной привычки полагаться только на себя, рассматривая остальных исключительно как конкурентов в жизненной борьбе. Зато есть привычка удовлетворяться достаточно скромными материальными благами. В результате уже достаточно длительный опыт показал, что для большинства наших трудящихся тот стимул чисто материального успеха, который и у трудящихся развитых капиталистических стран уже не действует в былую силу, эффективно действовать так и не стал. А при переходе к третьему этапу развития социализма все большее значение будут приобретать способы прямого, не опосредованного вещами, удовлетворения общественных потребностей.
Ведь и в капиталистическом обществе стремление к финансовому успеху вовсе не детерминируется исключительно конкуренцией или стремлением к усилению потребления, как это обычно представляется. По мнению Ф.Хайека даже относительно предпринимателей конкуренция не является прежде всего стимулом к интенсификации труда: «Термин “стимулы” нередко употребляется в этой связи со смысловыми оттенками, отчасти вводящими в заблуждение, как будто основная проблема в том, чтобы побуждать людей трудиться с достаточным напряжением сил. Главное, однако, не в этом: цены диктуют не столько, как действовать, сколько что производить»28. А что касается стремления к потреблению, то на этот счет заблуждался даже известный американский экономист В.Леонтьев: в одном из своих интервью он поучал, что если человеку «показать хорошие товары», то он будет «работать как черт», чтобы их приобрести. Наш «постперестроечный» опыт показал, что это далеко не так. Гораздо проницательней много раньше оказался М.Вебер, полагавший, что здесь дело вовсе не в непосредственном потреблении. Прежде всего речь идет о стремлении к деньгам как таковым, как символу успеха, как средству удовлетворения потребностей общественных. Но это – специфическая особенность именно людей капиталистического общества, не имеющая места в других случаях, скажем, уже в том социальном явлении, которое М.Вебер называет «традиционализмом»: «Человек “от природы” не стремится зарабатывать деньги, все больше и больше денег, он хочет просто жить, жить так, как он привык, и зарабатывать столько, сколько необходимо для такой жизни. Всюду, где современный капитализм начинал повышать “производительность” человеческого труда путем усиления его интенсивности, он наталкивался на невероятно стойкое сопротивление со стороны этого лейтмотива докапиталистического отношения к труду, наталкивается он на такое сопротивление и сегодня, и тем чаще, чем более, “отсталыми” (с капиталистической точки зрения) являются работники, с которыми он имеет дело»29. Вот и мы оказались такими же «отсталыми»: советские люди уже не в состоянии ограничиваться опосредованным удовлетворением своих общественных потребностей и действительно оказали попыткам превратить его в основу жизни «невероятно стойкое сопротивление». А потому внедрить у нас капиталистические отношения не удалось и не удастся – все еще весьма сильно стремление к прямому удовлетворению общественных потребностей. На третьем же этапе социализма последнее займет доминирующее положение.
Попытки применять прямое удовлетворение общественных потребностей как систему «моральных стимулов», давали ощутимые результаты и на втором этапе социализма, особенно в его начале, хотя уже и тогда специфические интересы «номенклатурного класса» препятствовали их эффективному использованию. В дальнейшем же, когда социализм перешел в стадию загнивания, эти стимулы стали использоваться представителями соответствующих уровней номенклатуры главным образом для достижения собственных целей (для укрепления своего положения и продвижения в иерархической системе), весьма косвенно связанных с интересами производства. Это, естественно, привело к их вырождению: и сам поощряемый, и окружающие прекрасно знали, как и для чего это делается; понятно, что такие «игры» никем не воспринимались всерьез. Но это, конечно, никак не доказывает порочности самой системы «морального поощрения», которая по своей сути, базируясь на важнейших потребностях человека, способна в условиях социальной защищенности и обеспечения приемлемого уровня удовлетворения потребностей индивидуальных, действовать гораздо лучше, чем любая система экономического принуждения, позволив при этом избежать негативных следствий, обязательно сопутствующих последней в ее классическом виде (прежде всего безработицы и социального неравенства). Однако действенной эта система может быть исключительно в том случае, если средства поощрения всецело окажутся в руках самого производственного коллектива.
Естественно, что данная система стимулирования вовсе не означает какого бы то ни было принижения принципа оплаты по труду. Наоборот, именно в ней этот принцип только и может найти свое наиболее полное воплощение, поскольку уже сам уровень оплаты становится одним из важнейших показателей положения человека в коллективе и, следовательно, реализуется в удовлетворении основных потребностей не только вне, но и в самом коллективе (а чем ближе к человеку объединение, в которое он входит, тем сильнее оно влияет на его поведение), т. е. с одной стороны, окончательно теряет значение цены рабочей силы, а с другой – приобретет качество еще и «морального стимула». Будучи приведенной в действие, такая система способна обеспечить производительность труда и качество продукции, недостижимые никакими другими способами.
Вот что значит «социализм без номенклатуры». А прийти к нему можно только ликвидировав саму номенклатуру как господствующую социальную группу, ибо именно она, а не некая мифическая «буржуазия» теперь, или не менее мифическая «бюрократия» раньше, являлась и все еще является главным препятствием на пути «естественного» развития социализма. Действительно, что же мы имеем, как говорится, на сегодняшний день? Все те же «номенклатурщики», благополучно перекрасившись в либералов (сами они по обыкновению называют себя «демократами» — «нынче всякий перебежчик зовет себя демократом»30) и националистов, опять норовят вести нас к «светлому будущему», теперь уже капиталистическому, в которое они сегодня так же не верят, как вчера не верили в коммунизм. Зато вовсю пользуются случаем, чтобы обеспечить это «светлое будущее» себе лично. А наши противники, как бы забыв о том, кем еще недавно были сами, беззастенчиво врут, что у власти сейчас коммунисты, по шулерски именуя так бывших номенклатурных носителей партбилетов, несмотря на проводимую ими антикоммунистическую программу сепаратизма и капитализации. Но в том, что все та же номенклатура опять у власти, они безусловно правы, да вот только коммунистами эти люди никогда не были — ни бывший секретарь обкома и кандидат в члены Политбюро Ельцин, ни отставной партийный идеолог Кравчук, ни бывшие члены Политбюро, а ныне президенты «независимых государств» Шеварднадзе, Назарбаев или Алиев, ни прочие такие же коммутанты-перевертыши калибром помельче, имя которым – легион. Никогда не смогли бы сановные «профессиональные коммунисты» развалить Союз, разрушить экономику, организовать грабеж народного достояния, если бы не опирались на лежащие ниже слои номенклатуры, на всю ее структуру, на систему связей, весь образ жизни и представлений этой социальной группы. Так что нечего сваливать главную ответственность за произошедшее на всяких там «теневиков» да «западные спецслужбы» (хотя и те, и другие также приложили руку). Конечно, в целом номенклатура уже не та: «ротация», разумеется, идет, однако она шла всегда, новое же пополнение вписывается в ту же основную систему (тоже, разумеется, не остающуюся неизменной, но пока что в главных чертах сохраняющую прежнюю структуру).
Таким образом, главной задачей предстоящей конструктивной фазы революционных преобразований второго этапа социализма в третий является ликвидация «номенклатурного класса» как господствующей социальной группы. Но речь идет именно об определенной социальной группе, представляющей собой господствующий производственный класс, а не о входящих в нее людях. При ликвидации класса люди остаются. И мы не можем забывать, что в большинстве своем это тоже наши советские люди, которые должны найти себе достойное место на новом этапе развития социализма. Более того, они очень будут нужны обществу. Разумеется, речь не идет об антикоммунистической «верхушке» — забыть о ее ответственности за страдания миллионов советских людей было бы просто безнравственно. Да и толку от них никакого — на самый верх, как правило, всплывало то, что обычно и всплывает в таких случаях. Без них обойдемся. Но потеря основной массы этого контингента (представляющего собой не только членов господствующего класса, но в то же время и профессионалов-управленцев высокого уровня) для активного и соответствующего их возможностям участия в общественных процессах означала бы ощутимое снижение общего потенциала. Многие из этих людей, опираясь на прошлый опыт и обогащенные новым, свои знания и энергию смогут применить на всех этажах управленческой лестницы, но уже не в качестве членов господствующего класса-распорядителя, а в качестве менеджеров-управленцев, действительно, а не на словах выполняющих волю народа, выраженную не через декоративные, а через настоящие Советы.
Перейдя к третьему этапу своего развития, социализм не только опять обретет былую силу, но и существенно ее преумножит. И наша великая страна-цивилизация – Союз Советских Социалистических Республик – опять займет подобающее ей место в мировых процессах общественного развития, играя важнейшую роль в уже назревшей сегодня глобализации общественного организма, в консолидации человечества в единое целое – грядущее коммунистическое общество.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Марксизм, являющийся единственной цельной теорией, рассматривающей общество, его сущность, становление и развитие с действительно научных позиций (т.е. с позиций «естественноисторических») как некоторое специфическое явление объективного мира, и соответственно позволяющий благодаря этому делать научно обоснованные прогнозы дальнейшего течения общественных процессов, как и любая другая научная теория безусловно нуждается в постоянном совершенствовании, во внесении в него тех или иных, не только частных, но в ряде случаев и принципиальных коррективов в соответствии с результатами научных исследований и общественной практики. А за время, прошедшее с момента формулирования классиками марксизма основных его принципов, накопилось немало положений, самым настоятельным образом требующих таких коррективов, которые позволили бы трансформировать тот революционный прорыв, который был выполнен классиками марксизма в области обществоведения, в обычную, традиционную (в лучшем смысле этого слова) науку об одной из (пусть и важнейшей для человека) областей действительности, т.е. в еще одну область естествознания, одновременно окончательно избавив ее от рудиментов спекулятивного, философского подхода. Выше мы не раз обращались к тем объективным причинам (в том числе и не научного характера), которые главным образом препятствовали данному процессу. Но их наличие как прежде, так и сейчас не может отменить факта общественной потребности в такой процедуре, неизбежной в становлении любой настоящей науки. А потому попытки такого рода были, есть и будут. Одной из таких попыток как раз и является предложенная работа, цель которой – на базе классической теории марксизма и с возможно более полным учетом достижений науки и общественной практики за последние сто-сто пятьдесят лет обосновать монистический взгляд на общество как целостный организм, что позволило бы оформить этот взгляд в некоторое введение в естествоведческую науку, потребность в которой назрела давным-давно – теоретические основы обществоведения. Удалась ли эта попытка, и насколько – судить читателям.
В основе настоящей работы лежит представление об обществе как о закономерной ступеньке развития жизни на Земле. С этой точки зрения общество представляет собой ступень в эволюции живого, т.е. является биологическим организмом наивысшего типа, обладающим функциональной целостностью, который развился и продолжает развиваться в вероятностно-статистической среде. При таком понимании общества человек представляется его элементом, не являющимся в полной мере некоторой целостностью по отношению к окружающей среде. Однако его своеобразие как раз и состоит в том, что благодаря высокому уровню отражательного аппарата, он, став элементом более высокого целого, в указанном отношении не утратил полностью собственной целостности. Эта «двойная природа» человека и составляет, по нашему мнению, главный ключ к пониманию сущности, становления и развития общества. Соответствующие соображения были представлены и по мере сил обоснованы в различных разделах и главах настоящей работы, а потому не будем повторяться. Здесь мы обратимся только к некоторым выводам, которые, как представляется, вытекают из всей работы как целого и не полностью укладываются в привычные представления. Начнем с периодизации общественного развития.
Безусловной заслугой классиков марксизма является открытие того, что общество в своем развитии закономерно проходит различные стадии, которые они назвали общественно-экономическими формациями. На основе имевшегося уровня науки ими были намечены основные этапы этого развития, включающие первобытнообщинный строй, рабовладельческий строй, феодализм, капитализм и коммунизм. В дальнейшем это членение истории было превращено в незыблемую схему некоей «пятичленки», почитавшейся обязательной для всех марксистов. Однако, с одной стороны, многократно отмечалось, что сами классики марксизма видели ряд моментов, не вписывающихся в указанную схему. С другой стороны, появившийся позже новый общественный строй, названный социализмом, по своим основным общественно-экономическим характеристикам не вписался в отводимое ему ранее место первой стадии коммунизма. Все это, плюс расширившийся объем знаний о прошлом, начиная с первобытных времен и кончая становлением и развитием капитализма, равно как и ряд позднейших исследований, посвященных историческому процессу в целом, настоятельно потребовали уточнения представлений об общественно-экономических формациях, равно как и других социальных образованиях, их характере, смене, взаимодействии и вообще роли в общем развитии человечества. В настоящей работе как раз и была предпринята попытка обобщить существующие представления. В ее результате получилась схема периодизации общественного развития, базирующаяся на предложенной классиками марксизма, однако уточняющая ее в некоторых довольно существенных чертах. Кратко резюмируем полученные результаты следующим образом.
Прежде всего, нужно иметь в виду два важных момента. Во-первых, наука об обществе, как и любая другая наука, призвана не просто добывать истину, но служить непосредственным интересам людей. А это значит, что даже рассматривая общую схему развития общества, мы вынуждены прежде всего привязываться к его сегодняшнему состоянию. Во-вторых, для периодизации исторического развития необходимо опираться на само историческое развитие. Использовать для этой цели предполагаемое будущее состояние человечества допустимо только в той мере, в какой это оправдано сегодняшней возможностью экстраполяции имеющихся тенденций. Было бы крайне нерационально привлекать для такого рода периодизации гипотетические фазы развития в далеком будущем. В связи с изложенным наиболее целесообразно представить уже пройденный и предстоящий в обозримом будущем путь развития человечества как состоящий из трех больших этапов – доклассового (первобытного), классового (цивилизационного) и бесклассового (коммунистического) состояния общества с двумя особыми переходными периодами между ними. Объективная необходимость существования этих этапов (и соответственно типов общества) связана с характером интеграционных процессов, определяющих все общественное развитие. На первом этапе общество представляло собой целостный организм на уровне отдельного локального образования – племени; на третьем этапе общественный организм как целостность охватит все человечество. Переход от одного состояния к другому и составляет внутреннее содержание всего остального общественного развития в рамках данной «триады».
Однако этим наиболее общим делением вовсе не исчерпывается членение генеральной линии развития общества. Как мы видели в первом разделе, средний член классической «триады», представляющий собой этап ее так сказать собственного «внутреннего» развития, сам распадается на три этапа, первый из которых имеет ряд общих черт с предыдущим этапом «большой триады», а последний – с последующим. По отношению к тому главному, что характеризует общество в его взаимоотношении с природой, т.е. к производству, в обоих случаях наиболее существенным является характер его обобществления. В начальный период классового общества, как и в предыдущий период, в производственном процессе объединяются значительные количества людей, однако в классовом обществе это объединение носит как бы «внешний» по отношению к каждому индивиду характер. В дальнейшем, в деструктивной фазе данного этапа развития, происходит индивидуализация производственных отношений и производственных процессов, достигающая минимальных связей при «среднем» члене «малой триады». А дальше опять производственные связи расширяются, но уже как связи между все более «атомизирующимися» индивидами, движимыми «внутренними» стимулами. С достижением всесторонней личностной «атомизации» одновременно с глобализацией производственных связей и широким обобществлением производства (конструктивная фаза развития) подготавливается переход к высшему этапу данной «триады» общественного развития – к коммунизму как обществу-человечеству.
Таким образом, здесь также остаются все те же пять общественно-экономических формаций, за которыми вполне можно сохранить установившиеся наименования. Однако при таком подходе необходимо отметить два существенных момента. Во-первых, указанные формации оказываются отнюдь не однопорядковыми в рамках данной «триады» развития. Конечно, все развитие общества – непрерывная череда его изменений. Но эти изменения имеют разный «темп». Если в определенном смысле общества доклассовое и бесклассовое можно считать относительно стационарными состояниями, то общество классовое носит принципиально переходный характер. А уж моменты перехода между доклассовым обществом и классовым, также как и классовым и бесклассовым, вообще получают статус перехода, на порядок более высокий, чем переходы между формациями внутри классового общества. Как следствие этого, во-вторых, более фундаментальные качественные скачки между типами обществ сами оказываются переходными периодами в еще большей степени, чем «средний» член «большой триады» – как по существенности изменений, так и по временным параметрам.
Все это вызывает необходимость выделения данных периодов в виде особых состояний общества. Можно, конечно, спорить, допустимо ли эти «переходные периоды к переходному периоду» считать особыми общественно-экономическими формациями. С одной стороны, имея собственные, отличные от всех остальных формаций, производственные отношения, свои собственные особенности связи производства и распределения, да еще при длительности существования эти периоды таковыми несомненно являются. Однако с другой стороны, ввиду их «особо переходного» характера они лишены даже той степени относительной стабильности, которая характеризует другие формации. Соответственно их собственные этапы различаются достаточно существенно. Первый переходный период (между первобытным и классовым обществом – период общины) был весьма длительным и состояние общества в его начале и конце отличалось чрезвычайно существенно. Второй переходный период (между обществом классовым и коммунизмом) также имеет и дальше будет иметь своим результатом весьма существенные общественные изменения. Но в связи с все ускоряющимся темпом общественного развития процессы здесь протекают гораздо быстрее, вследствие чего некоторые этапы общественных изменений соизмеримы по времени с длительностью жизни индивида, что придает переходным процессам весьма специфический характер.
Однако, как мы видели выше, тот переходный процесс, который отражает изменения в «метаболизме» общества в его связи с природой и имеет своими «узловыми» моментами различные общественно-экономические формации, представляет собой только одну сторону медали. Вторую составляет процесс изменений общества как некоторого структурного образования с особыми культурологическими характеристиками. И если в доклассовом и бесклассовом обществах как целостных общественных организмах эти моменты образуют органическое единство, то в обществе классовом, такой целостности лишенном, взаимоотношения между ними имеют достаточно существенные отличия. Здесь общество, постепенно приобретая глобальность связей, в структурном отношении представляет ряд отдельных образований («цивилизаций»), взаимодействующих между собой, но представляющих, тем не менее, относительно самостоятельные социальные организмы. Если провести аналогию с этапом многоклеточного организма в биологической эволюции, то здесь уже можно говорить как бы об отдельных «организмах», составляющих «вид». Соответственно можно говорить и об «органах» этих «организмов» – в отличие от обществ доклассового и бесклассового. Таким образом, на данном этапе, применительно к данным социальным организмам, образно говоря «формационный» подход касается «физиологической», а «цивилизационный» – «морфологической» стороны данного явления.
С учетом изложенного процесс общественного развития в рамках данной его «триады» представляется следующим образом (см. рис.). На первом этапе человечество состоит из отдельных первобытных племен, содержащих каждое два рода и представляющих целостные общественные организмы, одновременно являющиеся и социокультурными, и производственными целостными единицами. Дальше внутреннее развитие (базирующееся на развитии производительных сил) и взаимодействие между указанными отдельными образованиями привели к их постепенному разложению с образованием новых такого рода единиц – общин с постепенным расщеплением указанных двух функций. Стратификация внутри общин и их взаимодействие ведут к тому, что община, еще длительное время сохраняя значение основной производственной единицы, в социально-структурном отношении теряет самостоятельность, становясь частью более крупного целого – этноса. На этом пути общество проходит этапы родовой общины, соседской общины и «варварского государства» («вождество», «раннеклассовое общество» и т.п.). Такого рода «внутренней» и «внешней» структуризацией заканчивается первый переходный этап в развитии общества, в результате которого были подготовлены условия для становления общества классового.
Само образование классового общества и «настоящего» государства (т.е. явления политического, а не потестарного) является результатом всего предшествующего развития, но непосредственно представляет собой продукт взаимодействия отдельных социальных образований, следствием которого явилось порабощение одних из них другими с превращением первых в господствующий, а вторых – в угнетенный классы нового общественного образования, играющие существенно различные роли в производственных отношениях. Такое социальное образование представляет собой не только государство, но и зародыш более крупного социального организма – «цивилизации». Именно «цивилизации» как отдельные социальные организмы и становятся структурными элементами человечества на весь период классового общества, а в известном смысле – и на «переходные» периоды. Дальнейшее общественное развитие представляет собой смену (в результате все того же развития производительных сил) общественно-экономических формаций, одновременно означающую также распад одних и формирование других «цивилизаций» – с неуклонным расширением их взаимодействия вплоть до полной глобализации связей при одновременной «атомизации» составляющих их индивидов при капитализме. Этот процесс интеграции-дезинтеграции и составляет содержание всего классового периода общественного развития. И только «цивилизация» последнего типа – социалистическая – в этом отношении существенно изменяется, ибо, представляя собой второй переходный этап, при дальнейшем сохранении и расширении интеграционных процессов применительно к общественным образованиям, в отношениях индивидов она кладет начало процессу прямо противоположному предшествующей «атомизации» – процессу новой агрегации индивидов, а именно образованию социальных «молекул» – коллективов (своеобразных аналогов таких же социальных ячеек частичной интеграции, как общины в первом переходном периоде). Результатом развития в этом направлении неизбежно станет всечеловеческая интеграция с образованием единого общественного организма – коммунистического общества. Все эти этапы более или менее подробно рассмотрены в настоящей работе. Исключение составляет коммунистическое общество, чему имеются серьезные причины.
Коммунизм – светлое будущее всего человечества. И его свет, как свет далекого маяка, помогает нам определять верное направление. Во все времена для тех, чье сердце было сладко и мучительно одержимо любовью к людям, он, пробуждая надежды на всеобщие братство и гармонию, мерцает в неясной дали уже тысячи лет, и только классики марксизма сумели на место фантастических мечтаний о совершенном обществе поставить его научное предвидение. Они показали, что коммунизм есть закономерный результат длительного общественного развития. Однако классики марксизма предполагали, что главная часть пути уже пройдена, что становление коммунистического общества уже подготовлено предыдущим общественным развитием, что коммунистическая революция – дело обозримого будущего, и вскоре после нее и после, говоря словами Энгельса, «короткого переходного периода» наступит «царство свободы» – коммунизм. Но как в горах до кажущегося таким близким огонька еще идти и идти через ущелья и завалы каменистыми тропами, преодолевая многочисленные подъемы и спуски, так и к коммунистическому будущему уже пришлось и еще придется преодолеть долгий и трудный путь.
Но в отличие от дальнего огонька в горах, о природе которого путник может только гадать, но который все же в данный момент существует реально, этот свет – не нечто внешнее по отношению к нынешнему обществу; как отдельная объективная реальность он не существовал и пока не существует, он рождается в нашем сознании в результате интуитивного или научного обобщения и экстраполяции всего опыта, накопленного человечеством, в виде идеала, и не есть неким внешним аттрактором, «из будущего» организующим сегодняшние процессы. «Идеал – это далекий прогноз, воспринимаемый интуитивно»1. Накопленные знания дают основания только для определенных предположений относительно ожидающего человечество «царства свободы». Как идеал образ коммунизма в мышлении «рождается раньше, чем противоречия будут разрешены реально, т.е. раньше своего предметного осуществления. Этот образ – коммунизм … ни в коем случае не нравственный или интеллектуальный образ желаемого, но не реального состояния, не императив, который противостоит эмпирической действительности и условиям места и времени, как что-то вне их и против них стоящее. Это – сама действительность в полном теоретическом синтезе ее имманентных противоречий, т.е. с точки зрения тех перспектив, которые ей же самой имманентны»2. Однако, учитывая невероятную сложность общества как объекта изучения, столь далекая научная экстраполяция вряд ли может носить сколько-нибудь конкретный характер. Только не стесненная жесткими рамками научной процедуры художественная фантазия, раскрывая и развивая лучшие черты человека, может предложить нам зримый образ будущего.
Недаром этот образ формировался прежде всего в произведениях писателей-фантастов. Вспомним хотя бы великолепные, исполненные простора, света и тепла картины коммунистического будущего в работах братьев Стругацких (и просто несказанно жаль, что они, как и многие наши корифеи, впоследствии променяли свое – наше! – социалистическое первородство на «демократическую» чечевичную похлебку: даже развитое художественное чутье не подсказало им, кем, для чего и из чего она состряпана). А рисовавший коммунистическое общество сдержаннее в эмоциональном плане и более крупными мазками в чуть холодноватых тонах, ученый и писатель И.Ефремов представлял себе его так: «Ни малейшей тревоги о будущем, кроме естественной заботы о порученном деле, кроме желания стать лучше, смелее, сильнее, успеть сделать как можно больше на общею пользу. Гордая радость помогать, помогать без конца всем и каждому… Привычка опираться на такую же всеобщую поддержку и внимание. Возможность обратиться к любому человеку мира, которую сдерживала только сильно развитая деликатность, говорить с кем угодно, просить любой помощи. Чувствовать вокруг себя добрую направленность мыслей и чувств, знать об изощренной проницательности и насквозь видящем взаимопонимании людей. Мирные скитания в периоды отдыха по бесконечно разнообразной Земле, и всюду желание поделиться всем с тобой: радостью, знанием, искусством, силой…».
Как образ – прекрасно. Но для сколько-нибудь обоснованных предположений о деталях будущего коммунистического общества в работе научного плана сегодня наши возможности совершенно недостаточны. Поэтому, исходя из признания коммунизма «конечной целью» развития общества, мы тем не менее само это явление не делали в данной работе предметом рассмотрения. Чтобы определить основные законы общественного развития, мы старались анализировать тот его опыт, который уже имеется налицо. Экстраполяция действия этих законов в их самом общем виде дает дополнительные основания для определения коммунизма в качестве «конечной цели». Но экстраполяция более подробная, охватывающая непосредственно конкретные социальные процессы, возможна только применительно к продолжению тех из них, которые в том или ином виде имеют место уже сегодня. Именно такую экстраполяцию мы и пытались осуществить, рассматривая будущие судьбы социализма. Но даже здесь следует иметь в виду, что при любых условиях реальная жизнь неизбежно будет вносить более или менее существенные коррективы в выводы, теоретически полученные для будущих судеб социализма.
Социализм решает проблему объединения человечества в единое целое лишь в конечном счете, т.е. он пока только подготавливает ту окончательную интеграцию, которая произойдет на подходе к коммунизму. Но его собственная функция как особого социального явления заключается в другом и сводится она к коренному изменению характера предварительной агрегации человечества. Само объединение человечества в определенном смысле завершает капитализм на своей последней (империалистической) стадии, однако, представляя собой классовую общественно-экономическую формацию (предполагающую, следовательно, внутреннюю социальную дифференциацию), он осуществляет это на субординационной основе. Такая организация принципиально предполагает наличие «ядра» и «периферии», находящихся в различном положении. Социализм же предполагает другой (координационный) характер структурирования человечества, первоначально сохраняющий все ту же «цивилизационную» основу такого структурирования. Более того, он даже в известном смысле восстанавливает эту основу, во многом деформированную нивелирующим влиянием капиталистической мировой системы субординации, сохраняя таким образом запас разнообразия, необходимый человечеству для дальнейшего развития. Интернационализм принципиально предполагает единство в многообразии – в отличие от космополитизма, базирующегося на стандартизации всего мира под упрощенную модель культуры наиболее сильной экономически империалистической страны.
Тот характер развития, который имеет место в мире сегодня, определен важными объективными условиями. Разумеется, конкретный характер становящейся все более явной нынешней империалистической реорганизации мира вызывается конкретными же интересами конкретных социальных групп. Однако эти интересы в конечном счете отражают объективные требования нынешнего этапа общественного развития в нынешних же земных условиях. Ситуация в настоящее время такова, что объективно в целях выживания человечества она настоятельно требует всепланетной консолидации, а последняя в принципе может быть осуществлена только двумя путями – достижением высшей степени субординационной (при «ультраимпериализме») или координационной (при коммунизме) организации. Нынешнее господство на планете капитализма с углубляющейся всепланетной дифференциацией одновременно и столь же настоятельно толкает ее по первому пути, и в то же время создает условия для второго. Сейчас пока побеждают процессы, связанные с первым путем. В этом случае понятно, что и политическая демократия, и «рынок» как форма демократии экономической, себя полностью изжили – их просто уже не в состоянии выдержать оскудевшая и перенапряженная «внешняя среда». Так что при сохранении в качестве основного именно капиталистического пути развития олигархическое управление, в том числе со все большим установлением космополитического единообразия в культурной сфере (субординационные отношения), является единственной возможностью выжить, единственным спасением для человечества как целого.
Однако только на ближайшее время, ибо путь этот – тупиковый. При охвате всего человечества он сам по себе уже не предполагает возможности следующего шага – организации координационной. Из тупика ведет только другой путь – путь интернационального единства, единства в многообразии, который первоначально предполагает становление находящихся в отношениях координации, взаимодействующих «на равных» социалистических «цивилизаций». И только непонимание неизбежности чередований координационной и субординационной организации больших систем в процессе их развития заставляет приходить к пессимистическим выводам, якобы продиктованным объективными законами: «Единое человечество возможно, но не как мирное сосуществование равноправных стран и народов, а как структурированное социальное целое с иерархией стран и народов. В этой иерархии неизбежны отношения господства и подчинения, лидерства, руководства, т.е. отношения социального, экономического и культурного неравенства. Дело тут не в каких-то биологических причинах и не в плохих расистских идеях, а в объективных социальных законах организации больших масс людей»3. Исторически неизбежный коммунизм будет основываться на других – не менее объективных – принципах организации «больших масс людей». Но предварительно человечеству предстоит пройти через эпоху социализма.
Становление социализма в различных регионах мира происходит и будет происходить на различной «цивилизационной» основе, что при наличии общих структурных элементов и закономерностей развития предполагает достаточно существенные различия в его конкретном бытии. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить два очага социализма, возникших на основе «цивилизаций», прошедших весьма существенно различный исторический путь – на основе «стран-цивилизаций» России и Китая. Какова бы ни была ближайшая судьба этих очагов социализма, процесс общественного развития остановить нельзя, и его результатом неизбежно явятся другие социалистические революции, приводящие к возникновению новых социалистических «цивилизаций». И не нивелирование различий между ними, а только координация их функционирования и развития приведет к объединению всего человечества в единое целое, обогащенное всем тем, что составляет сейчас достояние каждой отдельной «цивилизации».
В настоящий момент в мире существуют «цивилизации», в значительной мере готовые к переходу на социалистические рельсы развития. Например, в качестве таковых можно назвать исламский мир, Латинскую Америку, Индийский субконтинент. Но кроме внутренних условий здесь исключительно важны внешние. Среди них главным отрицательным моментом является влияние глобальной капиталистической системы, в которую они также входят в качестве «периферии», влияние в самых различных аспектах, прежде всего экономическом, идеологическом и военном. Поэтому, чтобы данная возможность имела реальные шансы перейти в действительность, эти влияния должны быть перевешены положительным влиянием «реального социализма», прежде всего в Советском Союзе (или, что то же самое, в нашей «евразийской социалистической цивилизации»), первым ставшем на путь социалистического развития. При его сегодняшнем состоянии распада и деградации это, естественно, невозможно. Только возврат СССР на путь социализма решит эту важную задачу, а именно: обязательно последующее за ним бурное экономическое развитие будет служить наглядным примером, неизбежное при этом развитие марксизма, его переход на новую качественную ступень – идеологической базой, а военная мощь оградит от возможного силового вмешательства империализма. Так что и здесь на «первую страну социализма» возлагается особая ответственность за дальнейшее развитие данного строя. И это будет для СССР не просто дополнительное бремя, но и необходимое условие дальнейшего прогресса социалистического общества в нем самом. В дальнейшем хотелось бы рассчитывать на аналогичную роль Китая, но этого в полной мере можно ожидать только тогда, когда он избавится от своего собственного господствующего класса – номенклатуры, на данном этапе играющей в его развитии чрезвычайно важную роль. Однако и сегодня значение социалистического Китая в мировом общественном развитии огромно.
В указанных случаях речь может идти только о трансформации в пределах этих «цивилизаций» как целостных образований, а не в «отдельных странах». Индия уже сейчас представляет собой единое государственное образование, что в известном смысле облегчает решение предстоящих задач, но, с другой стороны, наличие там и сегодня сепаратистских, центробежных тенденций неизбежно сыграет деструктивную роль. Что же касается политически раздробленной Латинской Америки, то и там существуют вполне реальные интеграционные тенденции. Не даром наиболее теоретически подготовленный из ее революционеров Эрнесто «Че» Гевара считал себя представителем не Аргентины, где родился, не Кубы, где достиг значительных успехов в своей деятельности, и уж не Боливии, где предполагал активно ее продолжить, но встретил смерть, а именно Латинской Америки как целого. Судьба отдельных стран в Европе, Азии и Латинской Америке показала, что, став социалистическими вне органического целого – той цивилизации, к которой они принадлежали, они могли развиваться в этом качестве только опираясь на поддержку Советского Союза. Но это не относится к Китаю как самостоятельной целостной цивилизационной системе, развитие которой не прекратилось и с кризисом социализма в СССР.
Одним из наиболее серьезных препятствий для социалистических преобразований в мире является отсутствие современной идеологической базы, на которой бы эти преобразования основывались. Ощущение гнета и безнадежности во всем «третьем мире» ищет выхода в различных идеологических течениях, но пока его не находит. В частности, эти поиски ведут к оживлению националистических тенденций, но последние, будучи сепаратистскими по своей природе, не имеют никаких перспектив при общей интеграционной тенденции мирового развития. «Марксизм в советской интерпретации» потерпел сокрушительное поражение и потерял авторитет. Не вдохновляет другие народы и его «китайский вариант» – уж больно он специфичен. Следствием являются попытки найти идеологическую базу в религии. Отсюда «теология освобождения» в Латинской Америке, отсюда «возрождение» исламизма на Востоке. Но, разумеется, использованием этого, пережившего свое время, идеологического инструмента нельзя получить положительных результатов. Адекватную основу может и должен дать марксизм, но в том виде, в котором был сто, и даже пятьдесят лет назад, он в изменившемся мире сделать этого не в состоянии. Только развитие марксизма с учетом реальностей двадцатого века, может дать ту основу, которая, преломившись соответствующим образом в конкретных цивилизационных условиях, обеспечит необходимую идеологию для социалистических преобразований в различных районах «третьего мира» в веке двадцать первом – как в свое время классический марксизм обеспечил ее как для Великой Октябрьской социалистической революции, так и для социалистической революции в Китае.
В настоящей работе мы значительное внимание уделили попыткам показать научную несостоятельность «официального марксизма». Но это ни в коем случае не значит, что он являлся просто злокозненной и вредоносной выдумкой. Он играл так сказать «техническую» роль, выражая и отражая – если не в науке, то в идеологии – реальные процессы социалистических преобразований, имевших место в Советском Союзе, и в этом качестве был явлением закономерным и необходимым. Да, сейчас его время прошло. Но он выполнял – и выполнил – важнейшие задачи консолидации и ориентирования общества, те задачи, с которыми научный марксизм, именно как научный, справиться не мог. Дело в том, что никакая научная теория, будучи именно научной, т.е. принципиально включающей как истину, так и заблуждения, в своем каноническом виде просто не может быть реально использована в качестве идеологической основы общественных преобразований. Вместо ориентации общества на возникающие новые и новые практически задачи, которые в полном объеме не может предусмотреть никакая теория, последняя неизменно оказывается для него прокрустовым ложем с соответствующими попытками «вытянуть» или «укоротить» реальную действительность согласно теории – со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями (как это, кстати, и имело место на первых порах после социалистических революций и в России, и в Китае). Только преломившись в соответствии с реальными условиями в определенную идеологию, действительно отражающую интересы ведущих в данный момент социальных групп (а потому обладающую значительной гибкостью), научная теория может выполнять конструктивную роль4.
Поэтому классический марксизм как научная теория просто не мог в своем непосредственном виде стать идеологической основой конкретных социальных преобразований. Вообще идеология новой цивилизации никогда первоначально не формировалась именно в данном качестве. Она всегда возникала как одно из постоянно появляющихся различных идеологических течений и только затем приспосабливалась как наиболее подходящая для данной цели, иногда через много лет после появления. На примере используемых в этом качестве религий это особенно хорошо видно. Так, например, буддизм в своем классическом виде (хинаяна) не подходил для использования в качестве идеологического обеспечения феодального общества; соответственно возникла махаяна. Основные положения будущего христианства существовали в одной из иудаистских сект – общине есеев – порядка двухсот лет, прежде чем процессы в эллинистическом обществе востребовали соответствующую идеологию, и соответственно были приспособлены к новым условиям. При этом ранее христианство, уже само по себе будучи явлением идеологическим, не могло непосредственно стать идеологической основой феодальной «западной христианской цивилизации», оно должно было весьма существенно измениться соответственно интересам новой господствующей социальной группы, хотя и сохранило неприкосновенной свою догматическую основу. Равно и классический марксизм был разработан для западного общества, но оказался востребованным в качестве идеологии на его периферии – с соответствующими модификациями5.
Однако марксизм в своей основе – настоящая наука, а следовательно, адекватно отражает важнейшие моменты общественного развития, и в этом его непреходящая ценность, позволяющая ему развиваться далее, в будущем порождая идеологические течения уже в других модификациях, соответствующих новым общественным условиям, без которых о возникновении новых социалистических цивилизаций не может быть и речи. Но вот сама эта научная основа может быть создана только у нас, ибо только мы прошли тот путь, который должен найти в ней теоретическое воплощение – как в свое время классический марксизм как наука мог возникнуть только в «промышленно развитых странах» капиталистического Запада, хотя реальные плоды он дал лишь преломившись в идеологических конструкциях «официального марксизма» (сталинского «марксизма-ленинизма») в СССР и теории «социализма с китайской спецификой» («идей Мао Цзедуна» и «идей Ден Сяопина») в КНР.
Независимо от конкретных судеб социалистических «цивилизаций» в нынешнем мире, общественное развитие несомненно будет идти своим путем – к всемирной победе этого общественного строя. Результатом ее станет окончание «предыстории» человечества и начало его истории как единого целого. Поэтому коммунизм как вырастающее из всей «предыстории» человечества бесклассовое эгалитарное общество явится «конечной целью» развития человечества только в той части этого процесса, который сегодня доступен нашему анализу. С его становлением заканчивается именно «предыстория», собственно история объединенного человечества как ее субъекта с него только и начнется. Но вот здесь-то уж точно у нас совершенно нет оснований для сколько-нибудь определенной ее характеристики, ибо это развитие будет носить качественно отличный характер. Мы сегодня просто не в состоянии даже приблизительно представить себе те проблемы, которые встанут перед объединенным человечеством, не говоря уж о способах их разрешения. Но коль скоро мы считаем, что определили хотя бы в первом приближении некоторые законы развития общества как системы вообще, то можно и для данного случая попытаться (опять таки в самом общем виде) представить себе основное направление развития в дальнейшем, в том числе то, которое вытекает из характера взаимодействия системы и среды.
Биологические организмы, развившиеся на Земле, жестко вписаны в земной биоценоз как среду существования. Но для общественного организма земная природа играет роль среды только на определенных этапах его развития. Общественный организм-племя на стадии первобытного общества полностью погружен в окружающую природную среду, и даже не Земли вообще, а конкретного вмещающего ландшафта. Однако уже здесь часть этой среды, преображенная трудом человека, перестает быть таковой и включается составной частью в общественный организм, в том числе в качестве продолжения его «органов» во взаимодействии с природой – орудий производства. В дальнейшем такое включение расширяется и углубляется – как в производственном, так и в рекреационном отношении (в обеспечении производства как средств к жизни, так и самой жизни). И, наконец, на стадии общественного организма-человечества (т.е. на стадии коммунизма) будет иметь место положение, прямо противоположное изначальному, – вся земная природа войдет составной частью в общественный организм. По мере становления такого состояния выход в космос обеспечит человечеству контакт с космическими объектами, которые будут играть все более важную роль в его функционировании, и раньше или позже полностью примут на себя роль окружающей среды для данной системы. Только взаимодействие с такой «окружающей средой» обеспечит возможность выноса вовне энтропии, а значит, возможность не только развития, но и вообще существования для человечества.
Таким образом, учитывая необходимость выноса энтропии в окружающую среду и для глобального сверхорганизма, включившего в свой состав всю экосферу Земли, выход в космос будет важнейшим шагом объединенного человечества. Без этого шага человечество задохнется в результатах собственной деятельности. Но суть не только в этом. Вряд ли дело здесь ограничится исключительно внутренними задачами человечества. Мы привыкли рассматривать живую («биологическую») и неживую («физическую») природу как сферы хотя и связанные, но принципиально различные, и пока не имеем ни малейшего представления, «отведена» ли (и какая) роль Природой такому явлению как жизнь в физических космогонических процессах. Скорее всего, эта роль имеет фундаментальный физический же характер. А проводником жизни в космос может являться только жизнь разумная, известная нам пока что лишь в единственном варианте земного человечества6. «В биосфере существует великая геологическая, может быть, космическая сила… Эта сила, повидимому, не есть проявление энергии или новая ее форма… Эта сила есть разум человека, устремленная и организованная воля его как существа общественного. Появление этой силы в окружающей среде явилось после мириада веков выражением единства совокупности организмов – монолита жизни – “живого вещества”, – одной лишь частью которого является человечество»7.
Выполнить такую «внешнюю» задачу человечество сможет только действуя в виде единого целого, т.е. только в виде коммунистического общества. Однако и при этом оно будет всего лишь пылинкой в необъятных просторах даже ближней Вселенной. Но выход в космос откроет перед человечеством реальную перспективу широкой космической экспансии. Здесь мы уже действительно вступаем в область чистой фантастики, ибо не в состоянии высказать даже предположений, скажем, о тех средствах коммуникации, без которых такая экспансия не сможет стать реальным процессом. Но если они в принципе окажутся возможными, космическое расселение человечества вызовет формирование новой общественной системы. Сначала это будет система, основанная на принципах субординации – с Землей в качестве управляющего центра, затем по общему правилу для всех сложных систем возрастание сложности отдельных элементов приведет к образованию системы, состоящей из взаимосвязанных подсистем на множестве планет на основе координации их действий, затем… Дальше уже и фантазии не хватает. Так что оставим это занятие фантастам. Да и вообще люди будущего сами управятся с возникающими перед ними проблемами. Мы обязаны решать сегодняшние задачи.
Гриффен Леонид Александрович родился на Украине 23 сентября 1935 года в селе Червоное Гайворонского района Кировоградской области в семье сельских учителей.
С 1958 года после окончания электротехнического факультета Киевского политехнического института работал инженером на Краматорской ТЭЦ Донбассэнерго. С 1961 г. в аспирантуре КПИ, с 1964 г. − преподаватель этого же института. С 1967 г. − заведующий сектором Научно-ис-следовательского института по переработке искусственных и синтетических волокон. С 1980 по 1999 г. заведующий лабораторией Института проблем материаловедения НАНУ. В настоящее время − директор Государственного политехнического музея при Национальном техническом университете Украины „Киевский политехнический институт”.
Доктор технических наук, профессор, академик Академии инженерных наук Украины и Академии инженерных наук Российской Федерации, автор свыше двухсот научных трудов и изобретений.
Некоторые работы по обществоведению: Судьба великой идеи // Политика и время. К, 1991. №№ 14, 15, 16; Диалектика общественного развития (опыт современного марксизма). Изд. 2-е. К., «Наукова думка», 1994; Имеет ли марксизм «теорию социализма»? // Марксизм и современность. 1997. № 1-2; Социализм (некоторые вопросы теории). К., «Випол», 1998; Общественный организм (введение в теоретическое обществоведение). К., «Задруга», 2000; О «внутренних» и «внешних» факторах развития // Коммунист, М., 2001, май-июнь, № 3; Классический марксизм и проблемы общественного развития. Марксизм: прошлое, настоящее, будущее. М., «МАКС Пресс», 2003; «Капитал» и капитализм. К., «ЭКМО», 2003; За единство „формационного” и „цивилизационного” подходов в исследовании исторических процессов. − Сторінки історії. Зб. наук. праць. Вип.17. К., НТУУ „КПІ”, 2003; Марксистская теория и современность. − Научное наследие К.Маркса и современные социальные процессы. Материалы международной научной конференции (Киев, 5-6 мая 2004 г.). Под. ред. Л.А. Гриффена и др. − К., ЭКМО, 2004.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




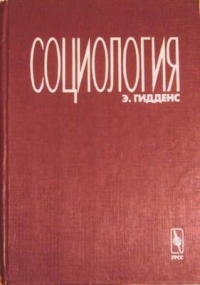

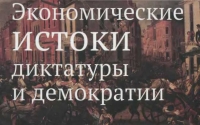
Комментарии к книге «Общественный организм (введение в теоретическое обществоведение)», Леонид Александрович Гриффен
Всего 0 комментариев