Глобальные трансформации современности
ПРЕДИСЛОВИЕ
Сегодня мир человечества представляет собою единую, динамически и противоречиво развивающуюся, сложную, иерархически организованную систему, в пределах которой место, роль и перспективы отдельных государств и народов все в большей мере определяются их положением в ней. Поэтому актуальность осмысления планетарной цивилизационной макроструктуры сомнений не вызывает. Для решения данной задачи под эгидой Президиума НАН Украины и Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины объединили свои усилия исследователи различных научных центров Украины и России (Киева, Москвы, Харькова, Днепропетровска, Симферополя и др.).
Предлагаемая книга является итогом такого совместного осмысления цивилизационной структуры современного мира в ее становлении и глобальных трансформационных преобразованиях.
Первый том «Цивилизационной структуры современного мира» посвящен теоретическим проблемам композиции, взаимодействия и трансформаций цивилизационных систем. В нем находят логическое продолжение и развитие основные подходы и идеи, предложенные сотрудниками отдела глобальных трансформаций современной цивилизации Института мировой экономики НАН Украины в последние годы1, а также специально рассматриваются и иные, ранее почти не затрагивавшиеся проблемы, такие как стадиальные флуктуации в цивилизационной истории человечества и значение рациональности в социально–экономическом развитии Запада, мир–системный анализ и ход планетарной модернизации в течение последних десятилетий, особенности развития современных международных систем в аспектах глобальной и региональной интеграции и становление глобально–информационной экономики, проблемы ноосферного развития и формирования планетарного сознания.
Второй том посвящен региональному анализу цивилизационной структуры современного мира. В нем рассматриваются становление, современные, в контексте глобализации и информационализации, трансформации и перспективы развития отдельных цивилизационных миров, цивилизаций и субцивилизаций, а также вопрос о соотношении традиционных цивилизационных общностей и образующихся на наших глазах региональных экономических и политических сообществ.
В третьем томе освещаются вопросы, касающиеся особенностей развития традиционных цивилизаций Востока.
Авторы надеются, что данное издание поможет читателям глубже понять происходящие в современном мире, в частности в Украине, России и других постсоветских государствах, трансформационные процессы.
ВВЕДЕНИЕ (Ю. Н. Пахомов, Ю. В. Павленко)
Основные подходы к трактовке понятий «цивилизация» и «цивилизационная структура современного мира» (Ю. В. Павленко)
Понимание цивилизационного движения и современного состояния человечества предполагает его одновременное видение в аспектах стадиальности, полилинейности и социокультурной дискретности. Каждый из этих методологических принципов имеет самостоятельное значение и может разрабатываться автономно. Однако целостная картина исторического процесса раскрывается лишь при условии их сочетания в соответствии с принципом дополнительности. Важно, с одной стороны, не терять из виду общей панорамы исторического движения человечества, а с другой — не забывать об уникальном характере отдельных цивилизационных систем.
Обобщенное представление о всемирной истории предполагает решение обширного круга вопросов, связанных с проблемами как внутреннего единства социокультурных проявлений отдельных цивилизаций (что, используя другую терминологию, наиболее глубоко показал О. Шпенглер), так и взаимодействия конкретных цивилизаций в синхронном и диахронном планах. При этом далеко не решенными остаются вопросы о природе социокультурной целостности цивилизаций и цивилизационных миров, об их структуре, неизменно связанной с этническим и конфессиональным делением человечества, наличием устойчивых систем экономических связей («миров–экономик», по Ф. Броделю) и пр. Однако рассмотрение данного блока проблем предполагает предварительное определение смыслов используемых понятий, прежде всего таких, как «цивилизация» и «цивилизационный процесс».
Понятие «цивилизация», как известно, далеко не однозначно. Принято считать, что впервые оно было употреблено во французской литературе в 1757 г., а в английской в 1772 г. Этот термин, в соответствии с этимологией (от латинского civilis — воспитанный, гражданский, государственный, а также нечто достойное гражданина, подобающее гражданину), означал общий высокий уровень общественного и культурного развития. В этом смысле данное понятие начинает широко использоваться во Франции и в Англии со второй четверти, а в России — с третьей четверти XIX века. В современной научной и философской литературе понятие «цивилизация» используется в трех основных значениях.
Под цивилизацией, во–первых, понимается стадия (ступень, эпоха) социокультурного развития человечества, следующая за первобытностью. Во–вторых, цивилизацией часто называют некое преимущественно полиэтническое внутренне целостное и наделенное социокультурным своеобразием образование на этапе общественного развития, следующем за первобытностью. И наконец, в-третьих, цивилизацией иногда называют ту стадию развития такой социокультурной системы, когда творческие силы социума иссякают и вместо живого и непосредственного их проявления мы видим механические, отчужденные от внутреннего смысла бытия формы жизни и поведения людей. В последнем случае понятие цивилизации приобретает оценочный оттенок, а следовательно, его использование заведомо субъективно.
Понятие цивилизации как стадии социокультурного развития человечества восходит к третьей четверти XVIII века и связано с именем британского (точнее — шотландского) мыслителя, друга Д. Юма, А. Фергюссона. Именно у него выделявшиеся и прежде (Ш. Монтескье, А.-Р. Тюрго, а еще ранее — многими античными писателями) стадии охотников и собирателей, догосударственных земледельцев и пастухов и обладающих государством, письменностью, знакомых с институтом частной собственности земледельцев и ремесленников получают соответственно определения дикости, варварства и цивилизации.
В этом смысле понятие цивилизации из социальной философии эпохи Просвещения переходит в XIX век и получает дальнейшую разработку в известной работе американского историка–эволюциониста Л. Г. Моргана «Древнее общество». На ее основании К. Маркс в последние годы своей жизни и в особенности (используя и посвященные этой теме рукописи своего друга) Ф. Энгельс в «Происхождении семьи, частной собственности и государства» формулируют то понимание цивилизации, которое затем становится базовым в соответствующих работах представителей марксистского направления. При этом, если эволюционисты сосредоточивались преимущественно на культурных, хозяйственных и политических характеристиках обществ соответствующей стадии развития, то марксисты акцентировали внимание на их социально–экономических характеристиках, таких как классовое неравенство, эксплуатация и пр., признавая, тем не менее, и те признаки цивилизации, по которым ее выделяли первые.
Понимание цивилизации как следующей за первобытностью ступени развития человечества (с указанными ее характеристиками) широко применяется в современной социальной философии и ряде конкретных исторических наук — в первую очередь, в собственно истории (особенно когда речь идет о древних и раннесредневековых обществах), археологии, теоретической этнографии (этнологии) и пр.
Параллельно с таким пониманием цивилизация часто рассматривается как отдельная, относительно автономная, как правило, полиэтническая социокультурная система, имеющая свои пространственно–временные измерения, базовые духовно–культурные ценности и относительно устойчивые, долговременные (инвариантные) структуры экономических, общественно–политических и культурных связей. Такое понимание цивилизации присуще прежде всего работам английского историка 2 пол. XIX в. А. Тойнби, но, в сущности, мы его встречаем гораздо раньше, уже у таких классиков западноевропейской историографии 1 пол. XIX в., как Ф. Гизо и Г. Бокль. В настоящее время это значение понятия «цивилизация» стало общеупотребительным, и когда говорится о Китайской, Античной или Древнеегипетской цивилизации, всем ясно, о чем идет речь.
В соответствии с таким пониманием отдельная цивилизация может быть определена в качестве автономной, полиэтнической, способной к самоорганизации и саморазвитию (в соответствии с принципами синергетики) социокультурной системы, характер которой конкретизируется через структуры этнических, социальных, политических, конфессиональных, субкультурных и пр. общностей, многообразно перекрещивающихся и имеющих, как правило, сложную иерархическую природу.
При таком подходе становится понятным, что отдельная цивилизация является той исторической реальностью, в процессе познания которой философские, общетеоретические и специальные методы отдельных наук пересекаются и взаимодополняются. Реалии, выступающие по отношению к отдельной цивилизации как таксономически более низкие (отдельное государство, этнос, город, конфессия и пр.), исследуются методами конкретных наук.
Кроме того, цивилизация иногда рассматривается в качестве антитезы культуре, противополагаясь ее живой, творческой и органической природе как нечто механическое, искусственное. Это характерно, прежде всего, для немецкой традиции, в особенности для О. Шпенглера. Он вопрошает: «Что такое цивилизация, понятая как органически–логическое следствие, как завершение и исход культуры?» и приводит следующие разъяснения: «… у каждой культуры есть своя собственная (здесь и далее курсив О. Шпенглера) цивилизация. Впервые эти оба слова, обозначавшие до сих пор смутное различие этического порядка, понимаются здесь в периодическом смысле как выражение строгой и необходимой органической последовательности. Цивилизация — неизбежная судьба культуры. Здесь достигнут тот самый пик, с высоты которого становится возможным решение последних и труднейших вопросов исторической морфологии. Цивилизации суть самые крайние и самые искусственные состояния… Они — завершение; они следуют за становлением как ставшее, за жизнью как смерть, за развитием как оцепенение, за деревней и душевным детством, засвидетельствованным дорикой и готикой, как умственная старость и каменный, окаменяющий мировой город. Они — конец, без права обжалования…»2.
Следует отметить, что понятие «цивилизация» в таком и близком к нему значении начинало использоваться в России начала XX в. и до выхода шпенглеровского «Заката Европы», в частности Н. А. Бердяевым. В «Смысле истории» и других работах времен Революции и Гражданской войны (как и позднее) этот мыслитель подчеркивал, что торжество буржуазного духа привело к ложной и механической цивилизации, глубоко противоположной всякой истинной культуре. Цивилизация развила огромные технические силы, которые должны были бы уготовить царство человека над природой, но оказалось, что эти силы сами стали властвовать над человеком, порабощают его и убивают его душу.
Жесткое противопоставление «культуры» и «цивилизации» как восходящей и нисходящей фаз жизни некоего социально–исторического целого имеет определенный смысл в рамках собственно шпенглеровской концепции замкнутых миров. У А. Дж. Тойнби такому пониманию понятия «цивилизация» соответствует то состояние цивилизации (как определенной саморазвивающейся полиэтнической целостности), которая наступает со времени ее «надлома». Иными словами, цивилизация в понимании О. Шпенглера суть вторая, «нисходящая», стадия жизни цивилизации в понимании А. Дж. Тойнби. Терминологические различия, как видим, значительные, однако в смысловом отношении их «перевод» несложен. То, что О. Шпенглер называл «культурой» применительно к отдельному полиэтническому сообществу постпервобытного времени, А. Дж. Тойнби, как и большинство других историков или культурологов, называет «цивилизацией»: Античной, Индийской, Китайской, Древнеегипетской и пр.
Общим в обоих случаях является осознание внутренних взаимосвязей и логики саморазвития близких и родственных по духу и исторической судьбе народов. К таким сообществам понятие «отдельная цивилизация» применять, как представляется, и привычнее, и оправданней. Аналогичный этому смысл вкладывал и Н. Я. Данилевский в использовавшееся им понятие «культурно–исторический тип», придавая ему, разве что, некоторую этническую (точнее — макроэтническую) окраску.
Не ставя под сомнение правомерность шпенглеровского противопоставления «культура — цивилизация», уходящего корнями в разграничение Ф. Теннисом понятий «общность» как органической и «общество» как механистической формы объединения людей, следует отметить, что современные ученые — историки, археологи, этнологи — используют понятие «цивилизация» в первом или втором (а они не противоречат друг другу) из рассмотренных смыслов. Цивилизация выступает как стадиальный этап развития человечества, дискретными и связанными между собой в пространстве и времени единицами которого являются отдельные локальные (типа Египетской, Шумеро–Аккадской, древних майя) цивилизации, вокруг которых создаются большие цивилизационные ойкумены (например, Дальневосточная вокруг и при ведущей роли Китайской).
В таком контексте понятия «культура» и «цивилизация» никаким образом не противопоставляются. Напротив, культура рассматривается как, прежде всего, духовное содержание исторического развития человечества в разнообразнейших его (развития) проявлениях и потенциях. Она, естественно, присуща всем обществам, человеку и человечеству как таковым, безотносительно к стадиальным их признакам или пространственно–временным границам. Такое понимание наиболее совпадает с определением культуры, предложенным С. Б. Крымским — как воспроизводства человеческой истории в ее потенциальности и свободном раскрытии человеческих сущностных сил3 Поэтому каждая цивилизация (по любому из приведенных выше определений) обладает своей культурой, также, как и каждое первобытное общество.
Рассмотрение всемирной истории в проекциях стадиальности и поливариантности ее движения объективно подводит к проблеме социокультурной уникальности отдельных цивилизаций, природа которых не исчерпывается ни их стадиальными характеристиками, ни отнесением к восточному или западному (с дальнейшей конкретизацией) пути развития, ни даже соотнесением с одной из рассматривавшихся М. Вебером макроконфессионально–культурных систем.
Важно учитывать и следующий момент. Цивилизационную структуру современного мира можно рассматривать в двух измерениях. Первое предполагает его анализ в ракурсе концепции «мир–системы» И. Валлерстайна, которая будет отдельно рассматриваться в соответствующих главах. Она предполагает выделение «мир–системного ядра» — группы наиболее развитых и богатых стран Запада и Дальнего Востока, «полупериферии» — стран среднеразвитых, и «периферии» — бедных и экономически отсталых аграрносырьевых государств с низкими, а то и отрицательными показателями темпов развития. В стадиальном отношении первые, в целом относящиеся к «золотому миллиарду», вышли или на наших глазах выходят на уровень информационного, точнее, по М. Кастельсу, информационального общества, в то время как вторые остаются на стадии индустриального общества (характерного для первых в XIX и большей части XX вв.), а третьи частично находятся на примитивной индустриальной стадии, однако демонстрируют широкое, во многих случаях преобладающее присутствие доиндустриальных систем производства до анклавного наличия раннепервобытного охотничье–собирательского уклада включительно.
Таким образом, в современном мире картина стадиального развития человечества представлена как бы в синхронном территориально–пространственном выражении с наиболее широким за всю человеческую историю разбросом от глобально–информационального до анклавно–локального охотничье–собирательского типов. Понятно, что системообразующую роль играет первый, но, несмотря на это, прочные позиции занимают и многие другие, в частности индустриальный и аграрно–общинный.
Второе измерение цивилизационной структуры современного мира определяется конфигурацией, взаимодействием, темпами развития и перспективами отдельных цивилизаций и цивилизационных миров. Данному вопросу в предлагаемой работе уделено основное внимание. Его важность и в целом растущая актуальность цивилизационной проблематики определяются следующими тремя моментами: концептуальным, политическим и экономическим.
Концептуальный состоит, прежде всего, в том, что после отказа от марксизма как официальной теоретико–методологической основы общественно–гуманитарных Наук. последние на постсоветском пространстве остались без сколько–нибудь определенной идейной платформы. На смену идеологическому подходу, безусловно устаревшему и в современных условиях малопродуктивному, стихийно начали приходить западные представления, воспринимаемые, преимущественно фрагментарно и бессистемно. Среди них оказался и цивилизационный подход, требующий углубленной разработки в единстве со стадиальным пониманием истории и ее видением в аспекте поливариантности возможных путей развития4.
Политический фактор актуализации теории цивилизаций связан с тем, что, в известной степени, в соответствии с мрачными прогнозами С. Хантингтона5, сегодня противостояние в мире все более выразительно приобретает черты так называемого «столкновения цивилизаций», тогда как «противостояние социальных систем» кануло в прошлое с распадом СССР и модернизацией Китая, а национальные конфликты становятся все более подчиненными межцивилизационной напряженности. Это мы наблюдаем на Балканах и на Кавказе, в Кашмире и Синцзянь–Уйгурии или на Филиппинах и в Таиланде, а теперь, по мере разрастания национально–освободительной борьбы, и в Ираке.
Экономический аспект актуализации исследований в сфере цивилизационной теории определяется тем, что в современном мире успеха достигают страны, нашедшие оптимальные формы соединения своей традиционной социокультурной системы с новейшими продуктивными достижениями в научно–технологической сфере. Примером являются страны Дальнего Востока (Япония, потом Южная Корея, теперь Китай), но не только они. В то же время те, кто некритически воспринимал рекомендации западных финансовых учреждений, прежде всего МВФ, не адаптируя их к собственным условиям, ценностям, ментальности и традициям, потерпели крах на пути модернизации. Неудачниками оказываются, в первую очередь, те (в частности и Украина 90‑х гг. XX в.), кто не ставил себе цель трансформировать западный опыт, адаптировать его к собственным цивилизационным основаниям. В случаях механического перенесения западных принципов экономики на чужеродную почву при непонимании собственной специфики и игнорировании местных традиций результатом рыночных реформ всюду была деградация производства, социальной сферы и качества жизни6.
В условиях глобализации мир не столько унифицируется в соответствии с поверхностно воспринятыми американскими стандартами, сколько приобретает вид полицивилизационной структурно–функциональной системы, в которой отдельные цивилизационные составляющие ведут себя по–разному и собственными традиционными идейно–ценностно–мотивационными основаниями во все большей степени определяют составляющих их народов и государств. Это непосредственно касается и Украины. Поэтому осознание нашей цивилизационной идентичности и места в системе современной глобальной макроцивилизационной системы имеет не только теоретическое, но и, в первую очередь, практическое значение.
Сегодня совершенно ясно, что глобализация, имеющая глубокие исторические корни, однако резко активизировавшаяся и принесшая очевидные плоды только в последней трети XX в.7, имеет две стороны. Во–первых, объективную, определяемую всем ходом мировой истории со времен неолитической революции (перехода от присваивающего, охотничье–собирательского к производящему, земледельческо–скотоводческому хозяйству) в течение последних десяти тысячелетий. А во–вторых, субъективную, реализующуюся преимущественно в последние десятилетия благодаря все большим усилиям стран, лидирующих на международной арене, прежде всего США, контролируемых ими международных финансовых институций и транснациональных корпораций (ТНК), в деле регуляции и определения направления глобализационных процессов с выгодой для себя. Осуществляется это, прежде всего, благодаря их информационному, экономическому и военно–политическому преобладанию на планете, в значительной степени за счет интересов остальных государств мировой «полупериферии» и «периферии».
Давление со стороны мировых гегемонов и транснациональных корпораций вызывает в мире все более ощутимую ответную реакцию, и не только в фиксируемых телекамерой протестных акциях антиглобалистов, защитников окружающей среды или фундаменталистски настроенных террористов, но и в виде медленных, но не менее значимых процессов объединения усилий ряда соседних государств, чаще всего (но не обязательно) с общей цивилизационной природой для противодействия негативному влиянию, вызовам и рискам глобализации. Этот процесс последовательно и (по крайней мере до своего последнего расширения в 2004 г.) с успехом осуществляли в последние десятилетия европейские страны, образовавшие в конечном счете конфедерацию — Европейский Союз.
Подобные, но, в силу разных объективных и субъективных причин, куда менее удачные попытки цивилизационно–региональной консолидации с элементами интеграции наблюдались и наблюдаются в Латинской Америке (МЕРКОСУР), в Мусульманском мире (Исламская конференция, Лига арабских государств), на постсоветском пространстве (СНГ, формирование ЕЭП) и в Африке (Организация африканского единства). Чрезвычайно интересным представляется интеграционный процесс в Восточноазиатско–Тихоокеанском регионе, где совместную политику пытаются, и часто не без успеха, проводить государства различной цивилизационно–конфессиональной идентичности (конфуцианско–буддийской, индуистско–буддийской, мусульманской, христианской).
Однако не следует закрывать глаза на тот факт, что в процессы регионально–цивилизационной интеграции вовлекаются государства, имеющие обычно далеко не целиком совпадающие, а то и разные по тем или иным вопросам позиции. Яркий тому пример — отношение к США и их гегемонистской политике в арабском мире и среди стран Юго–Восточной Азии Более того, внутри даже отдельных государств интересы властвующих сообществ и национальные интересы сплошь и рядом не совпадают, да и в самих властвующих сообществах представлены разные конфликтующие группировки с их собственными интересами. Эти интересы могут соответствовать направляемым США, другими членами «Большой семерки» и ТНК глобализационным процессам (например, компрадорская буржуазия, другие, связанные с ТНК и международными финансовыми организациями группы) или противоречить им (значительная часть национальных товаропроизводителей и пр.).
Интересы этих государств, властвующих сообществ и их группировок в плане глобализации и регионализации действуют весьма противоречиво: одни заинтересованы в усилении глобалистических, другие — регионалистских, а то и локальных местных тенденций. Все это необходимо учитывать при рассмотрении конфигурации и трансформаций цивилизационной структуры современного мира.
Мировые цивилизации: проблемы и перспективы (Ю. Н. Пахомов)
Важнейшая черта XX–XXI столетия — цивилизационный ренессанс. Причем феномен этот вначале казался неожиданным. Еще в первой трети XX в. крупнейший исследователь цивилизаций Арнольд Тойнби писал, что из семи сохранившихся цивилизаций шесть сходят с арены; «живой» и восходящей являлась, согласно мнению ученого, лишь западная, т. е. евроатлантическая цивилизация. И поэтому вестернизация, т. е. западная культурная экспансия, а также распространение политических ценностей западного мира (демократии, прав и свобод человека, верховенства права и других), является, дескать, процессом, само собой разумеющимся.
Действительно, ценности Запада, а также освоение его достижений выглядели не только победоносными, но и безальтернативными. Технологическая динамика, высокоэффективная экономика, социальная защита человека, благополучие, свобода и бытовой комфорт, — все это, казалось бы, должно восприниматься «на ура». И поэтому воцарение западного образа жизни на всей планете считалось лишь делом времени.
Уверенность в универсальности всего, идущего от мирового западного авангарда, внушало и мессианство Запада, а также его роль как локомотива прогресса на всей планете. Ведь где–то до 70‑х годов происходило реальное подтягивание стран третьего (развивающегося) мира к высокоразвитому миру Запада. Причем эффект «догоняющего» развития проявлялся не только в экономике, но и в ценностной ориентации, в стиле жизни многих незападных стран. Так, по пути вестернизации, начиная с 20‑х годов, уверенно шла Турция, становясь светским, динамично развивающимся государством. То же самое происходило в ряде стран Восточной Азии. Так, образцовыми по западным меркам становились Сингапур, Гонконг. В послевоенные годы прозападным виделся путь вырывавшейся в мировые лидеры Японии. Ускоренно вестернизировался Иран и т. д.
Однако все эти процессы (что вначале казалось чем–то нелогичным) постепенно стали не только оттесняться, но и преодолеваться мощнейшими, подчас сотрясающими планету цивилизационно–ренессансными сдвигами. Западные ценности стали все больше отторгаться не только в архаичных странах, к примеру, в арабских странах Ближнего Востока, но и в тех государствах (Иран, и даже Турция), которые, казалось бы, прошли большой путь успешного освоения западной модели экономики и западных ценностей.
Конечно, определенную роль в отторжении западных ценностей сыграло осознание самим Западом невозможности (и опасности для экологии и ресурсной базы планеты) всеобщего распространения высоких стандартов жизни (так называемого синдрома «Золотого миллиарда»), В том же направлении, то есть в направлении сдерживания прогресса незападных стран, влияли (особенно начиная с 70‑х годов) процессы глобализации. Так, использование Западом на волне глобализации экспансионистского потенциала финансово–информационных технологий предопределило не только переток финансов в страны авангарда, но и убыстряющийся разрыв между уровнями жизни первого и третьего миров. Причем разрастание пропасти между этими мирами усугублялось активным использованием откровенно прозападной монетаристской концепции, заменившей собой кейнсианство, которое ранее давало шанс на успех всем странам.
Нет сомнений, что конкурентное поражение незападных стран (исключение составляют страны конфуцианства) вносило свою лепту в процессы отторжения западных ценностей, а также содействовало столкновениям цивилизаций. В конце XX столетия появились даже так называемые «конченые страны». И этот общий и, тем более, локальный неблагоприятный фон стал питательной средой не только масштабного антиглобализма, но и антизападного экстремизма, включавшего терроризм.
И все же не эти, а совсем другие обстоятельства вызвали к жизни цивилизационный ренессанс. Главным было то, что, во–первых, постколониальное оживление всех сторон жизнедеятельности ранее порабощенных народов дало импульс к восстановлению достоинства и гордости за свой народ, побудило ценить «все свое», в том числе историю; и главное, — дало простор никогда не отмиравшему (ранее лишь угнетенному) общему мировосприятию, существенно отличному от западного.
Оказалось, что известные слова Р. Киплинга:
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господень суд
— не есть простое оригинальничанье. В этих строках отражена не просто специфика уходящей в глубину веков культуры, но и нечто более прочное — различия этнопсихологические, которые во многом непреодолимы.
Кстати, к выводу о наличии неустранимых различий между представителями разных цивилизаций пришли и великие психологи XX века, например Карл Юнг. Он, в частности, обосновал существенные различия в мировосприятии западного человека как экстраверта и восточного человека как интроверта. А это различие «перекидывает» мостик к пониманию особенностей традиций, обычаев, поведенческих стереотипов и даже религий.
Наличие таких различий должно служить для западного человека предостережением против попыток искусственного (как ранее со стороны СССР) навязывания своих ценностей. Недопустимо, например, подталкивать отсталые народы (как в странах Африки южнее Сахары) к ускоренному «внедрению демократии», поскольку это оборачивается межэтнической резней, деградацией и тотальной криминогенностью8.
Все это, вопреки мнению С. Хантингтона (книга «Столкновение цивилизаций), вовсе не означает неизбежность в перспективе межцивилизационного противостояния, к примеру, Запада и стран ислама. На данном этапе западные ценности радикально отвергаются обычно в условиях бедности и связанной с ней социальной деградации. Характер межцивилизационных отношений зависит от того, как будет меняться общая ситуация на планете. Ведь ныне мир ислама в целом потерпел всемирно–историческое поражение, оказавшись глобально неконкурентоспособным. А поскольку ислам, по определению Макса Вебера, — это религия воинов, то реакция возмездия (причем солидарного, захватывающего и относительно успешные (как Саудовская Аравия) страны) была вполне предсказуемой.
В то же время многие из наиболее благополучных и социально «продвинутых» стран незападных цивилизаций демонстрируют лояльность к Западу и его ценностям. Пример тому, прежде всего, Арабские Эмираты. Поэтому вполне можно допустить, что будущее мировых цивилизаций — это не столько противостояние, сколько взаимное обогащение и межцивилизационный синтез. Однако эта тенденция отчетливо проявится лишь при успешном преодолении катастрофического разрыва между уровнями развития слаборазвитых и высокоразвитых стран. А этому при нынешней глобальной неопределенности и рисках может способствовать (среди прочих факторов) ускоренно распространяющаяся по всей планете регионализация.
Вместе с тем само возрождение в большинстве незападных цивилизаций весьма иррациональных (с точки зрения Запада) обычаев и традиций вовсе не есть какая–то зряшная самоидентификация. Ведь даже в возрождении некоей архаики (как, например, японского патриархального патернализма) имеется (причем именно на начальном этапе развития) рациональное зерно. В условиях затяжной бедности и деградации (на которую пока обречены многие десятки незападных стран, особенно Азии и Африки) рассчитывать на приверженность демократии и правам человека не приходится. Целям достижения устойчивости и выживания здесь могут содействовать жесткие режимы власти. А от них один шаг к неприемлемым для мирового сообщества кровавым диктаторским режимам. Такое перерождение столь же логично, как криминальное и хаотическое перерождение тех бедных и социально деградирующих стран, которые попытались искусственно насадить демократию.
Конечно, можно презрительно фыркать на то обстоятельство, что, к примеру, все постсоветские среднеазиатские республики (как и большинство стран ислама) как по команде после распада СССР возродили диктаторские режимы (куда менее демократичные, чем бывшие советские), но считать эти процессы отклоняющимися от логики истории нельзя. И не исключено, что выбор этих стран в пользу демократии вызвал бы кровавый хаос, а также криминально–олигархическое и нравственное перерождение почище нашего. Так что американцам, которые фанатично меняют «плохие» диктаторские режимы на «хорошие» демократические, надо опасаться, что многие из них станут после этого еще хуже. И вообще носителям мессианских идей (как в прошлом — СССР, а ныне — США) сначала надо составить представление о человеческой природе применительно к разным мирам.
Из сказанного вовсе не следует, что в основе успеха на старте перемен лежит лишь жизненный уровень и развитие производства. Россия и Украина имели в этом отношении куда лучшие стартовые предпосылки, чем Китай, Тайвань или Южная Корея. Но успешнее, причем уже на старте рыночных реформ, оказались не мы, а они. Так что здесь бывает по–разному. И истоки успехов или неудач в конечном счете определяются не технологиями и не финансами (ибо и то, и другое в конечном счете вторично), а системой ценностей, состоянием духа, дающего (или не дающего) импульс созидательной энергии, а также зависящим от всего этого характером взаимоотношений стран и цивилизационных миров с другими мирами (и соответственно странами).
Решающее значение в сугубо экономическом успехе имеет, конечно же, сама по себе нацеленность на обогащение. И в этом отношении страны, представляющие разные цивилизации, ведут себя по–разному.
Так, бешеная энергия в стремлении обогатиться, заложенная в соцэкогенетике и демонстрируемая США, а также другими странами Запада, имеет источником рыночную мотивацию высшего предела, — когда погоня за деньгами является не только способом обустроить жизнь, но и постепенно становится смыслом жизни. Не случайно в США — наиболее успешной западной стране — критерием оценки человека является сленг: «он стоит столько–то». Причем подход этот является (по меньшей мере в США) буквально всепроникающим, определяющим не только неутолимую жажду обогащения, но и ажиотажное, постоянно подстегивающее погоню за доходом потребительство. В Соединенных Штатах (в первую очередь) сполна реализован тот «эффект», против которого активно выступает Дж. Сорос своим предупреждением о том, что рыночной должна быть экономика, но никак не общество. Гипертрофированным и опасным (особенно в условиях глобализации) является господствующее в США представление, что алчность в отношении наживы является лишь добром, и ни в коем случае не злом. Именно сейчас, из–за тесноты связей в современном мире, а также прямых и обратных взаимодействий в нем становится очевидно, что неудержимая алчность оборачивается возмездием, становясь не только разрушительной, но и все больше саморазрушительной силой.
Ни в одном из других цивилизационных миров стремление обогатиться до столь высокого предела (смысл жизни!) не доходит. Поэтому–то Запад и в мотивах, и в энергии обогащения не знает себе равных. А соответственно и конкуренция с Западом со стороны незападных цивилизаций на поприще такого рода мотиваций бесперспективна. Тем более, что и в своем ажиотажном обогащении Запад сохраняет все же достаточно высокую нравственную устойчивость; он не подвержен тому стремительному нравственно–духовному разрушению, которое произошло (почти как у чукчей по причине пьянства) при первом же соприкосновении с соблазнами свободного рынка в России и у нас. От растлевания в ловушке рыночно–потребительских соблазнов человека Запада предохраняет религиозная, а также устоявшаяся рыночноэтическая традиция. Протестантизм, к примеру (как распространенная религиозная традиция в успешных странах Запада), хотя и почитает обогащение как явление богоугодное, однако порицает чрезмерность роскоши, нескромность в быту. Не менее глубинны и традиции ведения честного бизнеса. Сама жизнь веками убеждала коммерсантов в «нерентабельности» подлости и обмана; ведь так потом себе дороже. Поэтому даже крупные сделки в странах Запада заключаются обычно на доверии.
Наличие подобных правил и традиций, сдерживающих нравственно–духовное разложение, укрепляет позиции Запада (сравнительно с другими цивилизациями) на поприще конкуренции по критериям силы мотиваций рыночно–коммерческого обогащения.
В условиях решающего мотивационного превосходства Запада успех или неудачи других цивилизационных миров зависят не только от их рыночных сил. Многое определяется характером отношений с Западом (одно дело «своя» Польша, другое дело «не своя» Украина), а также той реформаторской моделью, которая, будучи обычно связанной с цивилизационной спецификой, может то ли компенсировать «недобор» мотивации сравнительно с западными странами, то ли, наоборот, отбросить страну по критериям конкурентоспособности назад.
Конечно, даже в рамках одной цивилизации страны в этом отношении ведут себя по–разному, но преобладает все же нечто общее. Отвлекаясь пока от конкретики, отметим, что для одних (наиболее успешных) незападных стран (соответственно — цивилизаций) характерно стремление «переиграть» Запад. Это стремление реализуется обычно с помощью опоры на государственные механизмы, сочетаемые с рыночными силами, а также за счет использования нетрадиционных реформаторских приемов, сочетающих комбинирование рецептов «чужих» моделей с собственными находками, производными обычно именно от цивилизационной специфики. Для других цивилизаций, — рыночно отсталых, но сильных духом, характерно противостояние Западу, нарастающее по мере их оттеснения «на обочину». Третий, тоже неудачный вариант рыночно–цивилизационного порыва, характеризуется (как в Украине) позицией «не изобретать свой велосипед», а слепо следовать малопригодным реформаторским советам Запада. Или же стремлением перенимать у высокоразвитых стран негодные для стартовых условий приемы, что ведет к отставанию от стран мирового авангарда из–за попадания в ловушку «чужой идентичности».
Пример стран, успешно конкурирующих с Западом по системе «вызов — отклик» (а это, в основном, страны конфуцианского пояса), показал, что успех на рыночном поприще может быть достигнут не только на основе превосходства силы мотиваций, но и по другим (т. е. отчасти выходящим за рамки мотивов обогащения) механизмам и свойствам, а значит, и критериям9. Причем эти критерии, а соответственно и подходы тоже (как и на Западе) корнями уходят в сферу цивилизационных ценностей и поведенческих стереотипов. Т. е. речь идет об опоре на такие ценности, которые позволяют (при условии «раскупорки» дремлющей в народе созидательной энергии и силы духа) подойти к успеху не только с мотивационной, но и «с другой стороны»; и быть если не победителем, то, по крайней мере, равным.
Вспомним, как Япония в период демонстрации экономического чуда в кратчайшие (по историческим меркам) сроки выдвинулась на второе место в мире после США. А опиралась эта страна первое время не на высокие технологии, и не на мощные финансы (этого просто поначалу не было), а на изобретенные в своей же стране способы соединения силы государства с мотивациями рынка, а также на рационально продуманную закрытость, на мобилизационные возможности народа и аскетизм, и даже на архаичные традиции семейственности и патроната, поставленные на службу успеху. Тогда же в Японии, куда успешнее, чем в СССР, использовалась существенно модернизированная советская плановая система.
Конечно, со временем все эти подпорки устарели, страна встала перед задачами выхода из институционального кризиса, но дело было сделано, и страну уже не загонишь в состояние отсталости, как загнали нас.
Или возьмем потрясающие (и пугающие Запад) экономические успехи Китая, взлетевшего вверх из состояния полного развала и хронической отсталости. Причина, среди прочего, — ренессанс, после прихода к власти Дэн–Сяопина, классических конфуцианских ценностей, проверенных тысячелетиями.
Как оказалось, соединение в конфуцианстве недоверия и осмотрительности по отношению ко всему чужому, с одной стороны, и традиционной же тяги к освоению чужих знаний и всего «полезного чужого» с другой, обеспечили контакт с внешним миром через своеобразную цивилизационную решетку, обогащавшую и защищавшую страну одновременно.
Получилось так, что именно эти подходы позволили не только отвергнуть реформаторскую модель МВФ как гибельную, но и изобрести «свой реформаторский велосипед» как исключительно эффективный10. И если, скажем, для нас в Украине все годы независимости было важно, чтобы кошка была не серой или розовой, а как бы европейской, то в Китае думали о том, чтобы кошка ловила мышей. В этом и состоит то принципиальное различие между нашей и китайской моделями реформ, из–за которого Китай поднялся, имея нулевые предпосылки, а мы рухнули, невзирая на черноземы, высокие технологии, интеллект и квазиевропейскость.
Показательно и то, что Китай по–своему перехватывал и оптимизировал, благодаря конфуцианству, сами западные ценности. Иллюстрацией может служить китайский рационализм, или же освоение западной культуры времени. Так, если традиционно считалось, что Восток живет в циклическом восприятии времени (жизнь от урожая до урожая; или как у нас — от бюджета до бюджета), то Китай, как и Япония, блестяще и с большим мастерством овладели культурой сценарного восприятия времени, когда каждый нынешний этап — это ступенька в движении к высотам, намеченным долгосрочной стратегией.
Еще рельефнее Китай демонстрирует превосходство «своего» рационализма перед рационализмом Запада. Если западный (особенно американский) рационализм давно выродился в холодный и расчетливый утилитаризм11, то китайский рационализм отдает теплом, а не холодом, заменяет бездушный расчет игрой в поддавки с привлечением противника на свою сторону, с умением найти и использовать его слабинку, но при этом с недопущением «потери» им лица.
Своеобразный рационализм духа выявляется и в стремлении Китая к собиранию земель и цельности. Там на ментальном и этногенетическом уровне осознается, что распад страны на части — это неизбежное ее ослабление. Причем неверно было бы считать, что (в отличии, скажем, от Украины и России) там живут «одинаковые китайцы». Так же, как в Германии баварцы и пруссаки различаются в большей степени, чем украинцы и русские, так и в Китае житель Севера существенно отличен от южанина, от жителей Западного Китая и т. д. Более того, в аэропорту в Шанхае с удивлением узнаешь, что жители разных частей Китая даже не понимают языка друг друга, и поэтому объявление о вылете или прилете самолета делается на четырех (!) разных китайских языках.
Сказанное в пользу Китая не означает, что склонные к разводу близкие народы должны искусственно удерживаться вместе. Любой «рациональный» аргумент выглядит в этом случае кощунственно, и «развод» в такой ситуации является благом.
Существенную роль в реформаторских успехах Китая сыграла преемственность, также коренящаяся в конфуцианских ценностях. Согласно учению Конфуция, разрыв преемственности — это катастрофа для страны. И надо сказать, что в использовании этого принципа при переходе к рыночным отношениям Китай оказался виртуозом. Ведь невозможно было даже предположить, что успех в реформах может быть достигнут при соединении «ежа с ужом», т. е. компартии с рынком.
И тут снова напрашивается сравнение: у нас ведь оснований для преемственности было куда больше, причем не по каким–то хуторянским, а по куда более высоким критериям. Вспомним, что прошлая наша страна имела загубленную ныне первоклассную науку; что Украина была чемпионом высоких технологий в рамках СССР, который сам был вторым или же третьим в мире по этим показателям; что имелись свои наукограды, соперничающие с «силиконовыми долинами» Соединенных Штатов; что мировое признание получила методология программно–целевого планирования (не путать с народнохозяйственными планами), а также крупные народнохозяйственные комплексы. А чего стоила способность страны конструировать и реализовывать крупные проекты, благодаря которым страна опередила даже США в ракетостроении и в ряде других направлений?
Не меньшую пользу, чем преемственность, принес Китаю конфуцианский принцип постепенности. Так, в Китае решительно отвергли навязываемую и этой стране шоковую терапию. Ту самую терапию по рецептам МВФ, которая в считанные недели обрушила то лучшее (в том числе высокотехнологичное, наукоемкое), что было в нашей стране. Величайшее искусство отстаивания постепенности демонстрировал Китай и при пятнадцатилетней адаптации экономики (а не только при переговорах, чем ограничились мы) к требованиям ВТО и т. д. А чего стоит с позиций постепенности схема, положенная в основу взаимной гармонизации отношений Китая и Гонконга? Перед этим искусством меркнет в общем–то благополучный (причем радостно воспринятый сторонами) опыт воссоединения двух Германий. Риск «неприживаемости» Гонконга к материковому Китаю был велик, но ситуация была сглажена выстраиванием механизмов постепенной взаимной адаптации через проект: «Одна страна — две системы».
Опыт Китая, касающийся постепенности, и ныне (когда шоковая терапия позади) для Украины крайне важен. Ведь мы продолжаем, словно зомбированные, выполнять сомнительные советы экспертов Запада насчет того, что наши реформы неудачны из–за медлительности. Мы и сейчас, не зная броду, бросаемся в очередные реформаторские авантюры, лишь бы выглядеть решительными и «прозападными реформаторами». Примеры — и стремление неподготовленными вступать в ВТО, и бездарная, в одно мгновение проведенная земельная реформа, и многое другое.
На деле — и об этом свидетельствуют реформы в Китае, — когда медлительность рациональна, она дает парадоксальный эффект: не быстрота, а постепенность становится источником не просто динамизма, но и стремительно нарастающей результативности. Ведь тот, кто бывает в Китае, знает: через каждые два года перед нами новый Китай, и о том же говорят макроэкономические показатели и темпы повышения жизненного уровня по сути всего населения страны.
Так в чем же заключен феномен, обозначенный как быстрота, достигаемая за счет постепенности?
Во–первых, постепенность перемен — отнюдь не синоним медлительности. Постепенность означает лишь отказ от ажиотажного, почти истеричного нетерпения, проявляемого, к примеру, нами в желании любой ценой, не считаясь с потерями, вступать в ВТО или вытребовать без оснований на то от ЕС права на скорейшее вступление в это сообщество.
Во–вторых, постепенность означает недопустимость радикальных перемен на тех участках, где ситуация для перемен не созрела. К примеру, Китай не спешил с приватизацией в промышленности, пока там не была создана конкурентная и соответствующая институциональная среда, а сами предприятия еще не отвечали критериям рыночной дееспособности.
В отличие от нас, в Китае понимали, что даже наличие инвестиций не делает приватизацию слабых предприятий эффективной, что инвестирование в неподготовленное предприятие ведет к их (инвестиций) обесцениванию, что оправданная очередность мер, например, когда вначале идет создание конкурентной среды и всей необходимой рыночной инфраструктуры, а затем — приватизация, есть нечто обязательное.
В отличие от нас, иждивенчески стремящихся «не изобретать свой велосипед» (что даже является предметом нашей, плебейской по сути, гордости), Китай уникален своей изобретательской позицией, а именно: подходом к решению проблем экономических трансформаций через поиск своего, третьего пути.
В связи с этим неожиданным для Украины должен быть вывод, согласно которому Китай извлекает пользу из подходов, близких к тем, которыми нас в вузах и на политучебе еще недавно почти принудительно перекармливали. Так, может показаться, что именно нам пристало извлекать пользу, скажем, из диалектики. Но мы все это выбросили на свалку, как нечто, оставшееся от тотально отвергаемого советского прошлого. А Китай нечто похожее, но идущее от многотысячелетней китайской мудрости, успешно использует. Действительно, нам и в страшном сне не могло присниться, что из гегелевской эквилибристики можно выжать что–то для практики. Китай же практически осваивает эффект третьего пути, буквально играя в похожие на диалектику игры. Мы знаем из философии, что единое раздваивается на «+» и «-», на «жарко» и «холодно», раздваивается, скажем, на покой и стремительное движение; на равнодушие и страсть. Так вот китайцы, чтобы достичь успеха на практике, не принимают ни того, ни другого, а принимают середину. Они стремятся выискивать путь между двумя крайностями, срединный путь. На практике нащупывание третьего пути воплощается в конкретику, основанную на той или иной вполне рациональной методике. И в этом отношении упоминавшийся проект «Одна страна, две системы» далеко не единственный. Так, высокое искусство проявлено было в конструировании и использовании в интересах развития страны свободных экономических зон, что для нас оказалось непосильным.
Конечно, Китай не отвечает западным стандартам демократичности и прав человека. Однако в условиях посттоталитарных, отягощенных бедностью, иное было бы несовместимо со стремительным подъемом. Сомнений нет и в том, что по мере перехода в другое, более благополучное состояние тенденции демократизации неизбежны, и к этому Китай уже готовится, и даже делает первые шаги.
Когда же Дэн–Сяопину предложили сразу начать с демократических реформ, он сказал: «Нет! Реформы потом! Давайте сначала наведем элементарный порядок в экономике»12. В стране было осуществлено так называемое регулирование 1979–1982 гг., ставшее залогом будущих успехов. В последние годы, в преддверии новых экономических перемен, страна, как считают в Китае, экономически созрела для перевода социально–политического режима в русло демократизации. Как представляется, эти процессы могут затормозиться, с одной стороны, из–за опасности возврата волн мирового кризиса, с другой стороны — из–за старта экспансионистской политики США.
Если же говорить о странах экономического чуда в Юго–Восточной Азии, то в них, во всех без исключения, успешным рыночным реформам на первом этапе (часто затянутом) сопутствовал в полном смысле слова диктаторский режим. К ним однозначно применимо выражение «Сначала экономика, затем демократия»13. В этой связи корейский политолог Ли Ин–Сонг, анализируя особенности модели реформирования экономики Восточной Азии, отмечал следующую общую для восьми «тигров» черту: «развитие происходило при режиме диктатуры, причем диктатура сочеталась с либеральными ценностями»14.
Лишь на волне беспрецедентного экономического успеха здесь начался переход к системе демократии. Переход зачастую драматический, иногда трагический для обеспечивших успех диктаторов (вспомним судьбы посаженных в тюрьму южнокорейских диктаторов периода ранних реформ). Но в стане реформаторов этих стран такие издержки считают неизбежными. По их мнению, страны Восточной Азии, чтобы добиться устойчивого успеха, вынуждены были, особенно в первые годы, следовать по тому коридору, который обозначен культурно–историческими доминантами, заключенными, прежде всего, в конфуцианстве, в котором заложен мощный и неувядающий потенциал азиатского рационализма.
Кстати, если по аналогии затронуть проблему судеб постсоветских экономических реформ (в отличие от стран Центральной Европы — Венгрии, Чехии, Польши и других, где рыночный сектор и соответствующие традиции имелись), то здесь сразу прогнозировалась следующая ситуация: «Кто политические реформы предпосылает экономическим, как это было в СССР, тот сам себя загоняет в нестабильность»15. Это мнение политика из Китая, который, разумеется, нам не указ. Но странным оказывается то, что и подталкивающие нас к одновременным реформам (демократическим и рыночным) лидеры Запада были того же мнения о их результативности. Так, Г. Кисинджер и З. Бжезинский еще не в худшие для СССР времена считали, что здесь для успешных экономических преобразований требуется скорее авторитарное, нежели демократическое посткоммунистическое правительство16. Им вторил В. Леонтьев: «…Проще было бы сначала осуществить перестройку экономики, а потом объявить гласность»17.
Но может быть, эти деятели Запада потом, под влиянием новых обстоятельств, передумали? Ничего подобного, они и сейчас того же мнения. Так, в книге «Мировой порядок на пороге XXI века» З. Бжезинский пишет о нереальности требования одновременного создания на постсоветском пространстве демократии и свободного рынка18. В постсоветское же время Нобелевский лауреат Л. Клейн писал, что одним из условий успеха в экономике является «проведение экономических реформ ранее реформ политических»19.
«Несрабатывание» рыночно–демократического симбиоза в условиях посттоталитаризма объясняется не злыми силами, а самой природой переходных процессов. Ведь рыночная экономика только нашими реформаторами изображалась как нечто, возникающее сразу и само собой. На деле сам переход от экономики административного диктата к рынку весьма длителен, и до верхов наполнен сложнейшими (прежде всего — институциональными) преобразованиями.
Ведь правовые законы (как продукт демократического принципа верховенства права) не могут «справляться» с ситуацией, когда все быстро меняется. Нестабильность (а она тут неизбежна) в переходной ситуации дискредитирует власть закона. И именно в той мере, в какой опасность дискредитации правового начала реальна, регулятивные функции в переходных экономиках возлагаются на авторитарную по своей природе власть. Законы же, как нечто стабильное, заполняют своей властью переходное рыночное пространство лишь в меру его стабилизации на том или ином, более высоком этапе становления рынка. Поэтому лишь относительная завершенность процессов рыночного становления оборачивается для посттоталитарных стран демократизацией и триумфом либерализма и права. Да и то за пределами того, что отвоевывает современное государство. Так что либерализацией и верховенством права в посттоталитарных обществах надо завершать (а не начинать!) преобразования.
Несомненный интерес, наряду с опытом Китая, вызывает, но уже с противоположных позиций, опыт реагирования на глобальные вызовы стран ислама.
Мир ислама, как известно, это мир древних рыночных традиций. Поэтому, казалось бы, на вызовы Запада, в том числе и западного глобализма, эти страны должны бы дать достойный отклик. Тем более, что цивилизационный ренессанс в странах ислама отличается повышенным буйством сил и активнейшим воссозданием традиций. Однако, как известно, целые многострановые массивы, приверженные ценностям ислама, потерпели при соприкосновении или же столкновении с Западом на экономическом поприще всемирно–историческое поражение20.
Истоки этого, казалось бы, парадокса заключены в специфике ислама как религиозного учения, а именно — в том, что религия для мусульман — это не только верование, но и образ жизни; и не только своеволие, но и дисциплина. Более того, о странах ислама нельзя сказать, что их отличает от Запада правовой нигилизм. Для них предписания ислама (а они — всеохватывающи) как раз и есть своеобразный аналог западной приверженности верховенству права. Так вот, этот образ жизни, а также поведенческий стереотип, опирающийся на духовно–нравственные ценности ислама, как раз и накладывает на процесс рыночной экспансии довольно жесткие ограничения. Получается, что именно в мире ислама сполна реализуется упомянутая ранее позиция Дж. Сороса, согласно которой рыночной должна быть экономика, но не общество.
И дело даже не в запретах, накладываемых, к примеру, на ростовщичество, и не в традициях помощи богатых бедным, а в духовных (а не коммерческих) жизненных приоритетах, проявляющихся, среди прочего, в критериях оценки личности, согласно которым духовно–религиозная сторона жизни важнее коммерческого успеха. Богатство, конечно, ценится, но смысл существования (в отличие от Запада) к нему не сводится. И просветленный странник (для нас — бомж), и образованный человек, и моджахед, готовый отдать жизнь за веру, здесь в большем почете, чем богач, лишенный духовных ориентиров.
Особенность стран ислама состоит и в том, что в случаях плотного соприкосновения с вестернизацией и, тем более, с глобальной экспансией, происходит ускоренная эрозия мусульманских ценностей, что вызывает ответную реакцию в виде самоизоляции и отторжения всего прозападного. Способность, как в Китае, избирательно адаптировать и поглощать все ценное, идущее от Запада, здесь крайне ослаблена, а недоверие к чужому гипертрофировано. Мы знаем, что крайней формой протеста против западной (и всякой иной) экспансии в странах ислама является терроризм, который напрасно изображается сторонниками Запада только лишь как преступление, идущее от отщепенцев. Это движение находит отклик и получает массовую поддержку в странах ислама в народной гуще.
Западу (в первую очередь) важно осознать, что мусульманскому Востоку нельзя, не нарываясь на катастрофические (как в Афганистане) последствия, навязывать те формы жизни, которые основаны на западных ценностях. Реакцией на подобное мессианство, т. е. на подгонку всех под американские лекала, может быть лишь крайнее ужесточение сопротивления, и приход на место умеренных режимов фанатиков–фундаменталистов. Ибо режимы в ответ на глобальные риски ужесточаются и замыкаются.
Приверженность мусульман принципам справедливости и солидарности, заботе о ближних и дальних сородичах, соблюдению строгих (собственных) норм нравственности и пр. способствует тому выживанию, которое максимально адаптировано к бедности. В том числе к той самой бедности, которая сама во многом — производное от правил и обычаев ислама. В отличие от западного человека, предпочитающего свободу и пусть рискованный, но собственный успех, мусульманин предпочтет устойчивость, строгий порядок и предсказуемость судьбы. Бедняк здесь знает, что всегда будет накормлен. Человек, раздавленный житейскими обстоятельствами, будет утешен и обогрет общинным теплом. Женщина предпочтет свободе слова и «равным правам» устойчивый быт за спиной мужа даже в ситуации, когда она уже не первая. Дети, в чем легко убедиться в среде татар в Крыму, не будут даже в трудную для судеб народа годину беспризорниками ютиться в подвалах и рыть норы в мусорниках.
Что же касается ценностей демократии, идущей от Запада, то они воспринимаются с учетом не только позитивных, но и негативных последствий — последствий в виде разрушения ценностей ислама. К тому же — что неведомо самонадеянному Западу — и в мире ислама, как, впрочем, и в других мирах (если только они первозданны), существуют и на свой манер выстроенные правила и механизмы демократии. И в этом убеждаешься, когда бываешь не только как турист (или член делегации) в странах ислама.
Конечно, приверженность мусульман к весьма строгому порядку и жестким правилам жизни довольно часто служит питательной средой для диктаторства. И это одна из неприглядных сторон трансформаций правящих режимов в странах ислама. Но жестокое диктаторство, как впрочем и терроризм, существенно связаны с заведомо непосильной для мусульманских стран глобальной мирохозяйственной конкуренцией. Ведь именно эта ситуация, превращающая многие мусульманские страны в изгоев, рождает жажду реванша, что и содействует приходу к власти диктаторов21. Реванш, а с ним и диктаторство, подпитываются убежденностью мусульман в высоких достоинствах своей культуры, в справедливости своих притязаний, в превосходстве морали22, а значит — и всей системы ценностей ислама над ценностями и образом жизни Запада. А участившийся переход в мусульманство жителей стран западного мира, истерзанных гонкой за успехом, холодностью человеческих отношений и стрессами, дополнительно убеждает мир ислама в несправедливости миропорядка, возглавляемого Соединенными Штатами.
В такой ситуации само поражение стран ислама оказывается, как это ни парадоксально, победоносным. Уверенность в своей правоте наделяет сопротивление мусульман поражающей мощью, возводит терроризм в их глазах на высочайший, сакрально освященный пьедестал, а самих террористов окружает ореолом славы народных героев. И хотя терроризм лишь вершина протестного айсберга, он оказывается неистощимым, поскольку, с одной стороны, лидер Запада — Соединенные Штаты — дают для реванша все новые поводы, а с другой — терроризм получает глобальную по масштабам финансовую, энергетическую, идейную и эмоциональную подпитку от сотен миллионов мусульман, фанатично убежденных в истинности своих ценностей.
Вывод состоит в том, что не сама по себе борьба с терроризмом (хотя от этого некуда деться), а лишь меры, упорядочивающие мирохозяйство и преодолевающие глобальный экспансионизм, а с ним и катастрофическое отставание слаборазвитых стран от стран мирового авангарда могут ослабить, а затем свести на нет ударную волну, идущую от обездоленного, но несдающегося Ислама.
Отечественный парадокс в цивилизационном измерении (Ю. Н. Пахомов)
Существенно уступает Западу в возможностях успешного развития по рыночным и демократическим категориям и наша, Восточнославянская (Восточнославянско–Православная) цивилизация. Почему? Возможно потому, что здесь, так же как и в других незападных цивилизациях, погоня за богатством не является смыслом жизни. А если на нынешнем этапе это выглядит иначе, то это — проявление временной болезни, а значит — исключение, а не правило. Тем более, что рвемся мы к обогащению неуклюже, калеча на этом пути саму возможность достижения рыночного успеха.
На мой взгляд, один из источников наших рыночно–реформаторских неудач (за более чем 10 лет трансформаций мы не достигли даже стартового уровня) — ослабленность способности вести себя расчетливо и рационально.
О том, что мы, восточные славяне, иррациональны, говорилось давно. Высказывались на сей счет не только историко–социологические, но даже психолого–физиологические аргументы. Так, великий физиолог И. Павлов в одной из своих публичных лекций, размышляя о балансе свободы и механизмах торможения, заметил, что славяне, в отличии, к примеру, от англосаксов, обделены способностью торможения, а значит — осмотрительностью, взвешенностью, расчетливостью при принятии решений При этом сам факт свершившейся революции (напомню — это был 1918 год) он относил к безудержному буйству как следствию ослабленности психофизиологических механизмов торможения. «Тормоза», согласно И. Павлову, имеют свое воплощение в религии, законах, контроле, воспитании, обычаях, привычках. «Вы видели, господа, — напутствовал слушателей И. Павлов, — что самые передовые нации — англичане и германцы — в принципе придают такое же значение торможению, узде, как и проявлению лояльности, свободы…» И далее: «русский человек (сюда, на мой взгляд, следует отнести и многих украинцев. — Авт.) еще не дожил до той истины, что жизнь состоит из двух половин, из свободы и дисциплины, раздражения и торможения. А отказываться от одной половины (имеется в виду торможения. — Авт.) — значит обрекать себя на жизненный позор».
Если считать, что великий ученый прав, то остается сделать вывод, что наши катастрофичные для судеб страны реформы есть во многом результат перевозбуждения. К этому надо добавить, для верхушки страны — небескорыстного.
Говоря об иррациональности восточных славян, я вовсе не хочу сказать о них плохое. В сугубо человеческих отношениях холодный и расчетливый западный рационализм отталкивает. Иррациональное, в отличие от него, обычно ближе к доброте, эмоциям, а это — источник счастья. Но в деле государственного устройства, особенно в выборе пути радикальных реформ, это вредит.
Весьма показательной иллюстрацией к сказанному является опыт начальных лет нашего рыночного реформирования. Известно, что для постсоветских стран рыночно–реформаторская модель т. н. Вашингтонского консенсуса была заведомой ловушкой. Об этом тогда уже свидетельствовал латиноамериканский опыт; о том же предупреждали не только российские и украинские ученые, но и западные корифеи, в т. ч. нобелевские лауреаты. Но мы, несмотря на факты и предупреждения, в ловушку эту бросились безоглядно, и стали жертвой своей неспособности осуществить рациональный выбор. Напомню, что высокие инстанции навязанную извне шоково–взрывную реформаторскую рецептуру с позиций рисков не оценивали, да и страна, поддавшись эйфории и бешено нагнетаемому психозу в одно мгновение соблазнилась; достаточно было, что это модно и что за этим стоит Запад.
Возникает, однако, естественный вопрос: уж если мы, восточные славяне, ведем себя столь нерасчетливо и иррационально, то откуда у нас периодически бывают столь поражающие мир успехи?
Основа этого — свойство славянского характера, способного в отдельные периоды, как правило, после очередной катастрофы, мощнейшим образом (из–за непереносимости обиды и позора) мобилизоваться и взять исторический реванш. В свое время великий русский историк В. Ключевский (1841–1911) писал, что ни один народ мира не способен в такой мере, как русский человек, развить в короткие периоды величайшую энергию. И случается это именно в те исторические времена, когда над страной надругались. Типичными в таких случаях являются готовность русского народа на подвиг и жертвы, а также поддержка сильного авторитарного лидера, способного обуздать взрывную энергию масс, в том числе ценой трагедий, и внести в нее начала рационализма, подчас эффективного, хотя и поверхностного.
Периоды взлета, осуществленные на такой основе, не были и не могли быть продолжительными, причем во многом потому, что не было опоры на самонастраивающиеся рыночно–институциональные механизмы, ведущие в перспективе к демократии, которые могли бы «перехватить» инициативу после исчерпания экстенсивного и властного потенциала. Произойдет ли что–то обнадеживающее в России сейчас — поживем — увидим.
Несколько иначе обстоит дело в Украине. Украина, имея много общего с Россией (особенно в части иррационального поведения), является вместе с тем более демократической.
Казалось бы, подобная продвинутость, а равно и генетическая склонность к частнособственническим устремлениям как раз и позволяют (аналогично с Венгрией и Польшей) одновременно начать и с рынка, и с демократии.
Однако такая возможность оказалась иллюзорной, и не случайно. И не только потому, что, в отличие от Венгрии и Польши, Украина — страна все же посттоталитарная, что в ней не было рыночных сегментов, а демократические традиции были лишь зачаточными.
Известно, что эффективное регулирование экономики бывает двух видов: либо тоталитарное или жестко авторитарное (как ныне Китай), либо жестко либеральное, т. е. опирающееся на диктатуру права (например США). Украина же, успешно отойдя от одного (авторитаризма), что ей делает честь, не сумела даже близко подойти к другому — к доминированию права. В итоге ее экономика оказалась, в отличие от Китая, а также от Венгрии и Польши, в регулятивном вакууме. Уход от авторитаризма, который, казалось бы, должен был обернуться плюсом, — обернулся (из–за правовой незрелости) минусом. Получается, что ситуация «ни то, ни се» — не лучшая. Успех имеют лишь те, кто пребывает на одном из полюсов, а не в межполюсном пространстве.
Конечно, и в условиях уродующего страну регулятивного вакуума в рыночной сфере действуют довольно мощные регуляторы иного рода. Но это, особенно на старте, регуляторы криминогенности и клановости. Именно они, эти регуляторы, предопределяя рыночную несостоятельность, выталкивают из страны интеллектуальные силы, побуждают миллионы искать заработки за рубежом, формируют группировки. Что же касается власти, то она, как показал наш многолетний опыт, может управлять ситуацией в нужном ей (но не всегда народу) направлении в основном с помощью административных давлений, различных соблазнов, а также интриг, подрывающих авторитет высших эшелонов власти. Похоже, что без всего этого, в условиях неправедности судов и правового нигилизма, власть была бы вообще бессильна. Причем не только как носитель добра, но и как носитель зла.
Попытаемся еще раз осмыслить то, что объединяет русских и украинцев. У меня нет сомнения, что успех развития Украины и России может быть достигнут на основе их взаимодействия. И для этого взаимодействия имеется благодатная основа.
Н. В. Гоголь, размышляя об особенностях русских и украинцев, отмечал, что оба эти народа, щедро одаренные талантом, как бы рождены друг для друга. Он писал, «что никогда бы не дал преимущества ни малоросиянину перед русским, ни русскому перед малоросиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом и, как нарочно, каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой, — явный знак, что они должны дополнять одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве»23.
Конечно, бракоразводный процесс, вывернувший прошлое страны наизнанку, осложнил отношение стран друг к другу. Но есть все основания считать, — я их здесь не касаюсь, — что уже сейчас в отношениях Украины и России ослабевают, отходят на задний план те причины взаимных отторжений, в том числе исторические обиды, которые сопровождали «бракоразводный процесс» в начале 90‑х. Тем более (о чем свидетельствуют опросы всех последних лет), что истоки негативных нагромождений коренятся не в отношениях наших народов, а в тех катастрофических ситуациях, которые ввергли в страдания и один народ, и другой. Поэтому естественным для наших стран должно быть все большее осознание того, что находится за пределами политики и власти; что заложено в глубинных (исторических) пластах экономических, социальных и духовных взаимодействий. А взаимодействия эти, как показывает анализ, зиждятся не столько на отталкивании (хотя и это имеет место), сколько на взаимном притяжении и, более того, благотворной и взаимовыгодной дополняемости.
Решающее значение как для позитивов, так и для негативов во взаимоотношениях народов двух наших стран имеет то обстоятельство, что при объединяющем народы сходстве Украина и Россия вместе с тем имели (в рамках их общей и, тем более, раздельной истории) весьма различную судьбу. Эти судьбоносные отличия касались и экономики, и социальных процессов, и, естественно, нравственно–духовной сферы жизнедеятельности. Они и предопределили поведенческую и ценностную взаимодополняемость.
Обратимся к некоторым сопоставительным характеристикам народов России и Украины и к тому потенциалу взаимодействия на почве взаимодополнения, который просматривается через эти черты.
Известно, что на облике русского народа решающе сказались необъятные, малозаселенные пространства, их необычная суровость — как факторы, провоцирующие общинность, крепостничество, разбой и властную деспотию, а также порождающие, в виде реакции и противовесов, порыв к воле, выливающийся эпизодически в пассионарные взрывы, во всесокрушающие бунты и революции. Здесь каждый вызов — и внутренний, и внешний, дает мощнейший отклик, а унижение народа, откуда бы оно ни исходило, оборачивается затем демонстрацией его силы и величия.
В Украине, в противоположность России, веками формировался индивидуализм, но индивидуализм особого рода, в корне отличный от западного, — провоцирующий разобщение. Здесь в большей мере, чем в России, получила развитие и восприятие частная собственность, менее обременительным и скоротечным было крепостничество. Социальные отношения характеризовались большей демократичностью.
Интенсивным, как и в России, было взаимодействие украинской культуры и других культур. Но, на мой взгляд, здесь, в отличие от России, имел место не столько синтез и эффект синергии, сколько конформизм и приспособленчество, что уязвляло, с другой стороны, самолюбие, порождало протест и, вместе с отторжением, формировало комплекс неполноценности.
Отмеченные и многие другие несходства, осложняемые обидами и тяжелыми воспоминаниями, периодически (как в этом десятилетии) давали вспышки раздоров и противостояния. Но это пласт поверхностный, во многом сформированный на подмене причин и следствий, а также на идеологических спекуляциях (ведь режим, калечивший украинцев, калечил и русских). В глубинах же генетики заложены восходящие к нашим дням токи того взаимного тяготения, которое, при условии опоры на взаимодополняемость, может дать импульс высокоэффективному взаимодействию. Именно во взаимодополняемости черт характера, а не только лишь в разорванных и подлежащих восстановлению научных и технологических связях, заложен неиспользуемый пока что интеграционный потенциал, который восполнить (особенно Украине) нечем. Причем речь может идти об особенностях, которые, будучи неприметными в обычной жизни, могут на деле, при благоприятной общей обстановке, определять успех на многих важнейших трансформационных направлениях.
В данном случае, поскольку акцент я делаю на экономике, я не фиксирую общее и особое, в том числе естественно взаимодополняемое в сфере культуры, социальной и духовной жизни. Буду прослеживать явления из экономики. Возьмем немаловажный для обеих стран процесс формирования бизнеса. Украинец, конечно же, уступает русскому в размахе и в способности концентрировать энергию на малом отрезке времени. Но зато он выигрывает в малом, а также в отладке уже состоявшихся трансформаций, в хозяйственной дисциплине, тщательности, методичности.
Существенно сказывается на судьбе Украины отсутствие в течение веков собственной государственности. Это обстоятельство является одним из источников невостребованности в Украине стратегии, в том числе по причине, как уже отмечалось, восприятия времени как феномена цикличного (от урожая до урожая; от бюджета до бюджета), а не сценарного, как в России, воплощающего стратегические замыслы. Вместе с тем не меньшее, а может и большее значение для объяснения причин дефицита в Украине крупномасштабных замыслов и дел имеет недоверие украинцев друг к другу, сложившееся в качестве черты национального характера24.
Российский бизнес, на мой взгляд, не только более масштабен, но и стратегичен сравнительно с украинским. Значение имеет обилие в России ликвидных ресурсов; но не только это. Ведь опыт многих стран, особенно Японии и Южной Кореи, доказывает, что крупные, подчас гигантские корпоративные структуры создаются не только независимо от ресурсной базы, но и в условиях ее отсутствия, и даже вопреки этому, казалось бы, тормозящему обстоятельству. А с другой стороны, имеются страны (к примеру Нигерия), богатые природными ресурсами, но лишенные способности создать крупный бизнес. В российском варианте нацеленный на стратегию крупный бизнес во многом есть результат иной, чем в Украине, ментальности. И это, при отлаживании взаимодействия, может дать соответствующий импульс экономике Украины.
Казалось бы, Украина, с учетом ее большей частнособственнической продвинутости, должна по части бизнеса опережать Россию. Но дело в том, что в случае формирования именно крупного бизнеса срабатывает не столько частнособственнический (индивидуалистический) инстинкт, сколько феномен корпоративности, т. е. способности «сбиваться в стаи», а значит, склонности доверять друг другу. По моему мнению, именно этих черт украинцам недостает. У русских же они, похоже, в избытке; тут вероятно сказывается и общинная генетика россиян.
Мне могут возразить, что в Украине, сравнительно с Россией, процесс формирования бизнеса в значительно большей степени блокируется властью. Признаем, что это так. Но разве власть, — скажем в ответ, — не есть выразитель свойств народа?! Как видим, круг замыкается, и от специфики черт национального характера нам деться некуда. Ибо во власть мы выдвигаем именно себе подобных. К слову сказать, Восток Украины, теснее связанный с Россией, не только в части бизнеса более масштабен, но и более стратегичен.
Вывод напрашивается сам собой: процесс формирования в Украине крупных корпораций (а именно они являются локомотивами развития и качественного роста) вне связи и взаимодействия с российским бизнесом может неоправданно затянуться или же просто не успеть состояться25. Не успеть потому, что транснациональные компании не дремлют. Ведь без собственных крупных корпораций Украина как успешная страна просто не состоится: не с малым же обомжевшим бизнесом, и не с потайными, весьма «застенчивыми» доморощенными богачами включаться Украине на инновационной основе в глобальное пространство. А без такого вхождения в глобальную экономику страна, какие бы приросты она не давала, теряет главное — возможности осуществления структурных сдвигов и использования плодов экономического роста для повышения жизненного уровня народа. Опыт разбухающих по критериям ВВП, но по–прежнему нищенствующих стран Латинской Америки здесь весьма поучителен.
Создание, а вернее, форсированное развертывание совместных (украинско–российских) транснациональных компаний отражало бы не только социально–психологическую, но и организационно–технологическую нашу совместимость и взаимодополняемость. Прошедший в Харькове в конце 2001 г. экономический форум буквально выплеснул соответствующую информацию. Причем намеченные совместные проекты все в большей мере демонстрируют намерения совместно интегрироваться в глобальную экономику не на сырьевой, а на высокотехнологичной основе. И что еще важнее, все четче просматривается возможность не только реанимирования и обновления технологий, но и возрождения фундаментально–научного и научно–технологического потенциала наших стран. А тут без России Украине вообще не состояться. Ведь Украина как таковая развивать фундаментальную науку и форсировать на этой основе наукоемкие технологии в одиночку вообще не сможет. Большая наука — это удел лишь нескольких стран, в том числе России.
Научно–технологическое взаимодополнение тем более важно, что за годы независимого существования мы сполна убедились, что ни высокие технологии, ни, тем более, фундаментальную науку никто из западных партнеров с нами развивать не будет. Так что мы, — Украина и Россия, — кроме как друг другу во всех этих смыслах никому больше не нужны. Причем дело здесь не только в естественном стремлении высокоразвитых стран удержать в своей орбите высокие технологии во имя усиления конкурентных преимуществ. Значение имеет и сохраняющаяся несовместимость наших и западных научных школ и технологических подходов. Ведь до сих пор в российско–украинских взаимодействиях дает себя знать та уникальность, которая была следствием прорывов в условиях закрытости и изоляционизма. Поэтому движение Украины к модернизации с опорой на лучшее прошлое (научные школы, научно–технологические заделы) реально лишь при взаимодействии (и взаимодополнении) с Россией.
Такое взаимодействие (для Украины — только оно) способно также обеспечить масштабный выход наших крупных бизнес–игроков в глобальное пространство. Причем похоже, что делать это нужно именно сейчас, поскольку впервые в глобальной экономике ситуация на мировой арене для нас складывается сравнительно благоприятно.
Во–первых, появился шанс эксплуатации эффекта «проложенной лыжни». Ведь первопроходцы, при всех их колоссальных преимуществах, теперь уже испытывают на себе «эффект» неуправляемости, они попали в инновационную ловушку первоначально легкого успеха, увязли в ими же воссозданных дисбалансах и асимметричных шоках.
Во–вторых, можно воспользоваться в наших интересах заметным торможением (прежде всего в США) процессов обновления традиционных отраслей. Торможение это (а то и отставание) также связано с чрезмерной эйфорией насчет возможностей получения сверхдоходов в отраслях т. н. новой (информационной) экономики. В США под воздействием ажиотажа произошла настолько интенсивная и ажиотажная перекачка средств в сферу информационных технологий, что все остальное, дававшее обычные доходы, было в какой–то мере оголено26. Что же касается спекулятивно раскрученных отраслей новой экономики, то они многих надежд не оправдали; форсированное их развитие не дало ожидаемого прироста производительности труда.
Конечно, маятник погони за прибылью затем в высокоразвитых странах качнется в иную сторону, и баланс затрат и результатов оптимизируется. Однако не исключено, что можно воспользоваться заминкой, прицельно форсировать успех и вырваться вперед на наиболее конкурентоориентированных (например, космос и авиация) направлениях.
В-третьих, новые, отсутствовавшие ранее возможности для наших экономик открываются в связи с происходящим в последние годы сужением зоны импортно–экспортной и инвестиционной экспансии стран Запада. Получается, что страны Запада на этих направлениях все больше обслуживают друг друга, как бы теряя интерес к странам третьего мира. Показательными здесь являются следующие данные. Высокоразвитые страны направляли друг другу в разные годы возрастающую долю экспорта: 1953 г. — 38%; 1963 г. — 44%; 1973 г. — 54%; 1990 г. — 76%. Доля же экспорта, направляемого в развивающиеся страны, уже к середине 90‑х годов снизилась до 1,2% от ВВП этих (высокоразвитых) стран. Та же тенденция наблюдается в отношении инвестиций. К настоящему времени 90% инвестиций идут в США из Германии, Великобритании, Японии, Канады, Франции, Швейцарии, Нидерландов. А эти страны, в свою очередь, являются получателями более 60% всех американских капиталовложений. Как видим, наши страны получают возможность осваивать расширяющееся «ничейное» пространство. Ясно, что с позиций партнерства, основанного на взаимодополняемости и совместных крупных проектах, это делать легче.
Препятствий на этом пути, конечно, много. Тем более, в Украине налицо колебания власти в отношении интеграционного выбора в ситуации, когда именно вхождение в многострановые региональные сообщества стало способом защиты от глобальных неурядиц и источником преодоления отставания конкурентоспособности. Причем в Украине неопределенность и метания касаются и вектора ориентации, и представлений о ее глубине. Но подобные вопросы отложим, на них остановимся в другом случае.
ГЛАВА 1: СТАДИАЛЬНОСТЬ, ПОЛИВАРИАНТНОСТЬ И ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ДИСКРЕТНОСТЬ ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА (Ю. В. Павленко)
Дискретность и единство человеческой истории
В философско–исторической традиции известны случаи отрицания единства развития человечества. Среди крупных мыслителей, не признававших единства всемирно–исторического процесса, следует, прежде всего, назвать Н. Я. Данилевского, К. Н. Леонтьева и, особенно, О. Шпенглера. Однако более типичным является стремление подчеркивать единство мировой истории, религиозно провозглашенное Библией и впервые на философском уровне осмысленное бл. Августином. Акцент на единстве исторического процесса наблюдаем у просветителей, особенно у А. Р. Тюрго и Ж. А. Кондорсе, у И. Г. Гердера, Г. В. Гегеля, К. А. Сен–Симона, не говоря уже о К. Марксе и О. Конте, марксистах, позитивистах и эволюционистах XIX–XX вв., а тем более о современных глобалистах.
Особое внимание теме внутреннего единства человеческой истории уделяла русская философия начиная с В. С. Соловьева, придававшего идее всечеловеческого единства (в контексте философии всеединства) выразительный религиозно–мистический смысл. По убеждению этого мыслителя, «смысл существования наций не лежит в них самих, но в человечестве», при том, что с момента явления Христа «великое человеческое единство, вселенское тело Богочеловека, реально существует на земле. Оно несовершенно, но оно существует; оно несовершенно, но оно движется к совершенству, оно растет и расширяется вовне и развивается внутренно»27.
В таком контексте сама цель индивидуального человеческого существования определяется В. С. Соловьевым как «образование всецелой общечеловеческой организации в форме цельного творчества или свободной теургии, цельного знания или свободной теософии и цельного общества или свободной теократии»28.
С новой остротой тема единства человеческой истории зазвучала в западной философии после трагического опыта Второй мировой войны, в частности, в вышедших во второй половине 40‑х годов работах П. Тейяра де Шардена и К. Ясперса.
Рассматривая человеческую историю в контексте космической, направляемой божественным первоначалом эволюции, П. Тейяра де Шарден понимает первую в аспекте постепенной интеграции человеческих групп. Если в палеолите общины представляли собою лишь довольно слабо связанные друг с другом группы бродячих охотников, то в неолите, по его справедливому заключению, между человеческими элементами начинает возникать большая спаянность и этот процесс уже не останавливается. Человечество было представлено отдельными, часто разделенными большими пространствами почти незаселенных территорий небольшими группами охотников и собирателей, затем рыболовов, ранних земледельцев и скотоводов. В определенных, благоприятных для жизни, районах они образовывали как бы сгустки человеческих масс, все более интенсивно контактирующих друг с другом. В их среде, после перехода к производящему хозяйству, при наличии благоприятных условий происходило становление первых цивилизаций.
Абстрагируясь от цивилизации доколумбовой Америки, не сыгравшем самостоятельной роли в процессе становления современной мировой цивилизации, обратимся к оценке рассматриваемых П. Тейяром де Шарденом трех центров цивилизационного развития Старого Света: Китайского, Индийского и Ближневосточного, изначально представленного автономными, но контактирующими друг с другом Египтом и Месопотамией, и ставшего основой последующего развития всего Переднеазиатско–Средиземноморского макрорегиона.
По мнению французского мыслителя, Китай (в котором он, кстати, проработал много лет), представляя собою «невероятно рафинированную цивилизацию» с многочисленным высокоспециализированным населением, демонстрирует в то же время невероятно архаическое, почти не изменившееся с момента своего цивилизационного оформления общество. Такую же застойную картину, по его мнению, дает и цивилизация Индии, с той лишь разницей, что в ней необычайного развития и влияния достигает религиозно–философская метафизика, уводящая человеческий дух в сторону от реальной деятельности и потому не способная направить вперед человеческую эволюцию.
«Итак, мало–помалу, — пишет П. Тейяр де Шарден, — мы отклоняемся ко все более западным зонам мира — туда, где в долинах Евфрата и Нила, на берегах Средиземного моря вследствие исключительного сочетания местоположения и народов в течение нескольких тысячелетий произошло благоприятное смешение, благодаря которому, не теряя своей подъемной силы, разум сумел обратиться к фактам, а религия совместиться с действием. Месопотамия, Египет, Эллада, вскоре Рим — и над всем этим… таинственный иудео–христианский фермент, давший Европе ее духовную форму!»29
Именно здесь, в частности — в Западной Европе, и начался «глубокий вираж мира» XVI–XVIII вв., который преобразовал Землю как таковую, связав человечество в реально функционирующую социокультурную сверхсистему. Более точен А. Дж. Тойнби, усматривавший в пределах Переднеазиатско–Североафриканско–Европейского круга народов последних полутора тысячелетий по крайней мере три равномасштабные и опирающиеся на, в принципе, одно антично–ближневосточное основание цивилизации: Западнохристианскую, Восточнохристианскую и Мусульманскую. Они родственны между собою, однако, вместе с тем, и вполне самостоятельны.
В этом смысле сегодня с новой силой актуальности звучат слова В. С. Соловьева о том, что Западная цивилизация не стала общечеловеческой. Она «оказывается бессильной против целой культуры — мусульманского Востока», при том, что «силы древнего Востока, сначала совершенно парализованные христианством, снова оживают в виде ислама, который не только не поддается перед христианским Западом, но и с успехом наступает на него»30. Своей экспансией Запад вывел из, казалось бы, безнадежной стагнации высокие цивилизационные миры Востока — Мусульманско–Афразийский, Индийско–Южноазиатский и особенно демонстрирующий динамическое и эффективное развитие Китайско–Дальневосточный цивилизационные миры.
Во многом сходным образом всемирно–историческое развитие человечества осмысливал и выдающийся немецкий философ XX в. К. Ясперс. Основными очагами цивилизационного развития в древнейшие времена он считает Китай, Индию, а также взаимосвязанные между собою Египет и Месопотамию, подчеркивая, что именно с них надо начинать рассмотрение культурного развития Запада. При этом под «Западом» (в предельно широком смысле слова) он подразумевает всю массу взаимосвязанных между собою народов и цивилизаций от Атлантики до Гиндукуша, так или иначе связанных своими истоками с древним восточносредиземноморско–переднеазиатским наследием и представленных в последние полтора тысячелетия имеющими общие эллинско–иудейские корни культурами христианства и ислама.
«Мир Передней Азии и Европы, — пишет К. Ясперс, — противостоит в качестве относительной целостности двум другим мирам — Индии и Китаю. Запад являет собой взаимосвязанный мир — от Вавилона и Египта до наших дней. Однако со времен греков внутри этой культурной сферы Запада произошло внутреннее разделение на Восток и Запад, на Восточный и Западный миры»31. Он безусловно прав в том, что в духовном, религиозно–философском отношении культуры христианских и мусульманских народов между собою значительно ближе, чем с цивилизациями Южной и Восточной Азии. Западнохристианский, Восточнохристианский и Мусульманский миры достаточно близки, если сравнивать их с мирами Южной и Восточной Азии в их традиционном понимании.
За фазой «истории» как истории отдельных цивилизационных миров в концепции К. Ясперса следует собственно «мировая история», подготовленная эпохой Великих географических открытий. Философ констатирует, что около 1400 г. жизнь Европы протекала примерно на одном уровне с цивилизациями Азии, и задается закономерным, и, в сущности, по сей день нерешенным вопросом о том, чем был вызван ее последующий стремительный рывок. Этот вопрос становится для него основной проблемой всемирной истории, поскольку на Западе произошел тот единственный, значимый, существенный для всего мира прорыв, чьи следствия привели к ситуации наших дней. Однако, при всей ценности последующих рассуждений относительно роли научно–технического прогресса (вполне укладывающиеся в понимание М. Вебером значения рациональности в жизни Запада), внятного ответа на него К. Ясперс не дает.
Из приведенных выше материалов следует, что вопрос о целостности человеческой истории может рассматриваться в двух плоскостях: умозрительной и эмпирической.
Первый, философский, подход предполагает, что человеческая история едина как целостный процесс, охватывающий существование вида Homo sapiens с момента образования первой маленькой группы его представителей до завершающей фазы глобализации, переживаемой нами сегодня. Мы видим путь от единства первичной, занимающей ограниченный ареал популяции через раскрытие вариативной множественности народов и цивилизаций к единству как взаимосвязи и взаимодействия последних в пределах глобализирующегося современного человечества. Мы можем предполагать подобие если не законов, то, по крайней мере, тенденций развития, присущих отдаленным, не связанным между собой общностям людей, наиболее ярко выразившееся в независимом переходе к земледелию и цивилизации в Старом и Новом Свете.
Констатация такого факта позволяет допустить наличие неких общих для всего человечества таинственных сил, стоящих за человеческой историей и под различными углами зрения осмысливающихся как Судьба (Фатум, Рок), Божье Провидение (Божественная Воля), сплетение кармических линий бессчетных душ (монад), образующих единый поток эволюции, общие законы исторического развития, общечеловеческие архетипы коллективного бессознательного и (или) культуры и пр. Как бы это единство не объяснялось, движение различных групп человечества в сходном направлении от охотничье–собирательного состояния через неолитическую революцию, локальные и региональные цивилизации к некоему глобальному структурно–функциональному единству сомнений не вызывает. Мы, таким образом, имеем дело с эмпирическим, наличным единством человечества как глобально–цивилизационной макросистемы, сформировавшейся при решающем участии Западной Европы, в Новое время.
Но такой подход дает возможность увидеть лишь одну сторону реальности. Не менее важной является и ее другая сторона — дифференциация человечества, сфер его жизнедеятельности и форм культуры. Органическое единство интеграционных и дифференционных процессов, взаимопредполагающих, взаимодополняющих и взаимообусловливающих друг друга, в качестве смысла и внутренней пружины эволюции в свое время предполагал Г. Спенсер. Если абстрагироваться от поверхностного (а с учетом событий уходящего столетия — кощунственного) оптимизма прогрессистской концепции, то трудно не увидеть: в продолжение как минимум последних 10 тысячелетий в общечеловеческом масштабе наблюдается все более быстрое нарастание интеграционно–дифференциационных явлений, т. е. эволюция в ее классическом, спенсеровском понимании.
Это вполне согласуется и с более ранним, разработанным К. Марксом и Ф. Энгельсом на страницах «Немецкой идеологии», положением, согласно которому сменяющие друг друга исторические эпохи демонстрируют последовательное углубление дифференциации и кооперации трудовых усилий все больших масс людей, определявшееся ими через идею об обобществлении труда и капитала. Подобные мысли можно встретить и ранее — у Г. В. Гегеля и А. Сен–Симона. Они органически согласуются и с духом мировой экономической мысли — от А. Смита и Д. Рикардо до современных, ориентированных на глобализм направлений. Так что сегодня отказываться от понимания эволюции как единства интеграционно–дифференциационных процессов нет никаких оснований.
Такая позиция (если сравнивать с теориями современных российских мыслителей) наилучшим образом согласуется со взглядами Г. С. Померанца, отмечающего, что дифференциацию сфер человеческой деятельности, при их последующем автономном, но взаимосвязанном и скоординированном в рамках интегрального целого развитии, чрезвычайно удобно рассматривать в качестве лейтмотива исторического процесса32.
Это не означает, что развитие средств производства утрачивает значение маркирующего знака определенной ступени развития. Для древнейших, известных лишь благодаря археологическим исследованиям эпох, у нас, как правило, просто нет иных индикаторов. Однако с того момента, когда в руках ученых оказывается больше источников информации, в особенности же, когда они (с появлением письменных источников) становятся качественно более разнообразными, появляется возможность параллельного и взаимокоррелируемого исследования нескольких переменных: развития форм хозяйства, общества, религии, искусства, позитивных знаний и пр. Соответственно, возникает проблема координации этих переменных с целью выделения стадий исторического процесса.
Г. С. Померанц предлагает положить в основу периодизации степень дифференцированности социокультурной системы как таковой. Тогда состояние отдельных ее сфер (субсистем) следует выводить не одно из другого, а из целостности самой структуры, в которую они входят. При этом развитие целого не опережает развития частей. Наоборот, что–то новое, как правило, возникает в какой–то отдельной сфере и из нее воздействует на все прочие субсистемы (а те, в свою очередь, и на породившую первоначальный импульс) так, что со временем вся система как таковая восходит на новую ступень развития. Центральной переменной может быть любой параметр, который в данное время отчетливо выражен. Но дело, в сущности, не в нем как таковом, а в трансформации системы, взятой в ее структурно–функциональной целостности.
Исходя из вышесказанного, становится вполне понятным, что социальные, культурные или экономические феномены вовсе не являются непосредственно производными от каких–либо «базовых» (определяемых в качестве таковых в соответствии с мировоззрением исследователя, т. е. априори — субъективно) явлений. Более того, одинаковым реалиям одной сферы в разных обществах соответствуют различные, в достаточно широком диапазоне, формы проявления других. Так, к примеру, верхнепалеолитические охотники приледниковой зоны Западной Европы и Северо–Восточной Азии практиковали приблизительно одинаковый образ жизни, однако в первом случае мы видим высокие образцы изобразительного искусства, почти отсутствующего во втором. Или, с другой стороны, как показала О. Ю. Артемова, при подобных формах хозяйственных занятий и одинаковом уровне материальной обеспеченности аборигены Австралии имели чрезвычайно сложную систему социальных (в особенности брачных) отношений, тогда как бушмены отличались их простотой33.
Поэтому следует признать, что определенной ступени развития производительных сил (как и уровню социальной интеграции или степени творческой активности) соответствует не один определенный тип, а целый спектр возможных типов общественных отношений, форм культурной жизни и т. д. Раннепервобытные охотники и собиратели могут быть и вполне эгалитарными, как бушмены, и сильно ранжированными, подобно аборигенам Австралии. Они могут иметь развитые формы тотемизма, как вторые, или вовсе не знать его, как первые. Однако система научных знаний или парламентаризм, индустриальное производство или кинематограф на их стадии развития появиться не могут.
С другой стороны, мировые религии могут исповедовать и кочевники, и представители современной городской культуры, однако среди их адептов не может быть раннепервобытных охотников и собирателей (кроме, естественно, тех, кто кардинально изменяет весь свой жизненный строй под внешним воздействием цивилизации). Точно так же философия или авторская лирическая поэзия, возникающие в условиях духовного сдвига «осевого времени», имеются и в наше время, т. е. соотносимы с реалиями последних двух с половиной, максимум трех тысячелетий. Однако на более ранних стадиях человеческой истории они не встречаются.
Иными словами, отказываясь от моноопределенной детерминации экономических, общественных и культурных феноменов, следует признать наличие между ними корреляции поливариантной, однако по–своему не менее жесткой. Коррелируются определенные спектры стадиально «совозможных» (по терминологии Г. В. Лейбница) экономических, социальных, политических, религиозных, интеллектуальных, художественных и прочих форм. Такие сгустки «совозможных» феноменов соответствуют определенным уровням реализации культур–цивилизационного процесса. В соответствии с ними мы и можем выделять отдельные ступени и стадии развития человечества. А переходные этапы между этими периодами, связанные с системными трансформациями соответствующих социо–культурных общностей, будут выступать, пользуясь терминологией синергетики, «бифуркационными точками» цивилизационного процесса.
Как уже говорилось, до эпохи Великих географических открытий человечество не представляло собой единой глобальной макросистемы. Однако в позднепервобытных (протоцивилизационных) образованиях, отдельных цивилизациях и цивилизационных ойкуменах происходили эволюционные сдвиги в этом направлении: появление государственности, городских форм жизни и письменности при становлении цивилизаций как Старого, так и Нового Света, а также системная трансформация «осевого времени», охватившая прерывистую полосу ранних цивилизаций от Средиземного до Желтого морей, но происходившая в каждой из них, в сущности, за счет собственных потенций.
Рассматриваемая в феноменальной плоскости, под углом зрения органически взаимосвязанных процессов дифференциации и интеграции человечества всемирная история в самом общем плане может быть разделена на два основных периода.
В первом из них, связанном с процессом расселения раннепервобытного человечества по планете, в ходе освоения различными группами новых, пригодных для жизни пространств, преобладали дифференциационные процессы. В то же время, как бы на заднем плане, уже тогда были заметны едва уловимые, если не интеграционные, то, по крайней мере, свидетельствующие о связях между отдаленными друг от друга частями человечества тенденции — в виде распространения из отдельных центров передовых идей и изобретений (скажем, лука и стрел), установления длинных, в тысячи километров, цепочек обмена, в результате которых высокоценимые раковины каури в верхнем палеолите попадают с берегов Индийского океана во внутренние районы Евразии и пр.
На втором этапе, при сохранении и углублении процессов социокультурной дифференциации, все большее значение приобретает интеграционное взаимодействие между различными группами человечества, заселяющими различные ландшафтные зоны, являющимися носителями определенных расовых признаков и представляющими первичные праязыковые общности, от которых происходят современные языковые семьи.
Рубежом между двумя отмеченными периодами является эпоха «неолитической революции» и соответствующего ей широкого расселения рыболовческо–раннеземледельческо–скотоводческих общин из центров опережающего развития (начиная с протонеолитического Ближнего Востока) на соседние территории. К этому времени — отстоящему от нас приблизительно на 10 тысячелетий — практически все сколько–нибудь пригодные для жизни человека участки суши (за исключением, разве что, островов Океании), от Крайнего Севера до Австралии и южной оконечности Южной Америки, уже были заселены. Поэтому расселение носителей передовых на то время форм хозяйства вело к интенсификации взаимодействия представителей различных этноязыковых и социокультурных общностей, причем на предельно широких пространствах, включая глубины Евразии и океанические побережья.
Как видим, этот рубеж полностью соответствует определенному ранее времени окончания собственно первобытности (эпохи, обычно именуемой ранней первобытностью) и началу цивилизационного процесса, понимаемому в предельно широком смысле слова. Как уже отмечалось, в геологической периодизации это соответствует окончанию последнего ледникового периода и переходу от плейстоцена к голоцену, а по археологической шкале — завершению финального этапа верхнего палеолита (эпипалеолиту Ближнего Востока, раннему мезолиту в лесной зоне Европы) с переходом к неолитическим (через протонеолит в Восточном Средиземноморье и близлежащих территориях) и энеолитическим формам.
Иными словами, в истории человечества со стартом цивилизационного процесса, истоки которого прослеживаются на Ближнем Востоке приблизительно с десятитысячелетней давности, тенденции интеграции начинают уравновешивать полностью преобладавшие ранее процессы дифференциации. Со временем интеграционные тенденции начинают преобладать34. Здесь мы можем выделять свои особые этапы.
На первом этапе, соответствующем отрезку времени от победы в очагах опережающего развития «неолитической революции» до появления первых цивилизаций, тенденции к дифференциации еще весьма сильны, тогда как интеграционные процессы только начинают разворачиваться. Но дифференциация происходит уже главным образом не за счет расселения и, прежде всего, пространственного отрыва одних групп людей от других, а благодаря конституированию в отдельных областях собственных социокультурных, а в перспективе — цивилизационных оснований.
Это мы видим в долинах Нила и Инда, бассейне Тигра и Евфрата, в Эгеиде, Центральной Мексике и пр. В свою очередь, относительная интеграция в пределах определенных регионов обеспечивается, в первую очередь, благодаря непосредственному расселению отдельных групп людей, связанных с передовыми хозяйственно–культурными типами подвижных скотоводов (пастухов) и менее мобильных, но зато более основательно обживающих осваиваемую территорию земледельцев.
На такой, предцивилизационной, фазе развития общества (традиционно идентифицируемого в качестве позднепервобытного) мы наблюдаем постепенное вызревание нескольких цивилизационных ойкумен. Со всей определенностью по отношению к Старому Свету мы можем говорить об одной изначально полицентричной — Средиземноморско–Переднеазиатской (с автономными очагами опережающего развития в Египте, Месопотамии, Эгеиде, отчасти в Анатолии и Эламе) и двух явно моноцентрических (Индийско–Южноазиатской и Китайско–Восточноазиатской).
При этом, похоже, параллельно складывались и особые протоцивилизационные ойкумены, не получившие дальнейшего самостоятельного развития. Примером может быть особый рисоводческий мир народов Юго–Восточной Азии (в треугольнике между низовьями Янцзы и Ганга и о. Ява) неолита — бронзового века или Полинезия. Свои цивилизационные ойкумены несколько позднее сложились в Мезоамерике и области Перуанско–Боливийских Анд с примыкающей к ним полосой тихоокеанского побережья.
Второй этап всемирной интеграции, уже начинающей приобретать некоторые черты глобализации, относится к III–I тыс. до н. э. и завершается приблизительно к рубежу эр, когда в рамках Старого Света три великих и вполне автономных цивилизационных ойкумены — Средиземноморско–Переднеазиатская (или, точнее, уже Средиземноморско–Афразийская), Индийско–Южноазиатская и Китайско–Восточноазиатская, по трассам Великого Шелкового пути вступают между собой в непосредственное взаимодействие.
Зоной такого стыка цивилизационных ойкумен становятся просторы Центральной Азии и Среднего Востока, причем если в пределах Средней Азии (в ее прежнем понимании) мы видим межцивилизационное взаимодействие на местной цивилизационной основе (Бактрии, Согдины, Маргианы, Хорезма), то в широком поясе Евразийских степей эти контакты осуществляются при посредничестве мобильных скотоводов, во многом осуществляющих миссию посредников.
Таким образом, уже на рубеже эр Центральноазиатский регион начинает приобретать своего рода статус «сердца земли», впоследствии отмеченный классиками геополитической доктрины (от X. Макиндера и К. Хаусховера до З. Бжезинского). Ведущие политические силы тех отдаленных эпох, чувствуя стратегическое значение этого пространства, всеми силами стремились там закрепиться. Это относится уже к Ахеменидам и Александру Македонскому, а затем и к попыткам Китая (во времена династий Хань и Тан) утвердиться здесь. Однако с начала VIII в. этот регион на многие столетия становится органичной частью Мусульманского мира, пока его не завоевывает Россия.
К этому следует добавить, что при всех внешне благоприятных обстоятельствах империи, зарождавшиеся на собственно центральноазиатской почве (Кушанское царство, гуннская политическая система, Тюркский каганат, государства Саманидов, Сельджукидов и Хорезмшахов, империя Чингисхана и Чингизидов, держава Тимура) вскоре оказывались нежизнеспособными и распадались. Похоже, что внутренние интеграционные процессы в Центральной Азии были неизменно слабее, чем силовые поля Средиземноморско–Афразийской, Индийско–Южноазиатской и Китайско–Дальневосточной ойкумен.
При этом немаловажно, что к этому времени вдоль побережий Европы, Северной и Восточной Африки, Южной, Юго–Восточной и Восточной Азии, от Британии и Мавритании до Японии и Индонезии складывается единая зона мореплавания и параллельно происходит заселение предками полинезийцев островов Океании и устанавливаются первые спорадические контакты между обитателями Старого Света и аборигенами Америки и Австралии.
К рубежу эр в Новом Свете уже явно вошли в соприкосновение Мезоамериканский и Перуанско–Боливийский центры цивилизационного развития, однако контакты между ними, осуществлявшиеся преимущественно вдоль тихоокеанского побережья, были малоинтенсивными и практически не влияли на характер развития каждого из двух очагов цивилизаций Доколумбовой Америки.
В течение первых полутора тысячелетий новой эры (третий этап всемирной интеграции) мы наблюдаем в целом (при некоторых недолговременных отступлениях) нарастающий процесс интеграции в пределах всего цивилизационного пространства Старого Света, от Исландии (и даже Восточной Канады, куда викинги добрались около 1000 г.), империй Западного Судана (Гана, Мали, Сонгай) и негритянского государства Монопотапа на территории современной Зимбабве до Индонезии с Молуккскими и Японии с Курильскими островами.
При этом, особенно во времена Чингисхана и ранних Чингизидов, была предпринята почти достигшая своей цели попытка создания единой в организационном отношении общеевразийской политической системы. Однако после того, как ее опорные столпы на востоке (династия Юань в Китае) и на западе (династия Ильханов в Иране) Азии рухнули, а попытка восстановить евразийскую сверхдержаву потерпела фиаско со смертью Тимура в 1405 г., с противоположных концов Старого Света, из огромного Китая раннего периода династии Мин и крохотной Португалии в течение первой четверти XV в. началось объективное (безотносительно к личным намерениям таких его ведущих участников, как флотоводец Чжэн Хэ и принц Генрих Мореплаватель) движение к мировой интеграции. Оно разворачивалось через южный океанический простор с широким охватом Юго–Восточной Азии и Индии, с одной стороны, и Африки с другой. Сперва первенство китайцев в этом процессе было неоспоримым, однако к середине XV в. политика династии Мин резко меняется в сторону изоляционизма, тогда как достигшие к этому времени Гвинейского залива португальцы вскоре выходят на стартовые позиции в своем стремлении к Индии.
В результате с рубежа XV–XVI вв., ознаменовавшегося великими открытиями X. Колумба, Васко да Гамы и Ф. Магеллана, человечество вступило в четвертый этап всемирной интеграции, уже непосредственно предшествующий созданию глобальной сверхцивилизации современности. Его принципиальное отличие от предыдущего, кроме прочего, заключалось в двух моментах.
Во–первых, на этот раз в реальное взаимодействие вступили все основные части человечества, включая население Америки, внутренних областей Африки и Австралии с Океанией. Следовательно, процесс приобрел действительно глобальный характер. Это дает основания говорить о процессе глобализации (и уже не метафорически, а конкретно) во временных рамках последних пяти столетий.
Во–вторых, если на предшествующем началу глобализации этапе мы наблюдали полицентрический характер межцивилизационного взаимодействия при равенстве и автономности участвующих в нем цивилизационных миров, при, так сказать, более или менее партнерских и паритетных отношениях между ними, то, условно говоря, с 1500 г., при еще длительном сохранении и даже нарастании мощи Китая и Османской империи, с каждым столетием все более явственно ощущалось утверждение всемирной гегемонии Запада. Последний становится инициатором и локомотивом глобализации, осуществляющейся не только под его эгидой, но и в целях его собственного обогащения.
В соответствии с выделяемыми Л. С. Васильевым двумя этапами колониализма (до и после начала промышленного переворота)35, в истории глобализации четко различаются, во–первых, период XVI–XVIII вв., и, во–вторых, период XIX — начала XX вв., завершивший превращение мира в единую структурно–функциональную систему.
В этом отношении весь XX в., с начала Первой Мировой войны (которой предшествовали Русско–японская, две Балканские и пр. войны) до распада Варшавского блока и краха СССР, представляет собой отдельный, завершающий период глобализации. Его содержанием была борьба сперва враждовавших, а затем объединившихся ведущих стран Запада и ближайших к ним в плане военной мощи незападных государств (России-СССР, Османской империи, Японии) за мировое господство. Вехами на этом пути были:
• Первая Мировая война с последующим образованием тоталитарных монстров в виде коммунистического СССР и нацистской Германии, а также милитаризированной Японии;
• Вторая Мировая война с образованием биполярного мира борющихся за господство на планете Советского и Западного блоков (так называемое мировое противостояние социальных систем) и последующим распадом колониальной системы;
• Холодная, или даже, в некотором смысле, Третья Мировая война, в ходе которой (при мировом противостоянии США и СССР) ряду важных незападных стран (Индии, Индонезии, Китаю, Ирану, отчасти Японии и пр.) удалось занять автономную, а то и вовсе (как Китай) самостоятельную позицию.
В результате Холодной Войны Запад (прежде всего, в лице США и базирующихся преимущественно в них транснациональных компаний) одержал триумфальную, почти (по меркам мировой истории) бескровную победу, отбросив обломки своего не так давно еще столь грозного соперника в сторону группы слаборазвитых и малоперспективных государств. Казалось бы, Соединенным Штатам на рубеже тысячелетий удалось реализовать давнюю мечту Саргона Аккадского и Тутмоса III, Кира и Ксеркса, Александра Македонского и Юлия Цезаря, Чингисхана и Тимура, Карла V и Наполеона I, А. Гитлера и И. Сталина — подчинить человечество, создать «новый мировой порядок» на выгодных для себя условиях. Устами Ф. Фокуямы победители провозгласили счастливый для них «хеппи энд» — «конец истории». Действительно, раз цель Западом достигнута, то для чего истории продолжаться дальше?!
Однако при более пристальном взгляде на реалии нашего дня оказалось, что «покойник жив» и история продолжается. Более того, Дальний Восток разрабатывает эффективную альтернативу «западноцентричному» мировому устройству. Экспериментальные наработки относительно синтеза элементов дальневосточных цивилизационных оснований и передовых западных технологий, осуществлявшиеся в Японии, Южной Корее и на Тайване, сегодня в широком масштабе применяются в Китае. И пока ничто не мешает предполагать, что Китайский рывок вперед (конечно, не без трудностей и периодических кризисов) будет продолжаться и дальше.
В результате мир в обозримом будущем снова может стать дуальным, биполярным. На его полюсах встанут Западный (разделенный на Северную Америку и Объединенную Европу) и Восточный (при ведущей роли Китая и Японии) центры опережающего развития. При этом иноцивилизационные (по отношению к обоим центрам) крупные региональные державы (типа Индии, России, Ирана и пр.) должны будут искать себе место в новом двухполюсном мире, вступая в разнообразные отношения со США и Китаем, а также Европой (разумеется, без большинства бывших республик СССР), Японией и между собой.
Стадии исторического процесса
Идея стадиальности исторического процесса, уходящая своими корнями в ветхозаветно–древнехристианскую линейную (с эсхатологической перспективой) парадигму восприятия времени, является для новоевропейской философии традиционной и широко варьируемой в различных концепциях. В ее ключе в разное время работали А. Р. Тюрго и Ж. А. Кондорсе, А. Сен–Симон и Г. В. Гегель, К. Маркс, Л. Уайт и Дж. Стьюард и многие, многие другие. В XX в. стадиальное понимание исторического процесса было присуще и таким выдающимся мыслителям, как В. И. Вернадский и П. Тейяр де Шарден, К. Ясперс и А. Вебер, А. Дж. Тойнби, особенно в поздний период творчества, и пр.
В середине XIX — начале XX веков концепция стадиальности разрабатывалась не только марксистами, но и многочисленными представителями позитивистского эволюционизма — как философами, такими, в первую очередь, как О. Конт и Г. Спенсер, так и этнологами и культурологами — Г. Морганом, Э. Тайлором, Дж. Фрезером, Ю. Липпертом и др. В качестве основополагающей идея стадиальности присутствует и в неоэволюционистских построениях англо–американских исследователей середины — второй половины XX в. — таких, к примеру, как археолог Г. Чайлд, культуролог Л. Уайт, экономисты У. Ростоу и К. Поланьи и др. Таким образом, идея стадиального развития человечества вовсе не является чем–то специфически присущим именно марксистскому пониманию истории. Отличительной чертой последнего есть не мысль о том, что в процессе своего движения человечество проходит определенные ступени (формации), а то, что само это движение, в конечном счете, детерминируется саморазвитием экономического базиса и осуществляется через классовую борьбу.
Однако установку экономического детерминизма нельзя принять хотя бы потому, что первопричиной каких–либо изменений в экономической, как и любой другой, субсистеме является творческая деятельность людей, связанная с самыми разнообразными областями реальности (информационная база, моральные ценности, степень комфортности жизни и многое другое). К тому же ясно, что изменения в одной из субсистем влекут изменения, в конечном счете, и во всех других, что определяет и соответствующие изменения в субсистеме, давшей «начальный импульс». А поскольку такого рода взаимосвязанные изменения происходят постоянно, то вопрос о том, что же, в конечном счете, все определяет, утрачивает смысл. Стиль научного мышления XIX в. предполагал поиск некоей универсальной первопричины, понимание которой должно было объяснить бытие как таковое (к примеру, в философии Г. В. Гегеля) или движущие силы в отдельных сферах: общественного развития у К. Маркса, эволюции биологических форм у Ч. Дарвина, мотивации человеческого поведения у З. Фрейда и пр.
Но уже в первой половине XX в. монистический детерминизм полностью исчерпал свои эвристические возможности, и сегодня придерживаться положения о том, что материальные условия производства определяют, в конечном счете, все многообразие и богатство социокультурных феноменов, было бы по крайней мере наивно. Синергетическая парадигма предполагает отказ от классического детерминизма в пользу вероятностного стиля мышления.
Выделение стадий социокультурного движения человечества предполагает определение критерия периодизации всемирной истории. Как отмечалось, любая концепция исторического процесса, ориентированная на нахождение некоей одной «движущей силы» развития человечества, не может рассматриваться в качестве конструктивной. Поэтому следует отказаться и от попыток построения периодизации истории в соответствии с каким–либо одним критерием, будь–то степень индивидуальной свободы или общественной интеграции, уровень развития производительных сил и производственных отношений, степень и качество технической оснащенности, объем позитивных знаний, мера общественного благосостояния и пр.
Существенным же представляется тот, по–видимому, не вызывающий возражений факт, что в процессе социокультурного развития наблюдается устойчивая корреляция между явлениями экономической, социальной, политической, культурной, религиозной и пр. сфер. Определенным показателям одной из этих сфер соответствует некоторый, однако не бесконечный, спектр возможных состояний всех других сфер. Взаимосвязанную качественную трансформацию основных сфер общественной жизнедеятельности и предлагается использовать в качестве критерия определения узловых моментов истории. Чем более глубокими и значительными по своим последствиям являются фиксируемые системные сдвиги, тем более крупные вехи в истории человечества они определяют.
Выделение узловых моментов всемирной истории как целостного процесса, как и ее периодизация, должно базироваться на определении тех ее точек, в которых наблюдаются взаимосвязанные принципиальные трансформации основных (экономической, социальной, политической, культурной и пр.) сфер жизнедеятельности людей. Последовательное применение такого принципа приводит к достаточно существенному пересмотру традиционных представлений о периодизации мировой истории.
При таком подходе следует, прежде всего, разграничивать два наиболее значительных периода в истории, а именно — до и после так называемой «неолитической революции»: перехода от присваивающих к производящим формам хозяйства. Именно с этого момента начинается поступательный процесс социокультурной эволюции отдельных человеческих сообществ в пределах более–менее компактных регионов, выводящий со временем на уровень возникновения первых цивилизаций (начиная с Египетской и Шумеро–Аккадской). На их основе, используя терминологию А. Дж. Тойнби, формируются уже вторичные региональные цивилизационные системы (типа Античной, Индийской, Китайской и пр.) и следующие за ними с рубежа древности и средневековья в пределах Европейско–Афразийского макрорегиона цивилизации третьей генерации: Мусульманская, Восточнохристианская и Западнохристианская. В конечном итоге, в течение Нового времени ранее мало связанные между собой региональные цивилизации земного шара интегрируются вокруг вышедшей на буржуазно–индустриальный уровень развития Западной цивилизации в глобальную всемирную макроцивилизационную систему, оказывающуюся вскоре после возникновения — в XX в. — в полосе трагических метаморфоз.
Само единство социокультурного процесса, его внутренняя логика и самоопределенность от «неолитической революции» до современности дают возможность включать в цивилизационный процесс не только общества, находящиеся на ступени цивилизации (в ее традиционном фергюсоновско–моргановско–энгельсовском понимании), но и многотысячелетний период развития родо–племенных социумов древних земледельцев и скотоводов позднепервобытной эпохи. Иначе говоря, в понятие «цивилизационный процесс» представляется целесообразным включить не только историю уже сформировавшихся цивилизаций, охватывающую приблизительно последние пять тысячелетий, но и период формирования древнейших цивилизационных систем, занявший приблизительно такой же отрезок времени.
В таком случае эпоха раннепервобытных охотничье–собирательских обществ (которые, возможно, стоило бы называть собственно первобытными) может рассматриваться как «доистория» или «предыстория» цивилизации, длившаяся многие десятки тысячелетий от возникновения человека современного типа (Homo sapiens) около, вероятнее всего, 200 тыс. лет назад, до «неолитической революции», начавшейся на Ближнем Востоке 10–12 тыс. лет назад на гребне климатических изменений, связанных с окончанием ледникового периода, при переходе от плейстоцена к голоцену.
Раннепервобытное человечество верхнего палеолита еще не знало саморазвития как определенного поступательного процесса. Оно не преобразовывало окружающую среду, а приспосабливалось к ней. Поэтому изменения природно–климатических условий автоматически приводили к общему кризису соответствующей социокультурной системы, представители которой далеко не всегда могли эффективно адаптироваться к новым условиям. История раннепервобытных обществ представляется, таким образом, историей небольших, связанных между собою в пределах широких природно–географических ареалов кровно–родственных общин с общими формами адаптации, а значит, и всего хозяйственно–культурного облика в целом. Таковыми, к примеру, можем считать коллективных охотников приледниковых открытых пространств верхнепалеолитической Евразии или современных им охотников и собирателей средиземноморско–переднеазиатских пространств с более индивидуализированными формами хозяйственной деятельности.
Поэтому периодизация истории раннепервобытных обществ представляется необычайно сложной, до сих пор не получившей убедительного решения. Отдельные охотничьи коллективы достигали высокого культурного уровня и исчезали, не оставляя достойных продолжателей своих традиций. Примером может быть взлет и упадок верхнепалеолитических обществ приледниковой Европы с их блестящим изобразительным искусством. Также известно, что предки южноафриканских бушменов и аборигенов Австралии несколько тысячелетий назад обладали более развитой культурой, чем в более позднее время — к моменту встречи с европейцами.
Собственно же цивилизационный процесс может быть разделен на две основных ступени: формирование основ цивилизационных структур и собственно историю цивилизации. Водоразделом между ними выступает время формирования первых цивилизаций, начиная с рубежа IV‑III тыс. до н. э., на Ближнем Востоке.
Период формирования основ цивилизации, в свою очередь, может быть разделен на две стадии, соответствующие временам родового (в смысле времени существования общественных структур, основанных на вертикальном, многопоколенном генеалогическом родстве) и племенного строя. Рубежом между ними выступает процесс формирования надобщинных структур власти и управления — племенных институтов, со временем приобретающих преимущественно вид чифдомов–вождеств, хорошо проанализированных западными этнологами (М. Сахлинс, Э. Сервис и др.). Если «неолитическая революция» закладывает, прежде всего, хозяйственные основания будущей цивилизационной истории, то формирование племенных органов власти и управления — основания будущих государственно–административных структур.
Принципиальные отличия между позднепервобытными предцивилизационными и цивилизованными обществами фиксируются по всем основным параметрам их сопоставления. В экономическом смысле цивилизация зиждется на возможности получения регулярного прибавочного продукта, отсутствующего в первобытном обществе. В системе социальных отношений цивилизованное общество демонстрирует сословно–классовое деление, отсутствующее в первобытности. Система организации власти в эпоху цивилизации основывается на государственно–территориальном принципе, тогда как в первобытном обществе решающую роль играют кровно–родственные связи. В культурно–информационном отношении существеннейшим отличием является тот факт, что первобытность демонстрирует дописьменную стадию фиксации, накопления, хранения и трансформации знаний и духовных ценностей, тогда как на уровне цивилизации это осуществляется при помощи семиотических систем.
Первобытное общество на каждом из этапов своего развития демонстрирует принципиально однотипный характер поселений, тогда как цивилизация предполагает разделение города и деревни как ведущего и ведомого компонентов территориально–поселенческой структуры. Отметим также и то обстоятельство, что на стадии первобытности в силу относительно низкой плотности населения и небольшой численности личного состава функционирующих в качестве жизнеспособных социальных организмов человеческих сообществ плотность информационных связей является принципиально более низкой, чем в эпоху цивилизации.
Важным шагом в вопросе осмысления всемирно–исторического процесса была предложенная в начале 80‑х годов Л. С. Васильевым концепция становления раннеполитических структур, опиравшаяся на последние на то время достижения мировой науки (работы К. Поланьи, Р. Карнейро, М. Сахлинса, Е. Сервиса и др.), но выдвигавшая в качестве смыслового ядра новую идею «феномена власти–собственности»36.
Смысл ее состоит в том, что в архаических обществах (а также при социализме, о чем раньше говорилось только в кулуарах) собственность и власть суть не самостоятельные, рядоположенные по отношению друг к другу начала (как то имеет место при капитализме), а представляют собою два аспекта, две условно выделяемые стороны одного явления.
Сущностью «феномена власти–собственности» является фактическое право власть имущих распоряжаться коллективным достоянием в ходе организации общественного производства и централизованного перераспределения (редистрибуции) материальных благ. Как убедительно показал Л. С. Васильев, представления о собственности как об особой сфере отношений в обществах архаического типа фактически не существовало. Регулярное присвоение правящей верхушкой фиксированной доли труда и доходов населения осуществлялось благодаря выполнению ею ведущих социально–экономических, административно–политических, военных и культовых функций. Из этого следует, что раннеэксплуататорские общества возникают в процессе монополизации знатью организационно–управленческой сферы, определяющей возможность присвоения части совокупного общественного прибавочного продукта при отсутствии или крайней неразвитости частной собственности на основные средства производства, в первую очередь, на землю.
Сегодня можно считать твердо установленным, что не появление частной собственности на средства производства повлекло за собой рождение эксплуатации и социального неравенства, а усложнение общественной организации, связанное с усилившейся дифференциацией сфер деятельности, привело к делению людей на две основные группы: управляющих и управляемых. Первые, монополизирующие власть–собственность на общественные ресурсы, организуя производство и перераспределение материальных благ, концентрируют в своих руках прибавочный продукт и расходуют его, в значительной степени, в целях укрепления престижа. Общественное разделение труда ведет к социальному расслоению, эксплуатации и имущественному неравенству.
Общество, в системе которого власть–собственность на основные ресурсы коллектива сосредоточена в руках наследственной социальной знати, организующей общественную жизнедеятельность и концентрирующей в своих руках (благодаря праву редистрибуции) совокупный прибавочный продукт, является раннеклассовым. Такое понимание раннеклассового общества в целом соответствует тому, что Л. С. Васильев определяет в качестве раннеполитических структур, а В. П. Илюшечкин называл сословными раннегосударственными обществами. Такая общественная структура характерна для ранних цивилизаций и поэтому с таким же успехом может быть названа раннецивилизационной, раннегосударственной или раннеполитической.
На следующем этапе социально–экономического развития, по мере парцелляризации производства и развития частного предпринимательства, в обществе формируется прослойка лиц, владеющих средствами производства на частнособственнических основаниях и, соответственно, сословие, лишенное средств производства. При этом верховная государственная (административно–бюрократическая или сеньйорально–вассалитетная) власть–собственность (в античном мире выступавшая в виде власти–собственности гражданской общины–полиса) по сути сохраняется, хотя и в несколько ограниченном объеме.
В результате между власть имущими и рядовым населением, ведущим в рамках общин мелкое натуральное хозяйство, вклинивается прослойка разбогатевших собственников, эксплуатирующая разоряющихся соплеменников (через арендаторство, долговое кабальничество, наем и пр.) и/ или иноплеменников–рабов. Однако эта прослойка собственников, особенно в традиционных обществах восточного типа, остается подчиненной, нередко фактически бесправной, по отношению к классу–сословию государственной бюрократии (например, китайских «шеньши»).
Правящая бюрократия эксплуатирует рядовое население через налоговый аппарат (в который постепенно трансформируется редистрибутивная система), тогда как более или менее активная прослойка предпринимателей–собственников и (или) как правило принадлежащих к слою правящей знати землевладельцев, в свою очередь, эксплуатируют труд так или иначе зависимого от них круга лиц. Таким образом, государственно–бюрократической эксплуатации подвергаются как объединенные в общины мелкие производители — непосредственно, так и вовлеченные уже в частный сектор, не имеющие собственных средств к существованию лица — опосредованно, через налоговый прессинг на предоставляющих им работу предпринимателей. Подобное типично и для постсоциалистических, и для постколониальных стран.
При этом если на Востоке в силу экономической необходимости в централизованной организации общественных (особенно сельскохозяйственноирригационных) работ господство государственной власти над «собственностью» в любых ее формах неизменно сохранялось веками и тысячелетиями, вплоть до экспансии западного капитализма, то в Западной Европе, в силу целого ряда причин, о которых обстоятельнее будет сказано ниже, «собственность» постепенно не только обособляется от «власти», но и становится в оппозицию к ней, противополагает себя ей, а затем, в ходе буржуазных революций, побеждает и подчиняет «власть», превращая государственную машину в орудие своего классового господства.
Общество, в системе которого верховная государственная власть–собственность на основное средство производства (землю) сохраняется в руках административно–бюрократического аппарата, эксплуатирующего остальное население посредством изъятия ренты–налога, однако допускающего в некоторых пределах развитие частного предпринимательства (предполагающего эксплуатацию труда людей, лишенных средств производства, а то и личной свободы), является сословно–классовым. Этим понятием В. П. Илюшечкин определял ступень общественного развития, следующую за «сословным» обществом поздней первобытности и ранних цивилизаций и предшествующую капитализму. В концепции Л. С. Васильева (в которой он рассматривает только общества Востока, западные им специально не анализировались) этому соответствует вторая (следующая за первой, раннеполитической) стадия развития «государственного способа производства».
Такого рода разграничение «раннеклассовых» и «сословно–классовых» обществ в пределах эпохи традиционных, докапиталистических цивилизаций ставит закономерный вопрос о фиксированной временными рамками границе (при всем понимании ее условности) между ними. В этой связи следует вспомнить работы Г. А. Меликишвили37, показавшего, что принципиальные изменения в социально–экономической жизни переднеазиатских обществ относятся не к эфемерному рубежу между «древностью» и «средневековьем», к которому обычно приурочивали переход от «рабовладения» к «феодализму», а приблизительно ко второй половине II — первой половине I тыс. до н. э., при том, что с середины I тыс. до н. э., где–то с начала Ахеменидского периода вплоть до Нового времени, их строй уже не претерпевал принципиальных изменений. К близкому выводу (при соответствующих хронологических коррективах: первая половина — середина I тыс. до н. э.) на основе исторического анализа китайской государственной системы пришли Л. С. Васильев38 и В. П. Илюшечкин39.
Обобщение этих результатов с учетом данных по другим регионам позволило сделать вывод, что в широкой полосе Старого Света, почти укладывающейся в субтропический пояс, в основных центрах цивилизационного развития (Восточное Средиземноморье, Передняя и юг Средней Азии, Индия и Китай) до последней трети I тыс. до н. э. в основных чертах завершился процесс трансформации архаических раннеэксплуататорских обществ, обычно именуемых раннеклассовыми, в те, которые В. П. Илюшечкин называл сословно–классовыми, а Л. С. Васильев — традиционными. При этом если цивилизации доколумбовой Америки в рассматриваемый период так и не преодолели собственными силами соответствующий рубеж и в полной мере соответствовали характеристикам раннеклассовых обществ, то периферийные по отношению к первичным цивилизационным центрам Старого Света варварские общества, начиная с последней трети I тыс. до н. э., благодаря стимулирующему воздействию со стороны последних, изначально сочетали не вполне реализовавшиеся раннеклассовые отношения со все более укоренявшимися сословно–классовыми.
Совершенно ясно, что как в общечеловеческом масштабе, так и в отдельно взятом регионе, в рамках каждой, достигшей соответствующего уровня развития цивилизации, этот переходный период занимал не одно столетие. Однако менее очевидно, в какой мере трансформация раннеклассовых обществ в сословно–классовые была связана с изменением самого качества человека, постепенно обретающего пусть пока еще весьма относительную, но все же свободу от жестких нормативных рамок консервативных обществ раннеклассового типа. Поэтому еще раз вернемся к определению социальной природы раннеклассового и сословно–классового обществ, но уже под углом зрения места и роли в них индивидуальности.
Под раннеклассовым представляется целесообразным понимать всякое эксплуататорское общество доиндустриальной эпохи, в системе которого отсутствует частная собственность на основное средство производства тех времен — землю — и на основную массу отчуждаемого у земледельцев натурального прибавочного продукта и в котором, соответственно, весьма неразвитым является товарно–рыночное производство и существует эксплуатация человека человеком в рамках отдельных домохозяйств. Для такого общества характерна власть–собственность социальной (раннегосударственной) верхушки на природные и трудовые ресурсы социального организма, реализующаяся, по преимуществу, в централизованной организации производства и отчуждении, перераспределении (редистрибуции) и трансформации прибавочного продукта.
При таких условиях социальный статус индивида, строго коррелирующийся с местом последнего в системе общественного разделения труда и выполнением определенных общественных функций, в решающей степени определяет его имущественное положение. Власть–собственность, система редистрибуции и, следовательно, совокупный общественный прибавочный продукт со всеми связанными с его обладанием формами подчинения одних групп людей другими находятся в руках лиц, венчающих пирамиду раннегосударственной власти.
Принципиальное отсуствие возможности выбора между различными ценностными ориентирами (стремлением к богатству, или знаниям, или ключевым постам в системе управления и т. д. — что, естественно, верно лишь на самом абстрактном срезе рассмотрения), при том, что продвижение по социальной лестнице (так или иначе ограниченное, впрочем, изначальной клановой или кастовой принадлежностью) определяло комплексное удовлетворение разнообразных индивидуальных запросов, делало невозможным противоположение индивидом себя тотальной власти–собственности. В раннеклассовом обществе человек мог самореализовываться лишь через предзаданные социо–культурные формы по мере приобщения к власти и продвижения по ее ступеням. Это относится не только к чиновникам, жречеству, военным или даже ремесленникам архаических цивилизаций, но и в ничуть не меньшей степени к работникам «творческих сфер» — архитекторам, живописцам и ваятелям, сочинителям художественно или информационно значимых текстов.
Само многообразие становившихся все более специализированными видов деятельности, заставлявших порою действовать и в нестандартных ситуациях, стимулировало проявление активных творческих и интеллектуальных сил человека. Уже тогда, реализовывая свои познавательные и творческие потребности, человек ощущает необходимость осмысления своего внутреннего мира и систематизации мира внешнего, о чем, к примеру, можно судить по шедеврам древнеегипетской лирики, вавилонским поэмам или по сложнейшей, детальнейшим образом разработанной календарной системе майя.
Однако проблески личностных форм культуры по сути своей выступали как вариативная деятельность в рамках традиционных канонов и в качестве альтернативы таковым не воспринимались ни авторами, ни современниками. Аналогичным образом следует, очевидно, понимать и по существу уже новаторские, выходящие за рамки традиционных канонов действия таких выдающихся политических фигур, как Урукагина (Уруинимгина) и Саргон Аккадский в Месопотамии или Аменхотеп IV Эхнатон в Египте.
Сословно–классовое общество — как вторая стадия развития докапиталистического эксплуататорского общества — характеризуется уже заметным развитием частнособственнических отношений, лимитированных, впрочем, все еще сохраняющейся, но становящейся уже кое–где почти номинальной, государственной властью–собственностью на землю и другие ресурсы. С этим непосредственно связано появление индивидуальной трудовой деятельности, оказывающейся вне государственно–редистрибутивных структур, что ведет к начальному развитию товарно–рыночных отношений и права индивида на определенную часть (оставшуюся после уплаты ренты–налогов, взносов и пр.), производимого в его хозяйстве прибавочного продукта. Это, естественно, стимулирует развитие частных форм эксплуатации человека человеком в рамках отдельных домохозяйств. При этом редистрибутивная система постепенно трансформируется в налоговый аппарат. Параллельно усиливается расхождение между социальными статусами, политическими позициями и имущественным достатком отдельных людей.
На стадии раннеклассовых обществ формы самореализации индивида были почти всецело предзаданы его местом в системе общественного разделения труда (обычно передававшимся по наследству), связанным с ним статусом и положением в иерархии власти, что в целом и определяло его материальный достаток. На сословно–классовой стадии, благодаря некоторому (в большей или меньшей степени) сужению экономических функций государства при развитии частнособственнических отношений и дальнейшем усложнении всех сфер общественной и культурной жизни, индивидуальное, творчески–деятельное начало в человеке получает возможность более глубокого и полного раскрытия.
Теперь от человека, от его способностей, ловкости и решимости действий в конкретных жизненных коллизиях, в которых он нередко оказывается вопреки своим намерениям, зависит его положение (и возможность самореализации) в обществе. А это, с одной стороны, определяет появление в общественном сознании идеи о самоценности отдельно взятого индивида и его усилий, а с другой — способствует укоренению представления о личностном, не опосредованном формами общественного культа, характере отношений отдельных («избранных») индивидов и высших сакральных сил, определяющих ход мировых событий.
Иерархически соподчиненные ранее компоненты системы «мир богов» — «сакрализованная державность» — «отдельные люди» перегруппировываются и выстраиваются уже не по вертикали (согласно которой отношения конкретных индивидов и богов неизбежно опосредуются государственным культом), а во взаимосвязи и взаимооппозиции друг к другу (по образцу вершин и сторон треугольника). Похоже, что развитие личных форм религиозного мироощущения, прямое обращение верующего (как частного лица) к богам или даже, начиная с древнего Израиля, к единому Богу прямо коррелируется с осознанием обществом оппозиции «человек — власть».
В социально–экономическом плане это соответствует появлению негосударственных форм собственности, в нравственно–идеологическом — признанию за человеком морального права на оппозицию к освященному авторитетом предков общественному мировоззрению (досократики и софисты в Греции; не признававшие святость Вед сторонники «неортодоксальных» учений древней Индии — адживики, чарваки, джайны и буддисты; в известном смысле ранние даосы в Китае; первые поколения зороастрийцев на юге Средней Азии и пр.) и даже выступить с открытым осуждением «власть придержащих» (пророки Израиля и Иудеи).
Такое положение дел стимулирует рост личностного самосознания, обратной стороной которого выступает все возростающее (пока лишь у единиц) ощущение противоположности, даже противостояния индивидуального «Я» окружающей социальной, в значительной мере обезличенной, «огосударствленной» реальности. Отсюда вытекает религиозно–философская проблема личностного бытия–в–мире и человеческого отчуждения. Именно поиски ее решения, со всеми связанными с ней этическими, метафизическими, гносеологическими и прочими вопросами определила сущность той переломной в духовном развитии человечества эпохи, которую К. Ясперс назвал «осевым временем».
Под «осевым временем» К. Ясперс понимал период между VIII и III вв. до н. э., когда в разных частях Старого Света практически одновременно действовали греческие философы, иудейские пророки, проповедники зороастризма в Иране, основоположники важнейших религиозно–философских течений Индии и Китая. Конкретный человек, личность была осмыслена ими в качестве самоценного, сопричастного сущностным основам бытия (Бога, Брахмы, Дао и пр.) начала как субъект, несущий личную отвественность за свои помыслы, слова и деяния перед неким персонифицированным (иудаизм, зороастризм) или деперсонифицированным (буддизм, веданта, даосизм) духовным Абсолютом40. В этом смысле ясперсовское «осевое время» является по сути тем этапом развития человеческого духа, на котором личность впервые осознает себя самоценным субъектом культурно–исторического творчества, противопоставляя себя внешнему миру социальной реальности и государственной власти.
В общественном сознании появляется антитеза «пророк и власть», «поэт и власть» или «мудрец (отшельник) и власть», что, особенно в контексте античной культуры, дополняется противопоставлением мудреца, прорицателя или поэта невежественной, неустойчивой в своих симпатиях и антипатиях толпе (Пифагор и италийские греки, Анаксагор, Протагор или, особенно, Сократ и афиняне и пр.).
Ясперсовская интерпретация «осевого времени» отражает только один, хотя и чрезвычайно существенный, а в метафизическом смысле важнейший, аспект глобальной трансформации системы ранних цивилизаций в традиционные социокультурные системы цивилизационных ойкумен середины I тыс. до н. э. — середины II тыс.; трансформации, которая в Египте и Месопотамии началась уже во II тыс. до н. э., однако разворачивалась в этих древнейших центрах цивилизационного процесса весьма медленно. Сегодня вполне ясно, что новое понимание места и значимости человека в мироздании, связанное с идеей непосредственной, внутренней, глубинной его причастности к первоосновам бытия, было сопряжено с кардинальными изменениями во всех других сферах жизнедеятельности.
В технологическом отношении оно соответствовало переходу к широкому использованию железных орудий труда и иным, качественно улучшившим производительность труда практически во всех сферах, изменениям в производственном процессе. Благодаря использованию железных орудий производительность сельскохозяйственного труда вне аллювиальных долин великих рек субтропической полосы (Нила, Тигра и Евфрата, Инда и пр.), в предгорьях и на каменистых плато, в зоне умеренных и тропических лесов качественно возросла; стало возможным использование дополнительных сил в ремесленном производстве, в армейских структурах и пр.
В социально–экономической области это время знаменательно началом полномасштабного утверждения частнособственнических отношений. Это происходило при условии, когда, как это показал Л. С. Васильев, прежняя нераздельная власть–собственность раннегосударственного аппарата на материальные и трудовые ресурсы коллектива утрачивает свою самодостаточность и рядом с государственным сектором легализируется сектор частный. Все большее развитие получают товарно–рыночные отношения, свидетельством чего является начало денежного обращения (монета начинает чеканиться в Лидии в VII в. до н. э.).
Все это, как и многое другое, ведет к нарушению жесткой (характерной для позднепервобытных и раннеклассовых обществ) корреляции между социальным, политическим и имущественным статусом индивида и в определенной степени раскрепощает его внутреннюю творческую активность. Это служит толчком к зарождению философии, религиозно–мистических исканий и поэзии, в изобразительном искусстве появляется индивидуальный портрет и пр. Конечно, отдельные из названных явлений мы встречаем в Египте и Месопотамии и ранее, однако в системном виде — в пяти отмеченных К. Ясперсом регионах третьей четверти I тыс. до н. э.
Более того, как справедливо отмечал в свое время В. И. Вернадский, именно с этого времени в качестве профессиональной сферы занятий выделяется область получения нового знания, а само знание начинает связываться с личными достижениями отдельных философов и ученых. С этого момента человек начинает осознавать свободу как сущностный аспект личностного бытия, что выражается в фундаментальных принципах высших религий, исходящих из наличия свободы воли и выбора у человека, а, значит, и его ответственности за свои деяния.
Положение о богоданности, метафизической определенности человеческой свободы впервые встречаем в учении Заратуштры и в библейском Второзаконии. В таком контексте человек осознает себя автономным контрагентом не только экономической, общественно–политической и культурной жизни, но и во взаимоотношениях с трансцендентной первореальностью бытия (вспомним хотя бы вызов Иова Богу). Это выражается во многих из тех религиозных и философских учений, которые возникают в Греции, Палестине, Иране, Индии и Китае в течение второй трети I тыс. до н. э.
Именно в это время оформляются базовые идеи высших религий, к которым, кроме трех мировых (буддизма, христианства и ислама), относят также иудаизм, зороастризм, индуизм и традиционный китайский даосско–конфуцианский мировоззренческий комплекс. Тогда же закладываются основы системы региональных империй — начиная с Новоассирийской и Нововавилонской держав, империи Ахеменидов на Ближнем и Среднем Востоке, затем Нандов и Маурьев в Индии, Цинь и Хань в Китае, эллинистических царств и Рима в Средиземноморье. Впрочем, прообразы таких держав встречаем и ранее — Аккадская держава Саргона, Египет эпохи Нового царства.
История до «осевого времени» — это история локальных раннецивилизационных систем, тогда как с названного периода начинается этап традиционных региональных цивилизаций доиндустриального типа с присущими им надэтническими религиозно–культурными формами духовной жизни: индуистской, конфуцианско–даосской и пр., а позднее — восточнохристианской, мусульманской, западнохристианской в их многочисленных модификациях и разновидностях.
Более того, к финалу «осевого времени» и в последующие столетия основные цивилизационные миры Старого Света (в пределах Средиземноморья, Передней и Центральной Азии, Индостана, а с рубежа эр и Китая) вступают в непосредственные контакты друг с другом, что ведет к их взаимообогащению, главным образом, в области культуры. Примечательно, что именно в последние столетия до н. э. в целом уже складывается трансевразийская система трасс Великого шелкового пути, а каботажные плавания вдоль берегов Азии, Восточной и Северной Африки и Европы охватывают все пространство от Приатлантической Европы до Кореи и Японии.
Необходимо подчеркнуть значение «осевого времени» еще в одном отношении. До него, как уже отмечалось В. А. Коротаевым41, социокультурный процесс раскрывается именно как процесс, на ход которого в принципиальном отношении воля и деятельность отдельных людей практически не влияет (исключение составляют единичные случаи — например, Саргон Аккадский, впервые в истории сумевший ярко реализовать принцип «кто был никем, тот станет всем». Однако начиная с «осевого времени» так называемый «субъективный фактор» постепенно приобретает все большее значение. Если попытку религиозно–общественных преобразований Аменхотепа IV (Эхнатона) в Египте постигла неудача, то возникающие вскоре после этого движения Моисея и Заратуштры уже имели принципиальные последствия для дальнейшей истории человечества.
Из сказанного следует, что дихотомия индивида и социума на стадии раннеклассовых обществ осознавалась в аспекте не противопоставления или, тем более, взаимного неприятия, а, скорее, в смысле необходимости оптимального «вписывания» индивида в предзаданные ему рождением или иными социальными рамками наличествующие общественные структуры. Крушение последних, как показал в свое время В. Н. Топоров, воспринималось людьми раннеклассового общества в качестве космической катастрофы и личной трагедии не только в силу связанных с этим бедствий для отдельно взятых людей, но и ввиду того, что распад традиционных структур осознавался как гибель всего и вся, как крах мироздания и его порядка42.
С утверждением же сословно–классовых отношений человек ощущает за собой свободу и моральное право, санкционированные сакральными силами бытия, на несогласие с публичной властью, на нравственное осуждение государственного режима, а то и на открытое неповиновение ему. Он начинает распрямляться и впервые противопоставляет себя и государственности, и системе социальных институтов, и комплексу традиционных установок и представлений. Ветхозаветные пророки обличают своих и чужих царей, греческие философы отвергают традиционную религию, зороастрийцы подчеркивают свободу выбора каждого между добром и злом, джайны и буддисты не признают сакральный характер варнового, провозглашаемого Ведами, деления общества, а даосы иронизируют над государственными церемониями и ритуалами.
По отношению же к стадиям всемирно–исторического процесса «осевое время» — эпоха духовного преодоления системного идейно–мировоззренческого кризиса, обусловленного болезненной трансформацией раннеклассовой системы отношений в сословно–классовую. Переход от раннеклассовой стадии развития общества к сословно–классовой в духовной плоскости соответствует тем фундаментальным мировоззренческим изменениям, которые выразились в идейных течениях «осевого времени». Поэтому понятно и хронологическое соответствие между завершением утверждения основ сословно–классового общества в основных цивилизационных центрах Старого Света и появлением религиозно–философских учений нового типа, исследующих человеческую личность и ее сущностную причастность основам трансцендентного бытия.
Аналогичным образом происходило утверждение раннебуржуазных отношений в Западной Европе, ознаменовавшее в плоскости социально–экономических отношений переход к новой эпохе, а в духовно–мировоззренческой — формирование новой, протестантской установки, прежде всего — кальвинистски–пуританского плана, утвердившей религиозные основы индивидуализма, рационализма и ориентации на капиталистическую систему производства. Разумеется, дух Новоевропейской цивилизации выразился далеко не в одном протестантизме. Он проявился и в реформированном католицизме эпохи барокко и особенно в западной философии, начиная с Ф. Бекона, Р. Декарта и Г. В. Лейбница (прагматизм первого, принципиальный рационализм второго, монадология третьего), через абсолютизацию гносеологического субъекта И. Кантом, взгляды С. Кьеркьегора и Ф. Ницше, и до экзистенциально–персоналистических течений XX в.
К. Маркс и М. Вебер четко противопоставляли докапиталистическое (традиционное) общество капиталистическому; У. Ростоу в концепции «стадий экономического роста» — традиционные доиндустриальные общества индустриальным, с высоким уровнем массового потребления; А. Дж. Тойнби и К. Ясперс разграничивали эпохи существования и обособленного развития отдельных цивилизаций (Египетская, Китайская, Античная и пр.) и становления вокруг Новоевропейской цивилизации Всемирной, в чем к ним весьма близок П. Тейяр де Шарден. При этом совершенно ясна корреляция между утверждением буржуазных отношений, победой (прежде всего, в Северо–Западной Европе) «духа капитализма» на основе базовых принципов протестантской этики, промышленным переворотом и переходом к «индустриальному обществу», решительным установлением преобладания Новоевропейской (вскоре ставшей Североатлантической) цивилизации над всеми остальными, их «стягивание» ею вокруг себя и образование в результате этого современной глобальной макроцивилизации.
Переход от традиционного мира региональных цивилизаций к буржуазно–индустриальному миру, начавшийся в XVI в., имел системный характер, охватывал все сферы человеческой жизнедеятельности и обусловил качественную трансформацию человечества как такового. Поэтому эпоху традиционных (докапиталистических, доиндустриальных) цивилизаций мы имеем все основания рассматривать в качестве отдельной длительной стадии в развитии человечества, датируемой в пределах рубежа IV–III тыс. до н. э. (когда возникли древнейшие в мире цивилизации, Шумерийская и Египетская) — середины ІІ тыс. н. э. (когда в Западной Европе утвердилась буржуазная Новоевропейская цивилизация, ставшая катализатором последующей трансформации человечества в целом).
Для понимания духа Новоевропейской цивилизации, равно как и предшествовавших ей Западнохристианского Средневековья и Античности, одной лишь парадигмы стадиальности и неравномерности социо–культурного развития явно недостаточно. Для решения такой задачи большими эвристическими возможностями располагает концепция поливариантности движения человеческого общества, которая будет рассмотрена ниже. Сейчас же важно подчеркнуть то обстоятельство, что сдвиги «осевого времени» происходили параллельно, независимо друг от друга, в нескольких ведущих центрах цивилизационного развития, и уже в силу этого могут считаться закономерными, тогда как изменения, обусловившие появление Новоевропейской социокультурной системы, аналогов в истории не имеют, и вопрос о том, могло ли в принципе где–либо что–либо подобное повториться, остается открытым. Ясно лишь, что в современном мире этого произойти уже не может.
Стадию цивилизации можно подразделять на историю отдельных, хотя и связанных так или иначе между собой, локальных и региональных цивилизаций (с формирующимися вокруг них цивилизационными ойкуменами типа Китайско–Дальневосточной и пр.), с одной стороны, и историю всемирной макроцивилизационной системы, которая в общих чертах складывается к рубежу XIX–XX вв., — с другой. Становление последней (его можно рассматривать в плоскости реализации тенденций глобализации, ярко проявивших себя на исходе XX в.) в решающей степени было определено промышленным переворотом, произошедшим на рубеже XVIII–XIX вв. в передовых, уже ставших капиталистическими, странах Запада, ранее всех — в Англии.
Стадия обособленных, или автономных (локальных и региональных) цивилизаций соответствует, таким образом, временам доиндустриальных эксплуататорских обществ, тогда как стадия всемирной макроцивилизационной системы — индустриальному обществу с его дальнейшими модификациями в сторону, выражаясь уже ставшей общепринятой терминологией Дж. Белла, общества постиндустриально–информационного, или, точнее, по М. Кастельсу, информационального43.
На первой стадии мы, как уже говорилось, наблюдаем так называемые раннеклассовые и сословно–классовые общества или, в другой системе понятий, ранние и зрелые (развитые, традиционные) доиндустриальные цивилизации. Они соответсвуют двум четко просматривающимся этапам социокультурной эволюции, разделяемым обозначенным К. Ясперсом (к подобному выводу пришел и А. Вебер) периодом «осевого времени». Тогда были заложены основы нового этапа духовного развития человечества, связанного с идеей достоинства и самоценности каждой отдельной личности, ее права на свободный выбор и нравственной ответственности за этот выбор.
Развитие всемирной индустриально–постиндустриальной макроцивилизационной суперсистемы охватывает пока слишком короткий отрезок времени для того, чтобы имело смысл ставить вопрос о его периодизации. В сущности, мы живем в переходную эпоху, сопоставимую по масштабам преобразований с «осевым временем», неизмеримо превышающую его в производственно–техническом отношении, однако разительно уступающую ему в духовном обновлении человечества.
Если XIX в. — время объединения человечества под эгидой Западной буржуазно–индустриальной цивилизации, то XX в. — пора поисков форм сосуществования в рамках этой макросистемы различных цивилизаций и народов, поисков, отмеченных трагедиями двух мировых войн, установлением и падением тоталитарных режимов, бесчисленных региональных конфликтов. С этих пор человечество обречено функционировать как единое, но противоречивое целое, и нам не дано предугадать, какими последствиями это обернется уже в ближайшие десятилетия.
С учетом сказанного, обоснованной и удобной представляется следующая периодизация:
I. Присваивающее общество (ранняя первобытность).
Узловая точка — возникновение производящего хозяйства.
II. Производящее общество (поздняя первобытность и время цивилизации, рассматриваемые вместе как цивилизационный процесс).
1. Ступень становления основ цивилизации (в традиционной терминологии — поздняя первобытность).
а) Стадия родового строя (родовые и гетерогенные общины без надобщинных органов власти и управления).
Узловая точка — становление племенных органов власти и управления (структур чифдомов–вождеств).
б) Стадия племенного строя (чифдомов–вождеств).
Узловая точка — возникновение раннецивилизационных систем.
2. Ступень развития и интеграции отдельных цивилизаций (или собственно цивилизационная история).
а) Стадия ранних (локальных) цивилизаций (раннеклассовых обществ).
Узловая точка — «севое время», переход от локальных к региональным цивилизациям.
б) Стадия сформировавшихся, традиционных (региональных) цивилизаций и цивилизационных ойкумен (сословно–классовые общества).
3. Ступень развития индустриальных обществ с быстрым (по историческим меркам) переростанием их ведущей части в общество постиндустриально–информационное.
Узловая точка — возникновение глобальной информационной цивилизации.
III. Информациональное общество.
В настоящее время мы подходим к завершению некоего десятитысячелетнего всемирно–исторического цикла, соответствующего периоду становления и развития мировой цивилизации в ее привычных для нас формах. Не зная будущего, не рискнем утверждать, вслед за Г. В. Гегелем, что «Абсолютная идея» уже воплотилась в своем конкретно–историческом бытии или, вместе с К. Марксом, смотреть на прошлое как на «предысторию», полагая собственно историей человечества лишь то, что начинается сейчас. Ограничимся констатацией того, что человечество, благодаря усилиям Западной цивилизации, впервые за всю свою историю в течение последних столетий превратилось в глобальную структурно–функциональную систему. В ее рамках Запад выступает в качестве локомотива мирового развития. Он занял доминирующее положение и, благодаря своим специфическим цивилизационным особенностям (сочетающим капитализм как форму общественно–экономических отношений, рационализм, индивидуализм и прагматизм в качестве духовно–мировоззренческой основы и опору на высокие технологии как условие дальнейшего развития), в течение двух столетий (с момента промышленного переворота в Англии) развил немыслимые для предшествующих эпох производительные силы. Он создал всемирную финансовую систему и (в результате тотальной компьютеризации) всемирное информационное поле. Это поле становится основой функционирования всей глобальной системы.
На планете сложилась жесткая иерархия, покоящаяся на трех формах доминирования Запада: финансовой (транснациональные компании, базирующиеся преимущественно в США), военно–политической (превращение НАТО, под главенством США, в единственного «мирового жандарма») и информационной (благодаря бесспорному лидерству США в соответствующей сфере технологий). Информационная гегемония в настоящее время начинает играть ведущую роль по отношению к двум первым.
Информационная сфера начинает доминировать над производственной и определять характер последней точно так же, как производственная в земледельческо–скотоводческо–ремесленных обществах определяла характер присвоения природных богатств. Поэтому (с учетом наметившейся в последнее время перспективы) всемирно–исторический процесс можем разделить на три основные эпохи: присваивающую, производящую и информационную. Они достаточно четко кореллируются с фазами климатического и экологического состояния Земли (поздний плейстоцен и голоцен), в частности, в плоскости известной концепции ноосферы В. И. Вернадского и П. Тейяра де Шардена.
Появление человека знаменовало собою первый шаг на пути формирования ноосферы, однако вплоть до возникновения производящего хозяйства воздействие человека на природу носило сугубо негативный характер (поджоги степной растительности, массовое истребление промысловых животных и пр.).
С возникновением земледелия начинают появляться первые «островки» искусственных экосистем. В период поздней первобытности и на протяжении всей истории цивилизации они разрастаются, сливаются друг с другом и постепенно образуют огромные массивы искусственных ландшафтов (города, поля, дороги, в известном смысле пастбища и пр.). Постепенно массивы естественной природы оказываются охваченными искусственными экосистемами различного цивилизационного облика, сохраняясь в первозданном виде преимущественно в труднодоступных для освоения местностях.
В течение XX в. массивы естественной природы приобретают все более рекреационный характер, стремительно сокращаясь до немногочисленных островков в различных местах земного шара среди преобразованного человеком пространства планеты. Само «естественное» состояние этих островков теперь непосредственно зависит от целенаправленных усилий человека для поддержания их в таком качестве. Человечество определяет состояние природы на планете, все более приобретающей характер искусственной экосистемы.
Очевидно, в планетарном масштабе рубеж XX–XXI веков можно считать временем вступления человечества (в лице группы наиболее развитых, правящих бал в мировом масштабе стран) в информационную эпоху. Конечно, большинство государств еще всецело относятся (и неопределенно долгое время будут продолжать относиться) к предшествующей стадии развития. Однако поскольку протекающие в них процессы все более определяются воздействием со стороны наиболее развитых стран (в том числе и в форме реакций на это воздействие), то и они оказываются невольно сопричастными началу информационной эпохи — точно так же, как охотничье–рыболовческие этносы Сибири и Дальнего Востока были сопричастны производящему обществу царской России и СССР. Однако темпы развития лидирующих на мировой арене стран таковы, что разрыв между уровнем жизни в наиболее развитых и отстающих странах с каждым годом все более возрастает.
Поливариантность исторического движения
Появление различных способов социокультурного развития человечества относится к первобытности44. Оно заметно уже в эпоху верхнего палеолита, когда в различных природно–климатических зонах складываются общества тропических собирателей, коллективных охотников открытых, в первую очередь, приледниковых тундро–степных пространств и охотников–собирателей закрытых горных и лесных ландшафтов. Позднее выделяется линия развития прибрежных охотников на морского зверя, постепенно все более ориентирующихся на рыболовство.
С переходом к мезолиту, по мере распространения оружия дистанционного боя, тип охотников–собирателей закрытых ландшафтов становится ведущим во всемирном масштабе. В его системе складывается способствующий раскрытию творческих потенций человека, оптимальный для условий того времени баланс между индивидуальным, семейным и коллективным (общинным) началами, стимулирующий процесс совершенствования не только средств производства (добычи) материальных благ и социо–культурных форм, но и личных качеств отдельных людей. Именно этот тип раннепервобытного общества стал основой дальнейшего поступательного развития человечества.
Переход к неолиту был связан с освоением новых, гораздо более продуктивных форм хозяйственной деятельности, в первую очередь, специализированного сетево–челнового рыболовства, с одной стороны, и ранних форм земледелия и животноводства — с другой. По всем основным показателям (возможности обеспечения общества продуктами питания, развитости форм деятельности, направленных не на добычу пищи, прироста и плотности населения, формам социальной организации, культурно–культовой жизни и пр.) общества ранних земледельцев и высокоспециализированных рыболовов стадиально синхронны. Однако первые содержат потенциал дальнейшего развития, тогда как вторые, чье благосостояние зависит, в первую очередь, от наличия в природе используемых ими ресурсов, вскоре утрачивают внутренние стимулы саморазвития.
На стадию поздней первобытности выходят собственно земледельческо–скотоводческие общества, в системе которых уже с позднего неолита от четливо намечаются тенденции размежевания восточного и западного путей развития, а также скотоводческо–кочевнической линии, выводящей на уровень раннеклассовых обществ, однако далее не способной к самостоятельному развитию.
В нео–энеолитические времена на пространствах Старого Света наблюдается постепенное расхождение земледельческо–животноводческой и скотоводческо–земледельческой линий социокультурной эволюции. Последняя из этих двух линий достигает своего максимального проявления, полноты раскрытия заложенных в ней потенций в кочевнических обществах скотоводов зоны Евразийских степей и полупустынь Афразии (Аравия, Сахара), история которых начинается с последней трети II тыс. до н. э.
Кочевничество демонстрирует предел оптимизации потенций обществ скотоводческой ориентации, выше которого соответствующие социумы собственными силами, не изменяя принципиально основ своей жизнедеятельности, подняться не могут. При наличии налаженных контактов с соседними цивилизациями и подчинения оседлоземледельческого населения кочевники способны создавать раннеполитические объединения типа «кочевых империй» (как Великая Скифия или держава Чингис–хана), однако последние не отличаются устойчивостью и процес такого рода консолидации имеет обратимый характер. Поэтому несмотря на то, что в определенных регионах (Казахстан, Монголия, Аравия, Сахара) кочевнические общества дожили почти до нашего времени, нет оснований говорить о том, что по сравнению с номадами раннежелезного века они достигли сколько–нибудь существенного социально–экономического уровня развития.
Кочевнический путь развития исчерпывает свои возможности уже в древности, и в этом смысле его следует признать тупиковым. Предпосылок для выхода на следующую ступень эволюции в обществах подобного типа не складывается. И хотя кочевники могут заимствовать отдельные элементы социокультурного комплекса соседних цивилизаций, в частности, принять одну из мировых религий (как казахи или киргизы — ислам, а монголы или калмыки — буддизм), однако на базовые показатели их экономики, социальных отношений, форм политической организации и пр. это мало влияет. Выход на следующую ступень развития у них неизменно связан с преодолением самого кочевнического способа жизнедеятельности45.
Совершенно иные перспективы открывались перед нео–энеолитическими обществами земледельческой ориентации. Некоторые из них (преимущественно связанные с типом тропического клубне–корнеплодного огородничества — к примеру, папуасы) достаточно быстро исчерпали возможности развития, предоставлявшиеся их хозяйственно–культурным типом, и не подошли к созданию раннецивилизационных систем. Однако другие, прежде всего связанные с зерновым земледелием, вышли на цивилизационный уровень двумя основными путями, которые, применив традиционную терминологию, можно называть восточным и западным.
Эпохе поздней первобытности присуща возможность получения все более возрастающих объемов излишков материальных благ, становящихся материальной основой перехода к цивилизации. При этом увеличение общей продуктивности труда в земледелии достигалось, как уже писалось46, преимущественно либо за счет усовершенствования организации производства, либо самих орудий труда, что, естественно, во многих случаях происходило параллельно и во взаимосвязи.
Организационный способ повышения производства сельскохозяйственной продукции был преимущественно связан с проведением широкомасштабных акций по сооружению и ремонту ирригационно–мелиоративных систем и террасирования горных склонов, что предполагало наличие специального административно–организационного аппарата в пределах племен–вождеств (чифдомов). Общественная потребность в централизованной организации производственного процесса (не говоря уже о доставке минеральных ресурсов, деятельности по обороне и расширению территорий, обеспечению нормальной жизнедеятельности социума ритуально–магическими методами и пр.) укрепляет верховную власть–собственность правящей родо–племенной верхушки, осуществляющей редистрибуцию материальных благ и услуг в пределах соответствующего социального организма. В данном случае успех хозяйственной деятельности непосредственно зависит от качества организации совместного труда большого количества людей, и потому очень рано ведущую роль в общественной жизни тут начинают играть представители административно–хозяйственного персонала, теснейшим образом связанные со жречеством или непосредственно выполняющие культовые функции.
Движение в указанном направлении начинается уже в неолитических обществах Сирии, Северной Месопотамии и Восточной Анатолии, достигая полной реализации в Египте, Шумере, Эламе и Хараппской цивилизации долины Инда в конце IV — начале III тысячелетий до н. э. Выход названных, как и позднее других обществ восточного типа на цивилизационный уровень обеспечивался:
• возрастанием объемов производства методами усовершенствования организации коллективного труда и централизации перераспределения (редистрибуции) его плодов;
• концентрацией прибавочного продукта (благодаря власти–собственности правящей верхушки на материальные и трудовые ресурсы и ее контролю над редистрибутивной системой) в руках правящей знати административно–хозяйственными (по преимуществу) методами;
• трансформацией сконцентрированного таким образом натурального прибавочного продукта в престижные ценности и монументальные сооружения вследствие организации соответствующих ремесленных производств и широкомасштабного строительства (пирамиды, зиккураты, дворцы и пр.) при развитии широкой торговли с варварской периферией с целью получения дефицитного сырья.
Этот древневосточный путь становления цивилизации не мог быть реализован на большей части Европы прежде всего потому, что природные условия, в частности, достаточное количество выпадаемых атмосферных осадков, не стимулировали развитие широких коллективных форм организации труда, которые здесь попросту были не нужны. Однако в эпоху бронзового и в особенности раннежелезного веков, на прежней организационно–хозяйственной базе, до технического перевооружения достичь роста продуктивности земледельческого производства было невозможно, и поэтому общества умеренного пояса Евразии с конца IV — начала III тыс. до н. э. в большей мере ориентируются на развитие скотоводства, на основе которого выход на уровень цивилизации неосуществим.
Древневосточный тип раннеклассовых обществ, таким образом, в решающей степени связан с выполнением государственным аппаратом важнейших, жизненно необходимых для всего социального организма, экономических функций по организации производства и редистрибуции материальных благ. Производство организуется в масштабах всего социального организма, а концентрация прибавочного продукта осуществляется, главным образом, хозяйственно–редистрибутивным способом.
Распространение обществ с ирригационно–централизованной системой аграрного производства происходило в III–I тыс. до н. э. преимущественно в зоне сухих субтропиков от Египта, Сирии и Месопотамии через Иранское нагорье в Среднюю Азию и Индостан, где имелся и свой раннецивилизационный центр. В то же время цивилизации подобного, древневосточного, типа формировались в Восточной и Юго–Восточной Азии (особенно на базе ирригационного, часто предполагавшего террасирование горных склонов рисоводства), а также в Мезоамерике и в областях Перу — Боливии. Однако в отличие от азиатско–североафриканских обществ цивилизации доколумбовой Америки так и не переступили рубеж, отделяющий раннеклассовые общества древневосточного типа от соответствующих сословно–классовых.
В древневосточных обществах выполнение государством организационно–сельскохозяйственных функций является важнейшим условием всей социально–экономической жизни. Поэтому, несмотря на то, что возможность увеличения производства прибавочного продукта за счет усовершенствования организации труда была быстро исчерпана (в Египте и Месопотамии уже во второй половине III тыс. до н. э.), роль государства в обеспечении организации коллективных работ оставалась неизменной. Что, в свою очередь, делало невозможным экономическое обособление крестьянского домохозяйства от властных структур даже при усовершенствовании орудий труда, что определяло отсутствие достаточных условий для развития частнособственнических отношений в системе землепользования.
Несмотря на ограниченное развитие товарно–рыночных отношений (главным образом, в крупных городах и их предместьях, начиная преимущественно с Вавилонии и Финикии середины I тыс. до н. э.), объективные условия сельскохозяйственного производства не допускали ликвидации доминирующей роли бюрократического аппарата. Львиная доля общественного прибавочного продукта изымалась государственной системой у налогоплательщиков и расходовалась на в значительной мере не имеющие никакого отношения к росту экономики цели: войны, престижное потребление и пр.
Многие характерные для предыдущего этапа феномены (государственная власть–собственность, всесильная бюрократия и т. д.) в несколько модифицированном виде сохраняются и на стадии сословно–классовых обществ. Более того, в целом ряде позднесредневековых обществ (Китай периода правления династий Юань или Цин, Индия при Великих Моголах, Иран Сефевидов или Османская империя) наблюдается даже определенная примитивизация по сравнению с предыдущими эпохами: например, Китая времен династий Тан или Сун, равно как и Багдадского халифата или среднеазиатской державы Саманидов. По терминологии К. Н. Леонтьева это означает переход от «цветущей сложности» к «вторичному смесительному упрощению».
Понятно, что в такой ситуации человек, несмотря на некоторую (по сравнению с раннеклассовой эпохой) партикуляризацию его деятельности, и в социально–экономическом, и в общественно–культурном отношении остается вполне подчиненным государственно–бюрократическим структурам. Он уже начинает ощущать ограниченность своей свободы тотальностью власти, однако ему еще не на что опереться в достаточной степени для деятельнодуховного самоутверждения во внешнем мире. Поэтому ему остается довольствоваться религиозной мистикой, спиритуалистической философией или изысканной поэзией47. В таком состоянии Восток доживает до Нового времени, когда его базовые структуры начинают подвергаться быстрой и бесцеремонной деформации со стороны капиталистического Запада.
Таким образом, мы проследили в самых общих чертах путь развития, условно говоря, восточных обществ от их позднепервобытного состояния, когда фиксируется утверждение соответствующих типов социально–экономических структур, через раннеклассовую стадию, на которой принципы централизованной организации всех форм жизнедеятельности достигают в известном смысле (на доиндустриальной стадии технологии) своего апогея, до восточных сословно–классовых обществ, для которых характерно некоторое развитие товарно–рыночных отношений при удержании государственным аппаратом ведущей и определяющей роли во всех сферах, включая, в конечном счете, и экономическую. Утвердившийся на позднепервобытной стадии феномен власти–собственности достигает своего максимального проявления в раннеклассовую эпоху, претерпевая затем некоторую трансформацию (собственность, особенно финансовый и торговый капитал, несколько обособляется от государства), однако государство продолжает господствовать над оформившейся прослойкой частных собственников и выступать верховным собственником главного средства производства — земли (и воды).
Совершенно понятно, что в различных регионах, в разное время и на разном технологическом уровне эти процессы происходили неодинаково. Не вдаваясь в подробности, отмечу лишь некоторые, самые общие, хронологические ориентиры, относящиеся к наиболее динамично развивавшемуся в соответствии с вышеописанной моделью Ближневосточно–Переднеазиатскому региону («ближневосточному локомотиву», как удачно его назвал В. В. Чубаров48). Здесь явные контуры классического восточного пути развития заметны уже вскоре после победы «неолитической революции», то есть не позднее, чем с VI тыс. до н. э. Утверждение раннеклассовых отношений в ведущих центрах опережающего развития, Шумере и Египте, происходит к рубежу IV–III тыс. до н. э., а их кризис в Передней Азии начинает ощущаться с первой трети II тыс. до н. э., затягиваясь как минимум на тысячелетие.
Приблизительно с середины I тыс. до н. э. Ближний Восток, а вскоре и другие ведущие регионы Азии (Передняя и Средняя Азия, Индия, Китай) выходят на уровень сословно–классовых отношений. На их основе соответствующие цивилизации достигают предельного развития в середине–второй половине I тыс. н. э. (Китай эпохи Тан, Индия времен Гуптов, Мусульманский мир на стадии Багдадского халифата, среднеазиатской державы Саманидов и мавританской Испании), исчерпывая творческий потенциал в первых веках II тыс. и оказываясь в состоянии глубокой стагнации в послемонгольское время, особенно с середины II тыс., после Тимура, Сулеймана Великолепного и Акбара. Из этого состояния «сонной самодостаточности» Восток был выведен экспансией капиталистического Запада.
Теперь рассмотрим становление и развитие обществ западной модели. Их формирование также было следствием «неолитической революции». Однако основой будущего западного пути развития становятся нео–энеолитические общества неполивного земледелия, позволявшего утверждаться отдельному домохозяйству в качестве самостоятельной социально–экономической ячейки. Первичные интенции в данном направлении ощущаются уже в период неолита в Западной Анатолии, Западном Закавказье и обширном Балканско–Дунайско–Карпатском регионе, где соответствующие общества на уровне энеолита (культуры Сескло, Караново, Винча, Боян, Гумельница, Кукутени–Триполья) демонстрируют высокий уровень экономического благосостояния и бытовой культуры, не уступая в V — первой половине IV тыс. до н. э. Ближневосточно–Переднеазиатскому региону.
Однако здесь организация производства, как, очевидно, и другие, менее ясные нам пока факторы, не обуславливала формирование и обособление от общества мощного и самодовлеющего административно–бюрократического аппарата, как то имело место в течение IV тыс. до н. э. в Египте и Шумере. Повышение же продуктивности сельскохозяйственного производства за счет усовершенствования орудий труда, с учетом высокой себестоимости металлических изделий в эпоху меди и бронзы, примерно до конца II — начала I тыс. до н. э. практически не могло реализовываться. Так что качественный скачек в этом отношении по всей умеренной зоне Евразии осуществляется уже в раннежелезном веке, преимущественно в пределах первой половины — середины I тыс. до н. э.
Определенным исключением из этого правила были лишь общества Эгеиды IV–II тыс. до н. э., прежде всего, культура Киклад и Минойская цивилизация на Крите. Первичные интенции этих обществ были подобны в общих чертах тем, которые имели место во всем Эгейско–Балканско–Дунайско–Карпатско–Правобережноукраинском ареале распространения культур расписной керамики (от Хаджилара и Сескло до Триполья включительно). Однако специфические условия, проанализированные К. Ренфрю, прежде всего, возможность развития многоотраслевого сельскохозяйственного производства благодаря разнообразию природных условий на небольших площадях (гористый остров, горная долина с выходом к морю) при наличии собственной металлургической базы и морского судоходства способствовали раннему возникновению здесь самостоятельной Эгейской или Крито–Микенской цивилизации. Она, как и синхронные ей раннецивилизационные общества Ближнего Востока, также основывалась на централизованной организации производства и редистрибуции произведенных продуктов.
При условии четкой организации труда в пределах небольших социальных организмов (несколько общин во главе с дворцом–храмом в качестве организационно–редистрибутивного центра) можно было обеспечить и производство, и концентрацию, и трансформацию в престижные ценности необходимого для выхода на уровень раннеклассового общества объема прибавочного продукта. Соответствующих условий севернее Эгеиды не было и потому носители высокоразвитых культур энеолита Балканско–Дунайско–Карпатского региона, а несколько позднее и Правобережной Украины, остановившись в своем развитии, оказались в состоянии глубокого кризиса, так и не достигнув цивилизационной планки ранее железного века.
Раннеклассовые общества Эгеиды бронзового века по всем основным параметрам вписываются в один непрерывный ряд с современными им «дворцовыми» городами–государствами Малой и Передней Азии — хеттскими, хурритскими, финикийскими или ханаанейскими, в конечном счете, периферийными по отношению к цивилизационным центрам Египта и Двуречья. Ничего специфически «западного» в них пока еще нет. Более того, как и в раннеклассовых обществах Ближнего Востока, во II тыс. до н. э. в Эгеиде развитие земельных отношений шло по пути становления и укрепления не частновладельческих хозяйств индивидов в ущерб прав общины, а по пути становления и укрепления прав государства (дворца) на землю. При этом дворцовая администрация, как и в цивилизациях древневосточного типа, контролировала все сферы жизнедеятельности, ведала организацией рабочей силы, выдачей продовольствия и материалов, организацией военного дела, контролем за распределением земель между поселениями, организацией податной системы, учетом запланированных и реальных поступлений.
Однако «сдвиг» Эгейского общества на этапе его становления в сторону восточной модели (возможно, определенную роль в этом сыграло и влияние со стороны ближневосточных цивилизаций) не подавил изначально заложенных в нем возможностей дальнейшего развития по западному пути. Не будучи органически присущими и внутренне необходимыми для такого общества, дворцовые военно–бюрократические структуры Ахейской Греции оправдывали себя в эпоху бронзового века, но с началом железного объективно становились лишь тормозящим фактором дальнейшего поступательного движения. Поэтому после их крушения в результате массовых переселений народов в Средиземноморье в конце II тыс. до н. э., в частности — вторжения дорийцев, они в Греции уже более не возрождались.
Несмотря на общий упадок, наступивший в Эгеиде после падения Крито–Микенской цивилизации, возможности экономического и социо–культурного развития здесь не только не были утрачены, но и получили новые перспективы реализации. Последнее было в первую очередь вызвано сочетанием трех основных обстоятельств.
Во–первых, в условиях наступившего железного века, при появлении общедоступных металлических орудий труда, при уже имевшемся у населения хозяйственно–культурном опыте, в мягком климате Эгеиды стало не только возможным, но и наиболее целесообразным и рентабельным развитие системы автономных, самостоятельных в производственном отношении семейных домохозяйств в рамках полисных общин. Во–вторых, возможность такого развития была обеспечена устранением сдерживавшего эти тенденции государственно–дворцового бюрократизма в ходе разрушения замков династий Микенской эпохи. В-третьих, общее состояние Восточного Средиземноморья конца II — первой трети I тыс. до н. э. обезопасило Грецию от вторжения или даже сколько–нибудь сильного, деформирующего внутренние тенденции, воздействия со стороны Востока. От него греки брали лишь то, что считали нужным, что органически вписывалось в создававшуюся ими новую социокультурную систему полисного строя. Постигшая Эгеиду в конце II тыс. до н. э. катастрофа как бы расчистила путь реализации тенденций собственно западного пути развития, вполне реализовавшего себя на цивилизационном уровне уже в греческой архаике.
Новые, предполисные общины, возникавшие в условиях политической деструкции, анархии и массовых переселений, формировались в ходе переоформления и консолидации разрозненных элементов погибшего микенского общества — экономически и социально автономных, вырванных из прежней, рухнувшей, системы отношений индивидов. Объединяясь в новые социальные организмы в целях безопасности и взаимопомощи, они с самого начала выступали как экономически и социально самостоятельные субъекты общественных отношений — хозяева и воины, что определяло и их гражданский статус. Складывающиеся в условиях полисной общины «античного способа производства» отношения между людьми не подавляли их личностного начала и не препятствовали самореализации. Они (общины) являлись производными от взаимодействия на принципиально равноправных началах свободных, хозяйственно и политически самостоятельных граждан.
Конечно, и здесь было множество своих вариантов и модификаций, о чем уже приходилось писать49. Однако сейчас важно зафиксировать тот решающий сдвиг, или «общественную мутацию», как иногда метафорически высказываются, которая демонстрирует утверждение на цивилизационном уровне общества собственно западного типа, пусть пока в еще древнем, античном варианте. Важно еще раз подчеркнуть, что внутренние интенции движения европейских обществ по такому пути в общих чертах имелись уже на стадии неолита–энеолита, однако тогда в силу указанных выше обстоятельств не могли привести к появлению цивилизации. Последняя складывается лишь к началу II тыс. до н. э. в Эгеиде, во многом на организационноэкономических принципах Востока. Однако последние здесь быстро исчерпали свои возможности и стали тормозом, в то время как в других частях Европы общественное развитие в это время происходило весьма медленными темпами.
Утверждение в Эгеиде «полисной» цивилизации, при бурном подъеме в прочих частях Европы в эпоху раннежелезного века, определило раскрытие уже в первой половине I тыс. до н. э. возможностей западного пути развития во всемирном масштабе. Сложился новый тип общества «индивидуально свободных людей», что осознавалось как иной, альтернативный Востоку (с его «поголовным рабством» подданных) путь уже греками архаического периода. Об этом свидетельствует, среди прочего, осмысление действий героев в гомеровском эпосе. Его характерной чертой является идеал гармоничного, свободного в своем выборе человека, действующего вне рамок иерархически организованной системы власти, однако бессильного перед Судьбой, Роком — как извне предзаданной цепи событий, необъяснимой с точки зрения доступных пониманию причинно–следственных связей.
Уже в эпоху архаики грек представляет социальные отношения как горизонтальные — как отношения в принципе (хотя и не всегда по существу) равных людей, а не как вертикальные, нисходящие с высот власти до отдельных исполнителей царственных повелений. Основой таких социальных отношений стало рождение (на руинах микенской дворцовой системы) полисной общины как союза экономически равноправных домохозяйств, главы которых и образуют высший коллективный орган власти — народное собрание. Избираемые ими из своей же среды лица, которым на определенное время доверяется выполнение общественных дел, во–первых, подотчетны гражданской общине, а во–вторых, не имеют в своих руках рычагов экономической власти над прочими членами общества.
Иными словами, гражданское общество как союз собственников — глав частных домохозяйств — порождает государственные институты, деятельность которых призвана служить интересам равноправных граждан–собственников. В такой системе каждый гражданин полиса обладает широкими возможностями самореализации не только в духовной и творческой, но и в социально–экономической и политической сферах, может разбогатеть или стать политическим лидером. Преградой на этом пути оказывается только сам Гражданский коллектив, который, впрочем (как показывают случаи с Анаксагором, Протагором и Сократом), может в своем демократизме быть не менее деспотичным, чем любой восточный монарх или античный тиран.
Не вызывает сомнения, что, как отмечает Л. С. Васильев, в результате уникального стечения обстоятельств в Древней Греции на основе микенской системы возникла принципиально иная цивилизация — с общепризнанным господством частной собственности в социально–экономических (производственных) отношениях. Тем самым была заложена основа европейского пути развития — того самого, что привел позднесредневековую Европу к капитализму. И далее исследователь продолжает: «Эпохи Возрождения и Реформации создали новые благоприятные условия для дальнейшего быстрого и успешного развития античного наследия, а первоначальное накопление капитала после Великих географических открытий создало материальную базу для вызревания на этой основе капитализма. Капитализм в этом смысле — детище европейского городского хозяйства с его экономическими нормами, политической автономией и правовой культурой, а все это восходит… к наследию античности»50.
Однако, соглашаясь в целом с таким пониманием сущности и этапов западного пути развития, важно не упускать из виду, что общество средневековой Западной Европы складывается, как известно, в результате синтеза позднеантичных и варварских, «германских» (не столько даже в этническом, сколько в социально–экономическом смысле слова, в плане «германского способа производства» К. Маркса) структур.
В советской медиевистике было принято разграничивать два основных типа становления общественных отношений в средневековой Европе: «синтезный», характерный преимущественно для бывших провинций Западной Римской империи, оказавшихся в руках варварских королей и их дружин, и «бессинтезный», реализовывавшийся вне территорий бывшей Римской империи в процессе самостоятельного (хотя и не без воздействия постантичного Средиземноморья) исторического развития народов Восточной и Северной Европы.
Варварский мир позднеантичной эпохи, в том числе и благодаря мощному воздействию со стороны Римской империи, развивался весьма динамично и, согласно А. Я. Гуревичу51, уже в первые века нашей эры древнегерманское общество, основываясь на развитой системе индивидуальных домохозяйств, в своей социальной структуре имело «королей» — военачальников, «нобилей» — представителей родо–племенной знати, дружинников, вполне самостоятельных в экономическом отношении свободных общинников, вольноотпущенников и рабов. Такую картину мы наблюдаем как в собственно Германии, так и у варваров юга Восточной Европы того времени, не только готов, но и антов, которых М. Ю. Брайчевский убедительно соотнес с летописными полянами52. Производственная самостоятельность обеспечивала высокую степень личной свободы позднеантичных варваров средней полосы Европы севернее Дуная, от Рейна до Дона, при том, что знать реальной экономической властью над рядовыми общинниками не располагала и эксплуатировать их сколько–нибудь существенным образом не могла.
В этом отношении заслуживает внимания вывод А. И. Фурсова о том, что основой утверждения отношений Новоевропейской цивилизации стала, в конечном счете, не «романская», а более северная, «германская» Европа, в значительно меньшей степени несущая в себе наследие римских времен: «Капиталистический рывок» произошел именно там, где практически не было античного наследия и где не получили классического выражения средневековые городские традиции. Не Фландрия, а Голландия стала средоточием раннекапиталистического развития, не итальянские города XIV в., а английские города, не игравшие заметной роли в европейской экономике и политике. Не из свободных и развитых городов (Италия, Германия, Фландрия) вырос капитализм, а из городов, более зависимых от короля и королевской власти (Англия)»53.
Складывается впечатление, что и без античного наследия, пусть и более длительным, гораздо более сложным путем, в Западной Европе в I тыс. могла сложиться своя цивилизация западного пути развития, общие контуры которой намечались в раннесредневековом обществе викингов. С общетеоретической точки зрения условия, сложившиеся здесь с утверждением железного века, обеспечивали для этого все необходимое. Однако в реальности западноевропейское средневековье в целом определялось органическим взаимодействием постантичных (коммунально–муниципальных, церковных и пр.) и постварварских (королевско–дружинных и пр.) начал.
Как видим, более глубокое понимание движения общества по Западному, равно как и по Восточному, пути развития предполагает рассмотрение соответствующего круга проблем уже в иной, цивилизационной, плоскости. Однако, прежде чем перейти к ней в следующей главе, рассмотрим два различных аспекта разграничения «Востока» и «Запада»: социально–экономический и общественно–политический, с одной стороны, и религиозно–мировоззренческий, идейно–ценностный — с другой.
Дихотомия социально–экономического развития Востока и Запада
Начиная со времени «неолитической революции», как было показано, происходило формирование и раскрытие возможностей двух основных (восточного и западного) типов (путей, линий) социокультурной эволюции, пронизывающих всю историю последних десяти тысячелетий. В социально–экономическом отношении различия между ними связаны, в первую очередь, с различной ролью в тех и других государственной власти и частнособственнических отношений. Обобщая результаты работ многих ученых, занимавшихся проблематикой восточно–западной дихотомии, можно прийти к следующим выводам.
Восточный путь становления и развития раннецивилизационных систем определяется неизменным повышением роли надобщинных органов власти и управления во всех сферах жизнедеятельности. В большинстве случаев это было связано с необходимостью организации коллективного труда больших масс людей, прежде всего при выполнении ирригационно–мелиоративных работ, террасирования горных склонов и пр., а также при возведении монументальных сооружений погребально–культового назначения (пирамиды, зиккураты и пр.).
Однако, независимо оттого, какие в каком случае факторы имели решающее значение, суть дела состоит в том, что складывается такая социокультурная система, в пределах которой отдельный человек (домохозяйство, семья) лишается автономии самообеспечения по отношению к отчужденной от общества власти. Носители последней выполняют не только административно–политические, но и верховные собственнические (прежде всего, по отношению к земле, воде и прочим природным ресурсам) и организационно–хозяйственные функции, что хорошо прослежено на примерах Шумера (А. И. Тюменевым), Египта (И. А. Стучевским), Китая (Л. С. Васильевым), камбоджийской империи Ангкор (Л. А. Седовым), инкского Перу (Ю. Е. Березкиным) и других раннецивилизационных обществ. При таких условиях государство тотально доминирует над обществом, организуя и контролируя все основные сферы его жизнедеятельности, в том числе и средствами религиознокультового воздействия.
Накануне и в течение «осевого времени» ситуация, однако, несколько меняется благодаря определенным, связанным с возникновением элементов частнособственнической деятельности (преимущественно торговой и ростовщической, а также ремесленной в городах), социокультурным изменениям. Эти сдвиги юридически зафиксированы уже в своде законов вавилонского царя Хаммурапи (XVIII в. до н. э.), в целом стоящем на страже государства и его служащих во главе с монархом. Появление элементов частнособственнических, товарно–рыночных отношений на Ближнем Востоке уже во II тыс. до н. э. не затрагивало самих основ восточного общества, поскольку государство (будь это Старовавилонское или Нововавилонское царства, Ассирия, держава Ахеменидов, Арабский халифат, Османская империя или империя Великих Моголов, могущественные империи древнего и средневекового Китая и пр.) оставляло за собой общий контроль над политической, экономической и религиозно–культурной жизнью в целом. Представители легализированного частного сектора находятся в почти бесправном положении по отношению к всесильной бюрократии. Товарно–рыночные отношения существуют, но не являются системообразующими. Они как бы внедрены в государственно–общинную хозяйственную жизнь, составляют некоторую ее часть, пользуются теми или иными правами, но не определяют жизнедеятельность социального целого.
Такая система периодически оказывается в кризисном состоянии, однако в большинстве случаев способна преодолевать его собственными силами (хотя есть и исключения — например, гибель Хараппской цивилизации во II тыс. до н. э. и пр.). Настоящей опасностью для нее оказывается только вызов со стороны буржуазно–индустриального Запада. Очень похоже, что в начале II тыс., с крахом Багдадского и Кордовского халифатов, среднеазиатской державы Саманидов, китайских империй Тан и Сун, восточный путь развития объективно исчерпал свои продуктивные возможности. Усугубили ситуацию опустошительные монгольские и прочие, последовавшие за ними, завоевания (турецкие на Ближнем Востоке, тюркско–монгольское в Индии, маньчжурское в Китае). Они еще более способствовали социокультурной стагнации Востока — как раз в канун начала всемирной экспансии Запада.
Основой западной социокультурной системы является принципиальная (естественно, выступавшая в различных исторических формах) автономия семейных домохозяйств, наличие которых образует основу социально–экономической независимости, полноценного гражданского статуса и личного достоинства его хозяина–собственника. Община (полисная, особенно германского типа, наиболее раскрывшаяся у скандинавов раннего средневековья) здесь выступает как объединение таких самостоятельных в социально–экономическом отношении субъектов, связанных между собой множеством горизонтальных отношений. По отношению к такой общине государственные институты служат «надстройкой» (в марксистском понимании этого термина), призванной работать для обеспечения интересов сообщества хозяев–собственников.
В таком случае государство (если оно не устанавливает фактической диктатуры над обществом, как это, скажем, произошло в фашистской Италии и нацистской Германии) не выступает стержнем и системообразующей основой жизнедеятельности соответствующего социума, а предоставляет более–менее полную свободу действий составляющим его группам. Однако поскольку возможности реализации этой свободы у различных социальных групп неодинаковы, то на первый план выступает антагонизм между полноправными гражданами–собственниками и не имеющими собственности, полноты прав, а зачастую и личной свободы работниками–рабами, крепостными, наемными рабочими и пр.
Исторически такой тип общества формировался там, где еще на первобытном уровне (даже до начала железного века) было возможным ведение хозяйства силами отдельной семьи, а потому не складывались такие социокультурные системы, которые жестко подчиняли бы домохозяйства надобщинным, в перспективе — раннегосударственным институтам. Наилучшие условия для реализации такой возможности были, как отмечалось выше, в древней Европе, где сельскохозяйственная деятельность не требовала постоянной организации коллективного труда, а потому раннеполитическим органам власти и управления трудно было жестко упорядочивать социально–экономическую жизнь общества. Большесемейные по преимуществу домохозяйства складывались как автономные клеточки общества, и именно в них инкорпорировались люди с неопределенным и неполноправным социальным статусом, не имеющие собственных средств к существованию, которые в перспективе становились основным объектом эксплуатации со стороны состоятельных полноправных членов общества.
Цивилизационный процесс в Европе, особенно в ее Средиземноморских областях, начинался и практически до позднего средневековья проходил при наличии мощных импульсов с Востока. Эгейская цивилизация II тыс. до н. э. типологически во многом соответствует восточносредиземноморско–переднеазиатским обществам того времени, что также справедливо в известной степени и относительно этрусков Средней Италии и, по всей видимости, Тартеса на юге Испании. Однако по своему духу и Минойский Крит (как о том можно судить по его удивительно реалистичному изобразительному искусству, в центре которого — интерес к человеку), и, тем более, созданная воинами–индоевропейцами Микенская Греция (как и близкая ей во многих отношениях Хеттская политическая система) все же заметно отличались от социокультурных систем типичных ближневосточных деспотий бронзового века.
Рост товарности производства (с чем было связано и развитие морской торговли) создавал предпосылки для привлечения подневольной, в частности — рабской, рабочей силы, что наблюдалось и в наиболее развитых полисах Греции, и в Карфагене, и в некоторых других местах. Менее всего это относится к Риму, где появление большого количества рабов было обусловлено не потребностями развивавшейся экономики, а победами в многочисленных войнах и, как следствие, дешевизной «живого товара».
Дальнейшее развитие Античной цивилизации в эллинистическое и римское время имело выразительные тенденции к ее ориентализации. Государственность поглощала самоуправление. Связано это было, прежде всего, с созданием обширных военно–бюрократических держав, сперва эллинистических царств — Птолемеев в Египте, Селевкидов в Передней Азии и пр., а затем — Римской империи. В их системе чиновничество и армия стали господствующими силами, фактически в лице своих царей и императоров установившие диктатуру над прочими слоями населения. Логическим следствием такого развития стало образование Византии, общественный строй которой, особенно после преодоления кризиса эпохи «иконоборчества», при всех многочисленных античных пережитках, куда более походил на современные ей Сасанидский Иран или Арабский халифат, нежели на Древнюю Грецию.
В течение всего античного времени варварский, преимущественно кельтско–германский мир сохранял и до определенной степени реализовывал свои частнособственническо–индивидуалистические потенции, чему способствовало и воздействие со стороны греко–римских центров Средиземноморья. Грандиозный романо–германский синтез времен падения Западно–Римской империи и создания раннесредневековой системы «варварских королевств», на смену которым приходит империя Карла Великого (отдаленный прообраз нынешней Объединенной Европы), определил полное раскрытие потенциальных возможностей западного пути развития в течение недавно минувшего тысячелетия.
Реализация «скрытых возможностей» западного пути развития, при творческом восприятии античного (а также некотором влиянии арабского и византийского) наследия, и привела к тому обновлению Западнохристианского мира, которое произошло в канун Нового времени и привело вскоре к победе принципов рационализма и индивидуализма, утилитаризма и меркантильности, буржуазных отношений и парламентаризма, индустриального производства и пр. А поскольку капиталистическая экономика по своей природе ориентирована на расширенное воспроизводство, экспансия Запада, особенно со времен промышленного переворота в Англии, выглядит совершенно естественной и закономерной. Полное раскрытие возможностей западного пути развития в прошедшем столетии произошло в США.
Однако не следует игнорировать тот очевидный для второй половины XX в. факт, что индустриально–частнособственническая природа Запада постепенно меняется именно в сторону усиления элементов бюрократизма и государственного патернализма, относительно чего еще в начале названного столетия предостерегал М. Вебер. Наиболее развитые страны приобретают вид общества с социально ориентированной рыночной экономикой (весьма далекой от классического капитализма времен А. Смита и К. Маркса). Государство становится ответственным за социальную защиту населения, что сближает его деятельность с выполнением аналогичных функций (более носивших характер лозунгов, чем реальных дел) прежних государств «соцлагеря». Подобные тенденции были зафиксированы западными учеными (Дж. Гелбрайт, Р. Арон, П. Сорокин и др.) уже в 60‑х годах в виде модной тогда «теории конвергенции» (в основу которой была положена идея о постепенном сглаживании экономических, политических и идеологических различий между капиталистической и социалистической общественными системами).
Как справедливо отмечает А. А. Зиновьев, идея конвергенции отразила объективную тенденцию западного общества к усилению сферы коммунальности, выразившейся в возрастании роли государства в экономике, в создании класса менеджеров, в усилении элементов планирования, расширении общественного сектора и увеличении социальной роли государства54. Все это объективно ведет к всесторонней бюрократизации современного западного общества. Насколько далеко зайдет этот процесс в наступившем столетии, предугадать трудно. Однако наличие глобальной тенденции бюрократизации, при безусловном сокращении удельного веса частнособственнических отношений в их классической форме, дает повод задуматься над перспективами западного пути развития. К. Маркс оказался прав в прогнозе относительно грядущего обобществления производства, однако протекание этого процесса пошло по совершенно иному, чем ему казалось, пути — и на Западе, и там, где были предприняты попытки «построения коммунизма».
Не лишне было бы задуматься над тем, имеет ли западный путь развития с отмеченными выше его базовыми характеристиками потенции для дальнейшего саморазвития на прежних частнособственническо–индивидуалистическо–рационалистических основаниях, или же его ждет перерождение в государствоцентрическую, проще — государственно–тоталитарную, структуру в духе антиутопий Дж. Оруелла, О. Хаксли и Р. Бредбери? В таком случае крах национал–социализма вовсе не перечеркивает возможности его повторения, причем на принципиально более высоком организационно–техническом уровне.
Сказанное позволяет если не утверждать, то, по крайней мере, предполагать, что на рубеже II и III тыс. под вопросом оказывается возможность дальнейшего удержания прежних приоритетов развития не только восточных, государствоцентрических, но и западных, индивидоцентрических обществ. Эта проблема, как кажется, не случайно совпадает с окончанием эпохи существования отдельных региональных цивилизаций и формированием глобальной мировой макроцивилизационной системы. В ее рамках, даже при нынешнем западном доминировании, в качестве основных структурных блоков, преображаясь и модифицируясь, сохраняются традиционные цивилизационные миры.
Восточный и западный пути развития пронизывают историю ранних и зрелых (традиционных) цивилизаций. При этом восточный явно исчерпывает потенции саморазвития приблизительно к средневековью (еще до эпохи монгольских завоеваний), тогда как второй лишь с недавнего времени начинает раскрывать свои скрытые возможности, в полной мере реализующиеся в последние два–три столетия. Остается открытым вопрос: в какой степени можно говорить об исчерпании возможностей развития обществ западного пути на их собственных традиционных основаниях (индивидуализм, рационализм, утилитаризм и пр.)? Похоже, что эти потенции исчерпались уже во второй четверти XX в., с чем и можно соотносить великие мировые потрясения 1929–1945 гг. — от начала Мирового экономического кризиса до конца Второй мировой войны.
Аналогичным образом правомерно задаться вопросом: возможна ли для восточных, государствоцентрических структур (без отрицания их собственной сущности) эффективная адаптация к складывающимся под эгидой глобалистической квазивестернизации условиям жизни в современном мире? Опыт СССР склоняет к негативному ответу, однако Китай в своем дальнейшем развитии, возможно, сумеет найти способы решения этой проблемы.
Господство государственно–бюрократического способа производства (достигавшее своих ужасающе гипертрофированных масштабов в Древнем Египте, Шумере времен III династии Ура, средневековой камбоджийской империи Ангкор, инкском Перу, сталинском СССР и маоистском Китае) в большинстве древних и средневековых цивилизаций Востока так или иначе дополнялось частным сектором с присущими ему товарно–рыночными отношениями. Соответственно, и Запад не обходился без государственного вмешательства в регулирование экономической жизни. Во многих случаях правительство брало на себя и собственно организационно–хозяйственные функции, как, скажем, создание системы королевских мануфактур во Франции при Генрихе IV или, в куда более масштабных формах, подчинение экономики в воюющих странах Европы (прежде всего — Германии) милитаризованным государственным программам во время Первой и, тем более, Второй мировой войны.
XX век продемонстрировал и крайнюю поляризацию как западного, товарно–рыночного, так и восточного, государственно–планового принципов организации экономической жизни (США с Великобританией в первой трети столетия, с одной стороны, и СССР с КНР в периоды после коллективизаций — другой). Однако, доведенные до своего логического предела, обе эти системы оказались в тяжелейшем кризисе55.
Недостаточность государственного участия в экономических процессах капиталистического общества со всей очевидностью продемонстрировал кризис 1929 г. и последующие годы «великой депрессии». Его преодоление было связано с решительным дополнением рыночных регуляторов государственными, с элементами планирования. Приатлантический Запад, прежде всего США, но также Великобритания и Франция, ориентировались в этом деле на концепцию Дж. Кейнса, ставшую идейной основой «нового курса» Ф. Рузвельта. Та же направленность на установление государственного контроля над частным капиталом при взаимодополнении принципов рыночной и плановой регуляции определяла, в сущности, и экономический курс национал–социалистов в Германии. Концептуально этот подход опирался на разработки немецкой экономической школы XIX в. с ее идеей социальной солидарности в пределах государственного целого. Однако политика национал–социалистов основывалась на расистско–националистической, преступной квазимифологической идеологии и привела соответствующие режимы к неизбежному краху.
В результате разгрома нацизма и утверждения в Западном мире гегемонии США основанный на кейнсианстве атлантический вариант реорганизации глубинных основ буржуазного общества полностью возобладал и обеспечил стремительный экономический взлет послевоенной Западной Европы. Тяжелейший кризис Западной цивилизации, потрясший ее основы между 1914 и 1945 годами, был в социально–экономическом отношении преодолен в кратчайшие сроки. Из полосы жестоких испытаний Западный мир вышел обновленным. Его основы не были поколеблены и распадом колониальной системы. Наоборот, устаревший колониализм британско–французского образца был заменен выработанной в США политикой неоколониализма. Куда большую опасность для Запада представлял СССР, стремившийся (по идеолого–политическим мотивам) к мировому господству в не меньшей мере, чем сам Запад (где эта страсть питалась, прежде всего, экономическими интересами крупного капитала).
«Холодная война» с ее беспрецедентной гонкой вооружений и пропагандой принципиально различных «образов жизни» истощила СССР, ослабленный резкой конфронтацией с коммунистическим Китаем в 60–70‑е годы. Однако коренной причиной краха СССР и провала попытки построения коммунизма советского образца были внутренние пороки его общественной системы.
Советский опыт показал, что новую цивилизацию невозможно построить на атеистическом идейном фундаменте. Советское общество не имело внутренней духовной основы. К тому же коммунистический строй не сумел создать эффективной системы трудовых мотиваций. Когда репрессивная машина начала сбавлять обороты, стало очевидным, что во имя эфемерных лозунгов за мизерные зарплаты добросовестно работать мало кто станет. Поэтому можно только удивляться, как самоотверженно трудились люди, заведомо знавшие, что их усилия не принесут ни финансового, ни морального удовлетворения. Объяснить это можно только инерцией заложенного в генокоде человека отношения к труду как к необходимому условию выживания. Однако силу этой инерции не стоит переоценивать — человеку свойственен поиск возможностей максимальной самореализации, поэтому труд, обеспечивающий только биологическую жизнедеятельность, не может удовлетворять всегда.
Как отмечает Ю. Н. Пахомов, существеннейшим моментом было то, что советский коммунизм, общественно–экономический строй которого основывался на государственно–плановом регулировании всего народно–хозяйственного механизма, вовремя не сумел соединить командно–административные регуляторы с рыночными механизмами56. Такие попытки предпринимались, в больших или меньших масштабах, неоднократно (НЭП, неуклюжие хрущевские преобразования, попытка проведения реформы А. Н. Косыгиным в середине 60‑х годов). Однако каждый раз они оборачивались провалом.
Крах всех попыток реформирования советской системы определялся не только некомпетентностью партийных лидеров, но, в еще большей степени, их незаинтересованностью выпускать из своих рук какие–либо секторы хозяйственной, общественной и культурной жизни, предоставив их дальнейшее развитие частным инициативам. Не усматривая в проведении рыночных реформ острой необходимости, они не хотели рисковать, не будучи уверенными в том, что в условиях экономической либерализации сумеют сохранить над обществом всю полноту прежнего контроля.
Иная ситуация характерна для Дальнего Востока. Уже великие преобразования в Японии, начавшиеся сразу после революции 1868 г., продемонстрировали сознательное, целенаправленное стремление правительства во главе с императорским домом создать систему, опирающуюся на инвариантные основы национально–цивилизационной идентичности, при широкой, но продуманной, избирательной, сепарированной адаптации к ним западных передовых достижений, необходимых для выживания в мире колониальных захватов. Конечно, как показала история, не все было сделано верно с самого начала. Япония впала в соблазн милитаризма и поплатилась за это разгромом во Второй мировой войне. Однако кардинально программа была определена правильно, что подтвердил экономический взлет Японии (а затем и опиравшихся на ее опыт Южной Кореи и Тайваня) в послевоенные десятилетия.
Еще большее всемирно–историческое значение приобретает модернизация Китая в 80–90‑х гг. XX в., демонстрирующая умелое и эффективное соединение государственно–плановых и рыночных механизмов регуляции экономической жизни в масштабах огромной страны. Благодаря включению рыночных механизмов–, но при сохранении политической стабильности жесткими методами, страна в считанные годы преодолела экономическую разруху и обеспечила устойчивый высокий рост производства.
Таким образом, в современном мире мы видим две конкурирующие модели экономического роста — Западную (Североатлантическую) и Дальневосточную. Обе они основаны на разнодолевом сочетании государственноплановых и рыночных механизмов. Однако их принципиальное отличие состоит в том, что в первом случае к кризису приводит гипертрофия частно–рыночных отношений и его преодоление связано с включением механизмов централизованной регуляции кейнсианского образца. Во втором же, наоборот, кризис определяется доведением до абсурда принципа государственного управления народным хозяйством, а его преодоление обеспечивается включением рыночных механизмов, компенсирующих однобокость командно–административной системы.
Если же рассматривать модели цивилизаций в масштабах всемирно–исторического процесса, то нетрудно заметить, что XX в. продемонстрировал исчерпание возможностей как традиционно восточного, так и традиционно западного типов социально–экономического развития и предложил две формы их синтеза: Североатлантическую и Дальневосточную. Первая, реализованная на Западе в течение второй трети уходящего века, с крахом СССР обеспечила себе планетарное преобладание. Но вторая, раскрывающая свои широкие возможности в течение двух последних десятилетий, при дальнейшем сохранении той же тенденции, обеспечивает себе в обозримом будущем не менее важную роль в цивилизационном развитии наступающего века.
Ментально–ценностная альтернативность цивилизаций авраамитской и индуистско–буддийско–конфуцианской духовных ойкумен
Работая в парадигмах стадиальности и полилинейности, трудно подступить к пониманию личностного момента в истории. Он органически связан с ролью духовных, прежде всего, морально–регулятивных ценностей, базирующихся на определенных мировоззренческих конструкциях, имеющих в подавляющем большинстве случаев религиозный характер. Поэтому рассмотрение типов или путей развития общества преимущественно в системе социально–экономических характеристик нуждается в дополнении посредством видения базовых религиозно–культурных, ценностно–ориентационных основ отдельных цивилизаций, шире — обширных трансцивилизационных ойкумен. Здесь в качестве отправного пункта целесообразно использовать концепцию хозяйственной этики мировых религий М. Вебера.
В традиции, идущей от К. Маркса, Запад и Восток противопоставляются в социально–экономической и политической плоскостях и их принципиальное различие усматривается, прежде всего, в господствующей форме собственности. Если системообразующей основой западного общества является частная собственность, определяющая социальный статус и политические права ее субъекта, то фундаментом общества восточного выступает государственная (государственно–общинная) форма собственности, точнее, как показал Л. С. Васильев, недифференцированная «власть–собственность», обеспечивающая право властьимущих распоряжаться общественным достоянием при выполнении ими ведущих организационно–хозяйственных функций.
При таком подходе с «Западом» однозначно следует идентифицировать Античную и Западнохристианско–Новоевропейскую цивилизации (с североамериканским и австралийским ответвлениями последней). С ним также, хотя и несколько условно, могут быть соотнесены Византия с восточнохристианскими народами и Латинская Америка с некоторыми современными африканскими государствами (прежде всего — ЮАР). «Востоком» же будут Мусульманско–Афразийская, Индийско–Южноазиатская и Китайско–Дальневосточная макроцивилизационные системы.
Однако при другом, религиозно–этически–хозяйственном подходе, разработанном М. Вебером, конфигурации «Запада» и «Востока» оказываются другими. В данном случае основное разграничение проходит между народами иудео–христианско–мусульманской традиции и кругом индийских и китайских воззрений, представленных, прежде всего, индуизмом, буддизмом, конфуцианством и даосизмом. Сами традиционные вероучения весьма отличны между собой и по–разному ориентируют людей в мире. В частности, пользуясь терминологией М. Вебера57, они несут различные типы «хозяйственной этики». Аналогичным образом их адепты придерживаются и разного понимания «политической этики», «этики культурного общения» и пр.
М. Вебер выделял, во–первых, религии индийского происхождения, отвращающие человека от активной самореализации во внешнем мире; во–вторых, религии китайского корня, не возбраняющие такой самореализации, если она не выходит за рамки устоявшихся традиционных норм и не подрывает установившийся баланс между обществом и окружающей средой; и, в-третьих, религии западноазиатско–европейские, сначала иудаизм и зороастризм, а потом христианство и ислам в их различных модификациях, которые со ссылкой на божественный авторитет санкционируют преображающую мир человеческую активность, если она раскрывается в соответствии с признанными этими религиями ценностями.
Нетрудно заметить, что разделение на общества восточного и западного типов в принципе не соответствует веберовскому разграничению традиционных цивилизаций по критерию их религиозно–хозяйственно–этических оснований. Так, к примеру, в достаточно двусмысленном положении оказывается Мусульманский мир, круг восточнохристианских народов и пр. Поэтому сегодня представляются несколько односторинними подходы, согласно которым природа той или иной цивилизации определяется лишь в стадиальном отношении или сугубо в категориальной дихотомии «Восток — Запад», или (к чему в течение жизни все более склонялись и М. Вебер, и А. Дж. Тойнби) преимущественно через религиозно–культурную идентичность. По нашему мнению, учитываться должны и все названные, и многие другие обстоятельства.
Однако здесь следует отметить, что зафиксированные М. Вебером над–цивилизационные, религиозно–этически мотивированные особенности хозяйственной деятельности отдельных групп народов относятся лишь к стадии развития, следующей за «осевым временем». Если приблизительно до рубежа эр деление на общества западного и восточного типов с их внутренней типологией можно осуществлять вполне однозначно на основании социально–экономических критериев, о которых шла речь выше, то в течение двух последних тысячелетий ситуация оказывается менее однозначной. Вследствие сдвигов «осевого времени», в особенности с началом эпохи мировых религий, идейно–ценностный, религиозно–этический момент порою определял характер исторического движения отдельных цивилизационных систем в не меньшей степени, чем их социально–экономическая природа.
Поэтому вопросы духовного наполнения человеческой жизни с указанного времени становятся существеннейшими для понимания исторического процесса.
С учетом того, что одна из индийских религиозно–философских доктрин — буддизм — со временем получила признание во всей Восточной и Юго–Восточной, и, в значительной мере, Центральной Азии, войдя в Китае и Японии в органический симбиоз с традиционными местными учениями (в особенности с даосизмом), а зороастризм после арабского завоевания Ирана утратил свои былые позиции, можно сказать, что ведущие, так называемые высшие религии по своему происхождению и содержанию могут быть разделены на религии индийского и иудейского корней.
Первые преобладают в восточной половине Азии и представлены преимущественно различными течениями буддизма и индуизма. Они признают перевоплощение душ и либо отрицают идею Бога как личности и творца зримого мира, либо, по крайней мере, относятся к ней совершенно индифферентно. Мир воспринимается как юдоль страданий, преодолеть которые можно лишь через отход от активной предметной деятельности («объективации», как сказал бы Н. А. Бердяев) и ориентацию на самопогружение («трансцендирование») как на средство достижения тождества с имперсональным Абсолютом (Дао, Нирвана, Брахма).
Вторая группа, так называемые «авраамитские» религии, — иудаизм, христианство и ислам, традиционно представлены в западной половине Азии, Европе и Северной Африке, откуда распространились и в другие части света. Для этих религий (некоторое исключение составляет кабалистическая транскрипция иудаизма) индивидуальная жизнь является уникальной, а Бог представляется как личность и творец мира. Бог создал человека хозяином на земле и повелел ему возделывать, преобразовывать ее. Выполнять заповеди Господа — призвание человека. Отсюда — установка на деятельное, активное отношение к внешнему миру, приобретающая столь яркое выражение в западном христианстве в целом и в протестантизме, особенно в кальвинизме, в частности. М. Вебером было раскрыто и то, в какой степени капитализм как хозяйственная система связан с протестантской этикой.
Запад (с включением в это понятие восточнохристианских и мусульманских народов) в своей ментально–ценностной ориентации основывается на древнееврейско–античном наследии. Для его мировоззрения характерны:
• понимание духовной основы бытия как личностного Бога, творца и судии видимого мира;
• представление о человеке как существе, созданном Богом по своему образу и подобию, наделенному, соответственно, разумом, чувствами, свободной волей, деятельной природой и способностью к творчеству; этим человек принципиально отличается от множества других живых существ;
• взгляд на мир как на творение (а не проявление) Бога и переданное в пользование человеку для удовлетворения его естественных потребностей и как объект труда;
• вера в единственность жизни каждого конкретного человека при отсутствии определенного ответа на вопрос, существовала ли душа до рождения тела и вере в вечное воздаяние (в Аду или в Раю) за совершенные при жизни деяния;
• гипостазирование добра (блага) и зла, однозначно связывающихся с Богом и Дьяволом, в чем нетрудно усмотреть влияние зороастрийского (в том числе и через гностицизм и манихейство) дуализма.
Данный комплекс идей и представлений самым непосредственным образом определял высокую екстравертированную активность представителей конфессий иудео–христианско–мусульманского круга.
Принципиально иной комплекс мировоззренческих идей определял сознание и поведение людей Южной, Юго–Восточной, Восточной и частично Центральной Азии, где традиционно распространены индуизм, буддизм, конфуцианство и даосизм. В основе ментальности народов названных регионов лежат следующие убеждения:
• божество представляется имперсональной, иррациональной или, по крайней мере, абсолютно непостижимой первореальностью, которая проявляется или раскрывается в явлениях видимого мира (Брахма, Дао и пр.);
• представление о человеке как о проявлении этой божественной трансцендентности, в своем основании тождественном ему, однако, в сущности, таким же образом и в такой же степени, как и все живое, все феномены видимого мира;
• взгляд на мир как на «видимостное» (а в некоторых доктринах вообще иллюзорное), по крайней мере, неадекватное его сущности проявление (эманацию) божественной первоосновы бытия (Майя и пр.);
• вера в бесконечность феноменальных проявлений индивидуального духа (понимаемого в качестве монады, как в индуизме, или как системы сцепленных дхамм, как в буддизме) через множественность перевоплощений, означающая отрицание уникальности персонального «Я» и его потенциальное тождество со всеми другими, имеющими место в мире, явлениями, по крайней мере, одушевленными;
• этический релятивизм, исходящий из относительности (а то и вовсе условности) моральных норм, не универсальных, относящихся ко всем людям, а имеющих смысл лишь применительно к конкретным группам людей; человек обязан жить по определенным правилам, предписанным кругу людей соответствующего статуса, но при этом не обязательных для носителей других статусов.
Такого рода духовные основания мировидения определяли мотивационно–деятельностное своеобразие народов Южной и Восточной Азии. Культивировалось по преимуществу не деятельное, а созерцательное отношение к окружающему миру, воспринимаемому как нечто одухотворенное и органически сопричастное сущности каждого человека.
При этом поведенческие этосы Индийско–Южноазиатской и Китайско–Дальневосточной макроцивилизационных систем различались весьма существенно. Конфуцианство ориентировало человека на упорный труд, но не в целях личного обогащения, а на благо социума (точнее, иерархии социумов, в которые человек был включен), тогда как индуистско–буддийское сознание относилось к практической деятельности преимущественно негативно — как к фактору, отвлекающему от аскетического самосовершенствования.
Таким образом, при различных подходах понятия «Запад» и «Восток» имеют не тождественное наполнение. Протестанско–католическая Европа — это, в любом случае, Запад, а, скажем, Китай — Восток. Но Мусульманский мир и Византийско–Восточнохристианская цивилизационные системы оказываются в двойственном положении. По своим социально–экономическим и политическим формам они являются или исконно восточными (исламские народы), или, по крайней мере, сочетающими в различных пропорциях западные и восточные черты. Однако их конечные духовные основания, произрастающие из иудео–античного наследия, — те же, что и у западноевропейско–североамериканских народов. Одна часть цивилизаций бесспорно относится к обществам восточного («азиатского способа производства») типа и связана с религиозно–мировоззренческими системами индуистско–буддийско–даосистского плана (естественно дополняющимися в Восточной Азии конфуцианством). Это относится к Индии, Юго–Восточной Азии, Китаю, Японии и пр.
Здесь мы, естественно, увидим глубинные различия между такими пересекающимися на широком поле цивилизационными ойкуменами, как Индийско–Южноазиатская (индуистско–буддийская, правда, с определенными мусульманскими и даже христианскими инъекциями) и Китайско–Дальневосточная (буддийско–конфуцианская). В каждой из них, в свою очередь, можем разграничивать субцивилизации: в пределах первой — арийскую Северную Индию (Арьяварту) и дравидийскую Южную Индию (Дакшинапатху), а также небольшие, примыкающие к ним страны (Непал, Шри–Ланку и пр.); в пределах второй — Китай (с его членением на Северный и Южный), с одной стороны, и Японию, Корею, Вьетнам — с другой. В полях пересечения цивилизационных ойкумен следует выделять переходные, однако также имеющие своеобразное лицо, трансцивилизационные зоны — как Юго–Восточная Азия или Тибет с монгольским ламаистским миром.
Другая часть человечества (исторически связанная с традициями средневекового Западнохристианского мира) полностью принадлежит как к типу обществ западного пути развития, так и к религиозно–ценностному миру авраамитского типа — в лице католицизма с отделившимися от него разнообразными течениями протестантизма и, в значительной степени, иудаизма. В настоящее время она представлена не только Западной Европой с ее этноконфессиональным разделением на, по преимуществу, романско–католический Юг и германско–протестантский Север, но и Северной Америкой с Австралией и Новой Зеландией, а также рядом других регионов, в частности — Латиноамериканским.
В последние века в зоне воздействия данной системы оказывается и восточнославянско–восточнохристианский круг народов, так что представляется возможным говорить о некоем Макрохристианском мире с глубоким регионально–этно–культурным членением внутри него. Этот мир, как уже говорилось, имеет глубокие корни в античности. Более обстоятельно эта тема будет раскрыта далее.
И, наконец, необходимо выделить в особую группу те социокультурные системы, в которых мы видим сочетание отдельных типичных черт обществ «азиатского способа производства» или данный тип как таковой с теми идейно–ценностными, религиозно–этическими установками, которые базировались на личностном понимании человека и Бога и ориентировали человека на активное отношение к миру. Речь, прежде всего, идет о Мусульманском мире, представленном ныне несколькими субцивилизационными регионами (арабо–суннитским, ирано–шиитским, тюркско–суннитским и пр., с многочисленными переходными типами между ними). С полным правом сюда можно отнести также цивилизацию зороастрийского Ирана и в значительной степени средневековый Восточнохристианский мир — не только Аксум–Абиссинию, но и восточные провинции Византии, если не всю ее (с христианским Закавказьем) в целом. Остается открытым вопрос о типологической принадлежности социокультурных систем Киевской Руси, Московского государства, Российской империи Романовых, Советского Союза, нынешних России, Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии, Армении.
Таким образом, взгляд на цивилизационный процесс с двух точек зрения — путей социально–экономического развития и основных, наиболее общих принципов решения религиозно–мировоззренческих проблем — открывает новые перспективы постижения специфики конкретных социокультурных систем различного иерархического уровня. Их взаимное дополнение в некотором смысле соответствует необходимости учета как объективных закономерностей, так и роли субъективного фактора в истории.
Ситуация оказывается особенно сложной в последние два столетия, когда в условиях формирования всемирной макроцивилизационной системы на фоне планетарной индустриализации наблюдается как эрозия основ традиционных культурно–социально–хозяйственных систем с их дальнейшими псевдовестернизационными видоизменениями, так и кризис традиционных для различных цивилизаций религиозно–этических ценностей при их широкой замене суррогатными формами массовых идеологий националистически–фашистского, коммунистически–большевистского и конфессионально–фундаменталистского типов, не говоря уже о воинствующем варварстве «поп–арта». Это раскрывает глубокие кризисные явления времени перехода от традиционных региональных цивилизаций к глобальной всемирной макроцивилизации постиндустриальной эпохи.
Две основные линии социально–экономического развития, оформившиеся в мировом масштабе еще на стадии поздней первобытности, в XX в. продемонстрировали предел своего развития, исчерпали, как таковые, собственные продуктивные возможности и вступили в процесс глобального взаимодействия, обогатившись использованием ранее несвойственных каждой из них регуляторов: западная — планового, а восточная — рыночного. С таким состоянием своих общественно–экономических систем Североатлантический Запад и Дальний Восток вступают в информационную эпоху.
Менее определенно просматриваются и различные формы синтеза базовых принципов религиозно–мировоззренческих традиций западного, иудео–христианско–мусульманского и восточного, индуистско–буддийско–конфуцианско–даосского миров. Вопрос о необходимости их синтеза, поставленный еще Мани в III в., неоднократно поднимался как в Азии, так и в Европе в последующие столетия. XX в. в этом отношении дал множество имен и подходов. Однако ни один из предложенных вариантов такого синтеза (будь–то бахаизм, доктрина Муни и пр., не говоря уже о еще памятном многим преславутом «Белом братстве» и ему подобном идейном шарлатанстве) во всемирном масштабе не смог составить конкуренции традиционным религиям типа ислама, христианства или буддизма.
Вместе с тем нельзя не заметить, что монотеистические идеи в той или иной форме становятся все более привычными в регионах Южной, Юго–Восточной и Восточной Азии, тогда как концепция перевоплощений, хорошо известная в Античном мире (орфики, Пифагор, Платон, Плотин и пр.), со времен А. Шопенгауэра становится все более популярной на Западе. Среди крупных российских философов ее, к примеру, развивал Н. О. Лосский58. С некоторой симпатией к ней относился даже Н. А. Бердяев59.
При этом Восток все более ценит западную деятельностную, направленную на активное преобразование мира установку, тогда как на Западе распространяется близкое к восточному мироощущению восприятие природы как самоценной данности, на которую человек не вправе смотреть лишь как на объект потребления. В отдаленной перспективе эти тенденции могут привести к постепенному становлению некоего надконфессионального глобального сознания. Однако реальности сегодняшнего дня куда более трагичны и мы наблюдаем жесткое противостояние ценностных систем, приобретающее кровавый характер на Балканах и на Кавказе, Ближнем и Среднем Востоке, во многих других регионах мира.
Цивилизация как дискретная единица исторического процесса
Каждая цивилизация, если следовать тойнбианской традиции, является уникальной самодостаточной полиэтничной социокультурной системой, понимание которой требует учета как ее стадиального положения и причастности определенному пути развития, так и осознания ее неповторимости, присущих только ей характерных черт и признаков, которые не могут быть дедуктивно выведены из общетеоретических соображений.
Таким образом цивилизационный подход органически дополняет стадиальное и поливариантное понимание исторического процесса. В историю вносится элемент дискретности, и она моделируется как живая динамическая суперсистема взаимодействия саморазвивающихся социокультурных систем, которые с момента преодоления первобытного состояния выступают в качестве отдельных локальных и региональных цивилизаций и цивилизационных ойкумен. Последние имеют свои пространственно–временные координаты и проходят определенные фазы развития, в рамках которых выразительно проявляется содержательное и стилистическое единство разнообразных общественных и культурных форм.
Развитие конкретной цивилизации можно связывать с раскрытием потенциальных возможностей, содержащихся в ее базовых прафеноменах, парадигмах или архетипах, природа которых требует дальнейшего изучения. Изменчивое постоянство системы таких архетипически–парадигмальных форм (раскрывающихся через идее–образы и категории культур–цивилизационной традиции) и обеспечивает внутреннее единство проявлений отдельной цивилизации на протяжении всей ее истории.
Вместе с тем, в культуре каждой цивилизации мы обнаруживаем и некое поле напряжения принципиально противостоящих, полярных принципов. В качестве примеров можно назвать открытое Ф. Ницше60 и разрабатывавшееся далее Вяч. И. Ивановым61 противостояние аполлоновского и дионисийского начал в античности, принципы даосского и конфуцианского мировосприятия и жизнедеятельности в традиционном Китае, парадоксальные, но вполне органические сочетания крайних проявлений мистицизма и эротизма в традиционной индийской культуре и христианской аскезы с вполне свободным (в духе поздней античности) образом жизни в Византии.
Идея о том, что исторический процесс можно адекватно понять лишь через изучение отдельных, циклически развивающихся сообществ людей не нова. Ее, применительно к отдельным государствам («династиям»), мы находим у арабского мыслителя XIV в. Ибн–Халдуна или, по отношению к отдельным народам, у итальянского философа XVII — начала XVIII вв. Дж. Вико. Подобные мысли применительно к выделению и объяснению логики развития связанных общей духовной культурой групп народов (античных, христианских, мусульманских) встречаем у американского исследователя середины XIX в. Д. Дрепера, который, вполне возможно, мог оказать некоторое воздействие на формирование концепции Н. Я. Данилевского — непосредственно или в популярном в те годы изложении Д. И. Писарева.
Общий принцип этого, весьма нестандартного в эпоху господства позитивизма и эволюционизма, понимания движения человечества, который разрабатывал Н. Я. Данилевский, просто и ясно выразил Н. Я. Страхов. По его словам, этот мыслитель «…отверг единую нить в развитии человечества, ту мысль, что история есть прогресс некоего общего разума, некоей общей цивилизации. Такой цивилизации нет, говорит Данилевский, существуют только частные цивилизации, существует развитие отдельных культурно–исторических типов»62.
Взгляды Н. Я. Данилевского и О. Шпенглера во многом близки. Они одинаково категорически отрицают единство мировой истории и утверждают, что отдельные культуры (культурно–исторические типы), как животные или растения, рождаются, достигают определенной ступени развития и умирают естественной или насильственной смертью. Однако критерии выделения таких культур у них различны. Н. Я. Данилевский утверждает: «Культурно–исторические типы соответствуют великим лингвистико–этнографическим семействам, или племенам, человеческого рода. Семь таких племен, или семейств народов, принадлежат к арийской расе63. Пять из них выработали более или менее полные и совершенно самостоятельные цивилизации; шестое — кельтское, лишенное политической самостоятельности еще в этнографический период своего развития, не составило самобытного культурно–исторического типа, не имело свойственной ему цивилизации, а обратилось в этнографический материал для римского, а потом, вместе с его разрушенными остатками, для европейского культурно–исторического типа и произведенных ими цивилизаций»64.
Таким образом, в контексте постславянофильского почвеничества, Н. Я. Данилевский склонен определять отдельную цивилизацию в качестве своего рода оформившегося культурно–исторического типа, имеющего конкретную макроэтноязыковую природу (славянство и пр.).
В ином, более близком шпенглеровскому и тойнбианскому, ключе понимал единство цивилизационного целого во второй половине XIX в. К. Н. Леонтьев, придавая ему не этноязыковое, а духовное значение. В этом плане он противопоставил «византинизм», чья общая идея слагается из нескольких частных идей — религиозных, государственных, нравственных, философских и художественных, аморфному, ни в чем конкретно не выраженному «славянству».
В таком смысле цивилизационное целое выглядит как общность принципиально более высокая, чем макроэтническая, не только не сводимая к последней, но способная перекрывать и охватывать народы различного этноязыкового происхождения. Германский и романский массивы одинаково составляют цивилизацию Запада, а народы православной традиции, будь–то греки или русские, причастны к «византинизму». «Цивилизация, культура есть именно та сложная система отвлеченных идей (религиозных, государственных, лично–нравственных, философских и художественных), которая вырабатывается всей жизнью наций»65.
Понимание цивилизации Н. Я. Данилевским как оформленного единства основанного на этноязыковом родстве народов культурно–исторического типа противостоит ее трактовке К. Н. Леонтьевым в качестве реализованной в истории самодостаточной системы базовых принципов социокультурного бытия безотносительно к тому, какие по своей этноязыковой принадлежности народы в нее входят.
Не менее различными, хотя внешне схожими, были и представления двух этих мыслителей об этапах развития цивилизационных целостностей. Н. Я. Данилевский иллюстрирует свое видение этого вопроса при помощи метафоры рождения, развития, максимального раскрытия своих задатков, старения и гибели биологического организма, в чем он весьма близок О. Шпенглеру. К. Н. Леонтьев же не столь «натуралистичен». Он моделирует фазы развития цивилизаций, скорее, по аналогии с развитием форм духа, хотя не избегает и вполне биологических сопоставлений. По его мнению, «триединый процесс: 1) первоначальной простоты, 2) цветущего объединения и сложности и 3) вторичного смесительного упрощения свойственен точно так же, как и всему существующему, и жизни человеческих обществ»66, целым культурным мирам — цивилизациям. Идея К. Н. Леонтьева о «вторичном смесительном упрощении» как о характерной черте исчерпавшей свои творческие силы культуры вполне созвучна шпенглеровскому пониманию цивилизации как той стадии, когда живое заменяется механическим.
Наиболее последовательно и полно концепция циклического развития самодостаточных замкнутых историко–культурных миров представлена в концепции О. Шпенглера, оказавшего мощное влияние на осмысление исторического процесса в период между двумя мировыми войнами. Прежде всего, он категорически отверг господствовавший в западной науке европоцентризм: «Я называю эту привычную для нынешнего западноевропейца схему, в которой развитые культуры вращаются вокруг нас как мнимого центра всего мирового свершения, птолемеевской системой истории и рассматриваю как коперниканское открытие в области истории то, что в этой книге место старой схемы занимает система, в которой античность и Запад наряду с Индией, Вавилоном, Китаем, Египтом, арабской и мексиканской культурой — отдельные миры становления, имеющие одинаковое значение в общей картине истории»67.
«Глубинный срез» любой из этих культур можно, согласно О. Шпенглеру, представить следующим образом. Действительность четко делится на трансцендентное бытие, которое трактуется вслед за А. Шопенгауэром и Ф. Ницше как «воля» или «жизнь», проявляющаяся в образах зримого, феноменального мира. В лоне этой всеобъемлющей жизненной первосубстанции, в отличие от гегелевского «Абсолютного духа», иррациональной по своей сути, непостижимым образом зарождается «душа» некоей культуры — ее «прафеномен», порождающий определенные символы, которые, пребывая в бессознательной сфере человеческой психики, обуславливают специфику мироощущения и мировосприятия людей соответствующей общности. Этот «прафеномен» определяет внешний облик, «хабитус» той или иной культуры, неповторимый у каждой из них.
«Хабитус» для О. Шпенглера — общий стиль, присущий всем проявлениям духовной, социальной и экономической жизни, пронизывающий искусство и политику, литературу и математику, все то, что, по сути, является проэкциями, эманациями или интенциями трансцендентного «прафеномена» в плоскости имманентной данности феноменального бытия. Речь идет о том общем «стиле» или «почерке» великой культуры, который, выражаясь словами А. Я. Гуревича68, свойственен в пределах культурного региона творчеству самых разных его представителей, в какой бы сфере они ни работали, о ее «духе», который выражал некоторое глубинное единство мировосприятия и миропонимания, выражаясь в самых различных языках и художественных формах.
О. Шпенглер подчеркивает, что этот «хабитус», распространяющийся у отдельных людей на умонастроения, мысли, жесты и поступки, в существовании целых культур «охватывает всю совокупность жизненных проявлений высшего порядка», как–то: преобладание определенных видов искусства (круглой пластики и фрески у эллинов, контрапункта и масляной живописи на Западе) и решительное неприятие других (например, пластики у арабов), тип государственных образований, денежных систем и общественных нравов. По мнению немецкого философа, такое внутреннее единство облика культуры, в конечном счете, определяющееся единством ее «духа», «прафеномена», может быть конкретизировано через ряд глубинных символов, понимаемых в качестве своего рода обшекультурных (в пределах некоей конкретной культуры) архетипов. Поэтому можно сказать, что «прочувствованное единство культуры покоится на общем языке ее символики», «вполне понятном только тому, чья душа принадлежит к этой культуре».
Сравнивая исторические судьбы названных им «великих культур», О. Шпенглер отмечает, что каждая из них переживает этапы, сопоставимые с возрастными периодами человека: у каждой культуры имеются свои детство, юность, зрелость и старость. В целом же он выделяет пять основных этапов в жизни культур:
1. З а р о ж д е н и е. Культура зарождается внезапно, из неясных глубинных брожений и процессов, в момент, когда трансцендентный «прафеномен» оформляется в реализовываемую культурой систему «прасимволов», наиболее адекватно проявляющихся на первых порах в мифологии и орнаментации.
2. Р о с т — процесс становления, формирования и подъема культуры, ее саморазвитие как свободная реализация системы «прасимволов» во всех сферах человеческой деятельности.
3. Р а с ц в е т — наступает, когда культура достигает зрелости как максимального раскрытия своих внутренних возможностей. Но с этого момента ее духовные потенции исчерпываются, и она переходит от творческого созидания к механическому расширению. По О. Шпенглеру, это и означает ее перерождение в «цивилизацию».
4. У п а д о к — стадия окончательного утрачивания творческих потенций. «Огонь души угасает» и начинается эпоха городской цивилизации техники, экспансии, милитаризма и захватнических войн. Цивилизация не творит ничего в духовном отношении нового и возвышенного, лишь стремится к внешним приобретениям материального характера. Такое общество внутренне омертвевает и закостеневает.
5. Г и б е л ь. Она может быть либо насильственной и фиксируемой (Античность), либо означать полный застой и окостенение (Китай), когда цивилизация стоит, как сухое дерево, до тех пор, пока какая–то внешняя сила ее не уничтожит. К такому состоянию, по мнению О. Шпенглера, и приближается духовно исчерпавшийся, механицистический и утилитарный Запад.
Через проведение аналогий между греками и романскими народами, с одной стороны, и римлянами и немцами — с другой, автор подводит читателя к выводу, что вслед за Сиракузами, Афинами, Александрией следует Рим, а вслед за Мадридом, Парижем, Лондоном — Берлин. Не лишнее отметить, что почти то же (и более близко к тому, что осуществляется на наших глазах) предрекал пятью десятилетиями ранее, в 1875 г., К. Н. Леонтьев: «Франция, Германия, Италия, Испания и т. д. падут: они станут областями нового государства, как для Италии стали областями прежний Пьемонт, Тоскана, Рим, Неаполь, как для всей — Германии стали областями теперь Гессен, Ганновер и самая Пруссия»69. В настоящее время это пророчество реализовывается в форме образования Европейского Союза.
Вместе с тем О. Шпенглер в еще большей степени, чем К. Н. Леонтьев или Н. Я. Данилевский, решительно отказывается видеть всемирную историю в целом, не только в ее стадиальности и поливариантности развития, но даже в аспекте синхронного и диахронного взаимодействия основных «культур» (что в известной степени учитывалось двумя названными русскими мыслителями). В результате всемирная история как таковая исчезала вообще. Согласиться с этим трудно.
Взаимосвязь между отдельными цивилизациями в пространстве и времени, их синхронные и диахронные контакты в XIX, тем более, в XX веках мало у кого вызывали сомнения. Эти реалии хорошо описывались в рамках методологических установок гегельянства, эволюционистского позитивизма или марксизма. Однако, избрав принципиально иную, отрицающую всемирную историю как некую конкретную реальность, установку, О. Шпенглер логически пришел к отрицанию (точнее — игнорированию) межцивилизационных взаимодействий.
Принципиально иную позицию в этом вопросе занял А. Дж. Тойнби, разрабатывавший далее концепцию саморазвития автономных, внутренне целостных, однако взаимодействующих между собою в мировом историческом процессе цивилизаций. Необходимо отметить, что А. Дж. Тойнби является в собственно философском отношении представителем совершенно иного направления развития историко–культурной мысли, чем О. Шпенглер или Н. Я. Данилевский, при всем том, что по форме осмысления или, точнее, обобщения материала он как яркий представитель цивилизационного подхода весьма им близок. Это подчеркивалось и самим английским теоретиком в его письме Н. И. Конраду: «Вы делаете мне честь, сопоставляя меня со Шпенглером. Я восхищаюсь им… за гениальность, которая сказалась во многих вспышках его интуиции. Я также согласен с ним во взгляде на историю до ее нынешнего момента (это важная оговорка) не как на единый поток, движущийся сквозь века и охватывающий все человечество, а как на ряд отдельных, одновременных потоков»70.
В то же время, продолжает он далее, «в отличие от Шпенглера я не детерминист… я полагаю, как и он…, что когда мы окидываем взором то, что мы знаем о прошлом, мы наблюдаем известные закономерности… Я объясняю их… как результат единообразия человеческой природы — особенно ее иррационального, эмоционального, подсознательного слоя… Две отличительные способности принадлежат только человеческой природе (они взаимосвязаны) — это сознательность и способность, которую нам дает сознательность, сделать выбор»71.
Таким образом, если Н. Я. Данилевский и О. Шпенглер настаивают на обособленности и взаимонепроницаемости культур (цивилизаций), то А. Дж. Тойнби, особенно в последние десятилетия своего творчества, ищет основы общечеловеческого единства, рассматривая историю как процесс, содержащий в себе отдельные цивилизационные циклы, но выводящий (особенно в наше время) через взаимодействие отдельных цивилизаций к подлинно общечеловеческой истории. В этом смысле, тем более при акцентации на единстве человеческого духа, внутренней природы людей с такими ее атрибутами как сознание и свобода выбора, учение А. Дж. Тойнби гораздо ближе по духу идеям И. Г. Гердера.
Корни различия между взглядами А. Дж. Тойнби и О. Шпенглера уходят в основания их философского мировоззрения. За спиной немецкого теоретика стоит столетняя эволюция иррационализма в Германии, оформившегося к концу XIX в. в «философию жизни». Культура у О. Шпенглера выступает как единый живой организм, трансцендентной сущностью которого является мистически ощущаемый «прафеномен». Отсюда логически вытекает, что основная онтологическая субстанция — «жизнь» (аналогичная шопенгауэровской «воле»), по отношению к которой отдельные индивиды, являясь не более чем производными от нее функциями, ничего не значат. Культура зарождается, развивается и гибнет безотносительно к их волеизъявлению; более того, само это волеизъявление детерминируется состоянием (фазой жизненного цикла) этого «прафеномена». В противовес этому А. Дж. Тойнби, воспитанный в духе либерального англиканства, разделяет христианское учение о человеке, наделенном свободной волей и возможностью сознательного выбора своей линии поведения. Отсюда уже нетрудно перейти к идее человеческой свободы, творчества и ответственности в истории.
В понимании человека А. Дж. Тойнби близок к персоналистам (Н. А. Бердяев, поздний Л. И. Шестов, К. Ясперс, Г. Марсель, Э. Мунье, Ж. Лякруа, П. Пикер, Э. Брайтмен). Для него человек «заброшен в мир», но при этом сохраняет внутреннюю, личностную, неразрывную связь с Богом. Деятельность человека направлена в мир, но проистекает из трансцендентного духовного Абсолюта. Это дает человеку уверенность в жизни, позволяет занять активную позицию в отчужденном, не подлинном мире, ощутить себя причастным к первосущности бытия. Для А. Дж. Тойнби, как и для персоналистов, человек является, прежде всего, причастным к Богу, индивидуальным, свободным в своем выборе, духом, активным и творческим, но обреченным действовать в отчужденном, извращенном мире. Таким образом, реальны, в высшем смысле этого слова, Бог и человеческие души, результатом объективации которых выступают мир культуры, данные в своем явленном бытии как ряд автономных цивилизаций.
Если для О. Шпенглера культура основывается на безличном трансцендентном иррациональном «прафеномене», то А. Дж. Тойнби понимает культуру и цивилизацию как продукт свободной реализации (в рамках конкретных, объективно сложившихся условий) духовной первосушности людей. Отсюда вытекает, что судьба любой цивилизации зависит от самих людей, наделенных относительно постоянной во все исторические эпохи подсознательной сферой, сознанием (зависящим уже и от культурно–исторической среды) и свободным выбором. Свобода выбора, данная людям от рождения, и определяет в конечном счете судьбы отдельных цивилизаций.
Таким образом, если для О. Шпенглера ход истории мыслится предопределенным некими надличностными витальными силами, то для А. Дж. Тойнби, равно как и других мыслителей персоналистического направления, судьба любого общества зависит от самих составляющих его людей как духовных субъектов, творцов, наделенных свободой выбора.
Стало быть, как справедливо отмечает Е. Б. Рашковский, в таком ракурсе не вполне верно говорить о понимании истории как процесса. Безусловно, в историю вплетены некоторые феномены, которые могут быть описаны как собственно процессы (биологические, экономические, лингвистические и т. д.). Однако процессы безличны, а история личностна; в ней присутствуют все атрибуты драмы: любовь, антагонизм, сделка, вражда… «Но в драме истории чудится Тойнби и нечто призрачное; за кулисами этой драмы его воображению рисуются образы божественного процесса, протекающего по ту сторону бренного бытия, по ту сторону исторического времени»72.
Сущностью истории, трансцендентной относительно эмпирически данного бытия, согласно воззрениям английского мыслителя и является свободное взаимодействие и конечное сотрудничество Бога и Человека. «История, — писал он, — есть взаимодействие Бога и Человека. Закон и Свобода в истории оказываются идентичными в том смысле, что свобода человека оказывается Законом Бога, который идентичен любви»73.
А. Дж. Тойнби признает рациональную недоказуемость существования «конечной духовной первореальности», однако обосновывает ее действительность в сущности по–кантиански, с точки зрения нравственной необходимости «существования чего–то лучшего, чем человеческая природа». Незадолго до своей смерти он писал:
«Я верую, что оправданным объектом поклонения для человека является конечная духовная реальность внутри, вне и за Вселенной. Как мне кажется, конечная духовная реальность есть любовь… Любовь — это духовный импульс к тому, чтобы давать вместо того, чтобы брать. Это импульс к тому, чтобы вернуть самого себя обратно к гармонии со Вселенной, от которой «я» было отчуждено благодаря врожденной, но не непреоборимой эгоистичности»74.
«Единицу исторического исследования» А. Дж. Тойнби, вслед за О. Шпенглером, усматривает не в отдельных народах, а в их определенным образом организованных сообществах. Так, писал он, английская история не может быть понята сама по себе, но лишь в контексте некоего более крупного исторического целого — истории Западной Европы Это целое содержит в себе части (Англию, Францию, Нидерланды), являющиеся субъектами идентичных побуждений или «вызовов», но реагирующие на них по–разному. То «общее», или «общество», к которому принадлежит Англия, именуется им Западнохристианским миром или Западной цивилизацией, имеющей пространственную протяженность в различные отрезки времени и хронологическое начало. Исследуя это общество, ученый обнаруживает за ним, у его истоков «филиалы» эллинистической (греко–римской) цивилизации, а также следы влияния византийского и мусульманского миров.
Рассматривая таким образом понимаемые цивилизации, А. Дж. Тойнби, прежде всего, противопоставляет их аморфной массе первобытных обществ, гораздо более многочисленных, но, по его мнению, куда менее индивидуализированных. Цивилизации выступают в качестве локальных культурноисторических образований, выделившихся из нерасчлененной массы первобытных земледельческо–скотоводческих обществ. Они не ограничиваются рамками той или иной местности, но охватывают весьма значительные территории, от пределов отдельной страны (Египет) до целого географического региона (античное Средиземноморье, Индостан), или даже выходят за его пределы (Мусульманский мир).
Такие цивилизации демонстрируют целостную структуру последовательных, причинно–следственным образом взаимосвязанных явлений. Цивилизация представляет собой социально–политическую и культурно–мировоззренческую систему автономных, но постоянно взаимодействующих друг с другом и окружающей природной средой социальных (государственных, национальных) организмов, жизнь каждого из которых может быть понята лишь в контексте определенной цивилизации.
А. Дж. Тойнби подразделяет цивилизации на две большие группы: независимые цивилизации и цивилизации–спутники, развивающиеся в орбите влияния и под решающим (или, по крайней, мере весьма ощутимым) воздействием первых. В свою очередь, независимые цивилизации подразделяются на независимые обособленные, независимые необособленные и дочерние двух серий. Независимые обособленные и необособленные цивилизации (отличающиеся тем, что первые не имеют, а вторые имеют контакты с иными цивилизациями) появляются непосредственно из первобытного общества, в то время как дочерние возникают на руинах или в результате коренной трансформации предшествующих цивилизаций, используя многие достижения последних (Античность и Крито–Микенский мир, христианская Европа и сама Античная цивилизация). Поэтому они (особенно дочерние «второй серии» — Восточнохристианская, Исламская и Западнохристианская) достигают более быстрых и впечатляющих результатов, чем их предшественники.
В концепции А. Дж. Тойнби, в конечном счете потому, что онтологической («метафизической») первореальностью им признается отдельная личность («человеческая душа»), а не иррациональный «прафеномен» культуры, цивилизации оказываются «взаимопроницаемыми». Достижения предшественников переходят к преемникам и развиваются ими, в то время как менее развитые общества могут заимствовать достижения у более преуспевших соседей. Этим реабилитируется понятие всемирной истории, понимаемой уже через саморазвитие и взаимодействие сперва первобытных обществ, а затем и отдельных цивилизаций.
Излагая свое панорамное видение цивилизационного взаимодействия, британский исследователь писал, что проведенные им исследования позволили выделить ряд цивилизационных общностей. Это общество западное, православное, иранское, арабское (при этом два последних интегрируются в одно — исламское), индуистское, дальневосточное, эллинское, сирийское, индское, древнекитайское, минойское, шумерийское, хеттское, вавилонское, египетское, андское, мексиканское и майяское. По мнению А. Дж. Тойнби, весьма желательно разделить православно–христианское общество на православно–византийское и православно–русское, а дальневосточное — на китайское и корейско–японское. Это увеличило бы число цивилизаций до двадцати одной.
Большинство из названных (как и неотмеченных в силу состояния научного знания первой половины XX в.) цивилизаций связываются как непосредственным, синхронным взаимодействием с несколькими соседними, так и объединяются «материнско–дочерними» отношениями с одним или несколькими другими. Однако, признавая в таком смысле реальность всемирно–исторического процесса, британский мыслитель, как и О. Шпенглер, основное внимание уделяет построению модели развития, точнее — «жизненного пути» отдельных цивилизаций. Схема цивилизационного цикла А. Дж. Тойнби весьма близка к аналогичной схеме немецкого философа. В истории каждой цивилизации он фиксирует следующие этапы:
1) р о ж д е н и е — объединение отдельных групп людей в первичное жизнеспособное государственное сообщество;
2) р о с т — процесс культурного и общественного развития, в ходе которого раскрываются внутренние потенции сложившейся системы и отдельных людей как ее конкретных носителей;
3) н а д л о м — внутренний раскол общества, потеря высших идеалов и общих целей, свидетельствующие о кризисе;
4) р а з л о ж е н и е — усиление конфронтации в обществе, вызванной отчужденностью между «верхами» и «низами», при усилении экспансионизма и войн, ставящих цивилизацию под угрозу внешнего удара;
5) г и б е л ь — обычно в результате внутреннего коллапса, сочетающегося с ударами извне.
Однако понимание внутреннего содержания этапов и их последовательности в двух сравниваемых концепциях совершенно различно. Цивилизация, понимаемая в качестве системы взаимодействующих социальных организмов, в своем развитии оказывается детерминированной взаимосвязью последних. А их состояние определяется творческим потенциалом элементарных составляющих — людей, так сказать их «качеством». Особенно это относится к элите, представителям «творческого меньшинства», организующим «отклики» соответствующих социумов на «вызовы» извне. Судьба цивилизации, таким образом, в первую очередь зависит от того, как долго «творческое меньшинство» составляющих ее компонентов (социальных организмов) продуцирует удачные «отклики» на «вызовы» внешнего мира и, далее, каким образом «отклики», даваемые различными, входящими в нее сообществами, взаимодействуют друг с другом.
По справедливому (хотя, понятно, и не оригинальному) мнению ученого, для обеспечения выживания и нормального существования люди должны объединяться для совместных действий, что невозможно без организационных усилий некоторой наиболее энергичной, дееспособной, активной части населения, берущей инициативу в свои руки. А. Дж. Тойнби убежден в том, что «все акты социального творчества являются делом либо индивидуальных творцов, либо, в крайнем случае, творческого меньшинства». «Творческим меньшинством» является «правящее меньшинство, в котором творческая способность человеческой природы находит удобный случай выразить себя в эффективных действиях на благо всех членов общества» Такого рода элита ведет за собой «инертное, нетворческое большинство», полагающееся на заслуженный авторитет лидеров, на которых, в сущности, возлагается вся ответственность за судьбу общества.
А. Дж. Тойнби, опираясь на юнговскую концепцию коллективного бессознательного, считал, что представители «творческого меньшинства» путем интроверсии (ср. бердяевское «трансцендирование» в противоположность «объективации») способны к прозрению и постижению внерациональных онтологических ценностей и истин, смутно ощущаемых и иными людьми. Поэтому они и способны увлечь за собой массы, возглавив и направив их «жизненный порыв» (в бергсоновском смысле) во имя достижения общей цели, обеспечивая тем самым оптимальный «отклик» соответствующего общества на «вызов» бытия.
Правящее меньшинство признается «творческим» лишь в том случае, если оно является носителем неких высших духовно–нравственных ценностей, на базе которых и строится живой контакт между «ведущими» и «ведомыми», принципиально невозможный в случае применения насилия первыми по отношению ко вторым. Насильственный характер действий как раз и является признаком «нетворческой» деятельности, демонстрируя бездуховность применяющей силу группы, которая в таком случае именуется «господствующим меньшинством».
Перерождение «творческого меньшинства» в «меньшинство господствующее» демонстрируется серией неудачных «откликов» на внешние «вызовы», что и определяет надлом соответствующей цивилизации. Под «господствующим меньшинством» исследователь подразумевает «правящее меньшинство, которое управляет в меньшей степени благодаря привлекательности, нежели благодаря силе». Промахи утрачивающей творческий потенциал элиты (перерождающейся в, так сказать, властвующее сообщество), оказывающейся не способной справляться со своими обязанностями и в то же время не желающей расставаться с властью и привилегиями, приводят общество в состояние кризиса. Ответом на недовольство масс становится создаваемая властями военно–бюрократическая машина принуждения — «универсальное государство» как аппарат насилия, обеспечивающий власть «господствующего меньшинства». Это означает «начало конца».
На этапе «надлома» цивилизации, отделяющем фазу «роста» от состояния «разложения», отчужденная масса (называемая «внутренним пролетариатом») утрачивает веру в вождей, в их идеологию и сакральное право на власть. Если властвующее сообщество продолжает ориентироваться на старую, выхолощенную, но освящающую его господство идеологию, то угнетенная масса не может более довольствоваться ею. «Внутренний пролетариат» начинает подспудно вырабатывать собственную религиозно–мировоззренческую культуру, искреннюю и одухотворенную, хотя и наивную, даже примитивную с рассудочной точки зрения правящей верхушки. Так в недрах разлагающегося, утрачивающего общие духовные цели и ценности социума в качестве альтернативы самодовлеющего «универсального государства» формируется «универсальная церковь».
В смутные времена крушения империй (в процессе чего активную роль играет «внешний пролетариат» — восставшая против экспансии «универсального государства» варварская периферия) адепты новой веры (буддизма, христианства и пр.) консолидируются в «универсальную церковь», становящуюся своего рода зародышем, эмбрионом, куколкой новой, «дочерней» по отношению к погибшей, цивилизации. Ее духовные лидеры оказываются в роли нового «творческого меньшинства», объединяющего вокруг себя народные массы.
Таким способом, через создание новой, высшей религии (как христианство по отношению к греко–римскому язычеству) человечество (через отдельные регионально–цивилизационные континуумы) поднимается на следующую ступень духовной эволюции. С годами, особенно после Второй мировой войны, А. Дж. Тойнби все большее внимание уделял осмыслению единства поступательного духовного движения человечества. Этот сдвиг тогда же точно подметил П. Сорокин: «В то время как ранее Тойнби интерпретировал все великие цивилизации как философски эквивалентные и совпадающие во времени, теперь он классифицирует их в хронологическом и оценочном порядке как прогрессивные шаги к реализации все более великих и высоких религий»75. Об этом откровенно писал и сам британский мыслитель: «По мере того, как я продвигался вперед, Религия стала занимать центральное место в моей картине Универсума»76.
Главным теперь для философа становится осмысление движения в направлении создания всемирной, единой цивилизации будущего человечества, причем движения, взятого в его внутреннем, содержательном, духовнорелигиозном аспекте — как восхождение от примитивных атропоморфных верований через персонифицирующие и обожествляющие собственный социум религии древних цивилизаций к «высшим религиям» и «религии будущего». При этом под «высшими» понимаются «…такие религии, которые устанавливают прямой контакт индивидуального человеческого существа с конечной духовной реальностью вместо предоставления ему лишь непрямого контакта с ней через посредство либо нечеловеческих сил природы, либо институтов, олицетворяющих коллективную человеческую силу»77.
Смыслом исторического движения становится именно духовный прогресс, так что духовные единства, складывающиеся в кризисные эпохи, выступают в качестве подлинно новых сообществ людей. Разработка и видоизменение «высших религий» происходят в «дочерних цивилизациях второй серии», производных от предыдущих через посредство «церквей–куколок». Так, по мнению А. Дж. Тойнби, возникают Восточнохристианская и Западнохристианская цивилизации, разрабатывающие, вместе с родственной им Исламской, духовное наследие древней сирийско–переднеазиатской и античной культур. При этом Западный мир создал технические и экономические основы для реального объединения всего человечества в единую целостную макросистему, стянутую отношениями жесткой взаимозависимости образующих ее компонентов: отдельных цивилизаций и народов.
Как видим, на завершающем этапе своего творческого пути А. Дж. Тойнби подчеркивал именно идею общечеловеческого единства, понимаемого, прежде всего, в религиозном, но также и в историко–политическом (для современности и будущего) ключе. Отдельные цивилизации представлялись ему уже синхронно и диахронно взаимосвязанными ветвями единого древа истории, стремящимися в отдаленной, но уже просматривающейся, перспективе к конечному духовному единению. В движении ко «всемирной вере» на основе Любви, благодаря которой будет достигнута гармония между Человеком и Универсумом, поздний А. Дж. Тойнби усматривает смысл истории. В этом убеждении он близок к таким ведущим западным мыслителям XX в. как, скажем, П. Тейяр де Шарден (с его концепцией «точки Омега») и К. Ясперс, а также к общей традиции русской религиозной философии — «философии всеединства», как она представлена у В. С. Соловьева или С. Н. Булгакова.
Установка на осмысление судеб отдельно взятых локальных или региональных цивилизаций — и в философии истории А. Дж. Тойнби это выражено особенно отчетливо, — вовсе не противоречит идее конечного единства всемирной истории. Последняя и проявлялась преимущественно через такие цивилизации. Конкретное понимание всемирной истории и культуры возможно лишь через рассмотрение цивилизационной дискретности в уникальности и своеобразии проявления соответствующих социо–культурных феноменов — как саморазвивающихся во взаимодействии друг с другом целостностей.
Однако рассмотрение истории как системы саморазвития и взаимодействия отдельных, соотнесенных между собой в пространстве и времени, цивилизаций следует вести именно в соответствии с принципами стадиальности и полилинейности исторического движения. Без этого история утрачивает единство, превращается в конгломерат замкнутых в себе и отчужденных друг от друга социокультурных систем, как это демонстрирует концепция О. Шпенглера. А такое понимание нельзя считать удовлетворительным, особенно сегодня, когда единство истории человечества стало самоочевидным. С учетом упоминавшейся выше ясперсовской концепции «осевого времени» по–новому стоило бы взглянуть и на выделяемые А. Дж. Тойнби три генерации цивилизаций: первичные — т. е. независимо возникающие, и дочерние первой и второй серий.
Первичные, возникающие на первобытной основе цивилизации, собственно говоря, готовят почву для сдвигов «осевого времени». Однако сами они либо гибнут, не достигая его уровня (как Крито–Микенская, Хараппская долины р. Инд или Шан–Иньская в Китае), либо оказываются как бы на периферии соответствующих процессов (Египет и Месопотамия по отношению к Греции, Палестине и Ирану). Отдельный случай — восприятие едва возникшими на периферии мощных цивилизационных центров средневековья раннеклассовыми обществами культурных достижений их соседей (Русь и Византия, Западный Судан и мусульманская Северная Африка, Япония и Китай).
Цивилизации, возникающие на руинах предшествующих, как правило при участии пришлого варварского элемента (дочерние первой серии) — такие, как Античная, зороастрийского Ирана, традиционные Индийская и Китайская, а также выделенная А. Дж. Тойнби, но не вполне четко им очерченная Сирийская, — на ранних фазах развития осуществляют, а затем закрепляют прорыв «осевого времени».
Однако, если в Китайско–Дальневосточном и Индийско–Южноазиатском макрорегионах соответствующие достижения, особенно в духовной сфере (конфуцианство, даосизм, буддизм, вырастающий из учения упанишад ведантизм и пр.), признаются непревзойденными, консервируются, формализуются и до определенной степени окостеневают, так в сущности и не выработав форм, доступных и понятных широким массам, то в Переднеазиатско–Средиземноморском (с подключаемыми к нему Кавказом и Европой) макрорегионе в условиях сложнейших межцивилизационных отношений (с элементами как конфронтации, так и взаимообогащения) удалось выработать более персоналистически ориентированные вероучения — сперва иудаизм и зороастризм, а затем христианство и ислам. Два последних становятся духовной подосновой трех великих цивилизационных миров Средневековья: Восточнохристианского и Западнохристианского, а также Мусульманского. Все они вырастают из восточносредиземноморско–переднеазиатского, по преимуществу иудейско–греческого (с разнообразнейшими иранскими, египетскими, римскими и пр. инъекциями), синтеза рубежа эр, по–разному переплавляя духовные достижения «осевого времени» обществ названного региона в целостные социокультурные системы соответствующих цивилизаций.
С учетом ранее рассматривавшейся концепции стадий и путей развития человечества переосмысления требует вопрос о всемирно–исторической роли Западнохристианско–Новоевропейско–Североатлантической цивилизации, качественно обновляющейся в эпоху Возрождения, Реформации и Великих географических открытий. Главным в этом отношении является обнаружение причин того, почему именно Западная Европа в данное время инициировала начало перехода человечества к качественно новой — индустриальной, связанной с глобальной интеграцией человечества стадии.
Предложенные в течение последних столетий объяснения западного лидерства (Г. В. Гегеля, Ф. Гизо, К. Маркса, В. Зомбарта, М. Вебера, А. Дж. Тойнби, У. Ростоу, В. Мак–Нила и др.) с разных сторон подходят к решению этой проблемы, однако не дают целостного основания. В течение Нового времени Запад (находившийся где–то до времен монгольских завоеваний и, безусловно, до начала Крестовых походов на периферии ведущих цивилизационных центров) преобразовал себя, а затем и весь остальной мир, интегрировав и структурировав его вокруг себя к концу XIX в.
Предложенная А. Дж. Тойнби, глубоко продуманная и фактографически выверенная модель взаимоотношений Западной цивилизации с прочими социокультурными мирами требует дальнейшей разработки в плане уточнения внутренней цивилизационной природы (с базовыми ценностями и пр.) как Западной, так и всех прочих цивилизаций. Почему на вызов Запада не только Индия и Китай, но даже культурно близкие Китай и Япония, также Турция, Иран и Саудовская Аравия, и пр. реагировали и реагируют по–разному?
Кроме того, как выясняется, мировая интеграция под эгидой Запада, вовлечение им соседей в формируемую им глобальную структуру, проходила как бы в два этапа. Сперва к Европе были подключены обе Америки с побережьем Африки (в качестве поставщика рабской силы для плантаций Нового Света), с одной стороны, и Восточноевропейско–Евразийский регион (православные земли в составе Речи Посполитой, затем Российское государство) — с другой. При всех различиях в политическом устройстве и связанных с ним силовых реакциях оба эти субцивилизационные региона превращаются в аграрно–сырьевые придатки и рынки сбыта промышленных товаров для стран Запада. Более того, несмотря на все большее укрепление на Западе идеи свободного труда, в обоих названных регионах усиливается и процветает вплоть до 60‑х г. XIX в. труд подневольный (плантационное рабство, крепостничество и пр.). На втором этапе в инициируемую Западом мировую интеграцию втягиваются (с разными для них последствиями) Мусульманский, Индийско–Южноазиатский и Китайско–Дальневосточный миры. Первая мировая война со всей очевидностью засвидетельствовала функциональное единство человечества.
Поэтому на первый план выдвигается проблема осмысления движения человечества к дискретному (прежде всего в цивилизационном, но также и других — этническом, государственно–политическом и пр. отношениях) единству, к формированию глобальной, всемирной макроцивилизационной системы.
ГЛАВА 2: СТАДИАЛЬНЫЕ ФЛУКТУАЦИИ В ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (И. Н. Рассоха)
Исторические стадиальные флуктуации и поступательное развитие человечества
Современная ситуация в философии, ситуация «постмодерна», характеризуется глубоким кризисом практически всех основных идеологических течений и философских школ. Суть этого кризиса в том, что (Здесь и далее курсив мой. — Авт.) эти течения и школы так или иначе доказали свою несостоятельность, т. е. критики каждого из направлений оказались более правы, чем его защитники.
Однако в социальной философии и философии истории (эти понятия достаточно близки) данный кризис часто проявляется специфически — как стремление к конструктивному синтезу различных, изначально противоречащих друг другу методологических подходов, таких, как цивилизационный и формационный (стадиальный). Это связано с накоплением в последние десятилетия огромного количества новых исторических фактов, которые необъяснимы в рамках каждого из традиционных концептуальных подходов.
Так, с одной стороны, стало очевидным, что уже по крайней мере с начала бронзового века большинство народов Старого Света посредством интенсивных экономических и культурных связей объединились в целостную динамичную систему с общими ритмами развития78.
Это ставит под сомнение любые подходы, рассматривающие группы стран с общей религией (что обычно понимается под цивилизациями) как замкнутые системы, развивающиеся по своим внутренним законам.
С другой же стороны, накопленные факты свидетельствуют о зигзагообразном характере истории человечества, к тому же часто наблюдается несоответствие между уровнем технологии и уровнем социально–культурного развития конкретных обществ. Это создает серьезнейшие трудности для формационного подхода. Ярким примером несовершенства традиционных методологических подходов служит необъяснимость, казалось бы, уже давно и хорошо изученного феномена античной цивилизации. Так, древнегреческая культура в целом стала фундаментом всей последующей цивилизации Запада. Но сам феномен «древнегреческого чуда» — поразительного всплеска духовной энергии маленького народа — так и не получил убедительного объяснения.
В этой связи перспективной представляется система подходов, развиваемых историками школы «Анналов», в особенности концепция мира–экономики, разработанная Ф. Броделем. В своей эпохальной работе «Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв.» он дает весьма развернутую и убедительную трактовку этого понятия. Мир–экономика — это «экономически самостоятельный кусок планеты, способный в основном быть самодостаточным, которому его внутренние связи и обмены придают определенное органическое единство». В частности, в средние века такой мир–экономика сформировался в Западной Европе — до Польши и Скандинавии включительно. Причем пространство мира–экономики наряду с отсталой периферией «предполагает наличие некоего центра, служащего к выгоде какого–либо города и какого–либо уже господствующего капитализма». При этом, как правило, границы мира–экономики совпадают с границами культурными, цивилизационными. «Так, вексель, главное оружие торгового капитализма Запада, обращался почти исключительно в пределах христианского мира еще в XVIII в., не переходя эти пределы в направлении мира ислама, Московской Руси или Дальнего Востока. Не оставаться в кругу своих, в кругу купцов, руководствовавшихся теми же принципами и подчинявшихся той же юрисдикции, означало бы рисковать сверх меры. Тем не менее здесь речь шла не о техническом препятствии, а скорее о культурном неприятии, поскольку за пределами Запада существовали плотные и эффективные кругообороты векселей, к выгоде купцов мусульманских, армянских или индийских. И эти кругообороты в свою очередь останавливались у границ соответствующих культур»79.
Как видим, концепция «мира–экономики» вобрала в себя черты всех трех рассмотренных выше концепций. По сути, миры–экономики в описании Ф. Броделя — это те же цивилизации. Ф. Бродель в этой же работе выделяет четыре стадии развития человеческих обществ: «дикости» (присваивающего хозяйства), варварства (стадия «культуры»), цивилизации Старого порядка и стадию «современного (индустриального) общества». Важнейшую роль в концепции «мира–экономики» играет понятие его центра. В целом в каждом мире–экономике в направлении от периферии к центру формировались все более высокоразвитые в социально–экономическом отношении общества, в том числе имевшие современные черты (на что впервые обратили внимание историки — «модернизаторы» — Т. Момзен, Э. Мейер, М. Ростовцев).
Принципиальным недостатком работ Ф. Броделя можно считать сосредоточение внимания почти исключительно на экономической проблематике, недоучет взаимовлияния социально–экономической и духовной сфер (хотя в целом школа «Анналов» очень серьезно разрабатывает эту тему). Также в его труде подходы к исследованию обществ XV–XVIII вв. почти не экстраполируются на эпоху античности, хотя сам автор подчеркивает корректность этой экстраполяции (например, говоря о технологии эллинистической эпохи)80.
Представители школы «Анналов» сформулировали целый ряд общих положений, относящихся к философии истории. Но все эти положения сформулированы только на основании обобщения конкретно–исторического материала. Ф. Бродель так определил свое кредо исследователя: «Мы предпочитаем поискам дефиниции в абстракции наблюдение конкретных случаев опыта»81. Любые историко–философские схемы, не подкрепленные исчерпывающим фактическим материалом, по мнению Ф. Броделя, есть вредная спекуляция.
Для адекватного понимания исторического процесса и современных трансформаций глобализированного человечества важным представляется разработка понятия «стадиальные флуктуации». Вообще термин «флуктуация» применяется довольно широко по отношению к различным социальным явлениям. Так, «Словарь иностранных слов» определяет слово «флуктуация» как «1) случайное отклонение величины, характеризующей систему из большого числа частиц, от ее среднего значения; например (…) флуктуация плотности населения в пределах страны»82.
Широкую известность получила концепция П. Сорокина, который заявил буквально следующее: «Вопреки моему желанию увидеть в истории этапы поступательного, прогрессивного развития я неизбежно терплю неудачу, пытаясь как–то подкрепить такую теорию фактами. В силу этих обстоятельств я вынужден удовлетвориться менее чарующей, хотя, возможно, более корректной концепцией бесцельных исторических флуктуаций. Вероятно в истории и есть некая трансцендентная цель и невидимые пути продвижения к ней, но они еще никем не установлены. Концепция бесцельных флуктуаций представляется справедливой, и в том числе и при изучении экономических колебаний в истории… Предшествующее обсуждение проблемы колебаний политической, экономической и профессиональной стратификации показывает отсутствие какой–либо постоянной тенденции в этой области… История не дает достаточного основания утверждать ни тенденцию в направлении к раю процветания, ни к аду нищеты. История показывает только бесцельные флуктуации»83.
По Сорокину, все проявления технологического прогресса — не более чем «бесцельные флуктуации», а вся история человечества — не более чем совокупность подобных бесцельных флуктуаций, не подчиненная абсолютно никаким закономерностям.
Данная установка П. Сорокина логически взаимосвязана со столь же последовательным с его стороны отрицанием целостности человеческой личности. Он пишет: «Я утверждаю, что наше “я” мозаично и плюралистично. Оно похоже на фацеточный глаз, составленный из множества различных “я”, объединенных в пределах одного организма как физического носителя этих “я”…»84.
Однако, вопреки П. Сорокину, представление о целостности человеческой психики, о единстве души человека общепризнанно во всей современной психологии (впрочем, у психиатров есть специальный термин для состояния расщепленного сознания — «шизофрения»). Представление о целостности человеческой личности разделяется и большинством философов. Всякая здоровая человеческая личность целостна («имеет душу»), следовательно, все ее ценности и представления о мире должны увязываться в некую более или менее целостную систему, иначе человек просто не смог бы адекватно реагировать на окружающую его действительность. Следовательно, должно существовать достаточно однозначное соответствие между образом жизни конкретного человека и его образом мыслей: иначе ему пришлось бы одно из этих двух изменить, в противном же случае такое несоответствие явилось бы источником постоянных страданий.
То же можно сказать и о каждом конкретном социуме. Ведь всякое общество состоит из конкретных личностей, каждой из которых свойственен определенный образ жизни, причем диапазон («меню») этих возможных образов жизни и их соотношение в каждом конкретном социуме ограничен и достаточно жестко детерминирован — уровнем технологий, а также особенностями исторического развития данного социума. Следовательно, будут достаточно жестко соответствовать, в частности, уровень технологического развития данного общества и присущий ему диапазон «образов мыслей», иначе говоря, духовная культура данного общества (которая, в свою очередь, определяет систему стимулов людей к деятельности, а следовательно, и уровень технологии данного общества, т. е. связь здесь диалектическая).
Можно сказать, что мы имеем дело с целостностью культуры данного социума как единого взаимосвязанного феномена. Т. е. в каком–то смысле в социологии возможно то же, что и в палеонтологии: как на основании пары зубов можно воссоздать облик всего животного, так и на основании нескольких отдельных проявлений культуры можно воссоздать облик общества в целом. Собственно, именно этим занимаются археологи, да и прочие историки.
Разумеется, в социологии все гораздо сложнее, чем в биологии. Во–первых, разные общества, в том числе находящиеся на разных ступенях развития, взаимодействуют друг с другом, обмениваются элементами культуры. Далее, если сложилась определенная мощная интеллектуальная традиция, она может воспроизводиться даже в случае бурного технологического прогресса (или напротив, глубокого упадка) данного общества. Но в целом связь между образом жизни (в частности, уровнем технологического развития) данного общества и присущей ему системой ценностей, ментальности и духовной культуры несомненны (в марксизме это получило название «закон соответствия между уровнем развития производительных сил и производственных отношений»). Можно с достаточно высокой степенью вероятности утверждать, что общество бродячих охотников не будет строить городов, а люди, практикующие человеческие жертвоприношения богам, знакомы с земледелием и в то же время не знакомы с принципом равенства всех перед законом, а там, где действует указанный принцип, уже произошел промышленный переворот.
Вопреки П. Сорокину, история человечества по самому большому счету представляет собой непрерывный путь прогресса, причем прогресса все более ускоряющегося. Так, 2 млн лет назад по Земле бродило несколько сотен тысяч самых первых людей, еще очень похожих на обезьян, разве что они научились оббивать гальки и кидаться камнями. И с тех пор человечество достаточно серьезно (и закономерно!) изменилось, иначе мы и по сей день оббивали бы те же гальки… Но главное — сам род людской, появившись, более не исчез, т. е. не стал случайной флуктуацией. В подтверждение к сказанному можно очертить самые основные вехи на пути прогресса человечества:
• 50 тысяч лет назад наряду с древними расами уже существовали люди вполне современного вида, в совершенстве овладевшие огнем, изготовлявшие одежду, жилища и разнообразные каменные орудия, владевшие речью, зачатками религиозных культов и освоившие почти весь Старый Свет до границ ледников. Было на Земле людей уже от одного до нескольких миллионов. И на протяжении всей дальнейшей истории все эти достижения никогда не были утрачены, несмотря на случаи глубокого регресса (вплоть до утраты навыков пользования огнем) у отдельных племен.
• 10 тысяч лет назад люди освоили уже весь Земной шар, за исключением Антарктиды и некоторых дальних островов. Они изобрели лук со стрелами, рыболовство, а самые передовые коллективы на Ближнем Востоке уже перешли к земледелию и скотоводству, открыли ткачество и гончарство. Причем численность человечества превышала 10 млн чел. И ни одно из этих достижений в дальнейшем не было утрачено!
• 5 тысяч лет назад (3000 г. до н. э.) люди уже открыли колесо, прочно освоили металлургию, пашенное земледелие, судостроение, создали письменность, построили города и величественные храмы, создали государства (например, к этому времени в единое государство объединился Египет). И ни плуги и повозки, ни города, ни металлургия, ни письменность, ни государственность больше с лица Земли никогда не исчезали. Людей же стало не менее 50 млн.
• 2,5 тысячи лет назад (500 г. до н. э.) люди уже прочно освоили алфавитное письмо, производство стекла и металлургию железа, изобрели деньги, векселя и создали банки. Были построены парусные суда с килем и шпангоутами, многоэтажные дома, водопроводы, канализация, мощеные дороги. Вавилон превратился в первый мегаполис с населением в несколько сотен тысяч человек (а всего людей на Земле стало свыше 150 млн). Персия стала первой настоящей мировой империей, объединившей множество стран от Египта до Индии, а в Афинах и других самоуправляющихся городах Греции были созданы первые демократические режимы, во многом похожие на современные. И этот опыт в дальнейшем не был утрачен, по крайней мере, мировые империи в Азии и самоуправляющиеся города в Европе затем существовали непрерывно вплоть до нашего времени, так же как и деньги, и гигантские города — центры «миров–экономик». Но главное: к 500 году до н. э. уже сложилась математика в Финикии и Греции, медицина в Египте, астрономия, а также астрология и другие гадательные практики в Вавилонии, были написаны основные книги Ветхого Завета, созданы «Иллиада» и «Одиссея», «Махабхарата» и «Рамаяна», «Веды» и «Упанишады», выступили со своими учениями Конфуций и Лао–цзы, Будда и Заратустра, Исайя и Пифагор, Фалес и Гераклит… Т. е. сложились духовные основы великих цивилизаций Европы, Ближнего Востока, Ирана, Китая и Индии. И эти духовные традиции более никогда не прерывались.
• 500 лет назад (1500 г. н. э.) уже были совершены главные географические открытия: открыты Америка и морской путь в Индию. Мир стал тимо становиться все более едином, начала формироваться мировая цивилизация на основе цивилизации Европы. К этому времени широко распространились ветряные и водяные мельницы, мыло и огнестрельное оружие, доменная металлургия, книгопечатание и бумага, очки и оконные стекла, сложились представительские законодательные органы (например, парламент в Англии), творили Парацельс и Коперник, Лютер и Эразм Роттердамский, Леонардо да Винчи и Рафаэль. И, несмотря на все социальные бури, технологический, культурный и экономический потенциал Европы и всего человечества с этого времени и до наших дней в целом лишь возрастал. Численность человечества к тому времени достигла 300 млн чел.
• 200 лет назад (1800 г.) мир во многом уже был похож на современный. Уже существовали Соединенные Штаты Америки, действовала их демократическая конституция, проходили свободные выборы президента. В Европе были сформулированы и во многом испробованы (во времена Великой Французской революции) почти все политические доктрины вплоть до коммунизма («бешеные» и Гракх Бабеф), но в первую очередь — национализм. Уже существовали академии Наук. научные журналы, созданы физика (в т. ч. активно развернулось исследование электричества), современная химия, биология, филология, археология, экономическая наука, получили развитие практически все современные литературные языки Европы. Европейцами были захвачены многочисленные колонии в Азии и Африке, в том числе Индонезия и значительная часть Индии. В экономическом же отношении мир уже полностью представлял собой единое целое, при очевидном культурно–технологическом доминировании европейской цивилизации. К этому времени уже существовали воздухоплавание и общественный транспорт (дилижансы), телеграф Шарпа во Франции, железные дороги в Англии и были созданы первые суда и повозки с паровым двигателем. Но главное — в Англии уже вовсю развернулся промышленный переворот, были созданы металлообрабатывающие станки и текстильные фабрики и начал широко внедряться в производство паровой двигатель. В дальнейшем индустриализация и европеизация мира развивались только по нарастающей. Население Земли к 1800 году достигло 1 млрд человек.
• 100 лет назад (в 1900 г.) население Земли превысило 1,5 млрд человек. К этому времени принципы европейской цивилизации помимо государств Америки восприняла Япония (и отчасти Турция), все же остальные страны мира были приобщены к западной цивилизации насильственно, превратившись в колонии или полуколонии ведущих индустриальных держав. Но в то же время передовые страны пережили в XIX веке небывалый экономический и культурный расцвет, именно в этом столетии экономический рост стал постоянным и начал устойчиво опережать рост численности населения, причем (вопреки П. Сорокину) это было связано именно с прогрессом технологии. Уровень жизни населения передовых стран стал расти, начались колоссальные перемены в их быту. Железные дороги и пароходы преобразили транспорт, производство сосредоточилось на огромных фабриках и заводах. К рубежу XX века уже были изобретены автомобиль, радио, кинематограф, граммофон, электрическое освещение, телефон, железобетон, трамвай, метрополитен, построены небоскребы, открыты электрон, радиоактивность и рентгеновские лучи, начаты исследования по генетике. Широкое распространение получили идеи либеральной демократии, в конституции всех передовых стран было введено понятие прав и свобод человека, установлено равенство всех граждан перед законом, в большинстве стран мира было отменено рабство.
• Через 60 лет, в 1960 году, население Земли, несмотря на две мировые войны, достигло 3 млрд человек. Важнейшими видами транспорта стали автомобиль и самолет, появилось цветное телевидение. Получили самое широкое развитие конвейерное производство, строительство из железобетона, синтетические лекарства, пластмассы, бытовые электроприборы. Были созданы квантовая физика, молекулярная биология и научная психология, электронно–вычислительные машины, атомные электростанции и космические ракеты. Наиболее передовые страны по уровню потребления достигли стадии «общества благоденствия», была создана мощная система социального страхования, огромное влияние приобрели профсоюзы, развитие экономики приобрело во многом плановый характер. Повсеместно было провозглашено равноправие женщин, в т. ч. политическое, молодежь начала поиск альтернативных образов жизни в «молодежных субкультурах». К этому времени окрепли международные организации, в частности, ООН, действовали заложенные после II мировой войны основы международного права (например, Всеобщая декларация прав человека), положено начало региональной экономической интеграции. Большинство колоний освободилось, и теперь их народы перенимали принципы западной цивилизации уже добровольно и самостоятельно. К этому времени различные формы рабства и личной зависимости были изжиты уже практически во всем мире.
• Еще спустя 30 лет, в 1990 году, население Земли превысило уже 5 млрд человек. Примерно 10 лет назад мир стал намного более однородным в социально–политическом отношении. Теперь в большинстве стран, даже в Тропической Африке, установился режим многопартийной демократии и экономической свободы. Многие бывшие колонии превратились в могущественные «новые индустриальные государства». Огромную роль приобрели региональные союзы государств, особенно в Западной Европе, которая начала сливаться в единую политическую и экономическую общность, при свободном развитии национальных культур составляющих ее народов. Производство стало диверсифицированным и гибким, все более автоматизированным и компьютеризированным, ресурсосберегающим и экологичным, при этом все большую роль стало играть «нематериальное производство»: социальная сфера, НИОКР и особенно «индустрия досуга». Молодежные альтернативные движения дали толчок к эпохальным изменениям образа жизни людей, их семейных отношений, к широкому включению в унифицированную мировую культуру духовных учений народов Востока, к развитию мощного движения в защиту окружающей среды. В передовых странах резко расширилось участие трудящихся в управлении своим предприятием. Начали широко внедряться композитные материалы и биотехнологии, огромную роль приобрела космическая связь (в частности, появились сотовые телефоны), люди стали постоянно работать в космосе, а космические аппараты исследовали практически все планеты Солнечной системы. Но наиболее впечатляющую глобальную революцию не только в технологии, но и в самом образе жизни многих миллионов людей вызвало появление персональных компьютеров и особенно объединение их в глобальную сеть Internet.
Этот краткий экскурс в историю человечества был необходим именно потому, что сейчас по–прежнему в моде у некоторых мыслителей отрицать сам факт прогрессивного развития человечества и горестно стенать о грядущем либо уже наступившем упадке. Так что наличие закономерного исторического прогресса (а не только «случайных исторических флуктуаций», согласно П. Сорокину) теперь приходится доказывать. Это, впрочем, нетрудно.
Важнейшей особенностью технологического прогресса является то, что он не был равномерным и плавным, а, напротив, знал множество технологических революций. Самые важные из таких технологических скачков приводили к принципиальному изменению образа жизни людей. Собственно, именно эта закономерность и побудила большинство исследователей к выделению нескольких стадий прогрессивного исторического развития человеческого общества, или, если угодно, «ступеней экономического роста», «общественно–экономических формаций» и т. д.
Выделение нескольких стадий исторического развития человеческого общества закономерно следует из принятия нами двух постулатов:
1. Человеческая психика и соответственно культура общества представляют собой единую целостную систему;
2. В целом человеческое общество развивается поступательно в сторону прогресса, причем в ходе этого развития образ жизни большинства людей несколько раз претерпевал принципиальные качественные изменения.
Античная и новоевропейская флуктуации
Как правило, между всеми составными частями человеческой культуры — технологией, общественным строем, политической системой, идеологией, искусством и т. д. — существует устойчивая корреляция, причем определяющим фактором в конечном итоге выступает стадия общего развития технологии (то, что Ф. Бродель назвал «границы возможного и невозможного», «предел, возникающий в любую эпоху, между тем, чего можно достигнуть, хотя и не без усилий, и тем, что остается для людей недостижимым»)85. Но в определенных исторических условиях эта корреляция между уровнем технологии и социальным строем может закономерно нарушаться. Так возникают относительно устойчивые стадиальные флуктуации, когда общество оказывается существенно более или существенно менее развитым, чем ему «положено» в соответствии с его технологическим уровнем.
Например, высокоразвитое индустриальное общество может вновь скатиться к средневековым общественным отношениям, к своеобразным формам крепостничества и рабства. Именно так трактуется многими исследователями сущность тоталитарных режимов, таких как нацистский в Германии и сталинский в СССР86.
Но возможны и различные положительные стадиальные флуктуации. В частности, яркие примеры положительных стадиальных флуктуаций имели место в обществах–центрах европейского мира–экономики. Например, почему историки всех школ, даже те, кто видит в Английской революции XVII в. лишь бессмысленную смуту, вызванную несчастным совпадением исторических случайностей, все дружно считают Англию первой половины XIX в. уже практически современной страной, построившей Новый порядок (буржуазное, индустриальное общество, капиталистическую формацию и т. д.)?
Ответ кажется очевидным, потому что там как раз происходил промышленный переворот. Однако целый ряд современных авторов, в частности Ф. Бродель, наглядно показали, что промышленный переворот был ничем иным, как следствием превращения Англии в современную по целому ряду параметров страну. Именно в XVIII веке «Англия перестала быть слаборазвитой страной в современном смысле этого слова: она увеличила свое производство, повысила жизненный уровень, свое благосостояние, усовершенствовала орудия своей экономической жизни… На протяжении XVII столетия Старый порядок был подорван, ниспровергнут: нарушалась традиционная структура сельского хозяйства и земельной собственности или же завершалось ее разрушение»87.
Но в то же время Ф. Бродель отмечает, что «начатки английской промышленной революции были поддержаны ростом, принадлежавшим еще Старому порядку… До 1815 г. или, вернее, до 1850 г. (а иные сказали бы — до 1870 г.) не было постоянного роста». А был очередной вековой цикл экономического подъема системы традиционных обществ (иначе говоря, цивилизационной ойкумены), продолжавшийся в 1720–1817 гг., когда стремительно росло население земного шара и, соответственно, национальный доход, но рост населения обгонял рост национального дохода, умножая нищету и социальные антагонизмы, что принципиально отличается от типа экономического роста, присущего индустриальным обществам88. Т. е. на общем фоне Старого порядка в Англии ранее промышленного переворота сформировались черты социально–политического и экономического устройства (иначе говоря, образ жизни), присущие, как правило, уже индустриальным обществам. Таких основных черт можно указать несколько:
1) Решительное преобладание экономических стимулов к труду и, соответственно, свободного труда, как вольнонаемных работников в сельском хозяйстве и ремесле, так и свободных крестьян и ремесленников.
2) Исключительно важное экономическое значение городов и социально–политической городской жизни, очень значительный процент городского населения.
3) Принципиальное, сущностное отличие городской экономики страны от прежних городов Старого порядка. Дело здесь даже не в проценте городского населения (он при высокой норме эксплуатации крестьян и сугубо при Старом порядке мог достигать 20% и даже более) и не в численности населения городов (хоть до миллиона жителей) — дело совсем в другом. Города Старого порядка были прежде всего центрами паразитического потребления земельной ренты, и все ремесло и торговля в них были направлены на обслуживание этого паразитического потребления, т. е. имели сугубо вторичный по отношению к сельскому хозяйству характер89. В то же время в индустриальную эпоху города — это прежде всего центры производства, т. е. промышленные и торгово–финансовые центры по преимуществу. Но то же относилось и к городам Англии, прежде всего к Лондону в XVIII веке, когда он стал главным торгово–распределительным центром для всего мира.
4) В сельском хозяйстве произошла революция, заключавшаяся в переходе к «high farming» — «высокому сельскому хозяйству». Суть ее заключалась вовсе не во внедрении какой–то новой техники, а прежде всего в передовой, эффективной агротехнике и направленности в основном на производство именно ликвидной товарной продукции, причем не зерна и прочих «средств против голодной смерти», а специализированных культур, разведение которых приносит наибольший доход (так, в Англии это были прежде всего кормовые культуры для высокоэффективного животноводства). Причем, если при Старом порядке крестьянин сам съедает то, что произвел, а излишки (в натуральной или денежной форме) отдает рентополучателю и лишь частично использует на покупку ремесленных изделий и прочий «обмен в собственных интересах», то при «высоком сельском хозяйстве» сельский производитель продает практически всю свою продукцию, а уж на вырученные деньги покупает продукты питания и все необходимое.
5) В обществе более или менее утвердился режим правого государства, с законодательно закрепленной защитой достоинства, свободы и собственности каждого свободного человека (в Англии — Habeas Corpus Act и др.).
6) В политическом устройстве присутствуют демократические начала, аппарат власти контролируется обществом (по крайней мере, его привилегированной, зажиточной частью, в том числе горожанами), а также действуют принципы гласного обсуждения и принятия решений (в том числе и в представительских органах власти — например, двухпалатном парламенте в Англии, презентовавшем интересы различных слоев общества), достаточно широкой свободы слова, собраний и союзов.
7) Идеология и в целом духовная жизнь общества имеет уже во многом современный характер, бурно развиваются наука, искусство, философия, широко распространяются идеи о равенстве всех людей, главное же — утверждается рационалистическая ментальность, стремление подвергнуть действительность суду Разума. Иначе говоря, развивается идеология Просвещения (в Англии — Т. Гоббс, И. Ньютон, Д. Локк, Д. Юм, А. Смит и др.).
Но эти современные черты были еще в XVIII — начале XIX вв. присущи в той или иной степени не только Англии, но и другим передовым странам Европы, в частности, Франции (а также США). Ф. Бродель справедливо замечает: «Индустриализация была эндемична для всего континента Европы. Сколь бы блистательной и решающей ни была ее роль, Англия не одна несла ответственность и была изобретательницей промышленной революции… Не вызывает сомнения, что Европа (по причине еще более, возможно, социальных и экономических структур, чем технического прогресса) одна оказалась в состоянии довести до благополучного завершения машинную революцию, следуя за Англией»90.
В еще большей мере современные черты (характерные для Англии XVIII в.) были присущи уже Нидерландам XVII в., с Амстердамом, тогдашней столицей «мира–экономики». Это получило закономерное отражение и в духовной жизни, где сверкали имена Рембрандта, Гюйгенса, Спинозы, Гуго Гроция, Левенгука и др. А еще раньше все эти черты проявлялись в городах Северной Италии — Флоренции, Венеции, Милане, Генуе и ряде других. «В Италии в начале XV в. наметилась образцовая революция — рождение территориалъных государств, еще небольших по размеру, но уже современных: в какой–то момент на повестке дня стояло даже единство Италии… В действительности именно в Ломбардии (того времени) начиналось то высокое сельское хозяйство, которое позднее познают Нидерланды и еще позднее — Англия, с известными нам последствиями… К XV веку Венеция, принимая во внимание спектр форм ее активности, качество ее технических приемов, ее раннее развитие (все то, что разъясняла «Энциклопедия» Дидро, существовало в Венеции двумя столетиями раньше), была, вероятно, первым промышленным центром Европы… Флоренция, будучи богата землей, с XIV и XV вв. будет ввозить для себя зерно с Сицилии, а ближайшие холмы покроет виноградниками и оливковыми рошами… С конца XIII в. Флоренция, ремесленная деятельность которой до того времени была посвящена крашению суровых сукон с севера Европы, перешла к шерстяному производству, и ее промышленное развитие было быстрым и эффективным… Уже в XIV в. как раз Флоренция максимально развила промышленность и неоспоримым образом вступила в так называемую мануфактурную стадию (а также испытала первую в мировой истории попытку собственно «пролетарской» революции — восстание чомпи), именно здесь были изобретены чек и холдинг, а также двойная бухгалтерия (важнейший признак развитого капитализма, по М. Веберу)»91. И именно в Северной Италии, особенно во Флоренции, было положено начало эпохи Возрождения, заложившей основы современной европейской культуры.
Итак, общества, по важнейшим типологическим параметрам сходные с современным индустриальным, существовали в Европе еще до промышленного переворота: это Англия XVIII века (а также США, в какой–то мере Франция и ряд других стран Европы), Нидерланды XVII в., ряд городов–государств Северной Италии XV–XVI вв. (Венеция, Милан, Генуя), а Флоренция — даже в XIV в. н. э.
Но те же самые черты современного (говоря марксистским языком, раннебуржуазного) общества были присущи и древним Афинам (а также другим передовым полисам Древней Греции) периода их наибольшего расцвета, т. е. в V — пер. пол. IV вв. до н. э. Налицо все семь приведенных нами для раннекапиталистических обществ Нового порядка типологических черт:
1) Значительное преобладание свободного, в т. ч. наемного труда. По сути, это положение не оспаривается ни одним серьезным исследователем. Так, даже К. Маркс отмечал, что «экономической основой античного общества в наиболее цветущую пору его существования было мелкое крестьянское хозяйство и ремесленное производство свободных»92. Особенно характерно государственное ограничение применения рабского труда в интересах занятости неимущих граждан: «Иногда чисто искусственными мерами поддерживался свободный труд и устанавливалась норма применения рабского труда. Так, например, в Афинах в V в. при Перикле число рабов, работавших на крупных общественных постройках, было сокращено до четверти общего числа работников», — писал В. С. Сергеев93.
2) Исключительное значение городов и городской жизни, очень значительный процент городского населения, — это положение для передовых лисов Древней Греции не нуждается в особых доказательствах.
3) V — первая пол. IV вв. до н. э. Афины были крупнейшим торгово–распределительным и финансовым центром всего Средиземноморья. «Применяя сравнительно–исторический метод, исследователи приходят к выводу, что по объему торговли античные Афины находились на одном уровне с передовыми торговыми республиками средневековой Италии, превосходя вдвое торговые обороты Генуи… «Трапедзиты», банкиры Эллады, по размерам и разнообразию проводимых ими операций, главным образом коммерческого кредита, не уступали банкам средневековой Италии»94. Афинский порт Пирей сделался транзитным пунктом, через который проходило множество всевозможных товаров, направлявшихся с востока на запад и обратно. Объектами экспорта Афин были товары Афинского производства — металлические изделия, керамика, предметы роскоши, оружие и т. д. В классическую эпоху Афины были городом, по своему промышленному развитию опережавшим остальные города Греции. Причем большую часть афинской экклесии (народного собрания — высшего органа государственной власти Афин), как видно из «Воспоминаний о Сократе» Ксенофонта, составляли именно ремесленники — кожевенники, горшечники, сапожники и пр.
4) «Главным же предметом ввоза в Афины всегда оставался хлеб, так как небольшая и малоплодородная область Аттики не могла прокормить всего скопившегося там населения. Во времена Демосфена (т. е. в серед. IV в. до н. э.) в Аттику ввозилось приблизительно 800 тыс. медимнов хлеба (т. е. свыше 40 миллионов литров зерна: питание примерно 200 тыс. человек! — Авт.), т. е. вдвое больше собственного ежегодного урожая Аттики»95. Основными же сельскохозяйственными культурами Аттики стали виноград и особенно оливки, причем основная часть оливкового масла отправлялась на экспорт. Налицо очевидные признаки «высокого сельского хозяйства», с соответствующим ему типом зажиточного и культурного крестьянина (фермера), любимого положительного героя комедий Аристофана.
5) «Государство защищало не только жизнь и имущество своих граждан, но и свободу их личности. Афинянина нельзя было подвергнуть заключению без судебного приговора, а человек, привлеченный к суду, если не надеялся на оправдание, мог покинуть город до рассмотрения своего дела… Полноправным гражданам политический строй Афин обеспечивал полноту политических прав и свобод. Применение жребия при замещении должностей предполагало, что любой гражданин может быть привлечен к управлению государством. Ежегодно сменяемые должностные лица регулярно отчитывались перед народным собранием и в случае признания отчета неудовлетворительным могли быть отозваны досрочно. Даже высшие должностные лица должны были руководствоваться волей народного собрания… В Афинах любой гражданин мог выступить в народном собрании с критикой должностных лиц, вносить предложения по вопросам внутренней и внешней политики. На сцене афинского театра, особенно во время представления комедий, подвергались критике отдельные аспекты политической и общественной жизни, в карикатурном виде изображались видные государственные деятели… Метеки–эмигранты и их потомки не имели политических прав, не могли приобретать недвижимость и платили особый подушный налог. Но тем не менее… Афинское государство было заинтересовано в увеличении числа метеков (составляющего примерно треть или четверть свободного населения Афин), и в некоторые периоды принимались специальные меры по их привлечению. Метеков приписывали к афинским демам («районным Советам»), законы защищали их интересы в большей мере, чем обычных чужеземцев — ксенов. А иногда им за заслуги даровали и гражданство… Проспартански настроенные авторы возмущались в числе прочего распущенностью рабов и метеков в Афинах: «… очень велика в Афинах распущенность рабов и метеков, и нельзя тут побить раба, и он перед тобой не посторонится… И по одежде и по внешнему виду тут народ нисколько не лучше и не отличается от рабов и метеков», — писал один из них96.
Кстати, и «положение рабов в Афинах стало легче, чем во многих других греческих государствах. Рабы здесь имели право убежища (в храме). За убийство раба его хозяин отвечал как за непредумышленное убийство. Объяснение этого интересного факта следует искать, с одной стороны, в демократической конституции Афин, а с другой стороны — в высоком экономическом уровне Афин»97. Глубокое впечатление производит тот факт, что афиняне считали выполнение полицейских функций унизительными для свободного человека и Афинское государство возлагало их на рабов, специально закупаемых в Скифии…
Следовательно, пункты «5» (правовое общество) и «6» (демократические начала) были также в полной мере присущи древним Афинам. Что же касается пункта «7» — современных черт в духовной жизни и идеологии, — то здесь следует отметить, что в истории Греции и древнегреческой культуры V век до н. э. был эпохой бурного, фантастического роста, так называемого «греческого чуда», в результате чего во второй половине V в. до н. э., прежде всего в Афинах «золотого века Перикла» — центре тогдашней древнегреческой цивилизации — складывается весь комплекс классической древнегреческой культуры. Вообще почти все основные достижения древнегреческой цивилизации относятся к V–IV вв. до н. э. — времени наивысшего социально–экономического расцвета Афин.
В какой–то степени, помимо ряда передовых полисов Греции VI–IV вв. до н. э., черты стадиальной флуктуации проявляются еще в один период античности: в Римской империи ее «золотого века», в эпоху Антонинов, особенно в конце I — первой половине II н. э. Прежде всего потрясают многие современные черты быта в римском обществе: «Отличительной чертой городов эпохи I–III вв. были каменные мостовые, водопроводы, канализация. В самом Риме работали одиннадцать водопроводов, дававших 950 000 куб. литров воды ежесуточно… В северных провинциях многие дома имели отопление. Из печей горячий воздух направлялся под полом различных помещений и создавал в них теплую атмосферу… В Риме, Эфесе, Александрии строились дома в несколько этажей (до шести), сдававшиеся в наем по квартирам и комнатам. Столицу империи и другие большие города украшали великолепные крупные здания — храмы, дворцы, базилики (тогда — здания судов и торговых бирж), портики для прогулок, а также различного вида здания для общественных развлечений, театры, амфитеатры, цирки. В Риме, а также во многих больших городах провинций строились роскошные здания терм (общественных бань), в которых были бассейны с теплой и холодной водой для купания, гимнастические залы, комнаты отдыха… Во II в. н. э. в Империи было 372 мощенные камнем дороги общим протяжением около 80 000 км, действовала регулярная почта»98. Римляне широко применяли при строительстве бетон, технология производства которого будет возрождена в Западной Европе лишь в XVIII веке.
«Часто, ссылаясь на развитие торговли, императорский Рим считают чуть ли не капиталистическим… Корабли, снабженные тремя мачтами и парусами, тоннажем до 500 тонн и вмещавшие до 600 пассажиров, были соизмеримы с судами XVII и даже начала XVIII века. Путешествия совершались довольно быстро (например, из Италии в Египет — за 7 дней). В гаванях имелись склады для товаров, здания администрации порта, помещения коллегий торговцев и работников порта, базилики, где заключались сделки, трактиры, гостиницы. Некоторые гавани имели много причалов для стоянки судов; погрузка и разгрузка производились машинами… На Рейне преобладали однотипные виллы ветеранов с домами в два этажа, с башней, баней, погребом, застекленными окнами, портиками»99.
На золотых рудниках в Испании римляне строили сложные инженерные сооружения для обрушивания и промывки горных пород. Плиний Старший сообщает, что в его время только провинции Астурия, Галисия и Лузитания давали свыше 6,5 тонн золота в год. Это весьма значительное количество даже по нынешним меркам. Общая масса породы, переработанной в ходе добычи, оценивается специалистами в сотни миллионов тонн. Подобные масштабы работ в золотодобывающей промышленности были вновь достигнуты лишь в XIX в.100
«Галльские вина, испанское оливковое масло успешно конкурировали с лучшими италийскими и греческими сортами. Насколько обширным был размах оливководства и виноградарства в западных провинциях, показывают археологические данные. Маслодавильни, найденные в Северной Африке, занимают площади в несколько сот квадратных метров, на рельефах из Галлии запечатлена перевозка вина в огромных деревянных бочках. Совершенствуется земледелие. Вводятся новые сорта зерновых и кормовых, распространяется культура пшеницы, осваиваются новые виды удобрений, в частности, в Галлии широко использовались минеральные удобрения. Совершенствуется сельскохозяйственная техника: именно на просторах галльских латифундий получила применение довольно совершенная галльская жнейка; был изобретен первый колесный плуг. Для помола зерна начали применять водяные мельницы… Рост городов и городского населения в самих провинциях, возможность вывоза сельскохозяйственных продуктов в Италию и другие области Империи способствовали проникновению в провинциальное сельское хозяйство товарного производства и рациональных приемов земледелия… Свободное крестьянство никогда не исчезало даже в Италии, стране наибольшего развития рабовладельческих отношений, а в западных, дунайских и африканских провинциях роль свободного крестьянства была довольно высока… Для II в. н. э. характерно широкое развитие арендных отношений… Роль свободного труда в римском ремесле была большей, чем в сельском хозяйстве… Никогда еще торговые сношения многочисленных народов Средиземноморья не достигали такой степени интенсивности и размаха, как в эпоху Антонинов… Для II века н. э. характерен особый подъем провинциального ремесла… Если в предшествующее время основным предприятием была ремесленная мастерская в 10–20 рабочих единиц, то во II веке н. э. ее размеры увеличиваются до нескольких десятков рабочих единиц… Развитие ремесла во всех провинциях Римской империи привело к повышению удельного веса ремесленников в социальной жизни римского общества… Значительная часть ремесленных мастерских и лавок в римских городах II в. н. э. принадлежала вольноотпущенникам (выпущенным на свободу рабам) или их потомкам. Эти трудолюбивые и бережливые люди, обязанные достигнутым положением своему труду, обеспечили развитие римского ремесла. Дошедшие до нас надгробные памятники на их скромных могилах носят надписи, где трогательно прославляются профессии гончаров, сукновалов или кожевников…
Во II веке н. э. рабы рассматривались не как личная собственность господина, а как подданные государства, на которых распространяется не только власть их господ, но и римского правительства… Император Антонин Пий приравнял убийство господином своего раба к убийству чужестранца и предоставил рабам, в случае жестокого обращения, право искать убежища перед статуями императоров… В римском праве распространяется взгляд, согласно которому свобода человека объявляется «естественным» состоянием, свойственным человеку как таковому, а следовательно, и рабу»101.
Приведенные факты ярко иллюстрируют черты опережающего развития периода античности. В подтверждение к сказанному приведем также мнение великого немецкого историка Э. Мейера, который писал прямо: «Ложно мнение, будто историческое развитие народов, живущих вокруг Средиземного моря, шло непрерывно по восходящей линии… В противоположность этому взгляду необходимо самым энергичным образом указать на то, что история развития народов, живущих у Средиземного моря, представляет два параллельных периода, что с падением древнего мира развитие начинается сызнова, и что оно снова возвращается к тем первым ступеням, которые давно уже были пройдены…»102.
Присоединяясь в целом к этой точке зрения, следует отметить, что через бездну в двадцать столетий тип социума Афин V в. до н. э. по существу будет воспроизведен во Флоренции и Генуе XV в. н. э., а также в Нидерландах XVI] в. и Англии XVIII в. При всем прогрессе технологии общий тип экономики за эти все века сколько–нибудь серьезно не изменился. Ф. Бродель справедливо замечает: «Материальная жизнь в промежутке между XV и XVIII вв. — это продолжение древнего общества, древней экономики, трансформирующихся очень медленно, незаметно»103.
Парадокс касается всех перечисленных выше «раннебуржуазных» обществ: явные и очевидные черты индустриального общества наблюдаются на еще «доиндустриальной» стадии экономического развития, т. е. до промышленного переворота. Налицо видимое нарушение постулировавшегося выше принципа поступательного развития социума — «стадиальная флуктуация».
То же касается и Римской империи эпохи ее наибольшего расцвета. Следует помнить, что и тогда основную часть населения империи продолжали составлять крестьяне, которые по–прежнему жили достаточно замкнутыми сельскими общинами. Машин, даже водяных мельниц, тогда было еще очень мало, в целом технология производства носила сугубо ремесленный характер. Но в передовых районах Римской империи действительно имела место стадиальная флуктуация, общество приобретало во многом современные черты.
Однако здесь хотелось бы подчеркнуть, что стадиальные флуктуации — вовсе не единственный тип исторических флуктуаций. Помимо них в истории выделяются, например, экономические циклы разной продолжительности. Наиболее общепризнанными среди них являются полувековые циклы Кондратьева, которые, в свою очередь, делятся на периоды благоприятной и неблагоприятной экономической конъюнктуры продолжительностью по 25 лет (примерно в 2000 году должен был начаться очередной благоприятный период). Кроме того, многие историки, в частности, Ф. Бродель104, выделяют, по крайней мере, в отношении Европы, еще и четыре последовательных экономических цикла: 1100–1510 гг., 1510–1743 гг., 1743–1896 гг., 1896 — наше время, причем на середину цикла, в частности, на 1350‑й, 1650‑й и 1815‑й года приходится кульминация экономического упадка. При этом экономический упадок сопровождался и демографическим, т. е. сокращением численности населения, особенно колоссальной в XIV веке, когда во всем Старом Свете свирепствовала эпидемия «Черной Смерти» — чумы.
Но историки выделяют и еще более грандиозные исторические циклы, по крайней мере, по отношению к Старому Свету (хотя в доколумбовой Америке, вероятно, тоже было нечто подобное). Один из них — цикл бронзового века — завершился примерно в XII веке до н. э. «великим переселением народов» (тогда погибла Троя, евреи пришли в Палестину, а арии — в Индию), сопровождавшимся многократным уменьшением численности населения и колоссальной культурной (в том числе и технологической) деградацией («темные века»)105. Следующий цикл — античный — завершился как раз падением Римской империи в результате нового «великого переселения народов» (то же самое примерно тогда же происходило и в Китае, и в Индии, и в Центральной Азии). Тогда тоже вымерло большинство населения и были утрачены многие культурные достижения. В обоих случаях речь шла о флуктуациях всей системы обществ Старого Света.
В отличие от глобальных циклических флуктуаций, стадиальные флуктуации всегда имели локальный характер и совсем иную природу. При стадиальных исторических флуктуациях социальный прогресс либо деградация как раз не сопровождались соответствующим технологическим прогрессом либо деградацией, в чем и состоит, по нашему мнению, их основное отличие от глобальных и сущность стадиальных флуктуаций как явления.
Обстоятельства, провоцирующие появление стадиальной флуктуации, определяются далеко не только относительно объективными историческими, в т. ч. и экономическими условиями, но и самыми различными историческими случайностями, которые могут повлиять на сознание индивида в такой степени, что это неизбежно повлечет за собой изменение его образа жизни (поскольку, как уже говорилось выше, эти два явления находятся в неразрывной диалектической связи). В случае, если такое изменение образа жизни и образа мыслей окажется присущим целому социальному организму, образуется стадиальная флуктуация. Сущность же таких серьезных изменений всегда одна: более высокий, развитой, богатый или более низкий уровень жизни, чем тот, который в принципе присущ данной ступени развития экономики и технологии.
Но если привходящие исторические условия, вызвавшие данные изменения, исчерпаются, тогда, естественно, ликвидируется, «рассосется» и стадиальная флуктуация. Разумеется, «рассосется» не сразу, ибо ум человеческий обладает огромной инерцией, но скорее всего рассосется. Это примерно то же, как под влиянием каких–то внешних причин электрон в атоме может перейти на более высокую орбиту. Но там он не удержится долго, если атом не возбуждать специально дополнительным силовым полем.
В случаях же «раннебуржуазных» обществ историческим условием, которому принадлежала главная роль, был экономический фактор: все эти общества были господствующими торгово–промышленными центрами своих ми ров–экономик и вольными торговыми городами, расположенными на пересечении торговых путей.
Именно расположение в центре всех торговых путей создавало аномально высокую для технологии той эпохи концентрацию материальных и духовных ресурсов, обуславливало утверждение в таких центрах более современного образа жизни. Утрата же, скажем, городами Италии после великих географических открытий их торгового преобладания привела страну не столько к экономическому упадку (он был не всеобщим), сколько именно к рефеодализации страны, что особенно характерно для Италии XVII в.
Итак, у стадиальных флуктуаций две характернейшие черты: во–первых, они приводятся в действие дополнительными инспирирующими факторами, в корне меняющими тот образ жизни, который должен быть закономерно обусловлен существующим уровнем технологии, и, во–вторых, они менее устойчивы, чем обычные общества, и в случае прекращения действия инспирирующего фактора все «возвращается на круги своя», т. е. эти общества принципиально неустойчивы по сравнению с «нормальными», хотя в отдельных случаях могут спровоцировать новый эволюционный скачок, закрепляющий и развивающий «наработки» стадиальной флуктуации. Именно это произошло в Англии, где стадиальная флуктуация породила технологическую революцию, т. е. общество обрело новую внутреннюю устойчивость за счет подъема своего базового технологического уровня, за счет принципиального расширения своих «границ возможного и невозможного».
Кроме того, ни одна стадиальная флуктуация все–таки не тождественна тому обществу, черты которого она предвосхищает, представляя собой скорее некую смесь черт из настоящего и будущего (или прошлого). Да и жесткой грани между флуктуацией и полным отсутствием таковой тоже нет По сути, в любом самоуправляющемся торгово–ремесленном городе было «нечто антифеодальное». Не случайно современное индустриальное общество развилось именно на основе культуры Европы, где городское самоуправление было развито повсеместно (слабее всего — в России и на Балканах). Из всех же стран Азии оно имелось только в Японии… Но говорить о флуктуации можно лишь тогда, когда количество признаков общества «нездешней» эпохи ощутимо переходит в качество.
Отражение позитивных стадиальных флуктуаций в духовной сфере
Прежде всего следует указать на принципиальное отличие типа ментальности феодального общества (Старого порядка) от современного, которому принципиально не был присущ столь естественный для нас индивидуализм. Применительно к цивилизациям Востока это очень хорошо выразил Е. С. Штейнер в статье под характерным названием «О личности, преимущественно в Японии и Китае, хотя, строго говоря, в Японии и Китае личности не было»: «Человек в традиционной Японии или Китае был не сам по себе, как самоценная и независимая личность, но прежде всего рассматривался по своей принадлежности к группе. Недаром в традиционном написании имени фамилия указывается первой, а потом уже данное собственное имя.
Впрочем, и собственное имя не было раз и навсегда данным. На протяжении жизни оно могло меняться несколько раз — от детского до посмертного. У художников и мастеров разных искусств творческих имен могло быть около десятка и больше. Столь же незакрепленным было местоимение «я». Существовало несколько нейтральных, фамильярных, пренебрежительных, применяемых только мужчинами или только женщинами местоимений первого лица, а кроме того, столь же сложным было именование собеседника или третьего лица. Слова менялись в зависимости от социального контекста и характера коммуникации, обозначая этим переменчивость, подвижность и несаморавность индивида, который в каждом конкретном случае был другим — приноравливался, приспосабливался, преодолевал себя, — чтобы в итоге «совместно блистать природой Будды», но никак не собственной исключительностью. Отсутствие личностного начала (или, по крайней мере, неодобрение его культурой) наглядно проявляется и в том, что портретный жанр получил на Дальнем Востоке неизмеримо меньшее развитие, чем пейзаж. Черты портретируемых не индивидуализированы, сведены к набору инвариантов. Налицо канонические позы и одеяния, по которым можно определить общественный статус, но лица, собственно, нет. То же самое относится и к словесным портретам, что хорошо видно в литературных текстах разных жанров… Что же позволяет говорить об отсутствии на Дальнем Востоке личности, сопоставимой с новоевропейской и даже со средневековой христианской или античной? Прежде всего, это наиболее очевидные прямые текстуальные свидетельства — буддистские, даосские, конфуцианские и синтоистские. В разные эпохи в Китае и Японии эти учения пользовались разным влиянием и разными были практические советы их последователей о том, как достичь гармонии в самом себе, в семье и в государстве. Но все они сходились в утверждении того, что «я» как такового нет, а то, что есть, не сущностно, но является результатом помраченного обыденного сознания, и истинная цель всякого осуществляющего Путь — от этого помрачения избавиться…» «Нет ничего, что б можно назвать «я» или «мой» (Самана–сутта, 4–185). «Знать учение Будды — значит знать себя. Знать себя — значит забыть себя. Забыть себя — значит осознать себя равным другим вещам» (Догэн). «Совершенномудрый не имеет постоянного сердца. Его сердце состоит из сердца народа» (Даодэцзин, § 49). «Сдерживай свои знания, сосредоточь свои устремления на одном… и Дао поселится в тебе… Смотри прямо бессмысленным взглядом, как новорожденный теленок, и не ищи причины всего этого… Мрачный и темный, лишенный чувств и мыслей, и нельзя обдумывать с ним никаких планов — вот какой это человек!» (Чжуанцзы, гл. 22). «Учитель был выше четырех вещей: вне умствования, вне категоричности, вне упрямства, вне “я”» (Луньюй, IX, 4). «Преодолеть себя и следовать этикету» (Луньюй, XII, 1).
Принципиальная непривязанность к жизни, к внешнему миру — характерная особенность восточной философии. Соответственно отсутствует и свой собственный, личный взгляд на мир, отсутствует культура спора, т. е. подлинного обмена мнениями. «Вся культура Китая монологична, не располагает к спору. Мудрец одинок, как Дао. Полярная звезда, по Конфуцию, пребывает в покое, потому остальные звезды вращаются вокруг нее». Разумеется, и стремление к новаторству на Востоке не приветствовалось. Конфуций говорил: «Излагаю, не творю. Люблю древность и следую ей» (Луньюй, VII, 153).
Очень любопытно, что автор вышеприведенной цитаты (востоковед) принципиально противопоставляет духовную ситуацию на Востоке средневековому христианскому Западу. Но вот что пишет его коллега — медиевист Ж. Ле Гофф в книге «Цивилизация средневекового Запада»: «Склонности средневекового ума были таковы, что постоянно вызывали к жизни всевозможные общины и группы… Главной задачей было не оставлять индивида в одиночестве. От одиночки следовало ожидать лишь злодеяний. Обособление считалось большим грехом. Пытаясь приблизиться к людям Средневековья в их индивидуальности, мы неизменно убеждаемся, что индивид, принадлежавший, как и в любом другом обществе, сразу к нескольким общинам и группам, не столько утверждался, сколько полностью растворялся в этих общностях. Гордыня считалась «матерью всех пороков» лишь потому, что она являла собой «раздутый индивидуализм». Спасение может быть достигнуто лишь в группе и через группу, а самолюбие есть грех и погибель… Многообразный средневековый коллективизм окружил слово «индивид» ореолом подозрительности. Индивид — это тот, кто мог ускользнуть из–под власти группы, ускользнуть лишь при помощи какого–то обмана. Он был жуликом, заслуживающим если не виселицы, то тюрьмы. Индивид вызывал недоверие. Конечно, большинство общин требовали от своих членов исполнения долга и несения тягот не просто так, а в обмен на покровительство. Но за это приходилось платить цену, тяжесть которой ощущалась вполне реально, покровительство же не было столь явным и очевидным… Обычно такие отношения зависимости, имеющие целью еще крепче привязать к себе индивидуума, согласовывались друг с другом, образуя иерархию. Из всех таких связей наиболее важными были отношения феодальные. Показательно, что в течение долгого времени за индивидом вообще не признавалось право на существование в его единичной неповторимости. Ни в литературе, ни в искусстве не изображался человек в его частных свойствах. Каждый сводился к определенному физическому типу в соответствии со своей социальной категорией и своим рангом… Автобиографии были крайне редки и часто весьма условны… Средневековый человек не видел никакого смысла в свободе в ее современном понимании. (Для него свобода — это гарантированный статус, т. е. включенность в общество.) Без общины не было и свободы. Она могла реализовываться только в состоянии зависимости, где высший гарантировал низшему уважение его прав. Свободный человек — это тот, у кого могущественный покровитель… Поведение древних должно было обосновывать поведение людей нынешних… Ссылка на то, что то или иное высказывание заимствовано из прошлого, была в средние века почти обязательна. Новшество считалось грехом. Церковь спешила осудить novitates. Это касалось и технического прогресса, и интеллектуального прогресса. Изобретать считалось безнравственным….Гнет древних авторитетов ощущался не только в интеллектуальной сфере. Он чувствовался во всех областях жизни. Впрочем, это печать традиционного крестьянского общества, где истина и тайна передаются из поколения в поколение, завещаются «мудрецом» тому, кого он считает достойным её наследовать»106.
В этом тексте поражает его почти дословное совпадение с предыдущим, хотя оба историка очевидно не списывали друг у друга. Весьма похожее высказывание (сделанное еще в 1897 году) есть и у русского историка В. О. Ключевского о традиционном обществе Московской Руси: «Теперь все более торжествует мысль, что каждый имеет право быть самим собой, если не мешает другим быть тем же и не производит общего затруднения… Прежде лицо тонуло в обществе, было дробной величиной «мира», жило одной с ним жизнью, мыслило его общими мыслями, чувствовало его мирскими чувствами, разделяло его повальные вкусы и оптовые понятия, не умея выработать своих особых, личных, розничных. Каждому позволялось быть самим собой лишь настолько, насколько это необходимо было для того, чтобы помочь ему жить как все, чтобы поддержать энергию его личного участия в хоровой гармонии жизни или в трудолюбиво автоматическом жужжании пчелиного улья… Лицо тонуло в обществе, в сословии, корпорации, семье, должно было своим видом и обстановкой выражать и поддерживать не свои личные чувства, вкусы, взгляды и стремления, а задачи и интересы занимаемого им общественного или государственного положения… В прежние времена положение обязывало и связывало, обстановка, как и самая физиономия человека, в значительной степени имела значение служебного мундира. Каждый ходил в приличном состоянию костюме, выступал присвоенной званию походкой, смотрел на людей штатным взглядом»107.
Лишь вполне представив себе эту общую картину духовной жизни эпохи Старого порядка, можно оценить всю глубину последовавшего затем духовного переворота, приведшего к формированию современной рационалистической и индивидуалистической ментальности, утвердившей право каждого на проявление своего индивидуального, личностного начала. Такой переворот, вызванный извечным стремлением человека к новаторству, впервые произошел в античных полисах, где софисты олицетворяли собой новый позитивный социальный идеал, наиболее адекватно отражавший ценности демократического рыночного общества и находивший созвучия во всех сферах духовной жизни Греции классической эпохи.
Поиск новых форм, всколыхнувший культуру Древней Греции, продолжался сравнительно недолго: сто, максимум двести лет из более чем тысячелетия существования античной цивилизации. И само стремление к новизне, к новшествам для эпохи Старого порядка — явление «до эффективности» уникальное, так как оригинальность, нешаблонность мышления — следствие индивидуализма как жизненной установки, а индивидуализм был эпохе Старого порядка не свойственен.
Следует еще раз подчеркнуть принципиальное отличие социально–экономического строя передовых полисов классической Греции от обычных городов Старого порядка: их благополучие основывалось действительно на торгово–производственной деятельности, на свободном труде и свободном предпринимательстве, а не на проживающих в городе рентополучателях, эксплуатирующих крестьян. И в психологическом отношении в них обнаруживаются характернейшие черты «раннебуржуазной» ментальности.
Так, М. Вебер писал в своей знаменитой работе «Протестантская этика и дух капитализма»: «“Идеальному типу” капиталистического предпринимателя чужды показная роскошь и расточительство, а также упоение властью и внешнее выражение того почета, которым он пользуется в обществе. Его образу жизни свойственна известная аскетическая направленность (отсутствие привязанности к показной роскоши, столь свойственной жизни аристократии), а в характере его часто обнаруживается известная сдержанность и скрытность… Радость и гордость капиталистического предпринимателя от сознания того, что при его участии многим людям “дана работа”, что он содействовал экономическому процветанию родного города (в частности, в смысле роста его населения и торговли) является частью той специфической и, несомненно, идеалистической радости жизни, которая характеризует представителей современного предпринимательства… Достаточно ознакомиться хотя бы с тем, что Б. Франклин сообщает о своих усилиях по улучшению коммунального хозяйства Филадельфии, чтобы полностью ощутить эту очевидную истину»108.
На место Бенджамина Франклина с тем же успехом можно поставить и Перикла (например, он также, будучи отнюдь не бедным, вел подчеркнуто скромный образ жизни). Это значит, что «дух капитализма», особая раннебуржуазная психология были в некотором смысле присущи и передовым полисам классической эпохи Греции.
Но уже с самого начала эпохи эллинизма мы видим принципиально другую картину: во всех эллинистических государствах горожанин, «эллин» — это или непосредственно представитель господствующего класса, живущий за счет эксплуатации (ростовщической, бюрократической и т. д.) сельской периферии, «хоры», «лаой», или же человек, обслуживающий эту социальную верхушку (а значит, тоже так или иначе к ней примыкающий). Т. е. это снова — Старый порядок. Сама же Греция — в упадке, там процветает ростовщичество, широко, как никогда ранее, распространяется рабство, в городах — перманентные социальные конфликты между богатыми и бедными, частые перевороты и гражданские войны, разбой на суше и пиратство на море, упадок, нищета и безысходность (в сочетании с безудержной роскошью и паразитизмом правящих классов), причем — что чрезвычайно характерно! — гегемония принадлежит государствам, целиком относящимся к Старому порядку: Македонии прежде всего, а также феодально–патриархальной олигархии самых отсталых областей материковой Греции — Ахайи и Этолии.
Так проходят третье и второе столетия до н. э. В первом же столетии до н. э. Греция оказывается уже целиком под властью Рима, на смену которой затем приходит уже Византийская империя. И Рим, и Византия — территориальные государства с господством рентополучателей, т. е. страны Старого порядка. Следовательно, для жителей островов и малоплодородных долин Греции куда проще стало эмигрировать в поисках «лучшей доли», чем развивать «вторичный» и «третичный» секторы экономики.
В пятом веке до н. э. Греция переживает наивысший расцвет в своей истории. В третьем веке до н. э. стадиальная флуктуация уже практически «рассосалась»: эллинистическое общество было уже снова почти полностью феодальным (либо откровенно рабовладельческим) по сути. Четвертый же век до н. э. был переходным между двумя этими состояниями: кое–где наблюдался подъем по инерции (особенно в первой половине века), но на фоне все усиливающихся признаков упадка и разложения.
В какой–то степени, помимо ряда передовых полисов Греции VI–IV вв. до н. э., черты стадиальной флуктуации проявляются (хотя и слабее) ещё в один период античности: в Римской империи ее «золотого века», в эпоху Антонинов, особенно в конце 1 — первой половине II вв. н. э. Естественно, что в это время «некоторые императоры ассигновали крупные суммы на содержание специальных школ латинской и греческой риторики, куда ученики переходили с 16 лет. Это было подобие современной высшей школы… В Римской империи высоко ценилось искусство красноречия»109. И теперь, на основе вышеизложенного, для нас совершенно закономерным выглядит следующий факт: «Известно литературное течение 2‑го века н. э. под именем «вторая софистика», стремившееся реставрировать идеи и стиль греческой классики 5–4 вв. до н. э. Оно отличалось учёностью, прекрасным знанием предшествующей греческой литературы… В лице Лукиана оно до некоторой степени продолжило традиции собственно софистики»110.
С. П. Хантингтон среди важнейших черт, которые отличают цивилизацию Запада от других цивилизаций мира, первой называет именно индивидуализм. Как мы убедились, корни индивидуализма — в древнегреческой цивилизации, а софистика была наиболее последовательным выражением его в общественной практике. С. П. Хантингтон подчеркивает вторичный характер западноевропейской цивилизации по отношению к античной и называет четыре основных составляющих античного наследства: «греческая философия и рационализм, римское право, латинский язык и христианство»111. Как видим, «греческая философия и рационализм» снова занимают почетное первое место. Артур М. Шлезингер–младший подчеркивает: «Европа — это уникальный источник идей индивидуальной свободы, политической демократии, верховенства закона, прав человека и культурной свободы… Это — европейские идеи, которые могут стать азиатскими, африканскими или ближневосточными только через заимствование»112.
Выше уже приводились свидетельства того, что первоначальным источником заимствования всех этих идей была классическая Греция, прежде всего Афины при Перикле. «Именно в античных полисах — городах–государствах Древней Греции — впервые прозвучали сами термины «политическая свобода», «равенство людей», «гражданские права». Именно там, в VI–IV вв. до н. э., философы начали напряженно и трагически осмыслять те противоречия, с которыми неминуемо сталкивается общество, стремящееся к самоосознанию и самосовершенствованию. Античные мыслители — софисты, киники, стоики — не просто провозглашали те или иные общественные нормы и ценности, но и старались обосновать (или опровергнуть) их с помощью доводов рассудка и чувства, опираясь на религиозные представления или обходясь без них. К этим же вопросам снова и снова вынуждена будет возвращаться общественная мысль последующих веков и тысячелетий, вплоть до наших дней»113.
Итак, зарождение современной индивидуалистической и рационалистической ментальности целесообразно рассматривать как проявление черт стадиальной флуктуации в духовной сфере, ярким примером которой может служить культура Древней Греции. Можно утверждать, что концепция стадиальных флуктуаций представляет собой вполне надежную методологическую основу для объяснения как феномена «древнегреческого чуда», так и современных черт в духовной культуре доиндустриальных обществ последующих эпох.
Тоталитаризм как пример негативной стадиальной флуктуации
Можно однозначно утверждать, что позитивные стадиальные флуктуации сыграли огромную положительную роль в истории человечества, ускоряя его культурный прогресс. Но не меньшую негативную роль в истории, особенно в истории XX столетия, сыграли негативные стадиальные флуктуации. Речь идет о тоталитарных режимах, принесших столько бедствий человечеству. Угрозу рецидива таких режимов, по нашему мнению, нельзя считать ликвидированной полностью. Поэтому характеристика сущности тоталитаризма именно как отрицательной стадиальной флуктуации может представлять определенный практический интерес114.
Тоталитаризм — это общественно–политический строй, при котором государство полностью подчиняет себе все сферы жизни общества и отдельного человека. Тотальный — от латинского слова totalis — означает всеобщий, всеобъемлющий. Именно всеохватностью своего надзора тоталитаризм отличается от всех других известных истории форм государственно организованного насилия — деспотии, тирании, абсолютистской, бонапартистской и военной диктатур115.
Термин «тоталитаризм» ввели в политический лексикон в 20‑е годы итальянские критики Б. Муссолини, затем он сам использовал этот термин для характеристики фашистского государства. Понимаемый широко — как политический режим, как модель социально–экономического порядка и как идеология — тоталитаризм является безусловным феноменом XX в. Его возникновение связано прежде всего с трудностями модернизации, перехода общества к индустриальной стадии развития, с попытками правящей элиты преодолеть эти трудности путем огосударствления, сверхбюрократизации, униформенной политизации и милитаризации всего общества.
Сущность тоталитаризма заключается в том, что в результате указанных процессов устанавливается бюрократическая (военно–бюрократическая) диктатура, фактически отражающая интересы государственного (партийно–государственного) аппарата, а также — отчасти — интересы представителей разного рода маргинальных групп, деклассированных элементов, из которых в значительной степени этот аппарат формируется и которые им подкармливаются (в этом смысле показательно отношение к уголовникам как к «социально близким»).
В литературе различают два: «классических» типа тоталитаризма — правый (фашизм, национал–социализм) и левый (сталинизм, маоизм). Их противопоставление, по нашему мнению, игнорирует общность внутренней природы обоих явлений, прежде всего огосударствления основных сфер жизнедеятельности общества, неограниченной власти государства над человеком, в т. ч. и через механизмы идеологической «обработки». Наличие этой, самой характерной, черты тоталитаризма позволяет отличать его от авторитарного режима.
Следующие «родовые» черты в совокупности определяют тоталитаризм как явление универсальное при всем разнообразии его этнонациональных и цивилизационных личин:
а) абсолютное неприятие демократических прав и свобод — слова, печати, собраний, объединений и т. д. на фоне их формального декларирования; б) всевластие (включая монополию на информацию) корпоративных организаций иерархического типа; в) государственная и/или находящаяся под жестким бюрократическим контролем частная собственность на средства производства, по крайней мере — на основную их часть; г) административно регулируемый характер экономики, в т. ч. централизованное распределение сырья, продукции (редистрибуция), значительная роль принудительного труда и внеэкономического (в частности, при помощи идеологических рычагов) принуждения в жизни общества; д) официальная регламентация всех сфер жизни обществу и человека, включая ограничения в одежде, передвижении, проведении досуга и т. д., почти исключающие свободный выбор; е) мощный репрессивный аппарат, использующий методы физического и психологического террора по отношению к массовым и даже элитным группам; система всеобщей слежки и доносительства; развитая сеть тюрем и концлагерей с антигуманными методами содержания; ж) мессианская государственная идеология (т. е. сумма убеждений, подменяющих силу веры), долженствующая распространиться по всему миру или хотя бы в его значительной части; з) агрессивный характер внешней политики, сочетающийся с самоизоляцией страны (закрытое общество); и) милитаризация экономики и всего общества, перманентное применение насилия (полицейского и армейского) во внутренней политике; к) общенациональный, наделяемый сверхъестественными качествами, абсолютно глорифицированный правитель (вождь) как ключевой элемент политико–идеологической системы.
Неверен вульгарный марксистский подход к государству как «органу диктатуры господствующего класса» («капиталистов», «пролетариата»). Например, в некоторых восточных деспотиях господствующий класс мог в целом совпадать с госаппаратом (это К. Маркс относил к чертам «азиатского способа производства», не излагая системной сущности понятия). Но и при других вариантах исторического развития госаппарат очень часто становился обособленным от общества организмом, паразитирующим на этом обществе для удовлетворения своих собственных кастовых интересов и потребностей. Это ярко проявлялось и в царской России, где по некоторым параметрам автократия сближалась с тоталитарной формой: аристократия — бюрократия тормозила и выхолащивала реформы.
В результате большевистской, фашистской (антилиберальной) и других подобных революций к власти приходят новые элиты. При всей противоположности политических позиций — от праворадикальных до левоэкстремистских, их объединяет стремление поставить себя с помощью государственной машины над всем обществом, включая и ранее господствовавшие классы. Представители этих классов если и сохраняют свои экономические и политические позиции при тоталитаризме, то лишь при условии интеграции в бюрократический аппарат. Так, в нацистской Германии было проведено огосударствление управления экономикой, при котором капиталисты назначались «фюрерами» своих предприятий.
При зрелом тоталитаризме процессы производства и распределения полностью контролируются госаппаратом. Основной целью становится расширенное воспроизводство самой бюрократии. Сюда относятся: а) увеличение количества прибавочного продукта, непосредственно паразитически потребляемого бюрократией; б) зашита монопольного положения бюрократии в обществе; в) военные расходы для обеспечения политики силы, внешней территориальной и идеологической экспансии. Интересы остальных групп общества принимаются бюрократией во внимание ровно настолько, насколько необходимо для выполнения перечисленных задач.
Бесконтрольность госаппарата закреплена юридически — жаловаться на чиновников можно только другим чиновникам — «по начальству». Все рычаги управления государством сосредоточены в руках исполнительной власти. Она полностью поглощает фиктивно существующие законодательную и судебную власти. Но поскольку тоталитарное государство обслуживает исключительно собственные интересы («цель власти — только власть»), возникает проблема: что будет «исполнять» исполнительная власть, кто ставит для нее задачи?
Госаппарат по своей природе не может быть самоуправляющимся, поскольку основой исполнительной деятельности являются дисциплина и единоначалие. Вместе с тем интересы различных звеньев аппарата отнюдь не совпадают, поэтому бюрократы должны иметь защиту от взаимного произвола, т. е. им нужна организация, которая не совпадала бы с собственно аппаратом, а выражала бы интересы бюрократии в целом. Такого рода структура есть в каждой тоталитарной системе. Это — монопольная партия («наш рулевой»), подменяющая законодательную и судебную власть, обеспечивающая тот контроль за исполнительной властью, который в демократических странах достигается совместным действием процедуры свободных выборов, принципа разделения властей и работой независимых СМИ. Причем такая государственная партия может сформироваться уже после того, как заложены основы тоталитарного режима.
Заблуждение думать, что тоталитаризм держится исключительно на страхе и прямом насилии. Не менее важную роль играет система социальной демагогии, идеологических иллюзий, манипуляций, с помощью которых затушевывается противоположность интересов правящей элиты, привязавшей к себе другие элиты системой «приводных ремней», и общества. В сознание атомизированных масс внедряется всеохватывающая мобилизационная идеология, обращенная не столько к разуму, сколько к чувствам, инстинктам. В коре головного мозга человека создается зона устойчивого патологического возбуждения, которая не позволяет ему адекватно воспринимать сигналы окружающей действительности.
Ядро тоталитарной идеологии — одна «великая идея», представляемая как единственно возможный путь решения всех проблем. «Упаковка» такой «сверхценной» идеи может быть различной — классовой, национальной, расовой, религиозной, но характер ее определяют три обязательные черты:
• Обращенность в будущее. Тяготы сегодняшнего дня рассматриваются лишь как неизбежные временные жертвы на пути к «светлому завтра», доступному только носителям «великой идеи».
• «Образ врага». Он злобно ненавидит «великую идею», какие–либо соглашения и компромиссы с ним принципиально невозможны. Этот враг — абсолютно вне моральных норм, он беспредельно жесток, коварен и беспощаден. Что особенно важно — враг вездесущ, у него везде есть тайные приспешники, в т. ч. и среди мимикрирующих под приверженцев «великой идеи». Все неудачи на пути к ее осуществлению объясняются кознями этого врага.
• Идеализация, сакрализация государства, государственной партии, их лидера — Великого Вождя. Они выражают интересы народа, воплощают в жизнь его чаяния и мечты. Поэтому народ должен беззаветно им верить, вручить им свою жизнь и безопасность, неограниченные полномочия по искоренению врагов «великой идеи». Вообще, поскольку все граждане государства являются частицами одного общего монолитного начала (в массах доминирует сверхколлективизм «Мы»), то интересы управляемых и управляющих якобы полностью совпадают, какой–либо контроль со стороны общества над госаппаратом совершенно излишен.
Следует еще раз возразить исследователям, рассматривающим коммунизм и фашизм (национал–социализм) как сущностно различные явления, а соответствующие идеологии — как принципиально отличные друг от друга. Смысл «великой идеи» всегда одинаков — это, помимо изложенных выше трех ее составляющих, жесткое разделение людей по «анкете», при практически полном игнорировании их личных качеств, т. е. возрождение сословных принципов организации общества.
Для сознания, воспитанного в тоталитарном обществе, в принципе не может быть среди «ненаших» (буржуев, евреев, коммунистов, неверных и т. д.) хороших людей. Все различие между тоталитарными идеологиями сводится только лишь к неодинаковости принципов выделения «своих» и «чужих». А поскольку сильнее всего разделяют людей этнонациональные, расовые, религиозные различия, постольку именно основанные на них подвиды тоталитарной идеологии и получили различное политическое воплощение.
Схожесть тоталитоидных теорий и тоталитарной практики в разных странах отмечалась еще на стадии их формирования, причем не только сторонними наблюдателями. Так, «любимец» партии большевиков Н. Бухарин в 1923 г. на XII съезде РКП(б) сделал любопытное признание: «Характерным для методов фашистской борьбы являлось то, что они, больше чем какая бы то ни было партия, усвоили себе и применяют на практике опыт русской революции. Если их рассматривать с формальной точки зрения, то есть с точки зрения техники и их политических приемов, то это полное применение большевистской тактики и специально русского большевизма: в смысле быстрого собирания сил, энергичного действия очень крепко сколоченной военной организации, в смысле определенной системы бросания своих сил, «учраспредов», мобилизации и т. д. и беспощадного уничтожения противника, когда это нужно и когда это вызывается обстоятельствами».
Не менее показательна и быстрая мутация многих политиков и идеологов на закате коммунизма, особенно в России (но также и в других странах СНГ, в т. ч. и у нас в Украине). Они либо совершили прыжок от ортодоксального марксизма сталинского образца к национал–шовинизму откровенно фашистского толка, либо пытаются их синтезировать (коммунофашизм). Такой «синтез» особенно очевиден, если сравнивать экономические программы неокоммунистов и национал–шовинистов: их «государственнические» подходы практически идентичны. Не стоит думать, что базовые, принципиальные установки и убеждения указанных деятелей на самом деле радикально изменились: «матрица» была одна, сменился только «знак».
Несомненны «генетические связи» тоталитарного идейного комплекса со многими воззрениями докапиталистического общества. Прежде всего, это деление людей по их происхождению (по «крови и почве», «анкетный» принцип). И в традиционном обществе преобладали представления о приоритете интересов коллектива (общины, корпорации, государства в лице государя) над интересами личности. Но есть и качественные различия. Прежде всего, господствовавшие в добуржуазные времена религиозные мировоззрения вполне соответствовали общему уровню развития культуры и производительных сил. И главное — никогда не ставилось под сомнение естественно присущее человеку стремление удовлетворять собственные интересы, искать свою выгоду, жить для себя и своей семьи. Бескорыстие, альтруизм приветствовались практически всеми мировыми религиями, но вовсе не считались обязательными. Всегда признавалась обязанность власти соблюдать «изначальные» (по сути — доправовые) неписаные законы, обычаи и нормы, следовательно, не исключалась ее ответственность за их нарушение. Претензий же на тотальную монополию государства не было даже при абсолютизме.
В основу либеральной идеологии было заложено представление об изначально неизменной природе человека и, соответственно, о неотъемлемых, присущих каждому человеку с его рождения правах, неотчуждаемых в пользу государства или любой другой общности, если только сам этот человек не нарушает такие же права других людей. Именно эти общие принципы, провозглашенные просветителями, сделали реальностью общество, основанное на свободном труде и свободном обмене его продуктов, в т. ч. управленческих и административных услуг, — общество представительской демократии и рыночной экономики. То есть из двух исторических тенденций — корпоративизма и житейского индивидуализма — получила наибольшее развитие вторая; индивидуализм был возведен в критерий общества.
Но когда каждый человек предоставлен в первую очередь самому себе, далеко не все находят должное применение своей свободе («бегство от свободы»), В плане социальной защищенности новое «либеральное» общество оказалось для многих людей (особенно маргиналов) шагом назад. Стала звучать критика, поставившая принцип равенства (всеобщей социальной защищенности) выше свободы. Для того же, чтобы обеспечить равенство, нужно ограничить свободу отдельного человека, не желающего быть, «как все». Значит, необходимо государство, контролирующее все сферы жизни общества. Так возникает тоталитарная идеология, представляющая альтернативную программу общественного развития.
Понятно, что равенство, декларируемое сторонниками тоталитарной идеологии, на деле — отнюдь не всеобщее. С одной стороны, есть госаппарат, пастыри, монопольные выразители «великой идеи», обеспечивающие соблюдение равенства. С другой — обязательно попадаются «паршивые овцы», не желающие быть, как все. Этих последних следует отправлять на тяжелые работы (так предусмотрено еще у Томаса Мора в его «Утопии»). Наконец, есть «чужие», не из данного «города Солнца», т. е. иноземцы, не приемлющие «чуткого руководства» пастырей. Таких тоже — на тяжелые работы.
Очевидно, что по сути тоталитарная идеология — это трансформированные общинно–корпоративные воззрения феодальной эпохи. Но с одним принципиальным отличием: с требованием равенства внутри всего общества. Ясно, что по «логике» тоталитаризма против чужаков и «паршивых овец» можно и нужно широко применять насилие. Но что делать с большинством граждан новой «Утопии»? Ведь человеческой природе свойственен индивидуализм и стремление к личной свободе, а постоянно применять насилие ко всем невозможно. Значит, нужно изменить природу человека так, чтобы он полностью отождествлял интересы общества (фактически Государства) со своими личными интересами, «становился на горло собственной песне». То есть необходимо создать «нового человека». (В этом и состоит коренное отличие либеральной идеологии от тоталитарной: просветители, начиная от софистов, настаивали на неизменности человеческой природы, основную роль просвещения видели не в том, что люди перестанут стремиться к личной выгоде, а напротив, в том, что они научатся определять, в чем именно состоит эта выгода и как наилучшим образом ее обеспечить.)
«Великая идея» иррациональна и часто мистична, глубоко противоречит действительности, поэтому для нее смертельно опасны плюрализм, любая критика, конкуренция с другими идеями и в особенности — объективная информация о положении дел в обществе и в мире. Известно, что тайна, исключительное владение и контроль над информацией — естественная стихия и необходимое условие существования любой бюрократии. Это условие тоталитаризм соблюдает с максимально возможной тщательностью: устанавливаются режим строжайшей секретности, жесточайшая госмонополия на информацию и цензура. Напротив, широко развита дезинформационная стратегия, в т. ч. преувеличение любых достижений. Публично сообщается лишь то, что способствует закреплению в массовом сознании постулатов «великой идеи». Мощный пропагандистский аппарат (агитпроп) выполняет задачу мифологизации этого сознания, программирования мыслей и поведения людей. «Великая идея» превращается в квазирелигию, нуждающуюся в своей церкви.
Монопольная партия, помимо основной задачи (поддержание согласия «в верхах»), выполняет совместно с организациями–сателлитами, профсоюзами, молодежными, корпоративными и парамилитарными структурами функцию «приводного ремня» от элит — к «низам». Мощнейший карательный аппарат активно участвует в поддержании информационной диктатуры, борясь с инакомыслием путем физического уничтожения или изоляции его носителей. Однако репрессии как превентивное средство систематически обрушиваются и на вполне лояльных к режиму людей. Это создает стойкую атмосферу страха и всеобщей подозрительности. Страх должен так глубоко, парализующе влиять на психику, на подсознание, чтобы человек рефлекторно отталкивал бы даже мысли о противоречиях окружающей жизни.
Информационная диктатура открывает колоссальные возможности для манипулирования сознанием. Заглушаются интересы людей, обычно побуждающие их к борьбе за социальные и профессиональные требования, чувство солидарности. В сочетании с деятельностью карательных органов это позволяет практически сводить на нет любые попытки проявления протеста граждан против тоталитарных порядков. Создаются самые благоприятные условия для эксплуатации государством части трудящихся методами внеэкономического принуждения. Реставрируются отношения рабства (труд заключенных) и крепостничества (инфеодализация беспаспортных колхозников в СССР, остарбайтеры в нацистской Германии и т. д.).
Возврат к Старому порядку происходит также в области морали и права. Равенство граждан перед законом на практике отрицается, все население делится на несколько сословно–правовых категорий (в СССР при Сталине — номенклатура, горожане, колхозники, зэки). В целом тоталитаризм и следует считать особой, регрессивной стадиальной флуктуацией, когда происходит реставрация исторически отживших социальных порядков на новой экономико–производственной и технологической основе. Устойчивость же режима обеспечивается за счет целенаправленной деформации личности, извращения человеческой природы. Недаром абсолютно все тоталитарные режимы в той или иной форме выдвигают цель «создания нового человека».
Любой госаппарат (даже в стране с самыми демократическими традициями) стремится максимально расширить свои функции и полномочия, увеличить контроль над общественными делами, сокращать гражданский контроль над собой. Любое государство выступает (хотя бы отчасти) в роли самостоятельного эксплуататора, т. е. содержит в себе тоталитарные потенции. Но для их реализации необходима прежде всего вера значительной части граждан в необходимость и благодетельность всеобщего государственного контроля за жизнью общества, т. е. «великая идея». Эта идея в любом ее варианте не может быть ни пролетарской, ни крестьянской, ни буржуазной, так как она по сути не выражает интересов ни одного из массовых слоев общества. Но «великие идеи» легко усваиваются и поддерживаются маргиналами.
Чем выше уровень маргинализации общества, тем вероятнее его скатывание к тоталитаризму.
Для представителей маргинальных групп особенно характерны культурная неукорененность и связанное с этим острое чувство социальных неполноценности и отчуждения, гремучая смесь забитости и агрессивности, болезненно–извращенное («обиженное») восприятие окружающего мира, вера в чудеса. «Великая идея» манит маргиналов легкостью социально–психологической адаптации к реальности: все люди делятся на «своих» и «чужих»; в твоих бедах виновны только враги (буржуи, империалисты, коммунисты, масоны, евреи, неверные и т. п.), сам же ты достоин светлого настоящего и будущего уже одной своей «анкетой» (как пролетарий, ариец, истинный мусульманин и т. д.); необходимо лишь уничтожить врагов («до основания»!), вверить заботы о себе «родным» партии и государству с их патерналистским участием, которые автоматически обеспечат тебе счастливую жизнь, снимут с тебя груз социальной, правовой, моральной ответственности в обмен на полную лояльность.
На деле, однако, тоталитарный режим не выполняет своих обязательств даже перед всеми теми, кто непосредственно и активно способствовал его утверждению. Движения и партии–знаменосцы «великой идеи» после прихода к власти переживают, как правило, период радикальной трансформации, очищаются от лиц, слишком серьезно поверивших в животворную силу «великих идей» (борьба с реальными, а затем мифическими антипартийными оппозициями в СССР, достигшая пика в 1937 г.; «ночь длинных ножей» в гитлеровской Германии; погром хунвейбинов в маоистском Китае и т. п.).
На протяжении всего XIX в. идеи либерализма успешно входили в жизнь все новых народов, везде способствуя их экономическому и социальному прогрессу. Разумеется, во всех этих странах было немало маргиналов и вообще людей недовольных. Но число их сокращалось, ибо в рамках существующего строя достаточно успешно решались коренные общественные проблемы. На рубеже XIX и XX в. начался постепенный рост уровня жизни в массовых слоях, в т. ч. в среде рабочего класса.
Однако в молодых индустриальных обществах зрели и предпосылки тоталитаризма. Усиление роли государства, ставшего одним из крупнейших предпринимателей, вело к распространению этатистских идей. Господство фабричного производства, превращавшего работника в придаток машины, обусловливало технократические представления о том, что все общество должно быть организовано как одна единая гигантская фабрика с людьми–винтиками. Наряду с идеологиями, основанными на принципах рационализма и гуманизма, возникали идейные системы, связанные прежде всего с именами К. Маркса и Ф. Ницше. Разумеется, марксизм, как и ницшеанство, — это еще не «великие идеи» в готовом виде. Но декларируемый ими отказ от «абстрактного» гуманизма, пренебрежение к традиционным ценностям готовили общественное мнение к восприятию тоталитарных проектов.
Наконец, «технологическую» возможность для реализации этих проектов создали материальные достижения индустриализма — от средств массовой коммуникации до средств массового уничтожения людей. Именно их концентрация в руках государства позволила ему образовать невиданную в истории систему мощнейшего воздействия на человека и его психику.
Было ли появление тоталитарных режимов в XX в. неизбежным? Конкретные социально–политические предпосылки возникновения таких режимов разнообразны. Это неукорененность и непоследовательность демократии, атомизация общества в результате быстрого разрушения доиндустриальных социальных структур и институтов, неспособность правящих элит решать проблемы модернизации с помощью механизмов права и свободного рынка, традиции сакрализации власти, великодержавности и др. В каждом случае роль и место этих факторов, их сочетания различны. Но их успешное (системное) использование тоталитарными силами возможно только в чрезвычайных обстоятельствах, близких к национальной катастрофе. Таковыми стали в начале века Первая мировая война, а затем жестокий мировой экономический кризис конца 20‑х годов, которые наглядно показали несовершенство существовавших порядков. Именно страны, наиболее сильно затронутые историческими катаклизмами, оказались в конце концов во власти тоталитаристов.
Первое, что бросается в глаза при изучении причин первой мировой войны, — их глубокая иррациональность. Во имя чего, собственно, воевали? Историки сходятся на том, что прежде всего — за захват новых колоний, «передел мира». Но зачем нужны были колонии? Экономически они уже к тому времени превращались в тяжелое бремя для метрополий. Объяснить ту «колониальную паранойю» можно только соображениями национального престижа, политической модой.
Кстати, о колониальных империях. Это очень важный исторический момент. В начале XX в. в качестве единого государственного организма выступали не собственно Великобритания, Франция или Германия, а соответствующие империи, скажем, Франция плюс подвластные ей африканцы, вьетнамцы и т. д. Была ли Французская империя как единое целое современным капиталистическим обществом? Нет, ибо на большей части ее территории (и среди большей части населения) преобладали еще докапиталистические отношения, французские подданные делились на несколько неравноправных сословий, большая часть которых была лишена каких–либо политических прав и т. д.
Собственно, система апартеида в ЮАР, мало чем отличавшаяся по сути от других вариантов тоталитаризма, была лишь осколком, повсеместно распространенной в эпоху колониализма социально–политической системы. Причем колонизаторы (среди которых встречались ведь и такие гуманисты, как Д. Ливингстон) не только не хотели, но и не могли вводить в своих туземных колониях демократию: местные жители были к ней действительно не готовы, что служило нагляднейшим опровержением универсальности тезисов о том, что все люди по природе равны и что все народы имеют право на самоопределение. Так что одной из важнейших причин социальных катастроф нашего столетия послужило именно культурное разделение человечества, резкая активизация контактов между чересчур разными (в первую очередь, с эволюционной точки зрения) обществами. Общаясь с людоедами, сам неминуемо у них многое перенимаешь (победители ведь всегда многое перенимали у побежденных). Сотни тысяч людей Запада, в том числе представителей социальной элиты — политиков, ученых, писателей (вспомним Р. Киплинга или Дж. Лондона) — многие годы провели в обществах Старого порядка с совсем иной ментальностью и не могли ею в той или иной мере не проникнуться116.
Колониализм во многом обусловил бурный рост шовинистических, расистских, ультранационалистических настроений в Европе в конце XIX — начале XX в. Принцип «сильному все дозволено», который применялся европейскими государствами по отношению к народам Азии и Африки, в конце концов вернулся в саму Европу, распространился на ближайших соседей по континенту, да и на собственное общество. Можно сказать, что утверждение тоталитаризма было в огромной степени следствием колониализма и империализма (в политологическом, а не в ленинском значении этого слова), платой за попытки начать установление единства человечества («глобализацию мира») силовыми методами. Опасность тоталитаризма сохраняется, пока эти методы не будут исключены из международной политики, пока человечество разделено на «богатый Север» и «бедный Юг».
Исторический опыт доказывает, что крах любой тоталитарной системы неизбежен — как по причине воздействия извне, так и под влиянием внутренних факторов. Тоталитарные порядки в Германии и Японии были ликвидированы в результате разгрома этих стран во второй мировой войне и последующей их оккупации. В других случаях тоталитарные режимы терпели крах под напором массового движения в комбинации с действиями «изменившей» этому режиму части правящей элиты, которая осознавала внутреннее его разложение, неспособность конкуренции с постиндустриальным миром.
Иногда (например, по Вьетнаме) номенклатура сама может пойти на преобразование тоталитарного режима в авторитарный, даже при отсутствии мощного давления «снизу». До некоторой степени именно так в СССР возникло очень сложное и противоречивое явление хрущевской «оттепели» («десталинизация» не помешала властям потопить в крови восстания заключенных в ГУЛАГе, а позднее — мирные выступления рабочих в Новочеркасске).
Но практически всегда в крушении «устоявшихся» (т. е. переживших стадию стабилизации) тоталитарных режимов огромную, фактически решающую роль играл международный фактор — воздействие западных демократий — воздействие прямое, силовое и еще больше — косвенное, своим примером. Не вызывает сомнений, что крах партии–государства — КПСС — также был вызван в огромной степени «импактом» Запада — поражением в холодной войне, прежде всего технологическим. Неэффективность советской плановой экономики, вытекавшая отсюда неудовлетворительность качества жизни в СССР стали очевидными только на фоне постиндустриальных достижений западных демократий. Вообще, пример извне осознается всеми тоталитарными режимами как главная опасность. Скорее отсюда (а не из «великой идеи» как таковой) вытекают их агрессивность и мессианство, порой трагикомическое («идеи чучхе»), политика «осажденной крепости», «военного лагеря».
Возможно и неизбежно ли вообще свержение тоталитарного режима без решающего воздействия извне? История XX в. не зафиксировала ни одного случая ликвидации такого режима под воздействием только лишь внутренних факторов. Вряд ли такое произойдет и в будущем. Так что ответ может быть только гипотетическим. Но проблема крайне интересна с общефилософской точки зрения. Авторы знаменитых романов–антиутопий, давшие анализ тоталитаризма в системе литературных образов, — Дж. Хаксли («Прекрасный новый мир»), Е. Замятин («Мы») и особенно Дж. Оруэлл («1984») — предлагают в целом отрицательный ответ: из тоталитаризма общество не способно выбираться самостоятельно, он может существовать неограниченно долго, становясь все более бесчеловечным и необратимо деформируя саму людскую природу, в т. ч. путем прямого изменения ее биологических характеристик. Так что будущее человечества в случае установления на Земле всемирной тоталитарной диктатуры рисовалось этими и другими мыслителями мрачными красками.
На наш взгляд, даже при такой диктатуре ситуация оставалась бы небезнадежной.
Во–первых, неустранимы противоречия и самая острая борьба между различными группами правящей бюрократии — «территориальными» и «отраслевыми», «идеологами» и «хозяйственниками» и т. п. В ходе этой конфронтации возможен вариант апелляции к «низам» и, соответственно, последующей «детоталитаризации» режима. Дополнительные противоречия в стан бюрократии вносит то обстоятельство, что определенной ее части (хотя и не очень большой) приходится выполнять действительно общеполезные функции (например, в области экологии).
Во–вторых, в условиях тоталитарного контроля за информацией роль мощного идейного оружия против правящей верхушки может сыграть сама «великая идея», если можно доказать, что ее «извратили». А свобода толкования «великой идеи» неизбежно приводит к возможности ее преодоления.
В-третьих, человеческая личность способна самовосстанавливаться, и вообще человеческую природу не так легко извратить, а инстинкт самосохранения — подавить.
Однако очевидно, что все эти варианты не являются обязательными. Здесь мы выходим на наиболее фундаментальную философскую проблему — возможных путей эволюции Разума. Хотя нам бесспорно известны сейчас только «человеческие» варианты развития цивилизаций разумных существ — очевидно, что в космический век этот вопрос представляет не просто академический интерес. Поэтому, делая прогноз о том, с какими вариантами Разума мы можем встретиться, имеет смысл принимать во внимание те альтернативы развития нашей цивилизации, которые не реализовались, но могли бы или могут реализоваться. В связи с этим следует обратить внимание на две фундаментальные возможности: а) на Земле могла (и все еще может) установиться всепланетная тоталитарная диктатура; б) эта диктатура могла бы оказаться устойчивой (необратимой), если бы следствием ее стало такое необратимое изменение биологической природы мыслящих существ (например, путем генной инженерии), которое сделало бы основную массу их несамодостаточными, неприспособленными к существованию в условиях личной свободы, свободы выбора и не стремящимися к ним.
Вообще, дилемма «личность–общество» изначально присуща историческому развитию человечества (и очень вероятно, любой форме Разума), поскольку носителем Разума является личность, но сформироваться и функционировать как носитель Разума она может лишь в общении с другими такими же личностями. Именно поэтому тоталитаризм в любом его проявлении — это проблема изначально международная. И не только потому, что тоталитарные режимы по самой своей природе агрессивны. Современная цивилизация имеет опасную тенденцию обеспечивать все большее признание приоритета интересов личности перед интересами общества (нации, класса, «всего трудового коллектива» и т. д.), олицетворяемого Государством, и отрицание того, что ограничением для свободы каждого человека может быть только лишь свобода других людей. Но нам, бывшим «простым советским людям», особенно легко представить себе, что в истории человечества мог (и даже еще может) быть сделан выбор не в пользу Личности, а в пользу Общества — «муравейника».
Из вышеизложенного можно сделать ряд общих выводов:
1. Проблема тоталитаризма — это, по сути, глобальная проблема. Любой тоталитарный режим, даже в небольшой и далекой стране, в наш атомный век представляет собой серьезную угрозу всему человечеству.
2. Поэтому на смену принципу невмешательства во внутренние дела других государств должны придти — применительно ко всем странам мира без исключения — принципы приоритета прав человека и законности международного вмешательства в случаях массовых и систематических нарушений этих прав.
3. Устранение угрозы тоталитаризма — это в значительной мере проблема ликвидации огромного разрыва в уровнях социально–экономического развития в мире, предоставления отсталым странам и регионам возможностей подтягивания до уровня передовых, предупреждения войн, экологических катастроф. В этих целях необходимо максимальное объединение усилий всего человечества.
4. Международное сообщество должно официально признать опасность для дела мира распространения любых тоталитарных доктрин, т. е. доктрин, отрицающих самоценность личности, объявляющих приоритет любых общественных групп, которые выделяются по «анкетным» признакам (принадлежность к нации, расе, классу, религии и т. д.), отвергающих политический плюрализм, нетерпимых к инакомыслию.
5. Если всякое государство несет зло, то Абсолютное Государство порождает абсолютное зло. Поэтому необходимо сводить государственный патернализм к допустимому минимуму. Государственное регулирование, столь необходимое для модернизации, не должно вести наше посттоталитарное общество к новым формам его огосударствления. Жесткий контроль за государственным аппаратом может обеспечить только гражданское общество. Его формирование — основная гарантия от тоталитарного перерождения.
Самый главный вывод: путь к тоталитаризму и пути к свободе заложены в самой нашей природе. То, куда мы идем, есть результат прежде всего нашего личного нравственного выбора.
«Боковые» стадиальные флуктуации и их роль в истории Украины
Исходя из всего вышеизложенного, можно легко сделать вывод о том, что негативные стадиальные флуктуации всегда оказывают в целом отрицательное влияние на культуру охваченных ими обществ. Однако историческая действительность оказывается гораздо сложнее. Негативные стадиальные флуктуации обязательно сопровождаются культурной деградацией только в том случае, когда они связаны с культурной изоляцией данного общества от более передовых социумов. Так, связи тоталитарных режимов с остальным миром всегда резко ограничивались в интересах поддержания информационной диктатуры (отсюда обязательная борьба против «низкопоклонства перед заграницей», лозунги типа «сегодня он танцует джаз, а завтра Родину продаст» и т. д.), что действительно вело к культурно–технологическому отставанию. То же относилось и к уже упоминавшимся папуасам Новой Гвинеи, чей остров почти не имел связей с внешним миром117.
Однако есть и другие примеры. Фрисландия была окончательно присоединена к владениям Габсбургов в 1524 году. Но уже в 1572 г. она в результате победоносного восстания окончательно освободилась от их власти и вошла в состав независимых Нидерландов в качестве автономной провинции (где и пребывает по сей день). То есть фризы, практически минуя феодализм, сразу успешно интегрировались в раннебуржуазное общество с отчетливыми современными чертами, на тот момент — самое высокоразвитое в мире. А это значит, что негативные стадиальные флуктуации — вещь отнюдь не всегда однозначно плохая.
Пример Фрисландии не является исключением. То же можно сказать о горцах Шотландии, которые в составе Великобритании даже приняли непосредственное участие в первом в мировой истории промышленном перевороте. Аналогичной негативной стадиальной флуктуацией можно также считать средневековые общества Исландии, многих кантонов Швейцарии, севера Швеции и Норвегии. Это не помешало очень раннему формированию там современного общества. Более того, создается впечатление, что отсутствие на этих территориях развитых феодальных отношений лишь способствовало их быстрой модернизации и индустриализации. Да и современная Папуа–Новая Гвинея развивается куда более быстрыми темпами, чем многие ее соседи–полинезийцы, с их куда более развитой традиционной культурой (и традициями сословного общества), она уже опередила по показателям ВНП на душу населения Украину…
Менять уже сложившиеся, закостеневшие традиции иногда бывает намного сложнее, чем строить новые отношения на пустом месте. К тому же порядки эпохи варварства с их военной демократией и духом соревнования во многом ближе к современным, чем классический Старый порядок.
Кстати, и Грецию гомеровской эпохи можно рассматривать как негативную стадиальную флуктуацию, когда в результате бедствий «великого переселения народов» (аналог мировых войн: вспомним условия возникновения тоталитаризма!) рухнула Микенская цивилизация и произошло возрождение порядков эпохи варварства118. Это, казалось бы, безнадежно отсталое в социальном отношении общество затем исключительно быстро превратилось в аномально развитое. Выше уже говорилось, что это стало возможно только в результате восприятия греками достижений финикийской культуры. А такое восприятие, в свою очередь, стало возможно только вследствие активных внешних контактов греческого общества.
Перечисленные выше средневековые общества Европы (фризы и др.) также поддерживали исключительно активные (и плодотворные для себя) контакты с наиболее развитыми в культурном отношении социумами, были частью западноевропейской цивилизации. Они отличались от остальных народов Европы по типу экономики (основанной не на земледелии, а на скотоводстве, рыболовстве и промыслах), но не по типу культуры.
Такая открытость к заимствованию чужого опыта при благоприятных исторических условиях (например, в древних Афинах) очевидно способствовала развитию духа новаторства — необходимой черты современного типа ментальности. Кроме того, неблагоприятные природные условия, препятствуя развитию земледелия, могли, с другой стороны, благоприятствовать развитию посреднической внешней торговли. Так, в случае Древней Греции (и средневековой Норвегии) особая изрезанность побережья вкупе с неплодородностью почвы просто подталкивала к освоению моря. Это по сей день характерно как для Греции, так и для Норвегии: торговые флоты этих небольших стран и сегодня — среди крупнейших в мире.
Греческое общество архаической эпохи в общем находилось на такой же ступени культурного и социального развития, что и современные ему общества Ближнего Востока, скажем, Египет. Но в деталях оно было весьма необычным, сочетая крайне примитивные черты с весьма передовыми, в нем «еще не закончился процесс расшатывания устоев первобытнообщинного строя и вызревания частнособственнических (товарно–денежных) отношений»119.
То же можно сказать и о перечисленных выше архаических обществах средневековой Европы, о тех же лесных кантонах Швейцарии. То есть они за счет активных контактов с внешним миром (например, в Швейцарии — не только за счет торговли, но и в огромной мере за счет военного наемничества) сумели компенсировать свое культурное отставание. Для местной элиты таких обществ стратегия культурно–технологического заимствования стала основным условием самосохранения в окружении агрессивных соседей. Но подобные социумы все равно не стали «нормальными», представляя собой некий «боковой» вариант исторического развития, для которого необходима постоянная информационная «подкачка" со стороны более развитых в культурном отношении обществ.
То есть по сути своей подобные общества менее устойчивы по сравнению с «нормальными», представляя собой своеобразную «боковую» стадиальную флуктуацию. Можно сказать, что «боковая» стадиальная флуктуация — это общество с негативной стадиальной флуктуацией, культурное отставание которого компенсировано за счет заимствования передовых достижений культуры извне.
Для нас представляет исключительный интерес пример еще одной стадиальной флуктуации — Запорожская Сечь и украинское казачество в целом. Феномен казачества также порожден особенностями географического положения страны, в частности, географической средой Востока и Юга Украины, одинаково благоприятной как для оседлого земледелия, так и для кочевого скотоводства. Но еще более значимым по сравнению с экологическим фактором был фактор геополитический: именно на территории Украины на протяжении нескольких тысячелетий соприкасались границы трех цивилизаций, трех «миров–экономик» (если следовать Ф. Броделю). Сначала это были границы цивилизации Средиземноморья, кочевого мира Великой Степи и мира лесных земледельческих обществ Центральной Европы. Затем, примерно с конца XV века, Украина стала границей цивилизации Западной Европы с миром ислама (Османской империей) и Россией.
То есть на протяжении всей своей истории Украина (отчего бы не произошло само это название) действительно была Окраиной трех цивилизаций, Великим Пограничьем. Причем наша страна была единственным в мире местом, где такие три границы сходились не по труднодоступным горам, пустыням или морю, а по вполне открытой местности, без каких–либо серьезных природных препятствий, т. е. доступной любым вторжениям извне. Это положение точно охарактеризовано в старинной народной песне: «О горе, горе тій чайці–небозі, що вивела діток при битій дорозі». Но на стыке этих трех цивилизаций как раз и расположились земли Запорожской Сечи.
При таком уникальном геополитическом положении постоянной «прифронтовой зоны» украинцы снова и снова оказывались в ситуации цивилизационного выбора. Вспомним хотя бы выбор между православием, католицизмом и исламом при князе Владимире. Причем часто это оказывался выбор между плохим и еще худшим, как выбор между Россией, Польшей и Турцией при Б. Хмельницком и во время Руины. Зато та из сторон в конфликте цивилизаций, которую принимали жители Украины, получала очевидные стратегические преимущества. Вообще на протяжении столетий украинцы были не только объектом, но и активнейшим субъектом геополитики, одним из решающих факторов мировой истории120. А это, в свою очередь, вынуждало идти на компромиссы с казаками (вообще с местными элитами), терпеть их «своеволие». По этой же причине местные элиты были вынуждены самой географией столь часто идти на неравноправный союз с кем–либо из соседей (что и делает историю Украины столь трагичной), но и поэтому же Украина практически постоянно сохраняла свою политическую и культурную самобытность, став в итоге одной из крупнейших наций Европы.
Даже этнонимы украинцев «черкасы», «козацький народ» безусловно свидетельствуют о том, что на протяжении нескольких столетий казачество воспринималось как эталон, квинтэссенция украинства вообще. И это не случайно. Без постоянного вооруженного отпора кочевникам земледелие на большей части Украины было вообще невозможно. Поэтому обычного для феодальных обществ численного соотношения между крестьянами и феодалами здесь было недостаточно, т. е. наличие массовой прослойки свободных трудящихся–воинов было необходимой основой способа производства. А это значит, что значительная часть украинского общества (подобно исландцам, фризам или шотландским горцам) не имела феодального характера, что порождало здесь парадоксальный для обществ Старого порядка уровень личной свободы, определение высокого социального статуса человека по его личным качествам, а не по его сословному происхождению121.
Украинское казачество имело своих непосредственных предшественников уже во времена Киевской Руси, на южных окраинах которой типичные для Старого порядка феодальные отношения так никогда и не сформировались. Это были обитатели Поросья, берладники и другие пограничные жители, часто жившие чересполосно со «своими погаными» — «черными клобуками» и другими союзными Руси тюркскими племенами. Но в особенности такими предшественниками были бродники — отряды вольных древнерусских степных поселенцев, живших на среднем Дону и на нижнем Днепре (само слово «бродить» близко по смыслу тюркскому корню «каз» — «кочевать», от которого образовалось слово «казаки»)122. Притом бродники также играли очень важную роль в международных отношениях. Так, в победоносном восстании Петра и Асеня против Византии (1 185–1 187), которое привело к восстановлению независимости Болгарии, приняли активное участие, по словам местного летописца, «и те, что происходят из Вордоны, презираюшие смерть, ветвь русских, народ, любезный богу войны» — т. е. бродники, жившие в том числе и в низовьях Дуная123.
Археологические данные свидетельствуют, что это славянское население продолжало жить там же и позднее, до XV столетия включительно. «Удается проследить и ряд общих черт между бродниками и позднейшим запорожским казачеством. Главным условием существования и бродников, и казаков было наличие достаточно значительных по размеру регионов, которые фактически находились вне юрисдикции какой–либо державы. А Южное Поднепровье было именно таким регионом. Другим условием их существования было наличие у этого населения достаточно высокого военного потенциала, в использовании которого были бы заинтересованы соседние государства. Так, бродников использовали древнерусские князья, а позднее татары, а в казацких силах в разное время были заинтересованы Литва, Польша, Москва и даже Крым. Третьим условием существования этих своеобразных объединений было наличие собственной экономической базы. Археологический материал свидетельствует о наличии значительного экономического потенциала оседлого населения, проживавшего в этом регионе. В мирное время это были хлеборобы, охотники, рыбаки, торговцы, ремесленники, но при необходимости все они становились воинами»124.
На юге Киевской земли в состав казачества уже с конца XV века постепенно влились также многочисленные боярство–слуги — служилые воины, не вошедшие в число шляхты125.
Позднее «оказачилась» и значительная часть украинского крестьянства, а казацкий строй стал отождествляться с украинской политической нацией вообще, отсюда — титул П. Сагайдачного «гетман Украины». Наконец, в результате восстания Б. Хмельницкого возникла независимая Украинская казацкая держава.
В историографии весьма распространена точка зрения об особой примитивности социального строя украинского казачества. Так, еще А. Я. Ефименко в своей «Истории украинского народа» писала: «Переворот такой силы, какой пережило южнорусское общество с Хмельницким во главе, нечасто встречается в истории… Украина зажила иной общественной жизнью, представляющей в общих чертах переход к более простому, архаическому строю. Тип отношений, сохранившийся в казачестве, распространился на всю территорию». Среди основных черт такого типа отношений она выделяет отсутствие сословных различий, равенство прав всех граждан, «господство выборного начала в управлении, самосуд, полное право земледельца на обрабатываемую им землю»126.
На этом же настаивает известный современный российский историк А. Л. Станиславский, подчеркивая сходство общественных порядков русского и украинского казачества: «Недавно Н. И. Никитиным обоснована аналогия между общественным устройством «вольного» казачества и доклассовыми обществами периода «военной демократии». В этой связи интересно проведенное Л. Самойловым сближение первобытного общества и современного уголовного мира в исправительно–трудовой колонии (например, общей для них трехкастовой структуры)… Обращалось внимание и на возможность влияния на казацкие общины кочевых народов, находившихся на стадии патриархально–феодальных отношений. Но как бы то ни было, «вольное» казачество Дона, Волги, Яика и Терека начала XVII в. по своему социальному развитию было много архаичнее общественного устройства Русского государства того же времени»127.
Но не все так однозначно. Та же А. Я. Ефименко приводит слова путешественника той поры Павла Алеппского, которому довелось пожить и в Украине, и в Московии: «С той поры, как мы увидели Печерский монастырь, блестевший в отдалении своими куполами, и как только коснулось нас благоухание этих цветущих земель, сердца наши раскрылись и мы излились в благодарениях Господу Богу. В течение этих двух лет в Московии на наших сердцах висел замок, а ум был до крайности стеснен и подавлен, ибо в той стране никто не может чувствовать себя сколько–нибудь свободным, кроме разве коренных жителей. Напротив, страна казаков была для нас как бы наша собственная страна, и ее обитатели были нашими добрыми друзьями и людьми вроде нас самих». Заметим, что Павел — спутник антиохийского патриарха Макария, сириец, т. е. уроженец страны, которая в XVII веке по уровню развития культуры и по цивилизованности очевидно превосходила Московию, притом же человек совершенно посторонний. «По всей земле казаков мы заметили возбудившую наше удивление прекрасную черту, — говорит Павел. — Все они, за исключением немногих, даже большинство их жен и детей, умеют читать и знают порядок церковных служб и церковные напевы; кроме того, священники обучают сирот и не оставляют их шататься по улицам невеждами; после освобождения люди предались с большой страстью учению, чтению и церковному пению». В особый восторг путешественника привело обилие храмов, большей частью только что отстроенных («казацкие живописцы заимствовали красоты живописи лиц и цвета одежд от франкских и ляшских живописцев и художников и теперь пишут православные образа, будучи обученными и искусными»), а также бурное развитие торговли в Украине, повсеместное распространение базаров, даже в стороне от больших дорог128. Очевидное культурное превосходство «архаичной» Украины над Россией в начале XVIII века — факт общепризнанный.
Достаточно высокий уровень грамотности был характерен и для собственно Запорожья. «Церковь с звонницею, на одной стороне ее шпиталь, а на другой школа составляли необходимую принадлежность всякого православного прихода в Запорожском крае»129. Кроме того, еще в 1620 году Запорожское войско в полном составе вступило в Киевское православное братство и с тех пор оказывало ему постоянную материальную помощь, на которую в значительной мере и содержалась Киево–Могилянская академия — первый вуз в Украине (а в 1770 г. в число запорожских казаков был торжественно принят и великий математик Леонард Эйлер)130. Среди же доходов Сечи основными были как раз доходы от внешней и внутренней торговли131, причем основную часть продовольствия (прежде всего хлеб) его население получало как раз за счет этой торговли. Экспортировали запорожцы продукцию скотоводства, мед, но прежде всего — рыбу и соль, добыча которых была организована знаменитыми чумаками на вполне капиталистических началах.
Не менее интересно выглядит экономика Слободской Украины конца XVIII в. Здесь–то (в отличие от Запорожья) земледелие было развито очень хорошо, край был практически весь распахан. В «Описаниях Харьковского наместничества» той поры особо подчеркивалось, что украинские крестьяне едят значительно лучше русских, постоянно употребляя хлеб из хорошей пшеничной муки и мясо, к тому же очень широко занимаясь винокурением (производством водки). Однако зерно для этой водки ввозилось… из России! Вообще хлеб составлял основной предмет ввоза из России, вывозили же туда прежде всего как раз именно водку, т. е. готовую продукцию, полученную из переработки этого же хлеба. Но главным предметом вывоза из Слободской Украины была продукция скотоводства (причем оно «не дикое, как у степных народов», а интенсивное стойловое и на окультуренных пастбищах, попеременно используемых как удобренная пашня), а также продукция садоводства, пчеловодства («форма пчеловодства есть не русская, но немецкая») и «всякий овощ»132. Этот тип сельского хозяйства вызывал восторг у наблюдателей из России и очевидно имел некоторые общие черты с «высоким сельским хозяйством».
Вывозили и ремесленные изделия (особенно кожаные, меховые и шерстяные, стеклянные и гончарные изделия). При этом горожане составляли здесь свыше 13% всего населения133. В это же время во Франции горожане составляли 15–17%134, в России в целом, с ее Москвой и Санкт–Петербургом — только 4%135. Харьков был крупнейшим торгово–распределительным центром Украины и всей империи (и оставался таковым на протяжении всего последующего столетия): оборот его торговли в конце XVIII века превышал 1 млн рублей136 в этом с ним мог равняться только Нижний Новгород. Причем еще в 1780‑е годы Украина сохраняла свою экономическую целостность: ее внутренние торговые связи преобладали над внешними, интенсивность же торговли превосходила общеимперский уровень: на Левобережье — в два раза, а на Юге, т. е. в Запорожье — в шесть раз, будучи наивысшей в империи137.
Исходя из этого, становится понятным, почему именно в Харькове началось украинское культурное возрождение, творил Г. Сковорода и был открыт на средства местных жителей первый украинский университет. Раскрывается и глубокий смысл определения Харькова как «Южнорусских Афин». Здесь всегда была социальная элита, лояльная к Украине, причем Харьков трижды становился своеобразным центром украинского национального возрождения: в начале XIX в., когда именно здесь были созданы литература и пресса на украинском языке; на рубеже XIX–XX вв., когда Харьков стал местом зарождения и центром политического движения за права Украины; и, наконец, в 20‑е годы, когда по Украине вновь прошла волна возрождения украинской культуры, центром которой был Харьков138.
Относительно национального характера местной элиты и особо тесных и «мягких» (неантагонистических) отношений ее с остальным населением можно снова процитировать «Описания Харьковского наместничества» (официальный документ на имя Екатерины II): «Дух европейской людскости, отчужденный азиатской дикости, питает внутренние чувства каким–то услаждением, дух любочестия, превратясь в наследственное качество жителей, предупреждает рабские низриновения и поползновения, послушен гласу властей самопреклонно без рабства. Дух общего соревнования препинает стези (преграждает путь. — Авт.) деспотизма и монополии. Третий, или нижний, род жителей возникает подражательными умоначертаниями ко второму, или среднему роду, а сей к первому, или высшему. Государственный поселянин уподобляется образом жизни, елико может, жителю городскому, не подл, не презрен и в скудности, городской житель, священник приходской, приказный служитель и мещанин, не устраняясь от поселянина, прикосновенны другою рукою дворянину — уподобляются ему образом мыслей, воспитанием, обхождением, пищею, одеянием, жилыми покоями и пр. Все три степени один другому уподобляются, а не равняются. В существе равновесия существует необуреваемая тишина, в разнообразии в степенях рождается житейская приятность»139.
В 1785 году украинской старшине присвоили права российского дворянства. Прежде всего поражает количество этих новых дворян: в середине XVIII века социальная верхушка Гетманщины составляла примерно 2100 знатных мужчин. В число же дворянства попало в несколько раз большее число лиц, в том числе тысячи мелких служащих и зажиточных казаков, многие из них — на основе «липовых» родословных или того, что они ведут «благородный» образ жизни (в 1795 г. численность шляхты на Левобережье составила 36 тыс. чел., т. е. примерно 9 тыс. взрослых мужчин). При этом каждая семья шляхты владела в среднем 30 крестьянами140. Но тут надо помнить, что были и огромные латифундии со многими тысячами крепостных, и совсем мелкие поместья, принципиально не отличающиеся от хозяйств весьма многочисленных богатых казаков (у которых часто жило много батраков и «подсуседков»). Именно наличие этого многочисленного «среднего класса» и смягчало здесь социальные антагонизмы.
Но ведь как раз в это время на Левобережье восстановили крепостное право… Однако и с этим не все так просто. Почему–то никто из историков не уловил прямой причинной связи между такими событиями: 8 апреля 1783 года Екатерина II издает рескрипт о включении территории Крымского ханства в состав России, а 3 мая 1783 года — указ о закрепощении крестьян Левобережной Украины. Именно в 1783 году Юг Украины перестал быть прифронтовой зоной, впервые сделался доступным для спокойного хозяйственного освоения — в первую очередь как раз крестьянством Левобережной Украины. «Побеги приобрели особенно массовый характер после 1783 г., когда левобережные и слободские крестьяне были окончательно закрепощены. С этого времени беглые с Левобережья очевидно стали преобладать в общем потоке переселенцев на южные земли… Интенсивная миграция населения с Левобережья, особенно побеги крестьян, отразилась на его численности. Так, между 4‑й и 5‑й ревизиями (1782–1795) количество жителей там сократилось на 97 тыс. человек (8,5%)… Проводя политику, направленную на быстрейшее заселение Южной Украины, царское правительство некоторое время мирилось с бегством крестьян непосредственно в эту область… С одной стороны, оно прибегало к энергичным мерам с целью пресечения побегов, жестоко карало пойманных беглецов, а с другой — не препятствовало тем, кому удалось бежать и осесть на южных землях, где они становились юридически свободными крестьянами. Больше того, беглые крестьяне, возвращавшиеся из–за границы, официально освобождались от крепостной зависимости, получали землю и различные льготы. Такая политика правительства не только не способствовала уменьшению побегов, а наоборот, объективно стимулировала их»141.
Понятно, что люди, которые в таких условиях предпочли остаться в «крипаках», заслуживали того презрения, с которым к ним относились. Ведь по сути это было делом их добровольного выбора. При всем том на Левобережье и Слобожанщине крепостными стало лишь меньшинство крестьян, большинство их так и осталось свободными.
Наконец, самое важное: почти на половину этнической территории украинцев крепостное право так никогда и не было распространено. Речь идет о Новороссии — территории современных Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, значительной части Луганской и Харьковской областей, а также о Крыме и Кубани — обо всех территориях, исторически непосредственно связанных с запорожским казачеством. Так, «Из сельских жителей Новороссийской губернии (451 тыс. душ мужского пола) в 1801 г. самой многочисленной группой были государственные крестьяне разных категорий (воинские поселяне, казаки, колонисты и др.) — 57%. Ко второй группе принадлежали «помещичьи подданные», т. е. незакрепощенные крестьяне, жившие на помещичьих землях (36,7). Третью, самую малочисленную группу составляли крепостные крестьяне (не более 6,3%)… В отличие от районов старого заселения феодально–крепостнические отношения на юге Украины не получили широкого развития. Это и обусловило более быстрый процесс развития здесь буржуазных отношений»142. Именно эти районы «Юга России» стали со временем главной индустриальной базой страны.
Вопреки распространенному мнению, не было ничтожным и культурное значение Юга Украины. Такой вопрос: кто из российских ученых первым достиг мирового признания? Можно вспомнить Михаила Ломоносова: он был избран членом двух иностранных академий наук. Но серьезного влияния на развитие мировой науки его труды не оказали, да и остались они в основном в рукописях. При жизни М. Ломоносов был знаменит в основном как поэт. Первым общепризнанным научным авторитетом мирового уровня стал Данило Самойлович (1744–1805), которого избрали своим членом двенадцать зарубежных академий наук — практически все, какие тогда существовали. Это был родственник известного гетмана, выпускник Киево–Могилянской академии, который стал известен своими исследованиями чумы, как раз с того же 1783 г. боролся с эпидемиями на юге Украины, занимался этим до конца жизни (в частности, на должности главного доктора карантинов) и умер в Николаеве. Заслугой Д. С. Самойловича является то, что он первым из его современников разработал стройную систему противоэпидемиологических мероприятий (извещение о заболевшем, изоляция больного, проведение дезинфекции, участие населения в борьбе с эпидемиями, карантины и др.). Он по праву считается основоположником мировой эпидемиологии143. (Заметим, что из 9 университетов, действовавших в Российской империи к началу XX века, три находились на Украине, плюс еще два — на Западной Украине, а вся научная деятельность первого лауреата Нобелевской премии из России И. Мечникова была здесь связана как раз с Одессой и Харьковом).
Итак, можно сделать обший вывод о том, что казацкое общество Запорожья (и всей казацкой Украины) в цепом отнюдь не было архаичным по сравнению со своими соседями, а изначальное отсутствие на Юге Украины развитых феодальных отношений в итоге способствовало последующему социально–экономическому и культурному прогрессу этой территории.
Разумеется, не следует впадать и в другую крайность и вести речь о позитивной стадиальной флуктуации: в том же Харькове даже в начале XIX века жило менее 15 тыс. жителей и не было ни одной мощеной улицы…144 Очень характерно, как оценивали стадиальную принадлежность украинского общества при Б. Хмельницком авторы марксистской «Истории Украинской ССР» (которые явно интуитивно понимали стадиальную «параллельность» украинского общества со своими соседями): «Как и во всем Русском государстве, на Левобережье, Слобожанщине и Запорожье продолжали развиваться феодальные отношения. Господствующий класс (старшина, шляхта, дворяне, высшее духовенство) на протяжении всего периода позднего феодализма прилагал усилия к укреплению феодальных отношений, подорванных освободительной войной 1648–1654 гг., крестьянскими войнами и восстаниями»145.
Данный текст представляется методологически беспомощным даже с сугубо марксистской точки зрения. В самом деле: если феодальные отношения в результате освободительной войны 1648–1654 гг. были подорваны, значит, они какое–то время не были господствующими. Значит, какое–то время на Украине преобладали некие иные, не феодальные отношения. Тем более, мягко говоря, фантастическим выглядит заявление о развитии феодальных отношений в Запорожье, как, впрочем, и ссылка на «все Русское государство» — до 1756 г. отношениями с Левобережьем и Запорожьем там вообще ведала коллегия иностранных дел, на границе Украины с Россией действовали таможни… Нам представляется, что концепция «боковых» стадиальных флуктуаций создает новую, значительно более надежную методологическую базу для объяснения социальной сущности украинского казачества.
Весьма интересен также и вопрос об отражении «боковых» стадиальных флуктуаций в духовной сфере. Автор посвятил влиянию казацкого социального строя на формирование национальной ментальности украинцев специальную работу146. Постоянное парадоксальное сочетание в социальном бытии украинцев самых передовых черт с глубоко архаичными привело к формированию у них такой наиболее значимой черты ментальности, как химерность (скажем, само слово «химерный» характерно для поэтического лексикона того же Т. Г. Шевченко). Как известно, химеры — фантастические существа, которые соединяют в себе вообще несоединимые черты. Так же и в ментальности украинцев, даже на бессознательном уровне, оптимизм причудливо переплетается с фатализмом, индивидуализм — с готовностью ко всяческим (часто даже излишним) компромиссам, прагматизм — со стремлением «всегда идти в обход» (даже вопреки здравому смыслу), т. е. та черта, о которой французский путешественник Г. Де Боплан когда–то сказал: «У них нет ничего простецкого». Эта тема, безусловно, заслуживает отдельной детальной разработки.
Наконец, следует отметить, что социальный строй Украины (как и всего Советского Союза) в послесталинскую эпоху тоже возможно трактовать как «боковую» стадиальную флуктуацию. Так, в редакционном комментарии журнала «Полис» к тексту автора о тоталитаризме (который в основном воспроизведен в предыдущем разделе данной главы) отмечалось: «Сотрудники редакции, перечитав десятки статей по тоталитаризму в СССР, усомнились в самом (чисто!) тоталитарном характере советского политического режима в последнее 10-летие его существования. Многие ожидавшиеся и неожиданные трудности переходного периода слишком легко объяснялись спецификой самого перехода именно от тоталитаризма к демократии. За это время редакции не удалось пока найти убедительных научных работ об особенностях «позднего» или «перезревшего» тоталитаризма»147.
По мнению автора, главной такой особенностью послесталинского общества было то, что негативная стадиальная флуктуация была там скомпенсирована за счет активных информационных контактов с наиболее передовыми странами Запада. Вспомним то необычайное воздействие, которое оказала на Н. С. Хрущева поездка в США. В целом же, благодаря социальным реформам (реабилитации многих заключенных и утверждению определенных начал законности и относительной гласности, ликвидации крепостной зависимости колхозников, развитию социального обеспечения и т. д.) и технологическим заимствованиям СССР в 60‑е годы оказался на примерно одинаковом уровне социального развития с промышленно развитыми государствами Запада. Сходство окажется еще более разительным, если сравнивать советское общество той поры с развитыми, но не самыми развитыми странами, например, с Испанией: там тогда тоже не было политических свобод. Иными словами, СССР в 60‑е годы уже не был тоталитарным обществом в полном значении этого термина.
Собственно, именно так понимали дело очень многие современники той эпохи: недаром тогда стали так популярны различные теории «конвергенции между капитализмом и социализмом», когда оба строя рассматривались как ценностно равноправные и постепенно сближающиеся за счет заимствования лучших черт друг друга. Более того, в самой программе КПСС, принятой в 1961 году, по существу признавалась (хоть и с крайней неохотой и с массой оговорок) необходимость такой конвергенции: «Загнивание капитализма не означает полного застоя… и не исключает роста капиталистической экономики… Человечество вступает в период научно–технического переворота, связанного с овладением ядерной энергией, освоением космоса, автоматизацией производства и другими крупнейшими достижениями науки и техники… В ближайшее десятилетие Советский Союз, создавая материально–техническую базу коммунизма, превзойдет по производству продукции на душу населения наиболее мощную и богатую страну капитализма — США; значительно поднимется материальное благосостояние и культурно–технический уровень трудящихся, всем будет обеспечен материальный достаток»148.
То есть фактически признавалось, что, прежде чем строить собственно коммунизм, необходимо сначала повторить достижения США — «самой мощной и богатой страны капитализма», достичь ее уровня не только в экономическом развитии, но и в «культурно–техническом уровне трудящихся», а также в их материальном достатке. К сожалению, брежневское руководство в 70‑е годы вместо выполнения этой программы занялось сбытом на Запад сырой нефти…
Однако, в любом случае, социум Украины к началу 90‑х годов был не негативной, а «боковой» стадиальной флуктуацией. То есть разрекламированный переход к рыночной экономике сам по себе не был «шагом вперед» в социальном развитии нашей страны. Как таковой это был лишь «шаг в сторону». Он мог бы стать шагом вперед, если бы был реализован лозунг ускорения социально–экономического развития (ради чего, якобы, вся «перестройка» и затевалась). Но вместо целенаправленной модернизации общества произошел хаотический развал его социально–экономической структуры. В результате вместо жизненно необходимой для перехода к постиндустриальному обществу демократизации экономических отношений мы получили господство бюрократической олигархии. И если сегодня мы часто ощущаем на себе отчетливые признаки социального регресса, то чувства нас не обманывают. Автор не считает для себя как специалиста зазорным процитировать на эту тему собственный текст десятилетней давности: «Существующая в стране экономическая система, основанная на полном контроле государства над средствами производства (именуемом «общенародной собственностью») и на централизованном планировании и налогообложении, терпит полный крах. В то же время замена этой системы господством частной собственности на средства производства капиталистов и их групп в наших условиях означает замену одного ярма другим. Владельцами капиталов у нас являются сейчас практически только коррумпированные государственные чиновники и мафия, которые совершенно не умеют организовать цивилизованную экономику, или же иностранные капиталисты, которые превратят нашу страну в экологическую свалку Запада. В результате этого наша страна окажется в положении полуколонии, наподобие стран Латинской Америки, то есть мы окончательно превратимся в одну из стран «третьего мира», с колоссальной безработицей и обнищанием широких народных масс, еще большим, чем при нынешнем режиме»149. Теперь, десять лет спустя, можно констатировать, что этот прогноз — уже свершившийся факт.
ГЛАВА 3: ЗАПАДНОХРИСТИАНСКО-НОВОЕВРОПЕЙСКАЯ И ВИЗАНТИЙСКО-ВОСТОЧНОХРИСТИАНСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ (Ю. В. Павленко, А. Ю. Лещенко, П. В. Кутуев)
Социокультурные истоки Западнохристианско–Новоевропейской цивилизации (Ю. В. Павленко)
Как уже отмечалось выше, Новоевропейская цивилизация сыграла особенную, ни с чем не сравнимую роль в истории человечества. Она суть явление уникальное, принципиально отличное от всех предшествующих и в значительной степени синхронных ей цивилизаций своим рационализмом, индивидуализмом, капитализмом, приведшим к всемирной индустриализации, урбанизации и, в конечном счете, объединению человечества в рамках единой сверхцивилизационной системы. Западная цивилизация в силу своей природы не является самодостаточной, как цивилизации традиционных типов и даже социалистические цивилизационные системы — такие, как СССР с его сателлитами или КНР. Ее экономическое развитие предполагало и предполагает экономическую (как и всякую прочую) экспансию, обуславливаемую самим законом расширенного капиталистического воспроизводства.
На стадии раннего капитализма это был прежде всего торговый экспансионизм с определявшимся главным образом им специфическим колониализмом по отношению к народам Востока в XVI–XVIII ст. С началом промышленного переворота в Англии мы имеем дело уже с классическими формами по преимуществу англо–французского колониализма, господствовавшими в Азии и Африке в XIX ст. Однако уже с появления преславутой доктрины Дж. Монро (1823 г.), тем более после победоносной войны с Испанией за «освобождение» Кубы и Филиппин 1898 г., США разворачивают в мире политику неоколониализма, преобладающую в отношениях наиболее развитых стран Запада с отсталыми государствами, сперва преимущественно их бывшими колониями, а со второй половины XX в. — и с постсоветскими государствами.
Таким образом, с момента своего появления и до наших дней Западная цивилизация активно и насильственно воздействовала и воздействует на незападные общества, причем реакции последних на разнообразные, в том числе и деструктивные, импульсы с ее стороны в различных случаях далеко не идентичны (Россия, Япония, Китай, Индия, мусульманские государства, Черная Африка). И, как представляется, взаимодействие Запада со все более решительно реагирующими на его воздействие внешними по отношению к нему цивилизационными центрами, становится все более существенным, если не основным, фактором современной истории.
С развалом СССР и образованием на его территории отдельных государств жизнедеятельность последних оказывается в прямой связи (в сущности — зависимости) от характера взаимодействия с Западом. Сказанное вполне самоочевидно. Однако мало кто подходит к решению возникающих в связи с этим актуальных задач с точки зрения не просто отношений России, Грузии и пр. с одним из западных государств или Западом как таковым, но в контексте общемирового взаимодействия цивилизационных систем, взятого в его исторической динамике.
Многие базовые черты Новоевропейской цивилизации уходят своими корнями в глубокое историческое прошлое образовывавших ее народов. И без пусть даже самого беглого рассмотрения генезиса этих признаков понять специфику Запада, его неповторимого духа невозможно.
Явственные проявления нового духа Запада видны уже на втором этапе Средневековья (во втором феодальном периоде, по М. Блоку150). Среди них, в первую очередь, следует назвать такие феномены, как: 1) активная купеческая и банковская деятельность при появлении первых мануфактур — особенно в Италии с XIII в.; 2) начало формирования централизованных государств и наций, прежде всего во Франции и Англии после окончания Столетней войны и Войны алой и белой роз; 3) рационалистическое отношение к миру, вполне проявившееся уже в схоластике; 4) яркий индивидуализм, сочетающийся с ненасытной жаждой наживы и духом авантюризма, выражающийся с особенной силой в заморской экспансии Португалии (с XV в.), затем Испании и пр., что привело к эпохе Великих географических открытий; 5) утверждение нового, религиозно освященного отношения к труду как к призванию каждого человека, что с особой силой, как показал М. Вебер151, проявилось в течениях раннего протестантизма, в особенности — в кальвинизме.
Качественный перелом в развитии Западной Европы был связан с Возрождением, Великими географическими открытиями рубежа XV–XVI вв., Реформацией и утверждением раннебуржуазных отношений как особого, самостоятельного экономического уклада в экономической жизни ряда ведущих стран Западной Европы (начиная с Нидерландов, где во второй половине XVI в. и происходит первая буржуазная революция).
При этом скрещение формировавшихся и разворачивавшихся вполне автономно индивидуалистического рационализма и гуманистическо–гедонистической установки Ренессанса в Италии и других, испытывавших ее влияние, романских стран, с одной стороны, и индивидуалистических религиозных исканий в Европе севернее Альп — с другой, при развивавшейся быстрыми темпами предпринимательской деятельности в городах, достаточно самостоятельных в условиях расшатывания устоев феодализма, дискредитации католической церкви и слабости государственных структур привело к грандиозной трансформации всей социокультурной западноевропейской системы уже в первой половине XVI в.
Реформация и утверждение (с последующим бурным развитием) капитализма, как известно, были тесно взаимосвязаны, однако не по модели причины и следствия (М. Лютер, к примеру, менее всего был настроен выражать интересы экономически поднимавшегося бюргерства, скорее уж ориентируясь на князей Средней и Северной Германии), а в соответствии с принципом появления качественно нового взаимодействия в точке пересечения автономно развивавшихся, но в некоторый момент встретившихся процессов. С этого времени Запад охватывает дух наживы и стремление к внешней экспансии, в значительной степени получающих и религиозную мотивацию (особенно в кальвинизме с его идеей богоизбранности горстки людей, признаком которой в этой жизни является деловой успех).
Без учета этих и многих других исторических аспектов цивилизационного процесса на Западе мы не поймем ни его специфики, ни характера его взаимодействия с остальным человечеством. Поэтому и рассмотрение предложенной темы целесообразно начинать с выявления самих истоков цивилизационного мира Запада.
Рассматривая генезис феодально–католического общества средневекового Запада (на базе которого, пусть в определенном смысле и через его отрицание, на рубеже XV–XVI вв. возникает прообраз Новоевропейской цивилизации) следует подчеркнуть, что своими специфическими чертами она обязана не только антично–древнехристианскому наследию (как это обычно подчеркивается), но и традициям варварских, преимущественно кельтско–германских народов.
Именно в Северо–Западной Европе вследствие саморазвития местных общественных структур сформировалась своеобразная система вполне автаркичных в производственном отношении большесемейных домохозяйств, объединенных в общины, выполнявшие по преимуществу политические, культовые и юридические функции. Такую общественную структуру К. Маркс называл «германским способом производства». В его системе община «даже чисто внешне» существует лишь в форме периодических сходок глав большесемейных домохозяйств, самостоятельно владеющих средствами производства и экономически независимых друг от друга, для решения общезначимых вопросов. Каждая семья выступает самостоятельной экономической единицей–ячейкой, а «община существует только во взаимных отношениях друг к другу этих индивидуальных земельных собственников как таковых»152. В такой ситуации вся общинная собственность является общей собственностью индивидуальных собственников, а не собственностью союза этих собственников; «община выступает, следовательно, как объединение, а не как союз, как единение»153.
При этом в других своих работах К. Маркс отмечал, что на финальных стадиях первобытности имеются тенденции развития в дальнейшем двух форм землевладения — государственного и частного154. Он подчеркивал дуалистический характер земледельческой общины, определяющийся противоречием между наличием частных домохозяйств и семейным присвоением произведенной продукции, с одной стороны, и общей собственностью на основное средство производства (землю) — с другой. Там, где условия благоприятствовали ведению отдельного семейного хозяйства, частнособственнические тенденции в исторической перспективе возобладали. Последнему благоприятствовало и сосредоточение в руках семьи движимого имущества, в частности — скота, которое, не находясь под контролем общины, способствовало ее разложению155.
Археологическими исследованиями установлено, что на большей части Европы с переходом к бронзовому веку (в условиях общей аридизации и некоторого похолодания, при тотальном крахе древнеземледельческих энеолитических обществ круга культур «расписной керамики» и распространения из северопричерноморских степей на запад пастушеских индоевропейских племен) удельный вес скотоводства по отношению к земледелию резко возрастает156.
При этом, внедряясь в сплошные лесные массивы Восточной Европы в бассейнах рек, впадающих в Балтийское и Северное моря (Висла, Одер, Эльба, Рейн) скотоводы–индоевропейцы расселялись небольшими коллективами, осваивая удобные для хозяйственного использования участки. В таких условиях общины могли складываться и развиваться лишь как союзы разбросанных на определенном удалении друг от друга большесемейных домохозяйств. А с переходом к железному веку, при техническом переоснащении, возрастает и роль земледелия, предполагавшего широкую вырубку лесов157.
Данный путь социально–экономического развития разительно отличался не только от древневосточного («азиатского способа производства»), но и от античного, характеризующегося появлением полисной общины с ее специфической формой общественных отношений. В то же время общественные системы «германского» и «античного» типов между собой гораздо ближе, чем каждая из них к восточной («азиатской»), основанной на реализации, используя терминологию Л. С. Васильева, принципа государственной власти–собственности158, связанной с возростанием роли бюрократии в организации производственного процесса и централизованном перераспределении (редистрибуции) произведенной обществом продукции.
В двух первых случаях («античном» и «германском») мы видим становление и утверждение принципов частной собственности и индивидуальных прав и свобод. Понятно, что античное общество гораздо ранее их сформулировало и законодательно закрепило. Однако создается впечатление, что варварская Европа рубежа эр на уровне общинного права соблюдала эти принципы не менее жестко. А уровень индивидуализации экономической жизнедеятельности отдельных, разбросанных среди лесов и болот, домохозяйств здесь был, пожалуй, даже более высоким, чем в античных полисах с их верховной собственностью на землю всего гражданского коллектива (при том, что отдельный индивид был собственником своего участка лишь как член полисной общины). Тем более это относится к позднеантичному обществу времен упадка Римской империи, когда, в ходе преодоления «кризиса III века», роль военно–бюрократического государства в организации социально–экономической жизни принципиально возростает, создавая основы будущей общественной системы Византии.
С такого рода реалиями социально–экономической жизни, при типичной для переходной от первобытности к цивилизации клановой природе общественных отношений, соотносится и ведущая роль аристократии в общественной жизни варварских обществ Европы при изначальной слабости монархического начала. Именно таким принципом построения отличалось уже кельтское общество и культура его правящей верхушки159. Подобная же система была присуща несколько более позднему, но по многим параметрам менее развитому, чем кельтское, древнегерманскому обществу160, а также, судя по всему, пусть и в меньшей мере, древним славянам и балтам.
Наиболее выразительно такая общественная система реконструируется у раннесредневековых скандинавов, которые именно на ее основе, без какого–либо заметного заимствования социально–политического опыта западнохристианской Европы, создали свои первые раннегосударственные образования161.
Поэтому не удивительно, что, как подчеркивает А. И. Фурсов162, первые ростки капитализма (как, добавлю, и гражданских прав и свобод в их новоевропейском понимании) прослеживаются именно там, где античное наследие практически не ощущалось — в Нидерландах, Англии, Шотландии и пр. Местные глубинные основы частнособственнического индивидуализма и соответствующего типа правосознания уходят корнями в структуры «германского способа производства» и постепенно раскрывают свои возможности в течение всего Средневековья и начала Нового времени.
Сказанное, понятно, не преуменьшает значение позднеантично–раннехристианского вклада в становление и развитие Западнохристианско–Новоевропейского мира, однако не позволяет выводить всю его специфику из древнесредиземноморского наследия. По сравнению с позднеримской военно–бюрократической системой варварский мир Европы демонстрировал значительно большую индивидуальную свободу основной массы населения — общинников–воинов, имевших собственные домохозяйства и непосредственно принимавших участие в общественно–политической жизни.
При этом, как отмечает Ж. Ле Гофф, после завоеваний имперских провинций у варваров уважение к личной собственности было более развитым, чем у пост–римлян. Капитул 27 о кражах Саллической правды очень дотошен и суров в отношении даже мельчайших посягательств на собственность: потрава скотом чужой нивы, кошение травы на чужом поле и пр. Привязанность мелкого крестьянина–варвара к своей собственности, к своему аллоду питалась стремлением утвердить свою свободу в стране, где масса коренного населения уже находилась в той или иной форме зависимости от крупных землевладельцев. Конечно, со временем большая часть аллодов оказалась поглощенной феодальными владениями, однако если не на уровне владения, то на уровне пользования на протяжении всей средневековой эпохи сохранялось представление о хозяйственных правонарушениях как о тяжких преступлениях163.
Таким образом, феодальное земельное право даже в тех странах, где оно достигло своего высшего развития (как Франция или западные земли Германии), оставалось своеобразной надстройкой над традиционным правом отдельных крестьян на их землю, при том, что во многих государствах Западной Европы (как Швеция, Норвегия или Кастилия) свободное индивидуальное крестьянское домохозяйство оставалось основой экономической жизни в течение всего Средневековья.
Феодализм (понимаемый, естественно, не как формация, а в качестве особой политической системы сеньерально–вассальной иерархии, основанной на личной преданности и условном землевладении) не проистекал из производственной необходимости (как, например, государственно–бюрократическая система в условиях ирригационного земледелия на Востоке). Уже на стадии формирования Западнохристианского мира на частнособственнических принципах основывалась не только торгово–ремесленная сфера (как это было уже типично и для Востока), но, во многом, и земледелие, над которым впоследствии выросли феодальные структуры.
В отличие от Востока и даже Античности (в ее классическом, полисном виде), Западнохристианский мир с самого начала содержала пусть сперва и малоразвитые, но все же вполне явственные, зачатки частнособственнических отношений и в аграрной сфере. Политическая власть здесь, в отличие от Востока, не была органически связана с организацией экономической деятельности, но, в то же время, отчуждала внеэкономическим способом прибавочный продукт у производящих сословий, в особенности у крестьян.
Возвращаясь к вопросу о древнесредиземноморском наследии в социокультурной системе средневекового Запада, следует разграничивать то, что, во–первых, перешло из классического античного наследия и императорского Рима, и, во–вторых, от древнего христианства, складывавшегося, как известно, в качестве идейной, религиозно–нравственной альтернативы позднеантичному обществу, затем пошедшего на примирение и даже союз с властью, но в середине I тыс. оказавшегося в принципиально различных условиях в Восточном и Западном Средиземноморье.
От Античности Запад унаследовал, прежде всего (не говоря о некоторых научных знаниях, технических изобретениях и пр.) выборную систему коммунально–городского самоуправления, рационалистический подход к решению проблем и понятие о законодательно оформленном правопорядке, а также, что особенно важно, представление о своей цивилизационной идентификации, основанной на идее Западной Римской империи и единстве венчавшейся римским первосвященником (папой) церковной структуры.
И древнегреческие полисы, и во многом подобные им древнеиталийские городские общины (civitas) имели своими элементами отдельные домохозяйства, главы которых обладали полнотой гражданских прав и выборным путем формировали органы самоуправления. Во времена эллинистических монархий и, тем более, Римской империи автономные права таких городских общин все более урезались и нарушались, однако традиция муниципального самоуправления сохраняется до конца Античности и переходит в Раннее Средневековье.
Прежде всего это наблюдается в пределах бывшей Западной Римской империи, на территориях, оказавшихся под властью слабых варварских королей, тогда как в Византии государственная машина в Раннем Средневековье ликвидирует остатки городского самоуправления. Дольше всего оно удерживалось на периферии этой империи — в Херсонесе–Херсоне, к примеру — до 30‑х гг. IX в.164 В этом отношении особенно характерным является пример Венеции, которая, сохраняя и развивая традиции античного самоуправления и под номинальной византийской властью, в X в. превращается в самостоятельную республику. Для сравнения, страны Халифата, многие из которых (в пределах Средиземноморья — от Сирии до Испании) ранее составляли органическую часть Античного мира, городского самоуправления не знали. Определенное исключение составляли лишь священные города Хиджаза — Мекка и Медина, не имевшие никакого отношения к античному наследию.
На античной почве вырастает и западный рационализм — в его предельно широком понимании, как склонности решать разнообразнейшие проблемы при помощи формально–логических операций, безотносительно к тому, берутся ли исходные посылки из Библии, авторитетных философов (прежде всего схоластами — у Аристотеля) или эксперимента (как в новоевропейской науке). Разум воспринимается как нечто самодостаточное, поставленное над прочим бытием в качестве судии и оценщика.
В качестве связующего звена между античным и средневековым западным рационализмом выступает Боэций (480–526 гг.), которого называют последним римлянином и первым схоластом, а затем Иоанн Скот Эриугена (ок. 800 — ок. 877 гг.). Последний, при всем том огромном влиянии, которое он испытал со стороны восточнохристианской теологии, в частности‑Corpus Areopagiticum, подходит к религиозной проблематике сугубо рационалистически, провозглашая (как тысячелетием позднее Г. В. Гегель), что подлинная философия суть ни что иное, как религия, а подлинная религия — это истинная философия, и потому никто не восходит на небо иначе как через философию165.
В последующие времена рационализация отношения к окружающему миру начинает непосредственно влиять и на производственную сферу, содействуя «сельскохозяйственной и промышленной революции» XI–XII вв., когда «Западная Европа пережила беспрецедентный технологический бум»166. С этого времени Западнохристианский мир окончательно становится на тот новый путь, который в конце концов приводит его к капитализму и промышленному перевороту167.
Не угасли на Западе при переходе от Античности к Средневековью и традиции римского права. Свою роль в этом сыграла его кодификация в Византии в правление Юстиниана I (527–565 гг.). В большинстве регионов Запада правовое регулирование всю первую половину Средневековья строилось в соответствии с традиционным правом «варварских правд» и, позднее, феодальными нормами. Однако элементы позднеантичного правосознания сохранялись в коммунах юга Европы, особенно в североитальянских городах. И при первом же оживлении городской жизни, уже в XI в., традиции римского права получают здесь новую жизнь, адаптируясь к потребностям жизни торгово–ремесленных социумов.
В этом смысле примечательно, что старейший в Западнохристианском мире университет, Болонский, возникает в XI в. в результате объединения учащихся, прибывших из разных мест для изучения юриспруденции. В XIII в. число учащихся в нем достигало 10 тыс. человек, но он оставался по существу юридическим учебным заведением, главными предметами преподавания в котором были римское и каноническое право. И только в XIV в. в нем возникли факультеты теологии, философии и медицины.
Существенным было и то, что Западная Европа унаследовала от Римской империи ощущение единства, которое в идеале мыслилось в виде восстановленной Западной империи. И во времена Карла Великого, Карла V и Наполеона западнохристианская Европа была к этому близка. От Западной Римской империи и империи Карла Великого составляющие Запад регионы сохранили представление о своей цивилизационной идентичности, несмотря на то, что уже в Раннем Средневековье он состоял из двух основных субцивилизационных центров — южного, романоязычного, где в XVI в. удерживается католичество, и северного, германоязычного, где в названном столетии преимущественно побеждает протестантизм.
Важно и то, что Западнохристианский мир противопоставлял себя не только иноверной Мусульманской цивилизации, но и христианской Византии — не позднее как со второй половины IX в., со времен конфликта папы Николая I и патриарха Фотия (в дальнейшем обострявшегося в связи с развернувшейся между Константинополем и Римом борьбой за церковное владычество над обращенными в христианство балканско–дунайскими славянами и венграми). Окончательный разрыв относится, как известно, к 1054 г. Однако истоки разделения на Восточнохристианскую и Западнохристианскую цивилизации уходят корнями в позднеантичный эллинско–латинский дуализм восточносредиземноморских и западносредиземноморских провинций Римской империи.
Духовные основания Восточнохристианской и Западнохристианской цивилизаций (Ю. В. Павленко)
Духовные основания Западнохристианской цивилизации уходят в романоязычный мир позднеантичного Западного Средиземноморья точно так, как корни Восточнохристианской цивилизации в ее первоначальной, византийской форме — в грекоязычный восточносредиземноморский мир. И Западносредиземноморская, и Восточносредиземноморская субцивилизации поздней Античности в первой трети I тыс. испытывают мощную инспирацию ближневосточной духовности в виде христианства, почву для восприятия которого подспудно готовили иудеи диаспоры, весьма многочисленные в восточносредиземноморских городах Александрии, Дамаске, Антиохии, Тарсе (откуда родом был апостол Павел) и др.
Однако то, что в Восточном Средиземноморье ощущалось как нечто более–менее свое, аутентичное, как проявление и конкретизация неких архетипических идее–образов, восходящих к древнейшим местным культурам (умирающий и воскресающий бог — Ваал, Адонис, Аттис, Дионис и др., богиня–мать — Кибела, Деметра, в частности, с младенцем на руках — Изида и пр.), для латинского Запада было если и не вполне чужим (многие из этих культов были на рубеже эр распространены и в самом Риме), то по крайней мере инокультурным, воспринимаемым в высокой степени интеллектуально ориентированным индивидуальным духом римлян–латинян.
Поэтому если в Восточном Средиземноморье христианство достаточно быстро оказывается своего рода формой коллективной интуиции (с чем не в последнюю очередь связана и православная идея соборности), то в Западном на первый план выдвигается вопрос личной веры, при специальном внимании к проблеме ее рационального обоснования.
Латинское христианство с самого начала, со времен Тертуллиана, было гораздо более индивидуалистическим (или, с другим оценочным акцентом — персоналистическим) и рационалистическим, чем греческое. В отличие от грекоязычного Востока, основу духовности которого составляла платоновско–неоплатоническая традиция с видением человека и мира в системе тео–космической иерархии, в культуре латиноязычного Запада доминировала юридически–правовая установка. Не случайно такие виднейшие древнехристианские теологи латиноязычного Запада, как Тертуллиан и Августин, были по образованию и основной профессии юристами.
Поэтому не удивительно, что в западном христианстве индивид изначально осознавался прежде всего как субъект права, чье место в обществе определялось имеющимся законодательством, а отношения с Богом строились по модели «правонарушитель (отягощенный первородным грехом человек) — судья (Бог)». Детально разработанное римское право своими четкими понятиями о гражданстве и собственности, о правах и обязанностях представителей различных социальных групп, ориентировало человека на осознание своего бытия–в–мире прежде всего в общественно–правовой плоскости, в, так сказать, юридической системе координат. И сам Господь Бог мыслился как в первую очередь Верховный законодатель и Верховный судья.
В связи с этим Н. А. Бердяев писал: «Может быть, наиболее реальное различие между Христианским Востоком и Христианским Западом лежит в типе духовности… Ошибочно было бы признать решительное преимущество одного типа над другим. Важно понять это различие, которое видно уже при сопоставлении греческих отцов церкви с Бл. Августином. Католический Запад может увидеть на Востоке уклон пантеистический и гностический. Православный Восток называет это свойство онтологизмом и видит на Западе слишком большой психологизм и антропологизм. Христианская мистика Востока гораздо более, конечно, пропитана неоплатонизмом, чем христианская мистика Запада. Все идет сверху вниз. Нет той пропасти между Творцом и творением, как на католическом и протестанском Западе. Теозис есть преодоление пропасти. Чувственный мир есть символ духовного (Св. Максим Исповедник). Тварь причастна к свойствам Бога через образ Божий… На Востоке человеческий элемент пропитывается божественным, в то время как на Западе человеческий элемент поднимается до божественного… Восток физически, т. е. онтологически понимает соединение с Богом. Смысл искупления истолковывается физически–онтологически, а не морально–юридически…»168.
При таких исходных условиях греческий Восток и латинский Запад неизбежно по–разному воспринимали и разрабатывали базовые общехристианские интуиции.
Восток дает неоплатонически–космически–мистическую транскрипцию христианства с пониженным (по сравнению с латинским Западом) ощущением трагедии исторического и личностного бытия, с выразительным приматом общего над индивидуальным, при осознании не только рациональной непостижимости, но и невозможности выражения языковыми средствами конечных истин трансцендентной бездны божественного бытия.
Запад же интерпретировал христианство в юридически–рационалистическом духе, сводя при этом категорию «греха» к правовым понятиям «преступления» и «наказания», с пониманием общего как закона, а не онтологически — в качестве субстанции. С этим было связано особенное внимание к индивиду, его убеждениям и поступкам, оцениваемым с канонической точки зрения, а также к истории, воспринимавшейся динамически и драматически, в определенной эсхатологической перспективе. В этом еще одна причина того, что инквизиция как организованная Церковью борьба с инакомыслием развилась и достигла ужасающих размеров (превзойденных лишь в XX в. фашистскими и коммунистическими режимами) в Средние века именно на католическом Западе. Православие вплоть до наших дней в значительной степени сохраняет свободу личной убежденности, веры и мнения отдельно взятого представителя паствы.
Принципиальные расхождения наблюдаем и в восприятии чувственно–зримой реальности. Восточнохристианский мир был склонен относиться к материальному плану бытия как, в известной степени, к некоей условности, имеющей в то же время высокое символическое значение — в качестве проекции божественной сущности. В противоположность этому мир Западнохристианский с самого начала в общественно–материальной, земной данности усматривал полноценную и самодостаточную, пусть и сотворенную Богом, реальность.
Поэтому в западнохристианском сознании мир словно раздваивается (как два града бл. Августина — земной и небесный), тогда как для христианского Востока (что роднит его со многими другими восточными цивилизациями) земное выступает скорее проявлением (разумеется — через акт творения) небесного (трансцендентного), которому оно внутренне, в сущностном отношении, сопричастно.
В таком контексте лучше может быть понят и факт противопоставления церкви и государства на христианском Западе в отличие от византийской, унаследованной затем российским самодержавием, традиции, предполагающей их единство (фактически — при ведущей роли государственного начала). Как отмечал Б. Рассел169, выдвинутая в конце IV в. св. Амвросием концепция независимости церкви от государства была новой доктриной, которая господствовала в Западнохристианском мире до Реформации. Решающие успехи на пути проведения этого принципа в жизнь были достигнуты папой Львом I Великим в середине V в., в предсмертные для Западной Римской империи десятилетия — когда на Востоке император утверждается в роли арбитра при конфликтах между различными патриархатами и течениями в христианстве.
V в. — время падения Западной империи (при образовании на ее руинах германскими варварами — вестготами, остготами, вандалами, бургундами, франками и пр. — серии неустойчивых раннегосударственных структур и усилении роли Ватикана) и конституирования на базе Восточной империи того государства, которое принято называть Византией (сами ее жители называли ее Романией, Ромейской, т. е. Римской державой), — представляется ключевым моментом в расхождении линий развития Западнохристианского и Восточнохристианского миров. Если первый уже тогда и, тем более, в последующие века демонстрирует синтез варварско–германских структур с позднеантично–литинохристианскими, то второй развивается на аутентичной эллинско–римской основе, преображенной грекохристианской духовной культурой.
Поэтому вполне естественно, что, как отмечает С. С. Аверинцев170, V в. дает всему Средневековью две книги, каждая из которых выявила в наиболее общей форме идейные основания западнохристианской и восточнохристианской духовности. Одна из них, августиновская «О граде Божьем», написана по–латыни, а вторая, приписываемая Дионисию Ареопагиту (одному из учеников и сподвижников ап. Павла, жившего в середине I в.) и представлявшая собой корпус религиозно–философских сочинений, — по–гречески. Различия между ними словно символизируют расхождение между западноевропейской и византийской культурами Раннего Средневековья.
Основная идея великого произведения бл. Августина — мир как история, освященная высшим провиденциальным смыслом, тогда как идея корпуса «Ареопагитик» — мир как теокосмическая целостность, как иерархия идеальных сущностей, пребывающих в вечности, в Боге, а потому во вневременном плане (как платоновские идеи), но проступающие, просвечивающие сквозь ткань материальности в зримом бытии.
И бл. Августин, и Псевдо–Дионисий исходят из идеи, точнее — базовой интуиции Церкви. Однако для первого она — скитальческий, гонимый «град» праведников, не тождественный даже самому себе, поскольку многие из его врагов внешне входят в него. В этом мире зла праведники (духовные потомки невинно убиенного Авеля) в сущности обречены, хотя именно им уготовано Царство Божие. Для второго же она — иерархия ангелов и непосредственно ее продолжающая иерархия духовенства, отражение чистого света в чистых зеркалах, установленный порядок совершения таинств и священнодействий. О трагичности индивидуального существования человека в мире речь здесь не идет.
В этом отношении бл. Августин, жизнь которого проходила на фоне агонии Западно–Римской империи, по своему духу ближе, чем восточная патристика, экзистенциально–эсхатологическому мировосприятию первых христиан, с особенной силой выраженному в посланиях ап. Павла. В этих посланиях он, по его собственным словам, и нашел утешение171. Аналогичным образом напряженный, «Павлов» персонализм раскрывается и в его трактовке антропологической проблематики, что особенно заметно, если сопоставить тексты бл. Августина с, возможно, высшим образцом восточнохристианской духовной лирики — «Книгой скорбных песнопений» раннесредневекового армянского поэта Григора Нарекаци172.
Для Августина его «я» индивидуально, биографично, четко отделено от всех других человеческих «я». Эти «я» соединяются в Церкви как монады, даже здесь не утрачивающие своей отдельности. Каждому из этих «я» определяется его персональная участь — спасение и блаженство одним и погибель в вечных муках другим. В противоположность этому для Нарекаци «я» — это зеркало, фокус, репрезентант всех наличествующих и возможных человеческих «я», соуподобляющихся друг другу в общем стремлении всего живого к Богу. Оно близко к Богу в той мере, в какой соборно со всеми страждущими, верующими и уповающими, причем не только праведниками, а и грешниками (что противоположно интенциям западного христианства, в особенности кальвинизма). Его судьба неотделима от судеб всех остальных людей и, очень похоже, что армянский поэт и богослов мог разделять оригеновскую веру в конечное спасение всех через неисчерпаемую божественную милость и любовь — в противоположность бл. Августину, согласно которому определенная, причем преимущественная, часть человечества обречена на вечные адские мучения.
И нравственного протеста у епископа города Гиппона такое положение дел не вызывает. Люди для него (как позднее, в еще более резких тонах, встречаем это и у вдохновлявшегося августиновскими творениями Ж. Кальвина) принципиально разделены на «агнцев» и «козлищ», на потомков Авеля и потомков Каина. Поэтому вполне естественно, что у них и противоположная посмертная судьба. И не будет большим преувеличением сказать, что такого рода умонастроения, изначально присущие Западнохристианскому миру, внесли свою лепту в формирование того комплекса превосходства западных европейцев Нового времени по отношению ко всем прочим людям Земли, который оправдывал их колониальную экспансию и грабеж инокультурных регионов планеты.
Если для Оригена или Нарекаци Бог есть Любовь, хотя, разумеется, этим его сущность не исчерпывается, то для Августина он выступает прежде всего в качестве Судии, карающего и милующего. Если Нарекаци исповедуется в своих «скорбных песнопениях» как человек, представляющий перед Богом сонм верующих, то бл. Августин — как отдельная личность, кающаяся сугубо в своих личных, только им совершенных грехах и проступках. Поэтому не удивительно, что именно Западная Церковь еще в 1215 г. на Латеранском соборе догматически оформила положение о том, что индивидуальная душа непосредственно предстает перед Божьим Судом сразу после смерти, а не ждет обетованного на конец света Второго пришествия и Страшного Суда.
На этих примерах отчетливо проступает одно из базовых, фундаментальных отличий восточнохристианской и западнохристианской форм духовности. Первая изначально, интуитивно принимает идею общей судьбы людей, осуждая стремление к индивидуальному благу (тем более — спасению) без учета того, что будет с другими. Вторая воспринимает личное спасение праведника на фоне осуждения грешников как должное, иными словами, индивидуальная судьба вполне и по существу автономна от судеб других людей. Столь различные установки не могли не повлиять и на цивилизационное развитие Восточнохристианского и Западнохристианского миров.
Итак, в отличие от восточного, греческого христианства, западнохристианское сознание с рубежа Античности и Средневековья отличалось такими качествами, как индивидуализм, драматический (эсхатологически окрашенный) историзм, рационализм (предполагавший, разумеется, некоторый «иррациональный остаток» — непостижимость воли Бога), восприятие эмпирической данности как полноценной реальности (что потенциально открывало путь к утилитаризму и прагматизму), независимость Церкви (которая с падением Западной Римской империи остается единственным общим для Западной Европы институтом) от светской власти, склонность мыслить и оценивать человеческие поступки в юридически–правовых категориях (откуда потом в католицизме разовьется убеждение в праве Церкви не только осуждать, но и физически карать инакомыслящих), взгляд на человечество как на принципиально разделенное на отвергаемое Богом большинство, обреченное на вечные муки, и избранное, шествующее в Царство Божие, меньшинство (которому, как потом это перетолкует кальвинизм, и в этом мире прав и благ полагается больше, чем другим).
Все это закрепляется в, так сказать, «культурном генокоде» западноевропейского общества, что, при его синтезе с рассмотренными ранее особенностями социально–экономической и общественной жизни вступивших во взаимодействие романско–позднеантичных и германско–варварских структур определило уникальное лицо Западнохристианско–Новоевропейской цивилизации. Такие вполне самостоятельно развившиеся реалии, как варварская и позднеантичная общественные системы и латинское христианство, пересеклись и сплавились в трагические века падения Западной Римской империи и рождения мира раннесредневекового Запада. Этим были заложены основания новой цивилизационной системы, которой суждено было во второй половине истекающего тысячелетия объединить и преобразовать мир, введя его в страшную полосу глобальных (военных, экономических, социальных, экологических) испытаний и потрясений.
И в этой связи небезынтересно вспомнить высказанную в свое время Ф. Гизо173 мысль о причинах своеобразия и принципиального отличия Западной цивилизации от всех прочих общественных форм. Французский историк подчеркивал то обстоятельство, что в истории Западнохристианского мира с самого начала присутствовала конкуренция между несколькими общественными началами (силами), при том, что ни одна из них не имела возможности подчинить все остальные и поэтому должна была идти на союзы и компромиссы с одними в борьбе против других. Имелись в виду папство, государственная власть, феодальные структуры и самоуправляющиеся города.
Весьма существенным представляется тот факт, что в отличие от Византии и Мусульманского мира на Западе светская и церковная власть с самого начала, как отмечалось выше, были разделены. Возникший в результате романо–германского синтеза (с дальнейшим подключением к нему скандинавов, западных славян, венгров и пр., принимавших христианство от римского престола) Западнохристианский мир первоначально оформился в результате создания весьма шаткой двуполюсной церковно–политической структуры, которая сложилась благодаря альянсу Франкского государства (принявшего, в отличие от других германских варваров — остготов, вестготов, вандалов и пр., христианство не в арианской, а в никейской, непосредственно римско–латинской форме) и Ватикана. Политический и церковный центры были различными, даже географически удаленными друг от друга. И в дальнейшем все увеличивавшаяся брешь между ними способствовала реализации свободного выбора отдельных людей средневекового Запада.
Так, к примеру, в XI–XIII вв. Германия и Северная Италия (с некоторыми другими государствами) церковно (как и весь католический мир) были подчинены папскому престолу, а политически — «римскому», фактически — германскому, императору. В случае открытой борьбы между папой и императором (а этой борьбой заполнены названные века — между Григорием VII и Генрихом IV, Григорием IX и Фридрихом II и пр.) и феодальные властители, и города должны были выбирать, чью сторону принимать.
Человек не был однозначно подчинен лишь одной самодостаточной силе (как в Российской, Китайской или Османской империях, тем более в нацистской Германии или СССР) и поэтому так или иначе вынужден был самостоятельно выбирать линию своего поведения. Конкуренция и противостояние различных социально–политических сил, идейных позиций, принципов и пр. постоянно расширяли рамки свободы западного человека.
Этого не было (или почти не было) не только в великих цивилизациях Востока, но и в Византии, где феодализма как такового, в его строгом, т. е. западноевропейском, понимании никогда не существовало, города (за исключением некоторых отдаленных владений, типа Херсонеса–Херсона или Венеции) прямо подчинялись государственной администрации, а патриархи (если не считать попыток проведения самостоятельной церковной политики такими сильными личностями, как Фотий или Михаил Курулларий) почти всегда были в подчинении у императоров, возводились и смещались ими.
Таким образом, специфика как Запада, так и Византийско–Восточнохристианского мира в своих истоках восходят ко времени рубежа Античности и Средневековья, имея, в сущности, еще более древние истоки. В течение же последующих столетий, в известном смысле (особенно применительно к Западу) вплоть до наших дней, мы наблюдаем реализацию возможностей заложенных еще в те далекие века регулятивных принципов соответствующих цивилизационных традиций.
Формирование цивилизационных оснований Византийско–Восточнохристианского мира (Ю. В. Павленко)
Если Западнохристианский мир возникал при разрушении самих основ латино–античной субцивилизационной системы, при овладении германцами практически всей территории прежней Западно–Римской империи до Италии, Испании и Северной Африки включительно, то мир Восточнохристианский сперва сконструировался в виде Восточно–Римской (Византийской) империи, устоявшей в эпоху Великого переселения народов и лишь на следующих этапах, главным образом, уже в конце I тыс. приложившей усилия для приобщения к основам своей социокультурной жизни соседних варварских (главным образом, славянских — Болгария, Сербия, Великоморавское государство, Киевская Русь) народов.
Восточнохристианская цивилизация, таким образом, формировалась на постепенно изменяющемся в течение первой половины — середины I тыс. позднеантично–восточносредиземноморском фундаменте без существенного участия в этом процессе варварских элементов. Ее основу, в первую очередь, составляло грекоязычное население городов восточных провинций Римской империи, часто весьма гетерогенное по своему происхождению. Но в ряде восточных провинций параллельно с ним проживало и иноэтничное, в целом ущемленное в социально–экономическом отношении, но сохранившее собственную этноязыковую идентичность население. Речь, в частности, идет о египетских коптах, армянах и арамейскоязычном населении Ближнего Востока.
В такой многонациональной (при доминировании эллинского компонента) среде восточных провинций Римской империи, а затем и собственно Восточно–Римской державы (Византии) в пределах III–V вв. закладывались основы гетерогенной, но в своих базовых основаниях достаточно цельной восточнохристианской социокультурной системы. Ее (в сравнении с латиноязычными западными провинциями) отличал относительно высокий уровень городской жизни, при многочисленном городском «среднем классе» (ремесленники, торговцы, мелкие чиновники, интеллигенция — учителя, врачи, адвокаты и пр.) и относительно слабом развитии крупного землевладения, а, следовательно, и землевладельческой знати.
Формой преодоления потрясшего Римскую империю «кризиса третьего века», когда за полвека на престоле сменилось три десятка императоров, держава была охвачена войнами между легионами, стремившимися посадить на трон очередного «солдатского императора», а варвары, разоряя провинции, прорывались до Эгейского и Адриатического морей, — было проведенное Диоклетианом реформирование всей системы управления государством на строго централизованно–бюрократических началах при некотором нивелировании прав и обязанностей различных слоев населения по отношению к превознесенной над ними самодовлеющей державности. Подобную политику проводили и его преемники, включая Константина Великого.
Таким образом, в социально–правовом отношении абсолютное большинство населения становилось в принципе равноправным, а в роли эксплуатирующей силы в гораздо большей степени выступало государство с его раздутым военно–бюрократическим аппаратом, чем частные предприниматели и землевладельцы. Последние в областях с преобладавшим неэллинским населением (Восточная Анатолия, Сирия, Палестина, Египет) были зачастую греками или, по крайней мере, принадлежавшими к грекоязычному массиву, что наполняло этноязыковые различия социально–экономическим содержанием. Это, естественно, усугубляло отчуждение между ведущим и подчиненными этносами в восточных провинциях.
Бюрократическое государство все более распространяло контроль на все сферы жизни и деятельности подданных, все более нивелирующихся по отношению к всевластной монархии. На смену бесконечной (и чрезвычайно запутанной) вариативности прав и обязанностей различных категорий лиц, населенных пунктов и пр. приходит командно–административная унифицированность, не отменяющая, естественно, основных социальных и имущественных различий (свободных и рабов с полусвободными колонами, богатых и бедных), однако делая их второстепенными по отношению к главному разделению на властвующих (и, следовательно, эффективно обогащающихся) и подчиненных, подвластных, содержащих махину империи уплатой налогов и исполнением многочисленных повинностей.
Все это способствовало облегчению (при постепенном стирании сословно–правовых барьеров) социальной мобильности, и уже в III в. на императорском престоле оказывались люди самого низкого происхождения, продвигавшиеся к трону через воинские звания. Однако в отличие от античного времени и Западного Средневековья торгово–ремесленная верхушка городов, подчас играя важную роль в общественной жизни, никогда не определяла ход политического процесса. Ведущие позиции принадлежали высшей бюрократии, а также (со временем все более) землевладельческой знати.
В Позднеримской и Ранневизантийской империях не существовало непреодолимых сословных перегородок. Наблюдалась постоянная динамика в составе господствующего класса. В этом византийское общество было в общих чертах сопоставимо с мусульманским и китайским, однако принципиально отлично не только от кастового индийского, но и от сословно ранжированных средневековых общественных систем Западной Европы. В результате на императорском престоле могли оказаться даже люди крестьянского происхождения, как Юстин I и его племянник Юстиниан I, а сын Константина Багрянородного, будущий император Роман II, мог обвенчаться с дочерью трактирщика — красавицей Феофано.
Вместе с тем, византийство на протяжении всей своей истории противоречиво, но неразрывно соединяло в себе позднеантично–светские и христианско–церковные начала, находившиеся во II–III вв. в резкой конфронтации, но достигшие определенного компромисса в IV в. Империя утверждала свою прямую преемственность с римской государственностью, и ее жизненный уклад, как государственный, так и культурный, всегда был множеством нитей связан с античностью.
В Византии столетиями после Константина Великого сохранялся жизненный уклад позднеантичного города. Магистраты жили и действовали по законодательным нормам Римской империи, преподавание в школах велось на греческом языке по программам и учебникам, составленным еще в эпоху расцвета александрийской науки, с традициями эллинистических культов, празднеств и состязаний были связаны городские зрелища и увеселения.
Параллельно и в органической связи с социальными изменениями при переходе от Античности к Средневековью в Восточном Средиземноморье происходила глубокая религиозно–культурная трансформация, которая также отличалась и высокой степенью преемственности духовных традиций. При всем множестве альтернативных традиционному язычеству мистических учений первой четверти I тыс. (митраизм, гностицизм, манихейство и пр.) наиболее адекватно и доступно новый дух выражало христианство, особенно когда оно соединилось с философскими интуициями утверждавшегося неоплатонизма. В результате античное сознание приобретает новое, глубинное, трансцендентное измерение.
Как пишет С. С. Аверинцев, и для древнегреческой, и для византийской культур представление о мировом бытии в пространстве и времени было сопряжено, прежде всего, с идеей порядка, естественным образом связанного с божественным первоначалом. Но в своей сущности эти типы мировоззрения имели между собой принципиальные отличия. Античная культура обожествляла сам Космос как целое, так что даже Платон и Аристотель могли отделить источник мирового порядка от материи, но не от мирового бытия в самом широком смысле. Как закон полиса мыслился имманентным полису, так и закон космоса мыслился имманентным космосу. Он был свойством самозамкнутого, самодовлеющего, «сферически» завершенного в себе и равного себе мира. В противоположность этому в ранневизантийском, христианском сознании космический порядок происходит от абсолютно трансцендентного, абсолютно всемирного Бога, стоящего по ту сторону не только материальных, но и идеальных пределов Космоса174.
Космос, совершенное в своей основе творение Бога, полагается прекрасным, наделенным раскрывающимся через образно–символический ряд смыслом. Весь мир, отмечает В. В. Бычков, причем как природный, так и социальный, представляется огромной, строго упорядоченной системой символов, образов, знаков, аллегорий, которая раскрывалась как книга перед человеком, стремящимся к ее прочтению, но оставалась загадкой для профанов175.
При этом от древнего ближневосточного мировосприятия, в частности, из Ветхого Завета, перешла убежденность в том, что красота и гармония мира есть лишь отражение божественной премудрости, зримо явленной как свет, сияние. Истоки такого восприятия можно проследить не только через Филона Александрийского к ветхозаветным текстам, но и к зороастризму, и даже к Древнему Египту: через религию Эхнатона вплоть до главенства свето–солнцепоклонничества со времен IV–V династий.
Однако ранняя восточнохристианская, оплодотворенная неоплатонизмом, культура идет на пути трансцендентизации Бога еще дальше, провозглашая в корпусе «Ареопагитик» принципиальную невыразимость в категориях человеческого языка божественных свойств. Этим были заложены прочные основания всей последующей апофатической теологии православия. Бог находится вне мира. Он стоит за ним и раскрывает свои качества через него. Отсюда — глубинная и принципиальная статика мира, который представляется целостным, структурно единым и упорядоченным, гармоничным, уравновешенным, прекрасным, благим, светозарным, смыслонасыщенным, являющим Софию — Премудрость Божию.
Все сказанное, как уже подчеркивалось, принципиально отличает восточнохристианское мировосприятие уже на стадии его формирования от динамичного, историчного, индивидуалистического западнохристианского. В то же время названные свойства сближают его с мусульманским мировосприятием в его широком диапазоне самовыражения от ибн-Сины до аль-Газали или аль-Араби. О. Шпенглер лишь абсолютизировал, в каком–то смысле даже довел до абсурда, верно подмеченное им сродство внутренних оснований восточнохристианского и мусульманского духа, представленное им в качестве особой (общей, по его мнению, для Византии и мира ислама) «магической» души.
Общество в такой системе (и здесь опять фиксируем глубочайшее родство восточнохристианских и мусульманских интенций) является своего рода эмпирическим продолжением небесной иерархии. А поскольку в качестве его структурообразующей основы мыслится (а применительно к Халифату и Византийской империи, как позднее, и к Московскому царству, Российской империи и СССР — действительно является) государство, то оно неизменно приобретает сакрализированный характер. В отличие от королевств Западной Европы Византийская монархия искала для себя идейные основания сакрального, а не генеалогического характера.
При высокой степени нивелирования социальных различий в пределах общества, неразвитости сословных градаций, слабости самоорганизации отдельных общественных групп на горизонтальном уровне, государство выступает в качестве организующего, упорядочивающего и контролирующего все сферы жизнедеятельности начала, «извне» навязывающего свою (или, как считается, «божественную») волю подданным. Христианская империя осмысливается, таким образом, в качестве проекции божественного порядка на земную жизнь людей, а потому представляется божественной в своей основе.
Этот византийский (как затем московский или петербургский) официоз «православной державности» типологически соотносим с идеологией конфуцианской империи и Халифата. Однако во всех этих случаях государственнически–религиозная (именно как единство обоих начал) идеологема не может полностью удовлетворить культурные запросы людей.
И опять–таки, как в Китае или на мусульманском Востоке, в рамках общей социокультурной системы Византии мы видим глубокий, лежащий в ее основании дуализм, две, на первый взгляд, взаимоисключающие, но в действительности взаимодополняющие (как конфуцианство и даосизм, аполлоновское и дионисийское начало в Античной цивилизации) традиции — аскетически–христианскую, в сущности монашескую, и гедонистическую, восходящую к эллинскому, и вообще восточносредиземноморскому оргаистически–экстатическому язычеству.
О том, насколько далекими от христианского благочестия были нравы константинопольского (как и александрийского или антиохийского) люда, красноречиво свидетельствует описанная Прокопием Кессарийским среда, в которой действуют герои его «Тайной истории». Дома терпимости и стриптиз были такой же нормой городской жизни, как и пышные богослужения, и основная масса горожан жила двойной с точки зрения морали жизнью, едва ли отдавая себе в этом достаточный отчет. Впрочем, «двойной» она может представляться нам. Современникам Юстиниана она представлялась такой же естественной, как нам — наша.
Едва ли можно сомневаться в том, что большинство византийцев искренне считали себя христианами, однако нравы, особенно в больших городах, мало чем отличались от позднеантичных. Такой, порою неприкрыто лицемерный и ханжеский, симбиоз внутренне не удовлетворял честные натуры. Поэтому на протяжении долгих веков культурно–мировоззренческими альтернативами имперско–церковному официозу едва ли не в равной мере были и антично–языческая традиция (в широчайшем диапазоне от высокоэротизированного гедонизма до мистико–аскетистской неоплатонической учености), и искренний монашеский аскетизм (подвижничество бежавших от порочного мира схимников и пустынножителей).
Вся византийская культура, от ее первичных, становящихся форм до позднего, по своему раннеренессансного состояния времен империи Палеологов, пропитана античным наследием, которое периодически оживает, начинает воплощаться в новых, пусть и вторичных по своей сути, творческих достижениях.
Вскоре после официального утверждения христианства в качестве государственной религии император Юлиан предпринял последнюю попытку реставрации переосмысленного им в духе неоплатонизма язычества. Она не удалась, но и после него, а в основных городах страны — до времен Юстиниана I, открыто действовали высшие школы антично–языческого образца. И в век Юстиниана в традициях языческой поэзии предшествующих веков работали такие поэты, как Агафий, или склонный к эротическим темам Павел Силенциарий, описавший в гомеровских гекзаметрах константинопольский храм св. Софии (в угоду воздвигшему его императору). А на самом закате Византии представлявший на Флорентийском соборе 1436–1439 гг. православную сторону Плифон в трактате «Законы» предлагает широкую и совершенно откровенную программу реставрации эллинского язычества.
В течение всей византийской истории антично–языческая культурная ориентация имела аристократический оттенок и часто становилась духовным прибежищем оппозиционной элиты. Противоположный полюс отторжения от имперско–церковного официоза представлял суровый, зачастую монашеский аскетизм, часто сопряженный с действительным нонконконформизмом. В этой связи достаточно вспомнить имена «великих каппадокийцев» — Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского, а также близкого к ним Иоанна Златоуста.
Именно монашество стало массовой альтернативой обыденному ханжеству византийской жизни. В течение почти всего IV в. отношение к монашеству (преимущественно в то время египетскому) в церковных кругах было неоднозначным. Иерархи смотрели на него с подозрением, однако общая популярность аскетических ценностей среди христиан Востока в то время (их своеобразная реакция на омирщение и огосударствление Церкви) обеспечивала анахоретству массовую поддержку. В V в. власти не только лояльно относятся к нему, но и подчеркивают свое благорасположение. В такой обстановке появляются первые монастыри и в центральных областях империи, в частности, в окрестностях Константинополя. Монашество становится здесь грозной политической силой, нередко поднимает возмущенные толпы и тем самым активно влияет на церковную и светскую политику. Но постепенно, в течение VI в., политическая активность монашества снижается, и монастыри интегрируются в сложившийся общественно–экономический строй империи.
Суммируя изложенное, можно сказать, что в основе Византийско–Восточнохристианской цивилизации изначально лежал дуализм старого, позднеантичного, постязыческого (в пределах которого аполлоновско–дионисийская альтернатива уже не была актуальной) начала и возникшего параллельно с ним и наложившегося на него начала древнехристианского в его специфической, со временем приобретшей греко–православный вид формой. Сохраняя свою относительную автономность, они, в то же время, создавали основную ось духовного напряжения византийской культуры, выступая в качестве «допускаемой» в первом случае и санкционированной — во втором альтернатив официальности имперско–церковного верноподданства и благочестия.
Конфигурация Византийско–Восточнохристианской цивилизации и ее основные структурно–территориальные компоненты (Ю. В. Павленко)
В результате церковных расколов IV–V вв. от основного ствола христианства, исповедовавшего принятый на Никейском соборе в 325 г. символ веры, отпочковались отдельные христианские направления, прежде всего такие, как арианство, а затем (уже в связи с различными точками зрения на догмат о богочеловечности Христа) несторианство и монофизитство.
Арианство, окончательно отвергнутое к концу IV в. как грекоязычным Востоком, так и латиноязычным Западом, распространилось в среде активно принимавших его в ту пору германцев–федератов и на становление структуры Восточнохристианской цивилизации прямо не повлияло. В пределах раннесредневекового Макрохристианского мира с арианством идентифицировали себя занявшие западноримские провинции германцы (кроме франков): вестготы, остготы, вандалы и пр. Но несторианство и монофизитство, в обрядовом отношении более близкие к официальному византийскому христианству, стали на несколько столетий преобладающими на Ближнем Востоке — от Армении до Египта и Эфиопии — и затем получили широкое распространение в восточном и южном направлениях. Они, после их осуждения соответственно на Эфесском 431 г. и Халкидонском 451 г. соборах, стали формами религиозной самоидентификации негрекоязычных масс восточных провинций Византии176.
Эфесско–халкидонское правоверие (утвердившееся в качестве официального вероисповедания Византии), несторианство и монофизитство, как уже говорилось, сильно расходились, особенно в вопросе трактовки догмата о богочеловечности Иисуса Христа. Однако у них было и много общего — не на богословско–догматическом уровне (в чем Константинополь и Рим еще были едины), а в плоскости мироощущения, общего интуитивного восприятия бытия и стоящей за ним божественной первореальности. В своем статически–мистическом восприятии мира они были даже ближе к вскоре возникшему мусульманскому мировосприятию, чем к формиро вавшемуся в те же века более динамичному, эсхатологичному и индивидуалистическому западному, латинскому христианству.
Несторианство, воспринимавшее Христа, прежде всего, как человека–праведника, принявшего в качестве своей второй сущности Св. Дух, было более антропологично и исторично, при том, что в общемировоззренческом плане оно не менее космично и статично, чем монофизитство и победившее в Византии правоверие. Не выходя за рамки общехристианского идейного контекста, они вплотную приблизились к характерному в дальнейшем для ислама пониманию отношений Бога и праведника–пророка. Более того, несториане во многом и подготовили почву для быстрого и легкого принятия мусульманства семитоязычной массой населения Ближнего Востока.
Будучи преследуемым в Византии, несторианство в целом свободно распространялось на территории державы Сасанидов, простиравшейся от рубежей Сирии и Армении до пределов Индии. Через Иран трассами Великого шелкового пути несториане проникают и основывают общины в городах Центральной Азии. Они становятся заметными даже в Монголии и Китае, не говоря уже об Аравии и Индии. Они сыграли наиболее значительную роль в передаче арабам античного научно–философского наследия.
Под властью арабов им удается не только сохранить свои позиции, но и расширить сферу своего влияния в подвластных Халифату областях Ближнего и Среднего Востока. Официально эти «сирийские» или «халдейские» христиане не знали притеснений и при монголах. Однако учиненное последними общее разорение Центральной и Передней Азии негативно сказалось и на их судьбе. Еще более страшным ударом были опустошительные походы Тимура, после которых несториане сохранились преимущественно в горах Курдистана, а также в небольшом числе в городах Сирии, Ирака и Ирана.
Подобным образом от Кавказа до Центральной Азии и Африканского Рога на заре Средневековья распространилось и монофизитство. Одна его ветвь через Египет проникла в Эфиопию, а другая прочно укоренилась в Армении. В отличие от несториан, монофизиты подчеркивали в Христе единую и именно божественную, а не богочеловеческую природу, откуда происходит и само название движения.
Монофизитская трактовка христологического вопроса в большей степени, чем несторианская, согласовывалась с византийской тео–космической системой мировидения как единой, нисходящей от Бога к твари иерархической структуры. Поэтому, как и в силу других причин, византийский двор, особенно перед лицом угрозы со стороны наступавших арабов, готов был к компромиссу с монофизитами. Однако все возможные уступки в богословских вопросах категорически отрицались Римом, на конфликт с которым (с учетом своих интересов и его влияния в Западном Средиземноморье) Византия идти не хотела. В результате в конфронтации с ней оказались ее собственные подданные на востоке — копты в Египте, часть не принявшего несторианство арамейскоязычного населения Палестины и Сирии, а также армяне, как в рамках, так и за пределами империи.
Наиболее явственно и решительно, в значительной, если не определяющей, мере под воздействием национально–патриотических чувств, против утвержденного в Халкедоне в 451 г. понимания двуединства природы Христа выступили армяне. Однако грузинская церковь, сперва принявшая вслед за армянской монофизитство, в начале VII в. отошла от него, отдав предпочтение Халкедонскому решению христологической проблемы. С тех пор Грузия стала главным оплотом православия на Кавказе.
Ближайшие к арабам по духу и языку монофизиты Сирии, Палестины и Месопотамии в массе своей быстро воспринимали ислам, но в этнически чуждом арабам Египте среди коптов монофизитское христианство в первые два века Халифата переживало даже известный культурный подъем. Однако усиливавшиеся со временем мусульманские гонения на христиан привели, в конечном счете, к упадку христианства и на берегах Нила.
При этом монофизитству удалось закрепиться на Абиссинском нагорье. В древнеэфиопское царство Аксум христианство проникает уже в IV в., успешно конкурируя здесь с иудейством и способствуя восприятию элементов ранневизантийской культуры. Уже со второй половины IV в. в Эфиопии разворачивается храмовое строительство в ярко выраженном национальном архитектурном стиле. Вскоре монофизитское христианство утвердилось и в Нубии.
Арабские завоевания на многие столетия изолировали христиан Эфиопии от остальных частей Восточнохристианского (как и вообще Христианского) мира, однако и в этих тяжелых условиях жителям неприступного Абиссинского нагорья удалось не только сохранить свою религиозно–богослужебную традицию всецело восточнохристианского облика, но и создать богатую культуру, выразившуюся в позднем Средневековье, в частности, в развитом летописании. Так, являясь отдаленной ветвью Восточнохристианского мира в глубинах Африки, практически не имея связей с родственными ей в плане религиозно–культурных оснований народами, Эфиопская субцивилизация дожила до первых значительных контактов с европейцами во второй половине XIX в.
Несколько столетий христианство удерживалось и в Нубии, однако с разгромом мусульманами наиболее значительного здесь христианского государства Мукурра ведущей социокультурной силой в Принильском Судане становится ислам, окончательно вытесняющий христианство из этого региона к концу средневековья.
Из сказанного вытекает, что в эпоху раннего Средневековья Византийско–Восточнохристианская цивилизация достигает своего максимального расширения к середине VI в. В это время, в правление Юстиниана I, империя ромеев, отражая натиск персов с востока и прочно удерживая южное побережье Крыма от Херсонеса до Боспора, распространила свою власть на большую часть Западного Средиземноморья (Северная Африка, Италия, Юго–Восточная Испания).
Успехи на западе облегчались еще и тем, что по степени консолидации Восточнохристианская цивилизация на рубеже древности и средневековья значительно опережала Западнохристианскую. При этом романоязычное население «никейского вероисповедания» бывших провинций Западно–Римской империи, оказавшееся под властью варваров–ариан (вандалов, остготов, вестготов и пр.), на первых порах с симпатией относилось к стремлению византийского двора восстановить единство Римской империи.
В результате в середине I тыс. Византийско–Восточнохристианская цивилизация (с поправкой на военно–политические изменения в периоде от ликвидации Западно–Римской империи до начала массированной славянской экспансии и арабских завоеваний) имела приблизительно следующую структуру.
Центральную ее зону образовывали составлявшие ядро Византии грекоязычные православные области во главе с Константинополем. К ним относились, прежде всего, южные и восточные районы Балкан с Грецией, Македонией и Фракией с примыкавшей к ней более латиноязычной Иллирией, и Малая Азия, непосредственно ее западная часть и побережья. В структурную основу Восточнохристианского мира того времени входили также крупнейшие грекоязычные города Восточного Средиземноморья, такие, как Александрия, Антиохия, Верит и Кесария, а также Эгеида, и такие большие острова, как Родос, Крит и Кипр.
В ближайшем отношении к этому центру находились грекоязычные, сохранявшие верность Никейскому вероисповеданию, заморские по отношению к столице территории, такие, как Херсонес в Крыму или отдельные города (типа Сиракуз) на побережье Сицилии и Южной Италии. В отличие от центра, они не вырабатывали, но зато легко и охотно воспринимали создаваемые в столице и других ведущих городах цивилизационные стандарты.
Раннесредневековая периферия Византийско–Восточнохристианской цивилизации включала негрекоязычные восточные провинции империи (в целом без господствовавших над ними городов типа Александрии и Антиохии), население которых (Египет, Палестина, Сирия, армяноязычные районы Каппадокии и Армянского нагорья) было этнически чуждо господствующему слою в языково–культурном отношении. Оно ощущало себя ущемленным и угнетенным со стороны властей и потому охотно воспринимало альтернативные по отношению к Никейскому символу веры толкования христианства, в первую очередь, монофизитство.
В этнокультурном отношении среди монофизитского населения восточных провинций Византии следует различать египетских коптов, арамейскоязычных семитов Ближнего Востока и армян Восточной Анатолии и Закавказья. Последние представляли собою часть армянского (в целом исповедовавшего монофизитство) этноса, широко расселившегося по всему Закавказью и выразительно представленного в Малой Азии, Сирии и Верхней Месопотамии, а также в сопредельных областях Ирана. В ближайшем отношении к ним находились и другие восточнохристианские народы Закавказья, прежде всего преданные Никейскому символу веры грузины и ближайшие к ним картвелоязычные этносы. Однако в целом они были в то время достаточно удаленными от социокультурной жизни центра Византийско–Восточнохристианского мира.
Своеобразными автономными отпочкованиями Восточнохристианской цивилизации, глубоко проникшими во внутренние районы Азии и Африки, с этого времени выступают сирийско–несторианская и эфиопско–монофизитская ее филиации, конфигурация которых в общих чертах была очерчена выше. Они существенно отличались между собой по характеру.
Сирийско–несторианская ветвь представляла собою своего рода восточнохристианскую диаспору среди других самостоятельных высокоразвитых цивилизационных систем, прежде всего, Иранско–Зороастрийской, а затем Мусульманско–Афразийской. Цивилизаторскую миссию она в некотором отношении выполняла среди скотоводческих племен в глубинах Азии, однако не в большей степени, чем представленные там же и в то же время группы буддистов разного национального происхождения, согдийцев–зороастрийцев, манихеев и пр. Эфиопско–монофизитская же филиация Восточнохристианского цивилизационного мира в Северо–Восточной Африке представляла собою отдельную субцивилизационную систему, оформленную в виде Аксумского царства и связанных как с ним, так и с Египтом княжеств среднего течения Нила, таких, как Нубадия, Мукурра и Альва.
Ситуация в Западном Средиземноморье отличалась особой противоречивостью в силу того, что здесь, так сказать, в зародышевом состоянии к VI в. уже сложился духовный прообраз Западнохристианского мира, однако преобладание Византийско–Восточнохристианского выглядело в ту пору бесспорным. Местное романоязычное население бывших западно–римских провинций, исповедующее, как и грекоязычные византийцы, Никейский символ веры и Халкидонскую редакцию догмата о богочеловечности Иисуса Христа, еще отчетливо не осознавало своего принципиального отличия от общества «Восточного Рима». Оно более противопоставляло себя утвердившим над ним свою власть германиам–арианам, нежели православным грекам. Поэтому на Сицилии, где было еще достаточно греков, в Северной Африке и отдельных частях Италии (Венеция, Равенна, Неаполь и пр.) Византийско–Восточнохристианская цивилизация смогла на некоторое время закрепиться.
Не исключено, что если бы Юстиниану I удалось прочно подчинить Западное Средиземноморье, а его преемникам удерживать его в течение двух–трех столетий, Западнохристианская цивилизация не развилась бы в нечто самостоятельное а, в лучшем случае, осталась бы субцивилизацией в пределах Макрохристианского, в основе своей Восточнохристианского, мира (как ираноязычный ареал в пределах Мусульманской, а дравидоязычный — в пределах Индийской цивилизаций). Однако сразу же после смерти Юстиниана I владения в Испании и в большей части Италии были утрачены, а столетием позже арабами, уже покорившими к тому времени весь Ближний и Средний Восток, была захвачена и Северо–Западная Африка, после чего аналогичная участь постигла большую часть Пиренейского полуострова. В Средиземноморье VIII–IX вв. арабы явно доминировали, что способствовало все большему расхождению исторических судеб Восточнохристианского и Западнохристианского миров, поддерживавших между собой связи почти исключительно через Адриатику.
Таким образом, в середине I тыс. Византийско–Восточнохристианская цивилизация на непродолжительное время заняла ведущие позиции в мировом масштабе. Индия к тому времени уже давно утратила даже то относительное политическое единство, которое было установлено в ее северной половине в эпоху ранних Гуптов, государство которых в это время истощается в борьбе с гуннами–эфталитами и окончательно исчезает в конце VI в., а Китай в качестве объединенного государства восстанавливается лишь в 589 г. с воцарением династии Суй. В середине же VI в. Византии мог противостоять лишь давний соперник Рима — Сасанидский Иран, однако в целом его потенциал был ниже, чем у великой восточнохристианской империи, что наглядно иллюстрируется уровнем развития культуры — в Иране того времени ничего сопоставимого с патристикой, константинопольским храмом св. Софии, великолепными мозаиками Равенны или, скажем, историческими сочинениями Прокопия Кесарийского мы не обнаружим.
Однако в силу внутренней дифференциации, проходившей в пределах всего Макрохристианского мира (отпочкованием арианства, преобладавшего в варварских королевствах Западной Европы — остготов, вестготов, лангобардов и пр., несторианства и монофизитства, а затем и павликанства с богомильством в Азии, Африке и на Балканах), а также в результате мощных варварских вторжений (славян, авар и пр.) пределы Византийско–Восточнохристанского мира со второй половины VI в. начинают стремительно сужаться.
Славяне, а затем и вторгшиеся в Центральную Европу из зоны Евразийских степей авары быстро подчиняют и заселяют все Подунавье и большую часть Балкан. Обстановка стала еще более угрожающей в начале VII в., когда персы во главе с Хосровом II захватили почти все восточные провинции империи и подступили к Константинополю. Имератору Ираклию удалось отбиться от них, но вскоре на Ближний и Средний Восток обрушилась волна арабских завоеваний, и в считанные годы Палестина, Сирия и Египет, а вскоре Армения и вся Северная Африка были для империи потеряны.
С приходом на Дунай булгарской орды хана Аспаруха, подчинившего местные славянские раннеполитические объединения, в конце VII в. тут образовывается сильное Болгарское государство, соперничающее за гегемонию в Юго–Восточной Европе с Византией и Аварским каганатом. Постепенно славянские княжества начинают появляться и в западных районах Балкан, а в Предкавказье и Крыму ведущей силой становится Хазария.
Внешние вторжения, обостряя и без того напряженную обстановку в стране, ускорили развертывание начавшейся в самой империи затяжной социально–конфессиональной смуты, известной под названием иконоборчества. Период иконоборчества, начало которому в 724 г. положило выступление малоазийских иерархов против почитания икон, поддержанное императором Львом III, иногда образно сравнивают с западноевропейской Реформацией. Однако по социально–экономической подоплеке он гораздо ближе акциям Екатерины II, направленным на секуляризацию церковных земель.
Иконоборчество, а на деле — широкомасштабные акции по закрытию монастырей с конфискацией их земель и сокровищ, осуществляло само государство. В это время в нем ведущая роль перешла к малоазийской военной знати, выносившей на себе все тяготы борьбы с арабами и жаждавшей за это материальной компенсации. В средствах остро нуждалась и императорская власть, однако экономическая политика, направленная на увеличение налогового гнета, проводившаяся, в том числе, и по отношению к ведущим городам, не приносила ожидаемых плодов. И тогда правительство решило поправить дела путем конфискации огромных накопленных церковью и монастырями богатств, параллельно запретив монашество и превратив обитателей монастырей в рядовых подданных, обязанных платить налоги, иметь детей и нести перед государством воинскую и прочие повинности.
Однако против политики иконоборчества и конфискаций церковно–монастырских земель выступило население Константинополя и других по преимуществу грекоязычных городов в центральных областях империи. Это вызывало возмущение также в заморских владениях, еще сохранявшихся у Византии, — в Сицилии, на юге Италии, в Крыму и пр. Более того, принципиальным и непримиримым противником политики, проводимой императорами–иконоборцами, выступил папский Рим, имевший преимущественное духовное влияние на романоязычных христиан, исповедовавших Никейский символ веры, в Западной Европе. В Италии иконоборческая политика стала поводом для восстания. Посланные византийские войска были либо разбиты, либо перешли на сторону папы, а большая часть городов, включая Равенну и Венецию, добились независимости от империи.
Еще большее значение имел продолжавшийся десятилетиями разрыв Римской церкви с Византией, способствовавший дальнейшему конституированию Западнохристианского мира. Там к этому времени ведущей политической силой становилось Франкское королевство, правящий дом которого (в отличие от правителей большинства других варварских королевств) строго придерживался тогда еще единого православно–католического правоверия. Осуждение иконоборческих императоров как еретиков, при нарастании угрозы со стороны испанских мавров, способствовало сближению римских пап и франкских королей. Результатом этого процесса стало создание с благословения Ватикана империи Карла Великого — первого оформленного варианта Западнохристианского мира. В начале IX в. он, разгромив Аварский каганат, стал включать в орбиту своего влияния славянские объединения на западе Балкан и в Среднем Подунавье.
В результате к тому моменту, когда иконоборческая смута в Византии прекратилась и иконопочитание в 843 г. официально было восстановлено, из орбиты Византийско–Восточнохристианской цивилизации уже выпала почти вся Италия, не говоря уже об утраченных ранее Подунавье и большей части Балкан, а также доставшихся мусульманам Ближнем Востоке и Северной Африке. Территория Византии сократилась до побережий Мраморного, Эгейского и в значительной степени Черного морей с примыкавшими к ним областями внутренней Анатолии.
Конечно, восточнохристианское, разнородное в конфессиональном отношении (православные, несториане, монофизиты) население еще было весьма многочисленным на обширных пространствах Арабского халифата. Однако в основных его жизненных центрах (Сирия, Ирак, Египет и пр.) его исламизация протекала достаточно интенсивно. Более прочно оно, в анклавном виде, удерживалось в отдаленных от Дамаска, Багдада и Каира областях Закавказья, Эфиопии и даже среди монгольских племен, часть которых приняла несторианство.
Этим заканчивается первый период истории Византийско–Восточнохристианской цивилизации. Его прологом стали времена Аврелиана и Диоклетиана, выведших тогда еще Римскую империю из мрачной полосы «кризиса третьего века». Но действительное ее начало связано с преобразованиями Константина Великого. При всех перипетиях конкретной истории со времен его правления до начала VI в. мы видим формирование как социокультурных оснований, так и территориально–пространственной структуры Ранневизантийско–Восточнохристианского мира, блестящей кульминацией которого стали времена Юстиниана I. После него Византийская империя и весь Восточнохристианский мир вступают в полосу внешних поражений и смут, определяющих глубокий, выразившийся в движении иконоборчества, кризис VIII — начала IX вв.
Проявлением такого кризиса были не только конфискации церковного имущества, ломка традиционных форм религиозной жизни, ожесточенная борьба за власть между малоазийской землевладельческой знатью и константинопольской бюрократией, но и глубокое социально–экономическое перерождение основ византийского общества. Это вылилось в сворачивание товарно–денежных отношений, сокращение товарооборота, натурализацию хозяйства и аграризацию (т. е. просто деградацию) большинства городов, а также в усиление позиций в обществе военизированной землевладельческой провинциальной знати, без достаточных на то оснований определявшейся советской историографией в качестве «феодальной».
В мировом же масштабе Византийско–Восточнохристианская цивилизация сдала позиции на всех фронтах и отступила на второй план по сравнению с раскинувшейся от Атлантики до Памира Мусульманско–Афразийской цивилизацией, переживавшей фазу стремительного подъема, и Китайско–Дальневосточным миром, в системе которого Китай эпохи династии Тан достиг своего предельного подъема. Вместе с тем состояние Византийско–Восточнохристианского мира второй половины VII — первой половины IX вв. не будет выглядеть столь плачевно, если мы сопоставим его с впадавшей в глубокий застой Индийско–Южноазиатской (по крайней мере, в пределах Индостана) и едва начинавшей преодолевать варварское состояние Западнохристианской цивилизациями. Более того, в ближайшие столетия ему суждено было пережить второй подъем, связанный не только с возрождением социокультурной жизни в самой Византии и на всем христианском Кавказе, но и благодаря включению в сферу Восточнохристианской цивилизации обширного славянского массива Балкан и Восточной Европы.
В результате пережитых Византийско–Восточнохристианской цивилизацией трансформаций к середине IX в., когда «империя ромеев» начала понемногу оправляться от затянувшегося кризиса, ее структура принципиально изменилась по сравнению с тем, что она собою представляла в предыдущие столетия. Не считая отдельных анклавных (и вскоре исчезнувших) проявлений Восточнохристианской цивилизации в пределах Западного Средиземноморья, Северной Африки, Западной и Центральной Азии, она была теперь представлена тремя субцивилизационными блоками:
• основным, православным греко–византийским, в границах Византии (Южные Балканы, Эгеида, район проливов и Мраморного моря с Константинополем, большая часть Анатолии, Южный Крым), из которого православие вскоре распространилось среди славян Юго–Восточной и Восточной Европы;
• непосредственно связанным с последним Закавказским субцивилизационным анклавом, представленным двумя основными вариантами: 1) армянско–монофизитским Восточной Анатолии и на просторах Армянского нагорья, а также в виде немногочисленных монофизитско–албанских групп на территории современного Азербайджана и 2) грузинско–православным в пределах Кахетии, Картли, Имеретин, Менгрелии и, частично, Абхазии;
• изолированным, почти полностью отрезанным от остального христианского мира (кроме единоверных обшин египетских коптов) Эфиопским, в конфессиональном отношении монофизитским.
Эфиопский субцивилизационный анклав Восточнохристианского мира вел свою совершенно самостоятельную, уединенную жизнь, в течение столетий сдерживая натиск арабов, овладевших Египтом, Принильским Суданом (Нубией), Эритреей (где находилось первоначальное ядро древнеэфиопского царства Аксум) и всем восточноафриканским побережьем до о. Занзибар. Во внутренних же районах Африки эфиопские христиане имели дело с еще вполне первобытными негритянскими вождествами саванн и джунглей, приверженными традиционным культам, которые были мало склонны к принятию христианства и скорее, однако так же без особой охоты, проявляли восприимчивость к исламу.
В течение всего Средневековья эта эфиопско–монофизитская субцивилизационная система сжималась как шагреневая кожа, но на труднодоступном Абиссинском плато ей удалось сохраниться и дожить до наших дней в виде Эфиопии. Более того, в 70‑х — 80‑х гг. XX в. она, как и почти все восточнохристианские народы, кроме Греции (и то благодаря прямому участию Запада в разгроме греческих коммунистов после Второй мировой войны), переболела коммунизмом.
Не менее трагично складывалась и судьба Закавказского субцивилизационного анклава Восточнохристианского мира. С середины VII в., с утверждением власти арабов над большей частью территории Закавказья, византийское влияние здесь резко ослабевает, тогда как консолидация христианских народов перед лицом Мусульманского мира возрастает. В результате конфессиональные различия между армянами–монофизитами и приверженными православию картвелами, как и христианами на Северном Кавказе, не становятся препятствием на пути социокультурного взаимодействия. Следствием было возникновение на Кавказе определенного восточнохристианского единства при том, что в политическом отношении в раннем Средневековье здесь явно преобладали армяне, а позднее в качестве гегемона выступила Грузия.
Идейно–религиозным знаменем нараставшей в Закавказье освободительной борьбы против арабских завоевателей было национальное христианство. Сперва независимости добились картвельские княжества, а в конце IX в. армянам удается образовать собственное царство со столицей в Ани во главе с династией Багратидов. К X — перв. пол. XI в. относится расцвет средневековой армянской культуры, символами которой могут служить героический эпос «Давид Сасунский», величественная религиозная поэзия Григора Нарекаци, монументальный кафедральный собор в Ани зодчего Трдата и царственная роскошь миниатюр Эчмиадзинского Евангелия 989 г.
Однако ослабленная социальной борьбой (религиозное движение тондракийцев) Армения в течение первой половины XI в. попадает в зависимость к Византии, а в 1065 г. на нее обрушивается опустошительное нашествие турок–сельджуков, вызвавшее массовый отток населения из разоренной и завоеванной страны. С этого времени, особенно после сокрушительного поражения византийско–армянских войск при Манцикерте в 1071 г., начинает формироваться армянская диаспора. Населению Кахетии и других картвельских княжеств от нашествия турок–сельджуков удалось отбиться.
Вскоре после того, как через Закавказье прокатилась волна турецко–сельджукских полчищ, достигшая берегов Мраморного и Средиземного морей, большая часть Закавказья была объединена под властью грузинской ветви династии Багратионов. Ее наиболее яркими представителями в конце XI — начале XIII в. были Давид Строитель и царица Тамар, во времена которой творил Шота Руставели и были созданы лучшие произведения средневековой грузинской архитектуры, монументальной фресковой живописи и миниатюры.
При Тамар территория Грузинского царства и его вассалов охватывала почти весь Кавказский регион между Черным и Каспийским морями от верховий Кубани и Терека до оз. Ван, в том числе и мусульманские области современного Азербайджана (Гянджа и Ширван). Основные территории этого политического объединения соответствовали ареалу Кавказской восточнохристианской субцивилизации конца XII — начала XIII в., после того как на большей части Армянского нагорья ведущим в военно–политическом отношении стал мусульманско–тюркский (со временем собственно турецкий) фактор. Рядом с ним после захвата крестоносцами Константинополя в Юго–Восточном Причерноморье образовалась грекоязычная Трапезундская империя.
Особенно тяжелые времена для христианского Кавказа наступают с 20‑х гг. XIII в., когда соответствующие земли испытывают опустошительное нашествие орд монгольских ханов и попадают в зависимость от политической системы потомков Чингисхана, распад которой превращает области Грузии, Армении и Азербайджана в поле борьбы между иранскими Хулагуидами и ханами Золотой Орды, Джучидами, уже в 60‑е годы этого столетия. А в последней четверти XIV в. бедствия Закавказья преумножаются кровопролитными распрями Тохтамыша и побеждающего его Тимура.
В результате всех этих неблагоприятных обстоятельств местной христианской субцивилизации наносятся непоправимые удары. Армения практически полностью оказывается под властью различных мусульманских династий, а в XVI–XVIII в. ее территория превращается в арену непрерывной борьбы между Турцией и Ираном, до конца опустошающих страну. Практически то же происходило и на территории распавшейся на отдельные феодальные владения Грузии, с той лишь разницей, что здесь преимущественно власть оставалась в руках местных христианских правящих домов, а с начала XVIII в. несколько поднимается значение центральной царской власти в Картлийско–Кахетинском (Восточногрузинском) государстве. Его разгром войсками иранского шаха в 1795 г. ускорил вхождение Восточной Грузии в состав России, что было подготовлено установлением ее протектората над Картлийско–Кахетинским царством по Георгиевскому договору 1783 г. и произошло в 1801 г.
С этого времени руины Закавказской восточнохристианской субцивилизации, территории которой столетиями опустошались войсками боровшихся за господство над регионом суннитской Турции Османов и шиитского Ирана Сефевидов и Надир–шаха с его преемниками, начинают переходить под контроль Российской империи, что способствовало возрождению национально–культурной жизни в Грузии и Армении.
Не менее драматичной была и судьба средневековой Византийско–Греческой субцивилизации Восточнохристианского мира, чья территория с падением Константинополя в 1453 г. оказалась полностью поглощена мусульманской Османской империей. Однако Византия, в отличие от Эфиопской и Закавказской восточнохристианских субцивилизаций, в целом не сыгравших в мировой истории особенно существенной роли, смогла вовлечь в систему Восточнохристианской цивилизации обширный славянский массив Юго–Восточной, а затем и Восточной Европы, с последующим приобщением к ней восточнороманских групп Карпатско–Нижнедунайского региона (волохов, предков румын и молдаван). Благодаря этому, в первую очередь, приобщению к кругу византийской культуры Киевской Руси, Восточнохристианская цивилизация смогла сыграть самостоятельную социокультурную роль в последующие века.
Как уже отмечалось, с середины VI в. одним из важнейших факторов византийской внешней политики становится славянский. Через столетие, при катастрофическом положении на фронтах борьбы с арабами, в руках разрозненных славянских этнополитических группировок (так называемых «славий» или «славиний») находился почти весь Балканский полуостров до внутренних областей Пелопоннеса, кроме прибрежных городов (Диррахия, Никополя, Фессалоник, Аттики с Афинами) и Восточной Фракии с Адрианополем, непосредственно прикрывавшим Константинополь.
Пользуясь разобщенностью «славиний», имперским властям удавалось во второй половине VII в. периодически подчинять ту или другую из них, однако эти успехи не были прочными. Ситуация для Византии здесь приобрела и вовсе угрожающий вид с появлением на Нижнем Дунае тюрок–булгар хана Аспаруха в 679 г., быстро подчинивших местных славян. Посланная против них византийская армия была в 680 г. наголову разбита в дельте Дуная, после чего под властью Аспаруха оказались обширные, населенные преимущественно славянами, земли Нижнего Подунавья между Южными Карпатами и Балканским хребтом, что и было признано Византией мирным договором 681 г., официально засвидетельствовавшим рождение Первого Болгарского царства.
Преодоление Византией смут иконоборческого периода к середине IX в. прямо сказалось на активизации ее религиозно–культурной политики в Балкано–Дунайском ареале и в южной половине Восточной Европы. Вскоре здесь сложился особый Балканско–Придунайский славянский субцивилизационный регион Восточнохристианского мира.
Балканско–Придунайский славянский субцивилизационный регион Восточнохристианского мира. При деятельном участии патриарха Фотия разворачивается работа «просветителей славянства» Кирилла (Константина) и Мефодия. Ареал их миссионерской деятельности охватил огромные пространства Болгарии, Хазарии и славянского Великоморавского государства (пришедшего в Центральной Европе на смену Аварскому каганату). Многое было сделано для приобщения среднедунайских славян к восточнохристианской традиции.
После смерти Кирилла (869 г.), при отсутствии должного внимания к центральноевропейским делам у византийского правительства, Великоморавское государство оказывается в орбите политики Германии, что определяет его религиозную переориентацию на Рим. Однако в пределах Болгарского царства, в сфере влияния которого находились и населенные сербами земли, православие утвердилось прочно. Впрочем это не помешало Болгарии в правление Симеона, в конце IX — начале X в., значительно расширить свои владения за счет Византии.
Под властью Симеона оказались не только территории современной Болгарии, но также земли Сербии и Македонии, придунайской Румынии (Валахия и Добруджа), а также частично Боснии и Албании. На многих из них, особенно на непосредственно захваченных у Византии, христианство имело уже глубокие многовековые корни, что способствовало укреплению его позиций в государстве в целом. Вместе с болгарами во второй половине IX в. христианство греческого обряда, но со славянским языком богослужения и церковной письменности, принимают и сербы.
С тех пор предки нынешних болгар, сербов и македонцев прочно входят в систему Восточнохристианской цивилизации, образовывая ее особый Балкано–Дунайский субцивилизационный регион. В 925 г. Симеон провозгласил себя «царем и самодержцем всех болгар и греков», а болгарский архиепископ был возведен в сан патриарха, так что его Охридская кафедра стала автокефальной. Однако после Симеона Болгарское царство распадается на Восточно–Болгарское (разгромленное киевским князем Святославом и подчиненное воспользовавшимися его победами византийцами) и Западно–Болгарское (завоеванное византийским императором Василием II в 1018 г., после чего под верховной властью ромейской державы оказались также сербы и боснийцы) государства.
Столь энергично начавшееся развитие славянско–балканской ветви Восточного мира было заторможено. Новый ее подъем относится уже ко временам после IV крестового похода, когда добившиеся независимости еще в 70‑х — 80‑х гг. XII в. Сербия и Болгария образовали сильные, но нередко враждовавшие государства.
Расцвет культурной жизни православных Балкан приходится на XIV в., однако в условиях бесконечной борьбы между болгарским, сербским и греческим началами уже к концу этого столетия большая часть Балканского полуострова оказывается под властью турок. А с падением Константинополя в 1453 г. весь православный Эгейско–Балканский ареал оказывается в руках мусульман. В 1475 г. турки завоевывают христианские области прибрежно–горного Крыма, ставя в вассальную зависимость от султана Крымское ханство, а в 1483 г. окончательно покоряют Боснию и Герцеговину, в дальнейшем активно насаждая там, как и в ранее православной и завоеванной ими в 1474 г. Албании, мусульманство.
С этого времени в Балканско–Дунайско–Карпатскомм регионе вполне православными остаются лишь восточнороманские княжества, окончательно вошедшие в структуру Восточнохристианского мира к началу XIV в. Однако и они вскоре оказываются вассалами Османской империи: Валахия в 1476 г., Молдова в 1501 г., а в 1541 г. и Трансильвания с ее смешанным православно–романским и католически–венгерским населением.
Однако важнейшую роль (разумеется, после самой Византии) в жизни средневекового Византийско–Восточнохристианского мира средневековья суждено было сыграть Древнерусской или Восточнославянской субцивилизации. Именно благодаря принятию Киевской Русью христианства восточного обряда и сопряженной с ним богатой социокультурной традиции, Восточнохристианская цивилизация не погибла с крахом Византии, а нашла свое продолжение во второй половине II тыс. в истории православных народов Восточной Европы. Об этом речь пойдет ниже в соответствующей главе.
Западнохристианская цивилизация Средневековья (Ю. В. Павленко)
Распространенная характеристика Западнохристианского мира Средневековья как собственно «феодального» в настоящее время представляется весьма неточной. Ныне сам термин «феодализм» понимается уже не в плане некоей социально–экономической формации (что было типично для советско–истматовского марксизма), а в виде определенного социально–политического устройства, связанного с иерархией политических суверенитетов, связанных с соответствующей иерархической системой земельных держаний177.
Феодально–иерархическая структура, раскрывающаяся через иерархию форм личной зависимости и связанной с ней системой условных (постепенно становящихся наследственными) земельных владений, действительно где–то с XI в. становится базовой формой общественной организации наиболее развитых стран Запада. До некоторой степени ее перенимает даже католическая церковь. Однако говорить о феодализме в таком его понимании до 1000 г. не приходится. Не было такой системы во многих государствах Запада и позднее (Пиренейские и Скандинавские государства, Швейцария, в значительной степени Италия и пр.).
Тем более важно то, что средневековые города–коммуны, даже когда в силу внешних обстоятельств они оказывались инкорпорированными в структуру феодальных владений, по своей сущности не были и не могли быть феодальными. Феодализм строится по принципу вертикальных отношений между неравными в социально–правовом отношении субъектами, тогда как основой коммунальных отношений (как ранее — полисных) были горизонтальные связи, между принципиально равными субъектами. Как писал по этому поводу М. Вебер, «средневековый город был прежде всего союзом, конституированным или понимаемым как б р а т с т в о (выдел. М. В.)»178.
Распространенный взгляд на западноевропейскую историю предполагает проведение резкой грани между Средневековьем и Новым временем (традиционно — по линии Возрождения и Реформации, около начала XVI в., или, в советской историографии, по Английской революции 40‑х годов XVII в.). Меньшее значение обычно уделяется периодизации истории самого Западного Средневековья. Между тем не требует доказательства тот, в принципе, самоочевидный факт, что Возрождение и Реформация как эпохи глубоко укоренены в предыдущих веках и являются, в конечном счете, итогом общего подъема Запада, начавшегося в XI в. и, несмотря на кризис и спад XIV в., продолжавшегося с нарастающей силой до XX в.
Собственно Западнохристианская цивилизация как нечто структурно целостное (при скрещении интегрировавших его на различных уровнях структур Римской церкви и провозглашенной империей Каролингской монархии франков) утверждается уже к 800 г. Однако в последующие два столетия, при потомках Карла Великого, эта система ослабевает и распадается, приходя в X в. (тем более при опустошительных набегах норманов, венгров и североафриканских мусульман) в состояние почти полной деструкции. И лишь после этого начинается сперва еле заметный, а затем все более явственный рост. Поэтому во многом прав был О. Шпенглер, датировавший «рождение» западной культурной системы приблизительно 900 г., усматривая ее истоки (еще затеняемые мощными византийскими и мавританскими влияниями) где–то с 500 г.179
Такой взгляд разделяют и французские медиевисты школы «Анналов» В свое время М. Блок180 высказал поддержанную Л. Февром181 и другими специалистами по истории и культуре Средневековья идею относительно разделения истории средневекового Запада на два феодальных периода с очень различными ведущими тональностями, рубежом между которыми было начало XI в. С этого времени укрепляется новая, собственно феодальная аристократия, прочно, по праву наследования, удерживающая свои земли и видевшая в себе не королевских наместников и чиновников, а действительных властителей; аристократия, потомки которой будут играть первые роли (за исключением, разве что Нидерландов и, в некоторой степени, Англии) до Великой французской революции.
С этого же времени начинается и бурный рост средневековых западных городов в контексте так называемой «экономической революции второго феодального периода», заложившей фундамент грядущего хозяйственного взлета Западнохристианского мира. Последний динамично развивается в течение XII–XIII вв. и, пережив кризис XIV в. (страшную эпидемию чумы, унесшую едва ли не треть населения Западной Европы, Столетнюю войну, раскол католической церкви и борьбу между папами и антипапами за власть над ней и пр.), вступает в свою новую фазу, ознаменованную Ренессансом в Италии, а также гуситской предреформацией и собственно Реформацией в Германии, Швейцарии, Нидерландах и других странах, переживших (параллельно с ранним итальянским Возрождением) тот сложный социокультурный феномен, который с легкой руки Й. Хейзинга182 получил название «Осени средневековья».
Преодолевая апокалиптические настроения 1000 г. (когда всеобщее ожидание «конца света» на несколько лет парализовало трудовую и всякую другую активность), с начала XI в. Западнохристианский мир разворачивает бурную хозяйственную деятельность, связанную, как в свое время показал М. Вебер, с усилением религиозной мотивации производительного труда. Сначала в авангарде этих преобразований шли монастыри, организовывавшие на рациональных основаниях свою хозяйственную жизнь. Однако со временем сформированное под их влиянием уважительное отношение к физическому труду, к изобретательству и предпринимательству, внедряется и в сознание светских, преимущественно городских, бюргерских кругов, так что основным носителем этого нового делового мировоззрения становится торгово–ремесленный люд.
Данный процесс, опираясь на базовые идеи М. Вебера и разработки по средневековой экономической жизни М. Блока и других медиевистов, рассмотрен в исследовании Э. С. Кульпина и В. И. Пантина. Западная церковь, пишут они, исходя из библейских постулатов, прежде всего из того, что Бог, изгнав Адама и Еву из рая, предписал им и их потомкам трудиться, а также из жесткого императива ап. Павла — «кто не работает, да не ест», постепенно поднимала значимость труда как морально–этической ценности. Вначале труд воспринимался в качестве средства, необходимого для поддержания жизни человека, например у Фомы Аквинского. Затем он стал общезначимым и обязательным предписанием, условием обретения божественной благодати183.
Формирование новой трудовой этики происходило параллельно с усилением рационалистического отношения к миру, что выразилось, в частности, в расцвете схоластической философии в XII–XIII вв. В целом, как отмечалось, истоки западного рационализма через Боэция восходят к античным временам. Однако в готическом средневековье унаследованный от аристотелевской традиции рационализм впервые сочетается не только с новым почтительным отношением к труду, но и с обращением пытливого исследовательского взгляда к природе как объекту постижения и подчинения.
Рассудочный рационализм схоластики в лице предвестников будущего британского эмпиризма Роджера Бэкона (1214–1292 гг.), а еще ранее — Роберта Гроссетеста (1175–1253 гг.) обращается — по сути впервые в истории человеческой культуры — к экспериментальному изучению природы как основе познания. Ими, почти за четыре столетия до Френсиса Бэкона, автора известного афоризма «Знание — сила», целью наук провозглашается установление власти человека над природой184.
Поэтому, приводя многочисленные данные относительно использования агротехники, роста ремесленного мастерства, усовершенствования средств коммуникаций и пр., как и рационализации экономической жизни в целом, исследователи приходят к единодушному выводу, что процесс технического развития, набирающий ощутимую силу с эпохи Возрождения и существеннейшим образом (чему особое внимание уделяли, в частности, К. Ясперс185 и М. Хайдеггер186) определяющий характер Новоевропейской цивилизации, имеет своими истоками именно Средневековье187, точнее — первые века II тыс.
В этом контексте более конкретно и многопланово может быть понято и рассматривавшееся М. Блоком, Ж. Ле Гоффом и другими медиевистами формирование эффективной сельскохозяйственной системы севернее Альп и Луары, связанное с феноменом «великой распашки». Последняя связывалась в первую очередь с быстрым увеличением численности населения в Западной Европе XI–XIII вв., определявшим колонизацию ранее мало заселенных территорий (от плато Испании до болотисто–лесистых низменностей Прибалтики), но также и с другими факторами — возростанием престижного потребления знати, стимулировавшего развитие торговли с соседними цивилизациями (требовавшей дополнительных средств), накоплением производственно–технических знаний, усовершенствованием орудий труда, уже отмечавшимся утверждением трудовой этики и пр.
Прежде всего новое отношение к труду обусловило возникновение и решение ряда таких важных проблем, как рационализация экономической деятельности; ориентация на хозяйственное освоение новых пространств; увеличение объемов производства орудий труда и улучшения их качества; развитие средств передачи информации, предпосылкой чего был рост грамотности населения; свобода труда, поскольку только свободный труд приносит наибольшую пользу обществу; конкуренция, способствующая росту производительности труда; достаточное количество всеобщего эквивалента — денег; наконец, необходимые правовые гарантии свободного труда и эквивалентного обмена188.
При этом преобразования, связанные с трудовым порывом, охватившим Западнохристианский мир, демографическим ростом и «великой распашкой», превратившей на большей части католической Европы того времени естественный ландшафт в антропогенный, коснулись всех сфер. Они способствовали утверждению основных ценностей Западной цивилизации: прав личности, свободы, равенства, братства, а также закона (права), эквивалента (эквивалентного обмена) и частной собственности, имевших в дальнейшем своим совокупным вектором выход на идею развития. Однако главное достижение XII в. заключалось в резком возвышении значимости трудовой активности и в осознанном введении труда в систему основных ценностей Западнохристианской цивилизации189.
Такая морально–психологическая атмосфера, все более охватывавшая городские коммуны, благоприятствовала не только развитию товарнорыночных отношений (в систему которых начинало втягиваться и село) и денежного обращения (потребности которого стимулировали развитие горнорудного дела), но и абстрактного мышления, связанного, в то же время, с практическими потребностями. Конкретика деловой жизни, оцениваемая в количественных категориях (преимущественно в деньгах–прибыли), становится основой бюргерского сознания.
Экономическое развитие Западной Европы XII–XIII вв. вызвало выразительную переоценку социальных ценностей. Если ранее немногочисленные и рассеянные ремесленники и торговцы в качестве особого социального слоя не имели существенного значения, то теперь они консолидировались в городские коммуны с их цехами и гильдиями. Такие самоуправляющиеся города добиваются политической самостоятельности — становятся «вольными городами». В некоторых регионах, как, например, в Северной Италии, Прирейнской и Северной (Ганзейский союз) Германии, Нидерландах с Фландрией и пр., они даже становятся на некоторое время ведущей политической силой.
Города с успехом противостоят феодальным сеньйорам, подрывая тем самым не только экономически, но и политически основы феодального строя — в то самое время, когда сверху его начинает пытаться обуздать королевская власть. При этом если королевская власть в течение XIII–XV вв. (собственно, со времени французского короля Филиппа II Августа: 1180–1216 гг.) в ряде государств Европы (в особенности в Англии и во Франции, а также в Скандинавии, на Пиренеях и пр.) определяла контуры тех территориально–государственных структур, в рамках которых начинался генезис новоевропейских наций, то в городах складывался новый тип социально–экономических отношений и соответствующая ему ментальность, преображавшая базовые установки и идее–образы католицизма. Все это происходило в условиях кризиса и дискредитации латинской церкви, порождавших новые, уже индивидуально–самостоятельные духовные искания: от ересей катаров, альбигойцев и вальденсов, немецкой мистики XIV в. (Мейстер Экхарт и пр.) до Дж. Виклифа и Я. Гуса; М. Фиччино, Пико делла Мирандолы и Н. Маккиавелли южнее Альп и Эразма Роттердамского, М. Лютера и Ж. Кальвина к северу от них.
Новые идеи, как и новые отношения, вызревали прежде всего в образованной бюргерской среде, однако однозначно выводить их из условий становления раннебуржуазных отношений было бы чрезмерным упрощением. С таким же успехом можно произвести обратную редукцию. Однако методами научного анализа мы можем установить лишь корреляцию между духовным обновлением Западной Европы в преддверии и во время Возрождения и Реформации, с одной стороны, и утверждением новых социально–экономических и политических (первые национальные государства, парламентаризм и абсолютизм и пр.) — с другой.
Базовые основания Новоевропейской цивилизации вызревали именно в средневековых городах. Специфика и уникальность средневекового западного города была раскрыта в специальном исследовании М. Вебера на широком историческом фоне190. Немецкий мыслитель обоснованно противопоставлял его как тип типу восточного города (не знавшего самоуправления, полностью подчиненного государственной бюрократии), и по многим параметрам сближал с античным городом, с которым он был связан тонким пунктиром исторической преемственности.
М. Вебер показывает, что средневековый западный город был не только центром ремесла и торговли, административно–судебного округа, религиозно–культовой жизни и пр., но также (а может быть, и в первую очередь) союзом свободных и, на уровне его полноправных членов, равных людей, владеющих частной собственностью. Как и в древнегреческом полисе, отношения между его гражданами–собственниками строились по горизонтали, как общественно–договорные, с выбором подотчетных коммуне глав местного самоуправления. Человек, таким образом, конституируется как свободный работник–собственник и гражданин своего города–государства, как полноценный и самодостаточный контрагент экономических, социальных, политических и культурных отношений.
К. Маркс, М. Вебер, Л. Февр, Ф. Бродель и многие другие ученые в целом единодушно относят возникновение капитализма как экономической системы к началу XVI в. Однако в это время (при параллельном становлении в ряде стран Европы, в особенности в Испании и Франции, абсолютистских государств и начавшихся Великих географических открытиях, первоначально прямо не связанных с развитием буржуазных отношений) в социокультурном плане побеждают вовсе не города сами по себе (в Испании как раз в это время их автономия была подавлена), а сформировавшийся в их среде дух индивидуализма, соединившийся с трудовой этикой, рационализмом и прагматизмом, предприимчивостью и практицизмом, самоуверенностью и пренебрежением (при преодолении цехового духа корпоративности) к интересам других, особенно если они оказываются представителями иных культурно–религиозных миров.
Поэтому средневековый западный город, как бы далеко он со своими цехами, гильдиями и магистратами, корпоративностью и мелочной регламентацией различных сторон жизни не отстоял от реалий настоящего капитализма, может считаться лоном вызревания того феномена, который после исследований В. Зомбарта и, в особенности, выхода знаменитой работы М. Вебера «Протестанская этика и дух капитализма», получил название «духа капитализма». Этот «дух» означал религиозное (наиболее полно выраженное протестантизмом, в особенности — кальвинизмом) отношение к труду как к призванию и высшей обязанности человека перед Богом, мирской аскетизм, рационализм и личную предпринимательскую свободу, предполагая в качестве объективных предпосылок сложившееся и законодательно гарантированное право частной собственности.
Истоки западной рациональности (Л. Ю. Лещенко)
Выше неоднократно приходилось констатировать принципиальное значение рациональности в ментальной системе Запада. Она, как отмечал М. Вебер и многие другие исследователи, составляет едва ли не основную сущность Новоевропейской цивилизации. Становление европейской рациональности обуславливалось такими факторами, как промышленная революция и возникновение массового текущего производства, разрушение сословных барьеров, усиление географической и социальной мобильности, расширение культурных контактов, урбанизация, развитие средств связи, транспорта, массовой коммуникации. Процесс ее становления отличался определенным постоянством, которое обеспечивалось наличием в ней атрибутивных внутренних ценностей.
Общественное устройство и обычаи средневековой Европы сословно закрепляли определенные культурные образцы, консервировавшиеся правовыми и религиозными нормами. Попытки произвольного использования этих образцов представителями других общественных прослоек строго карались. Однако в эпоху Возрождения сословные перегородки и национальные границы начинают разрушаться. Восприятие общественным сознанием идей Возрождения об универсальной ценности человеческой личности обуславливается фундаментальными сдвигами в социально–экономическом устройстве Европы Нового времени. Культурные образцы, которые в доиндустриальную эпоху имели постоянный, строго нормированный характер, в результате разрушения сословных барьеров приобрели подвижность, испытывая разные трансформации и видоизменения в процессе перехода от одной социальной группы к другой. Подвижность этих образцов является выражением универсальности как одной из атрибутивных ценностей рациональности.
Необходимость нового взгляда на европейскую рациональность, истоки которой следует искать в мифологии, искусстве, религии, — в тех формах духовной деятельности человека, которые принято рассматривать как исключительно «нерациональные» или «внерациональные», в противоположность рациональности научного мышления, требует отдельного рассмотрения. Мифология как совокупность архетипических образов, отражавших ранние представления людей о мире, служит фундаментом формирования их сознания и в дальнейшем, а потому представляет особенный интерес для нашего исследования. Миф имеет свои принципы и законы функционирования, свою логику. Слово в мифологии является одновременно и символом, и знаком. Миф имеет два содержательных пласта: внешний (образно–символический) и внутренний (знаково–понятийный). В первом слово выступает символом, а во втором — знаком. Архитектоника мифа подчинена развертыванию в пространстве тех смыслов, которые помешаются в слове–символе. Слово–знак, наоборот, однозначно, точно, абстрактно, способно воссоздать лишь отдельные стороны ситуации, отдельное качество предмета.
В процессе формирования рационально–понятийного мышления как основы становления европейской рациональности значение слова–символа постепенно теряется, а роль слова–знака возрастает. Кроме того, в самой мифологии обнаруживается стремление все разнообразие Вселенной, ее происхождение и развитие объяснить с помощью единых первоисточников. Такими первоисточниками в греческой мифологии были Зевс, Гея (Земля) и Хронос, олицетворение времени, породившего всепроникающие мировые стихии — воду, воздух, огонь. Освобождение этих образов от сакральности можно считать первым шагом в становлении европейской философии, науки, а в более широком понимании — и рациональности.
Самое понятие «рациональность» имплицитно возникает в античной культуре в VIII–VI вв. до н. э. в связи с обоснованием первыми греческими философами понятия «разум». Они отказываются следовать традиционным мифологически–культовым представлениям о возникновении, устройстве и принципах существования мира, стремясь самостоятельно найти ответ на эти вопросы. Такая направленность познавательного интереса ранних греческих мыслителей определялась в первую очередь характером древнегреческой мифологии, которая была религией природы, рассматривавшей вопрос о происхождении мира как один из важнейших.
Существенное отличие между мифологией и философией состояло в том, что миф просто извещал, кем рождено все сущее, а философ задавался вопросом, из чего, каким образом оно возникло. Вопрос о происхождении мира, его первоначале — центральный в теогонических мифах и традиционный для древнегреческого сознания. Такое первоначало, в частности, Фалес усматривал в воде, Анаксимен — в воздухе, Гераклит — в огне, Анаксимандр — в «беспредельности», которая мыслилась и как стихия, и как определенная первопричина.
Освобождение мышления от метафоричности происходило путем постепенного перехода от знания, отягощенного сакральными, чувственными образами, к знанию, которое оперирует понятиями. Первые греческие философы были одновременно первыми исследователями природы. Такие мыслители, как Фалес, Анаксимандр и Анаксимен, дали начало новому типу размышлений о природе, сделав последнюю, как констатирует Ж. Вернан, предметом систематического непредубежденного исследования и предложив целостную созерцательную картину мира в теоретическом виде191.
Уже сам переход от мифа к логосу предусматривает наличие элементов научного знания и трезвый рационалистический подход к осмыслению явлений природы. Элементы научного знания имелись также у народов Древнего Востока. Однако их знания имели практически–прикладной, рецептурный характер. И только в античности впервые появляется осознанная необходимость их систематизации. Возникает понимание того, что доказательство и дедуктивно–аксиоматический исследовательский метод являются важнейшими критериями достоверности теоретического знания. Вавилоняне и египтяне исходили из того, что любой способ решения проблемы приемлем, если его следствием становится практический результат. Античная же мысль ориентирована на построение теории, на нахождение логико–теоретических, а не просто эмпирически очевидных критериев оценки знаний192.
Начинает складываться новая парадигма культуры, в которой логос как ум претендует на роль интегратора мира, который закладывает основы нового социокода культуры, нового типа рациональности. Гераклит Ефесский считает, что все в мире происходит в соответствии с логосом. Логос — это вечно сущее, целостное и гармоническое, но мало доступное людям начало. Несмотря на то, что они постоянно сталкиваются с логосом, знают его по опыту, для них он остается неведомым, непознанным. И потому философ призывает «слушать логос», развивать в себе искусство мышления. Представляя себя человеку в слове, языке, логос остается тайным, скрытым, непостижимым. Явленность и потаенность — свидетельство его двойственности, двойственности античной рациональности, античной культуры в целом.
Логос — это также организующее начало человеческой деятельности. То есть как ключевое понятие античной культуры он означал и слово, и язык, и бытие, и ум, и возможность активной творческой деятельности человека. Логос, объективируя мысль в культуре, одновременно дает возможность «видеть» ее умом, как видят ту или иную вещь глазами. Это свидетельствует о появлении рефлексии, о формировании в античной культуре «знання о знании». Рефлексия, рефлексивность становится характерной особенностью не только античной, а и всей европейской культуры. В античной культуре рациональность слова, рациональность бытия, а в определенной степени и рациональность действия совпадают. И любая реконструкция этого единства, любой «понятийный анализ» становятся возможными благодаря этой глубинной тождественности слова и бытия.
Логичность мысли, необходимость ее обоснования становятся характерной особенностью нового, десакрализированного типа мышления и начинают превращаться в универсальную характеристику культуры. А логос, ум рассматривается как основное средство и исследовательский метод. В частности, Парменид — основатель рационалистической традиции, сформулировал идею, в соответствии с которой единственный источник знаний — ум. Истина становится одной из главных ценностей античной культуры, а со временем и классической парадигмы культуры и рациональности.
Следует подчеркнуть чрезвычайно существенный момент, который состоит в том, что Парменид в поисках источников познания обращается не к богине мудрости Афины, а к богине справедливости — Дике. То есть гносеологическая проблематика приобретает в античности моральную окраску. Истина не является истиной, если она не ведет человека к добру и справедливости; она является воплощением нравственности. Это свидетельствует о том, что уже в античности формируется видение единства истины, добра и красоты как трех равновеликих и равнозначимых ценностей человеческого бытия, ипостасей культуры и характеристик рациональности.
Центральным понятием, которое определило содержательную особенность древнегреческой культуры, было понятие полиса. Как известно, Аристотель определяет человека как «существо политическое». Эта идея была присуща мировоззрению всех греков классического периода. Полисная организация опиралась на экономический и политический суверенитет общины свободных собственников и производителей — граждан полиса. Этот суверенитет предусматривал для каждого гражданина возможность, а часто — обязанность, в той или иной форме — преимущественно в форме голосования в народном собрании — принимать участие в решении государственных вопросов.
Социальное пространство свободы полисного грека предусматривало ничем не ограниченные формы общения между «самодеятельными индивидами», гражданами полиса, при которых этот «самодеятельный индивид» ощущал себя демиургом своих собственных общественных связей Поэтому с ориентацией античной культуры на слово, логос связана еще одна ее особенность — диалогичность, выдвижение на первый план диалога как важнейшего средства коммуникации.
Диалог как живая беседа двух или большего числа равноправных собеседников становится определяющим принципом античной культуры, античной мысли, античного сознания, средством объективации не только результатов познания, но и самого процесса познания, не только истины, но и путей, которые ведут к ней. Диалогичность непосредственно связана с осознанием открытости истины, необходимостью контактов с представителями других школ, знание их аргументов и контраргументов как реакции на результаты собственных исследований. Таким образом, тип рациональности, формировавшийся в границах античной культуры, предусматривал критический подход к имеющимся мировоззренческим установкам и был тесно связан с принципом аргументированного обоснования каждого теоретического положения, которое претендовало на истинность. В противоположность сакральной мудрости Востока, в Древней Греции формируется и развивается дух диалогического соревнования (агона) — того, который А. Ф. Лосев определяет как «дерзание духа». Атональность, связанная с диалогичностью, становится характерной особенностью античной культуры193.
Со временем диалог вытесняется на периферию античной культуры, и место живого общения заслоняют другие коммуникационные механизмы. Решающей становится ориентация на письменно зафиксированный текст, письменный язык. «Встреча» этих «двух типов духовной работы», по точному выражению С. С. Аверинцева, т. е. фактическое изменение семиотических моделей культуры, происходит в поздние годы жизни Платона194. Тип сократического мудреца в античной культуре заменяется ученым–книгочеем. Ядром античной культуры становится письменное фиксирование сообщения, не беседа, а лекция как специфическая форма языкового собеседования дидактического характера. Если в Академии Платона идеалом обучения было свободное общение искателей истины, то в Ликее Аристотеля читались лекции. Письменная культура становится основой сохранения традиций. Рукописи, трактаты, учебники — новая форма трансляции культурной традиции, средство достижения знания, способ его организации и передачи.
С именем Пифагора связывается переход от практически–эмпирического знания и чувственного восприятия к абстрактным принципам. Если Фалес указал путь к этим принципам, то Пифагор освободил математику от непосредственной созерцательности и очевидности. Учение пифагорейцев о числе составило целую эпоху в развитии научного знания, так как именно в нем был задан новый вектор философского дискурса, сделана попытка построения системы теоретического знания, осознана его роль и значение. Число пифагорейцами представлялось также регулятором государственной и общественной жизни.
Начинает формироваться понимание рациональности формы как осознания и осмысления человеком своего бытия. Но для того, чтобы это состоялось, необходимо определенное свободное пространство. Ощущение такого свободного пространства в европейской культуре и задается софистами. Тезис Протагора «человек — мера всех вещей» — классическая формула античного гуманизма, который выражает сущность дальнейшей антропоцентрической ориентации всей западной культуры.
Поворотный этап в развитии европейской культуры связывают с Сократом. В отличие от софистов, он ставит цель отыскать общее знание, стремится доказать существование объективной истины и утверждает возможность ее постижения. Переход сознания индивида от непосредственного к опосредованному, осознанному, логико–рефлексивному мышлению, к теоретическому анализу и является моментом рождения чистой рациональности195. С Сократа начинается ориентация европейской культуры на высокий моральный идеал и веру в возможность его достижения с помощью разума. В сократовской философии впервые развернуто представлена тема рациональности, так как Сократ стремится рациональным способом определить понятия, необходимые для добродетельного образа жизни, считая, что жизнь возможно исправить силами духа, силами сознания и самосознания196. В следовании во всем голосу разума, с точки зрения Сократа, и состоит назначение человека, реализация его внутренней красоты и добродетели.
В становлении античной парадигмы рациональности нашла свое проявление и приобрела дальнейшее развитие методологическая установка на объяснение мира из него самого, без апелляции к мифическим сверхъестественным силам. Ведь истина таится в самом бытии и объективно реализовывается через него, а не благодаря мысли. Истинная мысль тождественна бытию. Но мир как бы раздваивается на мир единого и вечного бытия и — как противоположность ему — видимый мир. Парменид усматривает два пути его познания: путь истины и путь видимостного его восприятия. Такие пути предлагает и Сократ. За этим кроется начальная двойственность, антонимичность, а в дальнейшем — многомерность рациональности, обусловленные тем, что европейская мысль обрекла себя на двойственное отношение к миру.
Воспринимая мир как «не-Я», в противоположность отделенной от него сфере «Я», философия Сократа стала основой для развития в европейской культуре многих типов и форм рациональности. Приобретая разные оттенки в той или другой парадигме культуры, рациональность становится атрибутивным свойством культуры, заполняет социокультурное пространство, постоянно утверждая и расширяя дуализм «мировоззрение — миропонимание» и делая постоянные попытки освободиться от этой двойственности. Поэтому с Сократом в европейскую культуру входит не только вера в существование истины, добра и красоты как высших духовно–рациональных ценностей, а и ощущение угрозы гибели, которую культура несет в самой себе.
Философия Платона и Аристотеля знаменует собою новый этап в становлении европейской рациональности. Поиск ответа на вопрос о смысле бытия, введение понятия истины как смысложизненной категории и преобразование ее в средство рефлексии (сомнения, иронии, диалога, ораторского искусства) вызовет потребность в отрабатывании механизма обоснования, аргументации рационального доказательства. Определяющую роль в рациональном познании приобретает разработка понятийного аппарата с присущими ему функциями обобщения и абстрагирования. Таким образом, категория, понятие, определение чего–то — это свидетельство о мире, открытие его таким, каков он есть, подтверждение его истинности и в то же время — доказательство явленности человеку сущности бытия.
Однако язык не владеет средствами выявления бытия в той мере, которая позволила бы ему явиться во всей полноте сущего. Это ставит перед мысленным взором древнегреческого ученого сложные вопросы общекультурного значения: о соотношении между общей значимостью понятий и единичностью обобщенных с их помощью явлений, об относительной независимости понятий от существования обозначаемых ими вещей. Решение этих проблем Платон связывает с теорией идей. Дальнейшее становление и развитие рациональности как универсалии европейской культуры становится возможным благодаря платоновскому учению о сверхчувственном мире идей, то есть понятий в их познавательно–обобщающей функции.
Констатируя в платонизме отход от смыслотворческого аспекта рациональности (предполагая возможность явленности истины и вне границ мира идей), следует обратить внимание на то, в какой мере платоновская концепция идеального государства (республики) представляет собой детально разработанную и сформулированную теорию общества как результат горнего озарения абстрактного ума. На основе чистой рациональности Платон разрабатывает схему идеальной социальной иерархии, которой предусмотрены определенные ограничения для творческих аспектов человеческой деятельности.
Человеческая мысль как ничем не отягощенная рациональность чистого знания о сверхчувственном мире идей открывала возможность практического воплощения идеалов абсолютной истины, добра и красоты. Платоновское государство представляет собой порождение и воплощение такой рациональности. Платон — первый из числа европейских мыслителей–утопистов. При этом он является представителем рационалистической утопии. Платоновская идея, озаряя все сущее, претендовала на роль абсолютного и всеохватывающего по форме и содержанию, воистину вселенского и соборного сознания. Осознанная как образ, лик духа, воплощение высшей духовности, она превращается в мощнейший из ферментов культурной жизни197. Таким образом, Платону принадлежит первенство в постановке проблемы, приобретающей чрезвычайную актуальность в дальнейшей европейской истории: соотношение между идеалом и реальной действительностью.
Убежденность в существовании высшего, горнего мира была у Платона органически связанной с верой в то, что глубинный смысл бытия человека состоит в его включености в эту высшую духовную сферу. Ведь абсолютные ценности добра, истины, красоты, справедливости относятся к сфере инобытия, онтологически противоположного реальности земного существования. У Платона рациональность чистого знания порождает высшую духовность. Однако стремление к абсолютному бытию — раю — в общественно–исторической практике оборачивается адом. Это удостоверяет опыт тоталитарных государств XX в. Поэтому К. Поппер считает Платона первым тоталитарным мыслителем и творцом идеальной конструкции тоталитарного государства в европейской истории198. Но, с другой стороны, высокая культура немыслимая без ее ориентации на абсолют, на идеал, что, в частности, демонстрирует русская культура XIX — начала XX в., в которой духовность получила свое высшее проявление.
Платоновские идеи имеет еще один чрезвычайно важный аспект. Определяющую роль в общественном развитии Европы сыграл восходящий к ним метод познания путем абстрактной идеализации. Он стал основанием для вывода математических формул и теорем, законов физики, создания системы идеальных пропорций, которые заложили художественные каноны античности на фоне постоянной системы образов, гармонично организованных в границах Космоса и целиком соответствующих статической организации античного полиса. Единство физического и духовного начал в человеке, воплощенное путем идеализированного обобщения, обуславливает классическое совершенство античной художественной культуры, которая имела значительное влияние на формирование классической парадигмы культуры рациональности.
Общеизвестно влияние философии Платона на христианство. Акцентирование внутреннего, духовного аспекта человеческой жизни, восхваление вечного, идеального небесного мира совпадали с христианским мировидением. Однако Аристотель, ученик Платона, пришел к выводу, что идея слитая с материей, помещается в ней, а не в заоблачных высотах. Он, как отмечает А. Ф. Лосев, спустил идею на землю, которую так любили и уважали греки, возвратил ее в лоно материального мира. Этот мир утратил древних богов, но зато каждая частица материи приобретала испокон присущий лишь ей смысл существования199.
Аристотель доказывает невозможность существования идей–сущностей в отрыве от чувственного мира. В противном случае рациональное познание эмпирической действительности теряет объективный смысл, поскольку идеи–сущности оказываются недоступными для такого познания. Поэтому ейдос, идею надлежит понимать осмысленно–овешествленно, как чувственную форму чувственного же предмета. Таким образом, познание истины, сущность которой окончательно переходит в сферу человеческого ума, рассматривается как правильность высказывания200 Истина может и должна базироваться на доказательстве. И если Сократу принадлежит требование дедуктивности, доказательности знания, то Аристотель предметно реализовывает ее путем безоговорочного подчинения мышления логическим принципам.
Превратив логику в определяющий атрибут рационального знания, Аристотель создал завершенное логическое учение, сформулировав основные законы формальной логики — тождественности, непротиворечивости и исключенного третьего. И лишь в XVIII в. Г. Лейбниц прибавляет к этой триаде закон достаточного основания. Аристотелю принадлежит теоретическое обоснование силлогизма, лежащего в основе любого умозаключения. Формальная логика превратила формально–логическую правильность на один из обязательных атрибутов рациональности. Тогда же возобладала тенденция принятия формально–логической корректности суждений как единого критерия истинности, становящегося определяющей характеристикой рациональности. Отождествление сущности истины с правильностью понятийных определений стало доминирующим в европейской науке. Истинными признавались лишь логически выведенные утверждения и те, что не противоречат практическому опыту.
Логика выступает у Аристотеля как глубинная грамматика рациональности бытия. Понимание истины как выражения отношения человека к миру и как суждения об этом отношении уже не предусматривает возможности скрытости истины, ее не–явленности, присутствующей у Платона. Тем самым Аристотель расширяет горизонты рациональности, выходя за границы платоновской рациональности чистого знания и преодолевая его презрительное отношение к эмпирическому познанию. Постигнуть сущее невозможно без помощи чувственного восприятия. Опыт служит основой познания принципов отдельных Наук. сущности каждого частного явления. Общие же понятия, от которых отталкивается наука, — результат обобщения эмпирических данных. Поэтому опыт должен в определенной мере предшествовать умозрительности, подчиняясь при этом последней как познанию сугубо научного метода. Пропорциональность, иерархичность, благоустроенность, определенность, гармония, мера — сущностные характеристики бытия, условия его познания и признаки рациональности.
Аристотель дает четкую, логическую классификацию знания, разграничивая ремесло, искусство и науку на основе их специфических признаков и выделяя деятельность (праксис), творчество (поэзис), умозрение (теорию)201. Такое фундаментальное деление имеет чрезвычайный вес, учитывая проблему рациональности, давая возможность уже в античный период провести границу между рациональностью деятельности, рациональностью науки и рациональностью творчества. Это позволяет выстроить цепь «рациональность — цель — деятельность», что подводит к вопросу о целерациональности в практической деятельности и условиях ее достижения.
Понятие цели является для Аристотеля ключевым в объяснении всех естественных процессов. Возникновение каждой веши рассматривалось им в причинно–следственной связи от ее исходной точки — целеполагания. Это понятие имеет у Аристотеля не только функциональный, а и ценностный характер. Поскольку все, что делается, направлено на достижение блага, все сущее направляется к благу, которое, выступая завершенным, совершенным бытием, есть одновременно и конечная цель, то понятие цели также предусматривает ориентацию на лучшее, то есть на то, что в наибольшей степени подходит для чего–то. Аристотель не принимает платоновской идеи блага через ее всеобщность, абстрактность, противопоставляя ей человеческое благо, которое реализовывается в человеческой деятельности и поступках202.
Таким образом, Аристотель, отвергнув платоновскую идею трансцендентного высшего блага, кладет в основу своей этической концепции идею рациональности как меры и гармонии, которые приобретаются душой в процессе воспитания и образования. Мера, с точки зрения Аристотеля, распространяется и на другие практические науки — экономику и политику. Аристотель стоит у истоков хрематистики как науки о рациональной экономике, которая ориентируется на эффективные методы организации и управление хозяйством с целью получения товарной прибыли. Сама постановка вопроса о ценности — одно из главных достижений античности в осмыслении экономической проблематики.
Аристотель рассматривает вопрос о справедливом, т. е. эквивалентном, обмене и о деньгах как условном мериле стоимости вещей, которые обмениваются. Поняв различие между меновой и потребительской стоимостью товара, он близко подошел к проблеме стоимости — одной из основных проблем экономической науки. На этом основании можно утверждать, что Аристотель начинает изучение проблемы экономической рациональности. Эксплицитно она констатируется лишь в конце XIX — в начале XX в. и связывается с именем М. Вебера, а имплицитно содержится уже в хрематистике Аристотеля. Практическая же рациональность как способность усовершенствования всех сфер человеческой деятельности обнаруживается и приобретает развитие на римской почве в технике расчетов, в финансовых операциях, в ведении хозяйства. Сельскому хозяйству Древнего Рима была присуща рациональная организация хозяйствования и четкий экономический расчет его эффективности.
Основой эффективности производства считается четкое разделение труда, имевшее место уже в римских ремесленных коллегиях с учетом специфики их работы. Как известно, организация первых таких коллегий приписывается царю Нуме, что свидетельствует о давности этого института. Организация ремесленных коллегий в римской традиции входила в число мероприятий, которые были обязанностью первых императоров. В своей совокупности эти мероприятия создавали целостную систему с четким распределением общественных функций между его составляющими, к которым могло относиться обслуживание гражданского населения, удовлетворение тех или иных его потребностей.
Развитие производительных сил в римском обществе, обусловившее подъем сельского хозяйства, как отмечает Е. М. Штаерман, происходило не за счет развития техники, а за счет повышения квалификации работников и усовершенствования их организации (объединение в надлежащей пропорции квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы, углубление разделения труда, детализация норм выработки, создание наиболее эффективных по количеству и качеству рабочих групп и надзора за ними, учет как хозяйственных, так и торговых и финансовых операций, которые подробно заносились в приходно–расходные книги, создание подсобных предприятий для использования свободных рабочих рук)203.
Римляне поставили на рациональную основу осуществление военных операций, организацию управления, обеспечение коммуникации. Они разработали рациональную правовую систему, которая получила название римского права. М. Вебер усматривал в нем один из главных рациональных факторов, которые в дальнейшем обусловили развитие рациональной европейской цивилизации, судьбу Европы. А. Ф. Лосев считает римское право грандиозной рационалистической формой и всемирно–историческим явлением. В мире, отмечает он, не было другого права, которое бы в такой степени превратило живые человеческие отношения в голое вычисление, в алгебру204.
Сама философия у римлян обусловлена необходимостью обоснования ответственности гражданина перед государством. Она превращается в своеобразный атрибут римской государственности, призванный защищать и обосновывать определенные политические решения и направления государственного строительства, разрабатывать теорию общественного поведения, приобретает прагматический, утилитарный, практически–рациональный характер. Такой же рациональной, прагматичной и практичной становится и культура Древнего Рима. Выработанный в нем подход к культуре содержит в себе возможность не только сохранения, освоения, изменения, усовершенствования природы, а и возможность ее разрушения с помощью технических средств. В Древнем Риме формируется интенция «покорения» природы посредством рациональности. Происходит практическая десакрализация природы.
IV–VII ст. становятся периодом одного из радикальных поворотов в мировой истории, состоящего в том, что античная культура, с ее теоретической рациональностью и практицизмом логических построений, отступает перед христианством, которое становится основой духовного и культурного развития европейского Средневековья. Через переосмысление основ имеющегося культурного массива и разработку принципов новой культуры происходит формирование универсальных ценностей современной Западной цивилизации.
Переход от античности к Средневековью намечается еще в хронологических рамках античного общества. Первые века новой эры — это период углубления кризиса Античного мира. Но новая религия — христианство — вселяла веру в будущее. Она отстаивала простые гуманистические принципы: человек — высшая ценность в этом мире, и Бог приносит себя в жертву ради его спасения; все люди равны перед Богом, независимо от их социального статуса, интеллектуального развития, этнического происхождения; главный нравственный принцип — любовь к ближнему.
Учреждение христианской религии не принадлежит Европе: она складывалась в Восточном Средиземноморье. Римляне, воспитанные на эллинской культуре, сначала восприняли новую веру с презрением. Однако, постепенно охватывая все более широкие массы приверженцев, христианство, которое возникло как религия угнетенных и обездоленных, приобретает статус официальной религии Римской империи. Христианизация последней была исторической необходимостью: ведь объединение в единой империи разных народов требовало универсальной религии. Императорская власть требовала не только военно–бюрократического аппарата, а и определенной идеологической подпочвы.
Но на момент падения Западной Римской империи главные центры христианской культуры, как и большая часть христиан, находились за пределами Европы. Рим еще не успел вобрать в себя дух новой религии. С крахом политических институтов Западной Римской империи континент утратил свой организующий центр. В Западном Средиземноморье прервалась античная традиция, образовавшийся духовний вакуум заполнило христианство, начавшее строить единую Европу205. Именно в период Средневековья закладываются основы европейской цивилизации, поскольку в древности Европа в значении культурно–исторической общности еще не существовала.
Если христианская церковь Рима как общественный институт объединила Европу «свыше» путем распространения папской власти через унификацию форм общественной и духовной жизни, то латинско–христианская вера интегрировала Западную Европу «снизу», поскольку оказывала содействие становлению европейского сознания, самоидентификации жителей многих стран Европы как европейцев через христианскую веру.
Христианское учение возникает как религиозное, морально–этическое, без любой претензии на господство над государственной властью. Его власть распространялась лишь на человеческие души. Поэтому христианство, по мнению К. Ясперса, является наиболее величественной формой организации человеческого духа, когда–либо существовавшей в человеческой истории. Из иудейства сюда перешли религиозные импульсы; от греков — философская широта, ясность и сила мысли; от римлян — организационная мудрость в сфере реального. Из всего этого возникает определенная целостность, которую никто не предусматривал заведомо206.
Культура Средневековья усваивает и переосмысливает идею благоустроенности бытия. «Но теперь порядок приходит, — пишет С. С. Аверинцев, — от абсолютно трансцендентного Бога, который находится не только по другую сторону материальных границ космоса, а и по другую сторону его идеальных границ»207. В отличие от Античности, где бытие надо было познать, а истиной овладеть, для Средневековья характерна уверенность в открытости истины, убежденность в том, что Библия — единый источник всех возможных знаний. В период патристики идея откровения была разработана отцами церкви и закреплена в религиозных догматах. Достаточно было понять смысл библейских высказываний, чтобы получить безошибочные ответы на все вопросы. В сравнении с греческим периодом эта идея была абсолютно новой. Считалось, что человек должен постигнуть истину не ради себя, а ради самой истины, так как этой истина — сам Бог. Поэтому духовные интересы Средневековья были направлены от земли к небу, от мира дольнего к миру горнему.
Такая вертикальная направленность была характерна для всей культуры Средневековья. Разум, рациональность в эпоху Средневековья становятся мистически, иррационально ориентированными, поскольку направлены на выявление сущности Слова–Логоса, создавшего мир. Вера, знание и ум — это лишь разные проявления единой универсальной силы, силы божественного разума, который проникает в мир и пронизывает его. Единый божественный Логос властвует везде и определяет разумное и моральное начало любого существования и развития, как и возможность их понимания или постижения. Для культуры Средневековья характерно соединение веры в Бога и рационально–дискурсивного знания в целостный сакрально–когнитивный комплекс, который отличался от предшествующих не только содержанием сакрального ядра, выраженного в догматах христианской религии, но и соотношением рационального знания с сакральным ядром.
В центре христианского мировоззрения — творец всего сущего: Бог. Главным тезисом христианства, от Боэция до Фомы Аквинского, есть то, что Бог есть истинное бытие, а его творения лишь наделены бытием. Бог, бытие — есть истина, совершенство, красота, добро и благородство. Мир Библии — Книги Книг, «кодовой» книги, где зафиксирован многотысячелетний опыт большого культурного ареала, отмечается смысловой уникальностью. Эта уникальность обуславливается идеей единого и личностного Бога, его неразрывной связью не только с каждым человеком, но и с каждым живым созданием. Бог, наделенный атрибутами трансцендентности — всеведения, всемогущества, беспредельности; Бог–благо, Бог–истина, Бог–красота — не безличная абстракция. Он живой и постоянно занят творением. И именно в творческом могуществе, божественной власти, в креативной функции обретает воплощение высшая божественная рациональность.
Однако признается возможность приобщения человеческого разума к божественной рациональности в процессе познания Слова–Логоса. Поэтому в контексте теологически ориентированной культуры логика представляла собой особые способы созерцания Бога и постижение Его мудрости. Такая логика неизбежно становилась тео–логикой. Как пишет С. С. Неретина, логика оказалась способом созерцания Бога, а этика намечала пути его постижения. Логика и этика стали составляющими единой теологической системы, в результате чего античные категории приобрели своеобразную этико–тео–логическую нагрузку. Акты когнитивного суждения нагружаются актом морального суждения, а механизм когнитивных актов — механизмами моральных актов спасения208.
Постигнуть сверхчувственный, божественный мир, высшую истину, ее заданность становится возможным при условии использования герменевтики и дидактики, которые тесно связаны с логико–грамматическим и семантико–лингвистическим анализом слова. Поскольку слово лежит в основе творения, оно соответственно становится общим для всего созданного. Это обусловило возникновение проблемы существования этого общего, или проблемы универсалий. Споры относительно природы последних характерны для культуры Средневековья. В них, по словам П. П. Гайденко, выковывались и проходили апробацию фундаментальные принципы средневекового мышления209. При всей своей отстороненности, абстрактности, как это может показаться на первый взгляд, споры об универсалии имели существенное влияние на духовную культуру Средневековья. В них оттачивалась рациональность той эпохи.
Начало обсуждению проблемы универсалий положил С. Боэций — «последний римлянин», автор, помимо специальных трактатов по различным наукам того времени, комментариев и переводов произведений Аристотеля и Порфирия. Он задает проблемное поле для дальнейшего исследования рациональности. От Аристотеля Боэций унаследовал представления о логике как органоне наук — учение об универсальном методе познания и теории суждений. Без правильного суждения, с точки зрения Боэция, получить настоящее знание невозможно210.
Боэций делает беспрецедентную попытку использовать логику Аристотеля для толкования догматов веры, считая, что божественные истины должны быть подкреплены доказательствами ума. Он разворачивает эту проблематику в таком ракурсе, который до него был практически неизвестен, а со временем становится доминирующим в схоластике. Поэтому Боэция называют еще и «отцом схоластики». Он превращает теологическую проблематику в схоластическую. Собственно, сущность теологических проблем у Боэция не обсуждается, а переносится в сферу логики. Начальная «заданность» истины воспринималась им как логическое условие, как определенное мыслительное ограничение, ставшее показательным для схоластики.
В трактатах Боэция уже просматривается мир средневековой схоластики, где четкость и определенность языка, однозначность мыслительной конструкции превалировала над онтологической стихией, непостоянной и текучей. В нем любая вещь приобретала жесткую форму понятий, а любая связь реального существования отражалась в однозначности отношений211. Четкость, точность, определенность, размеренность, неизменность как характерные особенности схоластического мышления не только дисциплинировали мысль, но и оказывали содействие развитию научной рациональности.
В эпоху Средневековья «познание самих вещей», о котором писал Боэций, с помощью логики через истины Откровения обнаруживает свою ограниченность. Однако логика становится необходимым инструментом воплощения в жизнь политических и теологических идей. Происходит словно сращение, отождествление четко построенных логических суждений, рациональности с теми сферами жизнедеятельности общества, где такая рациональность была необходима, — теологией и политикой.
Как известно, сначала христианство не претендовало на политическое господство. Но со временем оно на Западе заявляет о себе как о единой вселенской религии, которая претендует также на власть над государствами, поскольку ее основателем является сам Бог. Западное христианство по сути становится единственной реальной политической и идеологической силой, которая старалась сдерживать распад позднеантичного общества на заре Средневековья. Не случайно практические вопросы экономики, проблемы войны и мира, политические дела волновали западных епископов не меньше, чем борьба с ересями или моральные наставления паствы. Все это привело к тому, что в дальнейшем Римская церковь становится надгосударственным образованием, своеобразной транснациональной структурой. А средневековая логика, творцом которой в Западной Европе был Боэций, становится главным инструментом обоснования ведущей роли церкви в обществе.
Не менее важным было и утверждение личностного начала человека, созданного по образу и подобию Божию. Христианское понимание человека отличается от античного тем, что человек не ощущает себя органической частью природы, а вырван из космической, естественной жизни и поставлен вне ее. По замыслу Бога, он выше природы и должен быть ее повелителем Но из–за грехопадения положение человека покачнулось, хотя он не утратил и не может утратить своего могущественного статуса. Индивидуализация отношений человека с Богом выражена в принципе самостоятельности каждой из ипостасей Святой Троицы и в том, что Христос объединяет в себе человеческую и божественную природу. Библейская и евангельская традиции принесли в культуру Средневековья осознание человека как личности212.
Рациональность в культуре Средневековья приобретает волевую окраску. Христианский Бог наделен безграничной волей, он — всемогущий, для него нет ничего невозможного. Определение божественной сущности через понятие «воля», «желание», «хотенье» — особенность ветхозаветной религии и христианства. Личностный характер христианского Бога не позволяет мыслить его в терминах необходимости. Это с предельной четкостью декларирует уже бл. Августин213. Но в его поле зрения попадают и внутренняя жизнь человеческой души, и те силы, которые ее определяют. Бесценной делает августиновскую «Исповедь» углубление в сокровенные уголки своего «я», до тех пор неизвестное в европейской культуре. До Августина никто не достигал такого понимания и острого переживания собственного «я», своей человеческой уникальности, которая определяется внутренним миром индивида. Августин убежден, что определяющей характеристикой человека является воля. Именно она обуславливает как злые, так и добрые его поступки. Понимание Августином воли как главной сущностной особенности человеческой души вносит новые аспекты и в осмысление им рациональности.
Августин стоял у истоков культуры Западного Средневековья и сформулировал тематическую триаду, которая становится основой его теоретической мысли: Бог — мир — человек. В ее границах осмысливается и проблема рациональности. Августин выразил дух Средневековья с присущим ему стремлением к Абсолюту и универсальности, объединил рационализм и утонченную интуицию, понимание объективного развития событий и ощущение человеческой индивидуальности.
Для Средневековья характерно расщепление культуры на духовную и светскую. В такой амбивалентной культуре дуализм рациональности и иррациональности, «чистого» и «нечистого», «священного» и «профанного» выступает то как резкая альтернатива, то как компромисс, сбалансированность, равновесие полярных противоположностей. Поэтому и рациональность приобретает здесь специфическое выражение, сопрягаясь с рецептурностью.
Рецепт — основа функционирования культуры Средневековья. Рецептурность определяет все сферы деятельности человека этого периода. Рецепт изготовления вещи включает в себя описание и происхождение материала, из которого она создается. Он содержит детальные указания относительно того, как сделать и украсить эту вещь, а также общее ее описание. Рецептурное средневековое знание является знанием как о предмете, так и о его изготовлении. При этом вещь рассматривается как изделие и как человеческая самореализация, самоосуществление. Сделать что–то — это прежде всего объяснить, как это что–то (то есть вещь, изделие) сделать. Слить слово и действие, событие и слово о нем. Отсюда вытекает, как отмечает В. С. Библер, что знание было знанием об умении, логика была логикой умения, логикой того, что есть «у меня», а совсем не знанием о рациональности мира, а не знанием о том, как мир может действовать вместо меня, заменяя мое умение214.
«Большое искусство», «ars medua» Раймонда Луллия — пример «вселенского рецепта». Философ стремится рецептурно регламентировать даже Вселенную. Задача его «новой логики» — заменить мышление сугубо механистическим комбинированием понятий. Луллий построил особую машину наподобие счетной, которая состояла из семи концентрических подвижных кругов с изображением геометрических фигур логических субъектов и предикатов. Оборачивая эти круги, можно было получить многочисленные комбинации понятий. Ученый считал, что такое открытие делает возможным не только изучение на протяжении считанных месяцев любой науки, а и дальнейшее ее развитие. То есть он претендовал на изобретение «логики открытия», а не просто искусства доказательства. При жизни философа его учение не приобрело широкой популярности, и лишь в XV–XVI ст. интерес к нему возрастает. Как отмечают П. С. Попов и Н. И. Стяжкин, Луллий по праву считается родоначальником логического принципа проверки всех возможных комбинаций элементов в исследуемых ситуациях215.
Рецептурность находит воплощение и в алхимии, которая достигла своего расцвета в эпоху Средневековья. Отношение к алхимии на протяжении всей истории его развития было неоднозначной. К. — Г. Юнг подчеркивал, что роль алхимии в истории религии, философии, культуры вообще почти не рассматривалась. Ученых интересовало лишь влияние алхимии на становление химической науки. А сам К. — Г. Юнг, исследуя феномен алхимии, приходит к выводу, что алхимия подобна подводному течению в христианстве, властвовавшем на поверхности. Для этой поверхности она то же самое, что сон для сознания, и как сон компенсирует конфликты ума, так и алхимия стремится заполнить брешь, созданную христианским напряжением противоположностей216.
Главная цель алхимиков, смысл всей их жизни состояли в том, чтобы в процессе Большого Действия, которое включает несколько стадий, изобрести философский камень. Этот камень — эликсир жизни; именно он обеспечивает возможность преобразования, «трансмутации» неблагородных металлов в благородные — золото и серебро. «Задача алхимии состоит в том, — писал Р. Бекон, — чтобы, следуя природе, превращать низшие и несовершенные вещи на совершенные и ценные»217. Ведь сама природа, по мнению философа, стремится достичь совершенства. В этом отношении алхимическая рецептурность выступает предпосылкой нерецептурного универсализма эпохи Возрождения.
Рациональность в культуре Средневековья раскрывается и осмысливается в контексте работы над словом, текстом — как комментирование и толкование текста. Следует отметить, что комментирование и толкование также воплощают в себе парадокс личностно–безличного знания. Тот или иной текст, принципиально чужой, внешний для комментатора, проходя через сознание последнего, становится для него своим, собственным.
Герменевтическая природа этого типа рациональности находит свое выражение и воплощение в характерном для культуры Средневековья отношении к миру как к школе, в восприятии мира как школы, во вселенской универсализации образов учительства и ученичества. Это получило свое проявление прежде всего в трактовании Христа как учителя, схоларха, который учил в синагогах и храмах, в изображении церкви как школы и в понимании «священной истории» как педагогического процесса, в котором десять заповедей трактуются как божественные уроки человечеству218. В то же время умение оперировать словом становится главной образовательной задачей. Грамматика, риторика и диалектика (логика) составляли тривиум школьного обучения: ведь образно–понятийные трансформации были необходимым условием любого комментирования.
На рубеже XIII–XIV вв. намечается существенный переворот, который можно назвать кризисом теологической рациональности, которая находила свое наиболее адекватное воплощение в схоластической онтологизации универсалий как рациональных форм. По мере формирования все большей уверенности в своих возможностях по отношению к окружающему естественному миру люди осознавали все более глубокие бездны своего собственного «я». Происходит интериоризация духовной жизни, ведущими становятся проблемы развития сознания. А вопросы схоластики превращаются в дилеммы самосознания219. Поэтому новая эпоха ставит и новую теоретическую задачу: сместить акцент в соотношении общего и отдельного в пользу последнего, предоставить ему статус первичности, а общее, универсальное бытие поставить в зависимость от него. В спорах о природе универсалий на первый план выдвигается номинализм.
У. Оккам, один из наиболее выдающихся представителей этого направления, исходит из установки, что «сущности не надо умножать без необходимости». Он доказывает, что отдельные, единичные вещи — это единая реальность, которая существует независимо от человеческого ума. Эти вещи, по мнению У. Оккама, должны стать предметом познания: ведь универсалии — это лишь «vocolia» или «потіпа». Такое утверждение предусматривает, что само чувственное восприятие — это тот путь, которым мы можем получать сведения о реально существующем мире. Мыслитель считает, что познание объективного мира начинается с опыта и осуществляется с помощью ощущений.
Номинализм не только выступает поворотным пунктом в истории европейской мысли (схоластика неизбежно уступает место сенсуализму и рационализму), а и задает программу развития культуры на новой основе. Абстрактному, словесному миру схоластики начинает противопоставляться мир в его непосредственном чувственном богатстве. И именно в границах номинализма создаются теоретико–методологические основы познания этого мира. Как отмечает П. П. Гайденко, существуют довольно веские основания считать номиналистов XIV в. родоначальниками нового типа мировосприятия, которое раскрывает свои возможности в новоевропейской философии, науке и культуре220.
Однако очередной парадокс культуры Средневековья состоит в том, что номинализм оставался одним из направлений схоластики. Он был схоластическим обоснованием антисхоластического взгляда на мир и на возможности его познания. Нужны были еще два столетия бурного развития научного и общественного сознания, чтобы все, что было подготовлено культурой Средневековья, дало свои плоды в творчестве Галилея, Ньютона, Декарта. Должна была состояться настоящая революция в мировоззрении и сознании человека Средневековья, чтобы на место Бога как творца стал человек–творец. Эта революция происходила в XV–XVI вв. и получила название Возрождения.
Творцы Возрождения, пишет Л. М. Баткин, сознательно опирались на античное (главным образом римское и эллинистическое) наследие и неминуемо несли в себе наследие Средневековья, ценности и логика которого преодолевались, но входили, хотя и в превращенном виде, в состав ренессансного мышления. Вместе с тем Возрождение можно рассматривать как подготовку научной и философской революции XVII в. и — шире — как начало Нового времени221.
Одна из характерных особенностей культуры эпохи Возрождения — постепенное расширение процесса секуляризации всех сфер жизни, автономизация каждой из них. Переход из сферы сакрального, независимого от человеческого опыта в сферу зависимого от времени и человеческого опыта — своеобразная духовная секуляризация — был содержанием неофициальной, антиканонической культуры Средневековья (как это проявилось в феномене алхимии). Но эпоху Возрождения духовная секуляризация приобретает невиданные до тех пор масштабы и глубины, переростая в своеобразную интеллектуальную революцию.
Одной из наиболее острых и важных проблем, связанных с секуляризацией, становится проблема свободы — свободы от всех видов и форм социального угнетения. Вера в самоценность личности, антропоцентризм и индивидуализм — неотъемлемые черты ренессансной гуманистической культуры, тогда как в культуре Средневековья результат деятельности имел больший вес, чем человек, который его создал. В эпоху Возрождения человек стремится освободиться от своего трансцендентного корня, искать опору для себя не столько в космосе (хотя отчасти и в нем, о чем свидетельствует натурфилософия Ренессанса), сколько в себе самом, в глубинах своей души. Человеку Возрождения по–новому открывается и свое собственное тело, и потому по–новому видится телесность вообще — «материальная телесность», как называет ее А. Ф. Лосев222 Эта установка получила наиболее яркое выражение в «Речи о достоинстве человека» Пикко делла Мирандолы. Проблема свободы расширяется и начинает восприниматься как свобода творчества, деятельности, свобода человеческого духа и свобода мысли.
Таким образом, новоевропейскую рациональность можно рассматривать как целостный сложный системно–структурный феномен, который сформировался в процессе культурно–исторического развития в результате адаптации античного духовного наследия Западнохристианским миром и соединил в себе разнонаправленные силы, идеи, которые, находясь в беспрерывной борьбе между собой, обогащают европейскую культуру глубиной и жизненностью. В XX в. рациональность как целостное универсальное явление, которое является глубинным свойством человеческого мышления и содержательной характеристикой новоевропейской культуры, распространяется на все виды человеческой деятельности. Это обуславливает необходимость ее комплексного междисциплинарного изучения в диапазоне от истории и теории культуры, социологии, философии до экономики и политологии.
Трансформация Западнохристианской системы в Новоевропейско–Североатлантическую цивилизацию (Ю. В. Павленко)
К рубежу XV–XVI вв. Западная Европа уже вполне подошла к раскрытию идеи индивидуальной свободы, базирующейся на праве частной собственности и реализующейся в гражданских правах. Ее неотъемлемым аспектом была и духовная свобода личности, утверждавшаяся к югу и северу от Альп в двух существенно различных формах, пытавшихся опереться на две самостоятельные традиции — античную и древнехристианскую.
Имеются в виду, с одной стороны, итальянский, несколько шире — романский гуманизм, делавший акцент на самоценности и самодостаточности человеческой индивидуальности в ракурсе ее гедонистического, чувственно–эстетического отношения к миру, и, с другой стороны, немецкая (а вскоре также швейцарская, нидерландская, английская, шотландская, скандинавская) Реформация, концентрировавшая внимание прежде всего на индивидуальной религиозно–нравственной ответственности, на духовной собранности человека, активно и рационально действующего в материально практической плоскости, однако рассматривающего эту деятельность как священное призвание, в конечном счете — как служение Богу, при том, что между ним и Богом устранены всякие посредники.
Религиозно освященная установка на труд и накопление, при категорическом осуждении протестантизмом траты денег на мирские развлечения, способствовала первоначальному накоплению капитала, а, следовательно, и укреплению персональной экономической (и всякой прочей) свободы зарождающегося буржуазного класса. Его представители, руководствуясь буквой и духом кальвинизма с его кощунственной не только в пределах христианства, но и в какой угодно развитой религии, идеей об изначальной избранности ко спасению небольшой группы лиц, при извечной обреченности всех прочих, что б те ни делали, на вечные муки, богатели и воспринимали свой материальный успех как свидетельство личной богоизбранности. Они все более активно начинали бороться и за утверждение собственной политической власти, выдвигая буржуазно–республиканскую альтернативу идее монархического правления (кальвинисты Швейцарии и Нидерландов, затем — кальвинисты–пуритане Англии и Шотландии, в иной форме — протестанты, переселяющиеся на Восточное побережье Северной Америки).
Собственность, таким образом, не только начинает освобождаться от абсолютистской власти монархов, опирающихся на дворянство, но сама стремится к этой власти и в той или иной форме получает ее в первых буржуазных революциях, проходивших под протестантскими, прежде всего — кальвинистскими, лозунгами.
С эпохи Возрождения, тем более — Реформации, в Западнохристианском мире уже массовый человек (а не только пророк, мудрец, философ, подвижник–мистик, как то наблюдается во всех остальных цивилизациях с «осевого времени») находит опору в самом себе через утверждение собственной укорененности в сакральном плане бытия или через ощущение личной, никем и ничем не опосредованной, связи с Богом. И если романский мир часто трактует это мироощущение в духе пантеистически понятого неоплатонизма (с последним мощным аккордом в натурфилософии Дж. Бруно), что уже снижает трагизм персональной драмы жизни отдельной личности, то преимущественно германоязычный протестантский мир доводит накал надежд, сомнений, упований на персональное спасение и личных отношений конкретного верующего с Богом до максимального напряжения, как то видим в жизни многих северян от М. Лютера до С. Кьеркьегора.
Глубоко созвучны такому тонусу интуиции Б. Паскаля, как и всего полупротестантского по своему духу янсенизма. А в философии Р. Декарта, внешне вполне лояльной католическому вероучению, индивидуальный разум (еще полагаясь на то, что «Бог не может лгать») уже фактически возведен в ранг высшего судии и законодателя окружающей человека реальности — что, совместно с пафосом Ф. Бэкона относительно призвания человека к покорению и преобразованию природы, готовит почву для просветительского рационализма.
Секуляризация сознания в эпоху Просвещения способствовала формулированию понятия о «естественных правах и свободах человека» отчасти уже в Англии после «Славной революции» 1688 г., а затем с новой силой во Франции середины XVIII в., тогда как деятели Американской революции (сами — приверженцы просветительской идеологии) в соответствии с протестантскими традициями обосновывали эти права скорее при помощи идейного наследия Библии. Однако в обоих случаях во второй половине XVIII в. имеем и декларации прав человека, и попытки (вполне удавшиеся тогда лишь в североамериканских штатах) подчинить деятельность государственных структур интересам частных собственников, на чьи налоги и существует государство западного образца. Еще ранее это в значительной степени было реализовано в Северных Нидерландах и Англии.
Таким образом, выражаясь метафорически, с середины XVI в. до конца XVIII в. в наиболее развитых странах Запада (Нидерланды, Англия с Шотландией, Франция) и в освободившихся от британского владычества североамериканских колониях собственность, окрепшая экономически и юридически, и получившая идеологическое обоснование своей самоценности в протестантизме и просветительстве, восстает против абсолютистски–бюрократической власти и берет в свои руки государственный аппарат, который с этого момента ставится на службу интересам частных собственников. Этому в конце XVIII в. соответствуют и другие преобразования, среди которых особенно следует отметить активизацию колониальной экспансии и промышленный переворот, связанные в свою очередь как с ростом предпринимательской активности, так и с возростанием объема научно–технических знаний. Все это в первую очередь касается Англии.
Такое развитие происходило на основе постепенного (начинавшегося еще у Ф. Бэкона) и в дальнейшем усиливавшегося утилитарно–прагматического отношения к знанию как к способу овладения силами и богатствами природы во имя их потребления. Десакрализация природы в механистической картине мира, утверждающейся в XVII–XVIII вв., происходит параллельно с выработкой у представителей Новоевропейской цивилизации хищнически–потребительского отношения и к природным ресурсам, и к окружающим обществам. Запад считает себя вправе использовать их в собственных утилитарных интересах, не задумываясь пока о последствиях такого отношения не только для природы и соседних обществ, но и для самого себя.
И на природу, и на другие народы западные европейцы веками приучались смотреть как на средство удовлетворения собственных потребностей. Проследить это можно со Средневековья. Если 1‑й крестовый поход действительно вдохновлялся религиозными чувствами (что, естественно, не исключало и корыстных мотивов его участников), то IV-й крестовый поход, планировавшийся против мусульманского Египта и обернувшийся разграблением христианского Константинополя с разделом между главарями этой акции и венецианцами владений Византии, уже со всей очевидностью демонстрирует этот взгляд.
В контексте такой установки свое объяснение находит и уничтожение большей части населения обеих Америк, и трансатлантическая торговля черными невольниками с их дальнейшей эксплуатацией на рационально организованных плантациях, и колониальный раздел мира, и отношение фашистов к «низшим расам» с проектом уничтожения одних (евреев, цыган) и превращением в рабов индустриальной эры других (в частности — славян).
Западнохристианский мир Средневековья, претерпевая глубинные трансформации в эпоху Возрождения, Реформации и Великих географических открытий, превращается в мир Новоевропейский, который по сути уже со времен Семилетней войны (1756–1763 гг.), тем более с провозглашения «Декларации независимости» США в 1776 г., становится миром Североатлантическим. И следует учитывать, что наиболее характерные и специфические черты Западной цивилизации в Северной Америке проявились куда более глубоко и ярко, чем в самой Западной Европе, — в силу того, что на новых землях выходцы из Европы не были отягощены феодально–абсолютистским, церковно–клерикальным и корпоративно–цеховым наследием.
Устремлявшиеся в Северную Америку в XVII–XVIII вв. колонисты как раз и были людьми, решительно порывавшими со старыми традициями, сковывавшими индивидуальные предпринимательские силы и личную свободу практической самореализации. При этом не следует забывать, что в своем большинстве эти люди (при темном, зачастую криминальном прошлом некоторых из них) были рьяными протестантами, по большей части представителями различных ответвлений кальвинизма (реформаты, пуритане, пресвитериане и пр.). Дух религиозной исключительности стимулировал практическую активность этих людей, поскольку показателем богоизбранности в кальвинизме выступает, как отмечалось ранее, деловой успех.
Таким образом, к концу XVIII в. Западная, уже Новоевропейско–Североатлантическая цивилизация вышла на принципиально новый уровень не только собственного, но и общечеловеческого развития — уровень, связанный прежде всего с победой капитализма и рационализма, созданием системы парламентской демократии и начавшимся в это время промышленным переворотом, наконец, с началом глобальной интеграции человечества под эгидой Запада, ведущие страны которого приступили к колониальному разделу мира. Внешне этот прорыв был ознаменован такими наиболее выразительными событиями того времени:
• война за независимость североамериканских колоний, начатая в 1775 г., провозглашение независимости США в 1776 г. и признание этого факта Англией по Версальскому договору 1785 г. — положили начало созданию общества на основаниях частной собственности, предпринимательства, юридического равенства, парламентаризма и федерализма;
• промышленный переворот в Англии, начало которого было ознаменовано изобретением парового двигателя и механической прялки, запатентованных, соответственно, в 1784 и 1785 гг., определившего в ближайшие десятилетия экономическое и военное преобладание Запада (прежде всего — той же Англии) в мировом масштабе;
• Великая Французская революция 1789–1794 гг. — ликвидация сословного строя и монархии, дискредитация Церкви на уровне государственной политики и массового сознания, официальное провозглашение всеобщего политического и юридического равенства, декларирование идеи суверенитета политической нации и пр.;
• утверждение в течение нескольких десятилетий британского колониального владычества в Индии, решающий момент которого приходится на 1803 г., когда английские войска захватили Дели и Великий Могол превратился в марионетку в руках колонизаторов — положило начало утверждению колониального господства Запада во всемирном масштабе.
Из этих событий вытекали многочисленные, так или иначе повлиявшие на судьбы мира, последствия. Среди них в первую очередь следует назвать:
• начало бурного развития североамериканской ветви Западной цивилизации на буржуазно–демократических основаниях с конституционным признанием за каждым (в том числе и за освобожденными в результате Гражданской войны 1861–1865 гг. из рабства неграми) «естественных и неотъемлемых» прав человека;
• индустриальное преобразование мира с обеспечением неоспоримого западного (сперва — английского) экономического доминирования в мировом масштабе;
• ликвидация сословного деления сперва в Западном мире, а затем и (по крайней мере юридически) во всех остальных регионах мира, формальное признание равенства всех людей безотносительно к социальному положению, полу, расе и национальности;
• утверждение системы новоевропейских наций с постепенным распространением подобных форм этноконсолидации и в других регионах планеты, при том, что национальная самоидентификация (вместо сословной и конфессиональной идентичности) становится ведущей;
• создание западными государствами и Россией мировой колониальной системы в качестве первой, насильной, формы структурно–функционального объединения человечества в рамках единой макроцивилизационной системы, при параллельном утверждении в мировом масштабе, в качестве господствующего принципа, капиталистической товарно–рыночной экономики, с присущим ее носителям духом рационализма, индивидуализма и прагматизма.
Следует признать, что особый и сложнейший вопрос, почему именно Запад в третьей четверти минувшего тысячелетия вышел на принципиально новый уровень исторического развития, связанный с капитализмом и индустриализацией, техницизмом и пр. остается еще далеко не разрешенным. Бесспорно то, что здесь сыграли роль многие, оказавшиеся во взаимодействии, факторы, о которых шла речь выше. Среди них стоит особенно отметить следующие: унаследованный от античности рационализм, понятие о гражданственности и юридических правах людей; зачатки персоналистического отношения к Богу, при религиозной санкционированности активной преобразующей окружающий мир деятельности — из иудейско–христианской традиции; индивидуальный характер экономической деятельности варварских народов Западной Европы; общественно–политическая самостоятельность глав домохозяйств у варварских народов; изначальный, с раннего средневековья, плюрализм и взаимосдерживание основных социальных сил (монархии, феодализма, церкви, городов); формирование (первоначально по преимуществу в монастырях) религиозно освященного отношения к производительному труду как к призванию человека и его долгу перед Богом и пр.
Качественный перелом в развитии Европы связан с Возрождением и Реформацией, взаимодействием индивидуалистического рационализма и гуманистическо–гедонистической установки Ренессанса, индивидуалистических религиозных исканий в Европе севернее Альп и развивавшейся быстрыми темпами предпринимательской деятельности в городах, достаточно самостоятельных в условиях расшатывания устоев феодализма, дискредитации католической церкви и слабости политических структур формирующихся национальных государств. Реформация и утверждение (с последующим бурным развитием) капитализма тесно взаимосвязаны, однако не по модели причины и следствия, а в соответствии с принципом появления качественно нового в точке пересечения автономно развивавшихся, но в некоторый момент встретавшихся процессов.
Рациональный капитализм как феномен Новоевропейской цивилизации223 (П. В. Кутуев)
Наверное, не будет преувеличением утверждать, что вся постсоветская история Украины развивалась и продолжает развиваться под знаком гегемонии идеологии рынка. На смену длительному периоду риторики, объединяемой с элементами практики — шоковой терапии, которая больше походила на оперативное вмешательство без наркоза, пришел дискурс экономического роста, который, впрочем, объясняет нынешнюю однобокую экономическую динамику (демонстрирующую симптомы «голландской болезни» и зависимого развития), «горькими, но необходимыми» решениями, которые принимались в прошлом в духе либерализма.
Сильнейшим аргументом, к которому апеллируют идеологи свободного рынка при объяснении всех метаморфоз, которые претерпел этот тип хозяйствования в нашей стране, выступает обвинение государственно–бюрократических структур в нежелании реализовать на практике рыночные реформы, которые бы отвечали своему идеальному типу. Тем не менее, обсуждение проблем радикальной трансформации экономики и политической системы без принятия во внимание влияния традиций окружающей культурной среды и теоретической рефлексии над этими проблемами является бесплодным и заводит в тупик.
Ни у кого не вызовет возражений утверждение, что для решения любой научной или практической проблемы необходимо сначала четко сформулировать ее, а это, на мой взгляд, возможно лишь при условии учета многомерности действительности, многомерности, которую принципиально нельзя постигнуть во всех ее аспектах, даже конструируя априорные монистические схемы, продуцированием которых занималось отечественное обществоведение. Но само лишь отрицание научным сообществом прежних ориентиров и заимствование новых образцов на Западе едва ли может стать полезным само по себе. Ведь, как отмечал М. К. Мамардашвили, хотя мы с формальной точки зрения пользуемся рациональными терминами европейской традиции, но «те же самые слова у нас лишены объекта: у них объекты или вообще несуществующие, или призрачные…»224 Таким образом, гораздо целесообразнее использовать достояние основателей западной социальной теории не как готовый инструментарий для препарирования социума и проникновение в сущность общественных процессов, а как точку отсчета для построения теоретической системы координат, адекватной для нашей страны.
Среди классиков западной социальной мысли наибольшее внимание к себе привлекает фигура немецкого мыслителя М. Вебера, который не только декларировал идею объективной и свободной от оценок социальной науки, но и реализовал ее в своих конкретно–исторических, социологических и политических исследованиях генезиса рационального западноевропейского капитализма, хозяйственной этики мировых религий, типов легитимного господства и актуальных проблем демократии.
М. Вебер, взгляды которого формировались под влиянием неокантианской традиции (а также философии В. Дильтея), принципиально отвергнул претензии как марксизма, так и идеализма (типа гегелевского) на постижение сути истории, на выведение общей формулы общественного развития, с помощью которой можно было бы анализировать конкретные социокультурные феномены. Он констатировал односторонность и «материалистической», и спиритуалистической интерпретации каузальных связей в области культуры и истории: «Та и другая допустимы в равной степени, но обе они одинаково мало помогают установлению исторической истины, если они служат не предварительным, а заключительным этапом исследования»225.
Согласно М. Веберу, социология как наука о действительности призвана понять жизнь, которая окружает нас во всем своем своеобразии, то есть «взаимосвязь и культурную значимость отдельных ее явлений в их нынешнем виде, а также факторы того, что они исторически сложились именно так, а не иначе»226. Но жизнь предлагает нам бесконечное многообразие явлений, которое не уменьшается, даже если мы изолированно рассматриваем отдельные ее объекты. Поэтому любое познание действительности человеческим духом исходит из того, что предмет познания может быть лишь той частью действительности, которая считается «существенной», то есть «достойной знания». Ведь культурой, по М. Веберу, является тот «конечный фрагмент лишенной смысла действительности, который, на человеческий взгляд, обладает смыслом и значением»227.
Специфическим свойством наук о культуре (М. Вебер использует риккертовское понятие, отказываясь в то же время от абсолютизированного противопоставления последних наукам о природе) является то, что они стремятся понять жизненные явления в их культурном значении. Значимость явлений культуры предполагает соотнесение их с ценностными идеями: «Отнюдь не большая часть индивидуальной действительности окрашена нашим интересом, обусловленным ценностными идеями; только она имеет для нас значение, и обусловлено это тем, что в ней оказываются связи, важные для нас вследствие их соотнесенности с ценностными идеями. Только поэтому — и постольку, поскольку это имеет место, — данный компонент действительности в его индивидуальном своеобразии представляет для нас познавательный интерес»228.
В процессе исследования происходит соотнесение действительности с ценностями, которые придают ей значимость и позволяют формировать типичные понятия; эта процедура коренным образом отличается от анализа действительности с помощью законов (то есть изучения общих черт явления), являющегося лишь подготовительной работой для познания исторического, т. е. имеющего значение в индивидуальной своеобразности феномена.
Порядок в окружающий нас хаотичный мир вносится тем, что «интерес и значение имеет для нас, во всяком случае, лишь часть индивидуальной действительности, поскольку только она соотносится с ценностными идеями культуры, которые мы применяем к действительности»229. То же самое касается и каузального объяснения. С точки зрения М. Вебера, мы вычленяем те причины, которые могут быть сведены к существенным компонентам события, а потому должны говорить не о законах или подведении явления под общую формулу, а о конкретных каузальных связях, решая вопрос, к какой индивидуальной констелляции его следует свести. Таким образом, М. Вебер солидаризируется с выводом Г. Риккерта, согласно которому при объяснении явлений культуры знание законов является лишь средством исследования, а не целью познания.
М. Вебер усматривает главную специфическую черту развития европейской культуры в процессе рационализации, которая означает, что люди знают или верят в то, что стоит лишь пожелать, и в любое время они могут определить и изменить любые жизненные условия. «Следовательно, нет никаких неподвластных учету таинственных сил, которые здесь якобы действуют…, наоборот, всеми вещами в принципе можно овладеть путем расчета, — пишет немецкий социолог. — Последнее, в свою очередь, означает, что мир расколдован. Больше не нужно обращаться к магическим средствам, чтобы склонить на свою сторону или покорить себе духов, как это делал дикарь, для которого существовали такие таинственные силы»230.
Наиболее последовательно основополагающие принципы веберовской методологии воплотились в его сравнительно–исторических исследованиях социологии мировых религий, которые были призваны эксплицировать заложенные в психологическом и прагматическом содержании религий практические побуждения и стимулы к действию.
Религия как комплекс взглядов на спасение от страдания является ядром картины мира человека. Согласно М. Веберу, «не идеи, а интересы (материальные и идеальные), непосредственно властвуют над поведением человека. Тем не менее, очень часто «картины мира», которые создавались «идеями», как стрелочники, определяли пути, по которым динамика интересов продвигала дальше действие»231. Картина мира выступает опосредующим звеном между идеями и интересами, взаимодействие которых объясняется понятием–метафорой «избирательное сродство»232 и дает возможность постигнуть смысловую связь действий, носителем которых являются отдельные люди.
Кроме того, за тем или иным представлением о спасении кроется определенное отношение к тому, что в реальном мире воспринималось как специфически «бессмысленное». Это отношение является ядром религиозного рационализма, носителями которого выступают интеллигентские слои.
М. Вебер насчитывает пять мировых религий: конфуциантство, индуизм, буддизм, христианство и ислам. К ним добавляется иудаизм, поскольку он содержит в себе предпосылки для понимания двух последних из названных религий. При этом немецкого социолога интересует не столько само вероучение, сколько практическое влияние религии на общество. Поэтому он ограничивает свою задачу выявлением основных элементов жизненного поведения тех социальных слоев, которые более всего повлияли на специфический характер практической этики религии (которая, в свою очередь, является одной из детерминант хозяйственной этики).
М. Вебер строит следующую типологию: конфуциантство было сословной этикой литературно–просвещенного, светски–рационалистического чиновничества. Носителями индуизма были брахманы — наследственная каста литературно образованных (на основе «Вед») людей, с которыми позднее начала конкурировать небрахманская каста аскетов. Буддизм проповедовался бездомными, странствующими, ведущими строго–созерцательный образ жизни монахами–нищими, отвергшими мир. Лишь они являются членами религиозной общины — сангхи, для которых важно лишь спасение и четыре благородные истины, а все остальные люди рассматриваются как неполноценные в религиозном отношении миряне. Ислам был с момента его возникновения религией воинов–завоевателей, дисциплинированных борцов за веру. Иудаизм с момента рассеяния являлся религией буржуазного «народа–парии». И, наконец, христианство начало свое развитие как учение странствующих ремесленников; оно было специфически городской, прежде всего, буржуазной религией.
Религиозные взгляды находятся под влиянием определенного типа рационализма: теоретического или практического (носителем первого, при любых условиях, выступают интеллигенты, второго, по мере возможности, — ремесленники и торговцы). Расщепление синкретической конкретно–магической картины мира оказывало содействие, с одной стороны, стремлению к рациональному познанию и овладению природой, созданию образа «космоса», подвластного безличным законам, а с другой — тяготению к «мистическому» переживанию, содержанием которого является потусторонний мир, дарующий индивидуальное спасение и благо.
Религиозные системы, которые ощутили наибольшее влияние просвещенных слоев (например, как индийские мировые религии), ориентированы на созерцание — приобщение к глубокому блаженному покою было для них высшим и конечным из доступных человеку религиозных благ.
Совсем в другом направлении происходила эволюция учения в ситуации, когда определяющее влияние на развитие религии имели слои, практически действующие в жизни, например, рыцари–воители, чиновники или хозяйственно–производительные классы. Так, буржуазные (в западноевропейском смысле) слои, благодаря меньшей экономической зависимости от природы, проявляют тенденцию к практическому рационализму жизненного поведения; именно эти социальные группы обладали возможностью создавать, в связи с тенденцией к техническому и экономическому рационализму, этически рациональное регламентирование жизни. В этом случае, когда буржуазия была носителем религии, в центре которой стоял пророк–посланник, обращавшийся к миру от лица Бога с требованиями морального и активно–аскетического характера, мы фиксируем высокую ценность богоугодной деятельности, наполненной осознанием того, что верующий является «орудием Бога».
Религия пророка–посланника глубоко сродственна представлениям о Боге как гневающемся, прощающем, взыскивающем и наказывающем, надмировом и личностном Боге–творце, в противоположность представлению о безличном, доступном лишь через созерцание, высшем существе, характерному для «классического» пророчества, носителем которого был пророк, задающий парадигму правильной, апатично–аскетичной жизни.
Первый тип ориентации был присущ иранской, переднеазиатской и западным религиям, второй — индийской и китайской формам религиозного мировоззрения.
Внимание, уделяемое М. Вебером типологии религий, объясняется принятием постулата о том, что «рациональная» религиозно–благодатная прагматика, которая вытекает из представлений о Боге и о картине мира, имеет при определенных условиях большое влияние на характер практического жизненного поведения верующих. Как уже отмечалось, «вид» благодати и «способ» спасения, которые были предметом стремления верующих, в значительной мере детерминировались внешними интересами и соответствующим им жизненным поведением господствующих классов, то есть социальной дифференциацией. В то же время направленность всего жизненного поведения (в тех случаях, когда оно испытывает планомерную рационализацию), была в поразительно высокой степени обусловлена абсолютными ценностями, служившими ориентирами подобной рационализации, причем там, где происходила этическая рационализация жизненного поведения, присутствовали религиозно обусловленные (хотя не всегда и не исключительно) ценности и отношения.
В начале истории многих религий мы сталкиваемся с явлением неравной, неодинаковой религиозной квалификации индивидов. Существует дистанция между религиозными виртуозами–харизматиками, объединяющимися в союзы (например, колдунов, аскетов или пневматиков), и религиозно «немузыкальными» (термин М. Вебера) массами. По мнению М. Вебера, там, где благодать и пути к спасению имели созерцательный или оргиастично–экстатичный характер, между виртуозной религиозностью и практической повседневной деятельностью не существовало никакой связи, такой тип религиозности по своей внутренней сути был враждебен хозяйствованию. Ведь мистическое переживание является чем–то небудничным, оно уводит от повседневности и любой рациональной целесообразной деятельности, поскольку обретенная благодать чистого мистика служила ему одному, а не другим.
Совсем по иному пути шло развитие там, где религиозно–квалифицированные индивиды организовывали секты аскетического характера, которые стремились построить жизнь на земле согласно воле определенного Бога. Для того, чтобы это могло произойти, высшая благодать должна пониматься не как обретаемая путем созерцания, а как результат самоотверженного, религиозно мотивированного практического действия. В полной мере такие условия, как «расколдовывание» мира и переориентация путей к спасению от созерцательного бегства от мира к активной его «аскетической обработке», были соблюдены лишь церквями и сектантскими образованиями аскетического протестантизма на Западе.
Там, где «религиозный виртуоз» рассматривал себя в качестве орудия Бога, заброшенного в мир и лишенного вдобавок магических путей к спасению, единственным средством спасения последнего становилась нравственность его поведения. Такой аскетизм не бежал от мира, а старался морально рационализировать его в соответствии с заповедями Господними. Для активного аскетизма именно в повседневности крылась благодать избранничества, но, как правило, не в той повседневности, какой она была, а в той, какой она должна стать вследствие методически рационализированной деятельности религиозно–квалифицированного человека, рассматривавшего свою повседневную деятельность как призвание и источник спасения. Секты религиозных виртуозов стали на Западе катализаторами методического рационализирования жизненного поведения, включая и хозяйственную деятельность, в противоположность общинам созерцательных, оргиастических или апатичных экстатиков, которые стремились избежать в потустороннем мире бессодержательности земной деятельности.
Предложенная М. Вебером типология хозяйственных этик освещает их отношение к экономическому рационализму того типа, который начал властвовать на Западе в XVI–XVII вв. как элемент буржуазной рационализации жизни, приведшей к возникновению капитализма.
М. Вебер проводит четкую дихотомию между капитализмом, понимаемым как простое стремление к наживе, принимающим форму авантюристического, спекулятивного, иррационального капитализма, ориентированного на непосредственное потребление прибыли, и капитализмом рациональным. Последний тип хозяйствования базируется на ожидании прибыли, благодаря использованию возможностей обмена, и таким образом сориентирован на товарный рынок. Мы имеем все основания, вслед за М. Вебером, назвать этот тип капитализма буржуазным промышленным капитализмом, связанным с рациональной организацией свободного труда, а в культурно–историческом аспекте — с возникновением западной буржуазии. (При этом мы должны помнить, что М. Вебер оперирует идеальными типами, посему повседневная социальная реальность может — и по определению должна — отличаться от мыслительной «утопии», функцией каковой является структурирование нашего мышления и ориентировка наших исследовательских интересов.)
М. Вебер в «Протестантской этике и духе капитализма» усматривает свою задачу в исследовании связи современного хозяйственного этоса с рациональной этикой аскетического протестантизма, которая обнаруживается в объединении виртуозности в сфере капиталистических деловых отношений с интенсивной формой набожности. В подтверждение своей мысли немецкий социолог цитирует отрывок из письма английского поэта–романтика Джона Китса брату Томасу: «Эти церковники превратили Шотландию в колонию накопителей и успешных предпринимателей»233.
Такая комбинация всегда была характерной и для кальвинизма. Как к парадигматическому примеру «капиталистического духа», М. Вебер обращается к моральным максимам Б. Франклина, суть которых резюмируется в словах «Помни, что время — деньги». Эта максима транслировала библейское высказывание: «Ты видел человека, проворного в занятии своем? Он перед царями спокойно будет стоять…» (Пр.: 22:29) в сферу профессиональной обязанности человека, следующего своему призванию и систематически и рационально стремящегося к законной прибыли.
Такое мировоззрение в корне противоположно духу, которым проникнуто традиционное хозяйство. Цель последнего — удовлетворение обычных насущных потребностей человека, сохранение традиционного образа жизни вообще. Ломка традиционализма происходила в большинстве случаев не через изменение внешних обстоятельств (такой тип анализа доминирует у К. Маркса), а благодаря возникновению нового типа людей, которые, сначала не меняя коренным образом формы организации производства, внедряют новый дух — дух современного капитализма. Он встречает жесткое противодействие со стороны традиционализма, а потому, наряду с чрезвычайной силой характера, способностью к трезвой оценке ситуации и активностью предприниматель нового типа должен был обладать определенными этическими качествами, которые обеспечивали бы ему необходимое доверие клиентов и работников.
Кроме того, безграничное возрастание интенсивности и производительности труда, несовместимое с гедонистическим отношением к жизни, требовало этической легитимации, которая не могла быть ничем иным как иррациональным ощущением хорошо «исполненного долга в границах своего призвания»234.
Средневековье с его широким использованием принципа канонического права «Deo placere vix potest», которое относилось к деятельности торговца, а также концепции справедливой цены (justum pretium), распространенной в кругах клириков–интеллектуалов того времени, создавало непреодолимые препятствия на пути рациональной и, в то же время, нормативно регулируемой деятельности в мире.
На первый взгляд может показаться, что проповеди М. Лютера или Ж. Кальвина мало отличаются от католических. Ведь они тоже избирают объектами своих критических речей ростовщиков и купцов, занимающихся внешней торговлей и финансовыми операциями. Однако отличие позиции М. Лютера и Ж. Кальвина от традиционно католической кристаллизуется в понятии «Beruf» (призвание), не имеющем аналогов в языках народов, тяготевших к католицизму. Это понятие содержало представление о поставленной Богом перед конкретным человеком задачей.
Понятие «призвание» («Beruf» в лютеровском переводе Библии на немецкий язык) позволяло эксплицитно рассматривать выполнение обязанности в рамках светской профессии в качестве высочайшей задачи моральной жизни человека. Таким образом, понятие «Beruf» выражает «тот центральный догмат всех протестантских исповедований, который отвергнет католическое деление моральных заветов христианства на «praecepta» (заповеди) и «consilia» (советы), догмат, который средством стать угодным Богу считает не пренебрежение светской занятостью с высот монашеской аскезы, а выполнение светских обязанностей так, как они определяются для каждого человека его местом в жизни. Тем самым эти обязанности становятся для человека его «призванием»235.
Речь не идет о внутреннем родстве взглядов Лютера с «капиталистическим духом». Более важной является характерная «для аскетического протестантизма концепция своей избранности, обретения уверенности в спасении посредством деятельности в рамках своей профессии (certitudo salutis)»236 В других случаях (например, монашеской аскезе или учении Леона Альберти) «отсутствуют те психологические награды, которые эта форма религиозности воздавала за “industria” (трудолюбие. — Авт.) и которые неизбежно должны были отсутствовать в католицизме с его совсем иными средствами спасения»237.
Впрочем, понятие профессионального призвания еще сохраняло у Лютера традиционалистский характер. Ведь оно понималось как то, с чем человек должен «мириться». Однако в его учении ощущается и новый мотив, согласно которому профессиональная деятельность является главной задачей, поставленной перед человеком Богом.
Кальвин предложил более обоснованную идею профессиональной рациональной этики, нежели лютеровская версия, сделав центром своей теологической концепции учение о предопределенности судьбы каждого человека к спасению или гибели. Иными словами, не Бог существует для людей, а люди для Бога, и все действия человека имеют смысл лишь как средство самоутверждения божественного величия. Индивид обречен нести бремя предопределенной ему судьбы и в важнейшей для эпохи Реформации жизненной проблеме — вопросе о вечном блаженстве — ему не были в состоянии помочь ни проповедник, ни таинства, ни церковь, ни даже сам Бог, так как Христос принес свою жертву лишь для спасения избранных.
Кальвинизм последовательно уничтожил все магические средства спасения, квалифицировав их как неверие и кощунство, и доведя тем самым до логического конца процесс «расколдовывания» мира. Мир мыслился в кальвинизме как существующий для прославления Бога. Христианин–избранник существует лишь для того, чтобы выполнять в своей светской жизни заповеди во славу Всевышнего: «Богу угодна социальная деятельность христианина, ибо он хочет, чтобы социальный уклад жизни отвечал его заповедям и поставленной им цели»238.
Инновационный характер аскетического протестантизма и его сравнительная оценка (П. В. Кутуев)
Хотя христианская аскеза, призванная рационально упорядочить жизнь своих адептов, ведет свое начало от западного монашества Средневековья, специфической чертой протестантизма было преобразование его в чисто светскую аскезу, регулирующую повседневную жизнь. Даже К. Маркс, сосредоточив свое внимание на совсем других последствиях религиозности, не смог проигнорировать тот факт, что Лютер «отрекся от попов, пребывающих вне мирянина, так как он пересадил попа в сердце мирянина…»239 Сторонник аскетического протестантизма, методично блюдя свою избранность, тем самым обеспечивал глубокую «христианизацию» всего человеческого существования, превращая светскую повседневную жизнь в рациональную жизнь в мире, которая противостояла таким ориентациям, как жизнь «не от мира сего» и «для мира сего».
Не бездеятельность и наслаждение, а лишь деятельность увеличивает славу Господню, так как созерцание оценивается аскетическим протестантизмом как менее угодное Богу, чем активное выполнение его воли в рамках своей профессии. Заповедь апостола Павла «что если кто работать не хочет, пусть тот не ест!» (2 Фесс. 3:10), направленная против специфического типа паразитирующих проповедников, возглавлявших приходы, становится универсальным требованием, адресованным ко всем без исключения. При этом нежелание работать расценивается как симптом отсутствия благодати. Светская аскеза протестантизма отрицала наслаждение богатством и старалась сократить потребление, ограничивая жажду к наживе, превратив предпринимательство в занятие не только законное, но и угодное Богу.
Пуританская этика бизнеса не была простым добавлением к приобретению прибыли, как не была она и чистой эманацией религиозной этики. Вместо этого мы имеем качественно новый результат взаимопроникновения двух сфер. Как пишет немецкий социолог Р. Мюнх, «это проникновение этики в “домен” бизнеса является, в соответствии с М. Вебером, специфическим признаком современного капитализма, по сравнению со всеми незападными и домодерными формами хозяйственного поведения»240.
К. Маркс, хотя и придерживался теоретической системы координат, коренным образом отличавшейся от веберовской (постоянно смешивая декларированное исследование истории как «естественно–исторического» процесса с практически–политическими оценками), также констатирует феномен аскетизма, правда, рассматривая его как следствие капиталистического производства, а не одну из его предпосылок: «политическая экономия, эта наука о богатстве, является, вместе с тем, наукой о самоотречении, о нищете, о бережливости… Эта наука о чудесной промышленности есть, вместе с тем, наукой об аскетизме, и ее настоящий идеал — это аскетичный скряга, который, тем не менее, занимается ростовщичеством, и аскетичный, но производящий раб….Поэтому политическая экономия, несмотря на весь свой светский и чувствительный вид, является действительно моральной наукой, наиболее моральной из наук. Ее основной тезис — самоотречение, отказ от жизни и от всех человеческих потребностей. Чем меньше ты ешь, пьешь, чем меньше покупаешь книг, чем реже ходишь в театр, на балы, в кафе, чем меньше ты думаешь, любишь, теоретизируешь, поешь, рисуешь, фехтуешь и т. д., тем больше ты экономишь, тем большим становится твое сокровище, которого не подтачивает ни моль, ни червь, — твой капитал»241.
Конечно, высокую оценку добросовестному труду давала литература аскетических сект всех конфессий, но только протестантская аскеза, углубив это представление, присоединила к нему то, что и определило силу действия существующей нормы — психологический импульс, возникший в результате отношения к своей работе как к призванию, как к наиболее верному и, наконец, единому средству, позволяющему убедиться в своей избранности. Пуританизм, а более обобщенно — аскетический протестантизм — стоял у колыбели современного западноевропейского «экономического человека», разрушившего традиционалистски «органическое» социальное устройство абсолютизма (также предрасположенного использовать товарно–денежные отношения, модифицируя феодальную эксплуатацию и приобщаясь к фискально–монополистическому торгашеству), противопоставив ему индивидуалистические импульсы рационально–легального предпринимательства, базирующегося на таких качествах личности, как инициативность и ответственность.
Все вышесказанное позволяет мне солидаризироваться с традицией, связывающей понятие рынка «не столько с теми или иными формами хозяйственного обмена, сколько с особого рода субъектом — “экономическим человеком”, для которого динамика предложения и спроса или ее обобщенное выражение в этических, теологических и философских доктринах, рассматривающих мир как поприще для преследования частных интересов, является универсальным и безусловным императивом повседневного поведения, независимо от того, идет ли речь о хозяйстве, политике или духовной жизни»242.
Вслед за М. Вебером мы можем провести четкую демаркационную линию между двумя видами капиталистической деятельности: ничем не сдерживаемой «auri sacra fames» (Проклятая золота жажда! — Вергилий. Энеида. III, 57) торговцев, скупщиков и колониалистов (которые вдобавок пользовались поддержкой государства), то есть представителей авантюристического, спекулятивного капитализма, ориентированного на войну, государственные монополии и поставки, грюндерство, финансовые и строительные проекты, и буржуазной организацией трудовой деятельности в рамках рационального капитализма, носителем коей были приверженцы деноминаций аскетического протестантизма.
Предпринимательская деятельность евреев, рассматриваемая коллегой М. Вебера В. Зомбартом как один из ключевых катализаторов генезиса капитализма, также относится к домодерным формам хозяйствования. Она ничего не прибавила к специфическим формам современного капитализма с его рациональной организацией труда, в особенности в производственной сфере на промышленном предприятии типа фабрики243.
Для М. Вебера результатом культурной эволюции Запада было перемещение аскезы из монашеской кельи в рамки профессиональной жизни и обретение ею господства над светской нравственностью, что содействовало созданию современного деперсонифицированного космоса капиталистического хозяйства, уже не требующего этической легитимации244. Сформировавшись и достигнув институционализации, капитализм принудительно формирует стиль жизни человека, закованного в «стальной панцирь» забот о светских благах. Но если «простое воспроизводство» западного капитализма и в самом деле не нуждается в опоре на моральные установки, то одно лишь «беспрестанное накопление капитала» (И. Валлерстайн) в качестве мотива подобного стиля жизни (в особенности в условиях кризиса трудовой этики, фиксация которого стала общим местом в раздумьях социологов от В. Шпронделя до Д. Белла), делает проблематичными исключительно оптимистические оценки тенденций развития Запада.
Из сказанного следует, что в ситуации, которая сложилась сегодня в Украине, заимствование и культивирование форм рыночного хозяйствования — которое, впрочем, весьма активно и «успешно» происходит стихийно–авантюристически на индивидуальном уровне, находя институционализированное воплощение в практиках политического капитализма — должно дополняться поиском, а возможно, и созданием245 адекватного рациональному типу экономического поведения «духа» или определенной ментальности (термин, получивший распространение благодаря трудам представителей школы «Анналов»), содействующей становлению индивидуалистически ответственного стиля жизни.
Ментальность, по словам А. Я. Гуревича, «можно было бы определить как способ восприятия и мышления, свойственный людям данной социальной системы в данный период их истории. Ментальность “пересекается” с социально–психологическими установками, не будучи им тождественной. В центре внимания исследователей ментальности находятся не столько быстротечные и переменчивые настроения людей (такие как паника, поведение масс во время войны, восстаний, в моменты религиозного подъема и т. п.), сколько устоявшиеся коллективные представления, стереотипы сознания, заданные культурой навыки мышления, “духовные орудия”, или “умственный инструментарий”, которым владеют индивиды и коллективы на определенном этапе развития общества и цивилизации.
Ментальность воплощает повседневное мировосприятие, повседневные очертания коллективного сознания, не систематизированного направленными усилиями мыслителей и идеологов. Идеи производят теоретики, а уже потом воспринимают более широкие круги, ментальность же присуща любому члену общества в такой же степени, как ему присущ его язык, на котором он общается с другими людьми»246. Безусловно, этическая поддержка рациональной предпринимательской деятельности в каждом отдельном случае имеет уникальные черты, тем не менее без такого обеспечения (и это универсальная тенденция) успешное становление рационального капитализма весьма проблематично.
Япония, проделавшая в рекордно короткий срок путь от традиционного общества к постиндустриальному247, достигла успехов в создании рыночной экономики (история становления демократических институтов в этой стране была гораздо более сложной, нежели ее экономическое развитие) благодаря успешной комбинации новой рыночной политики государства и сохранения традиций, способствовавшей адаптированию социума к императивам капитализма. Таким образом, если демократизация Японии (хотя, по мнению многих исследователей и комментаторов, и формальная) стала возможной только благодаря поражению во Второй мировой войне и последующей американской оккупации248, формирование хозяйственного этоса и политико–экономических структур, совместимых с эффективным капитализмом, было гораздо более успешным.
Шок от проникновения модерна в японское общество прекрасно зафиксировал Г. Харутюнян в своей книге «Захлестнутые модерном». Его исследование демонстрирует, что, при всей важности политико–экономического противостояния по линии Япония — США, войну на Тихом океане невозможно адекватно понять вне контекста японского идеологического «восстания против Запада», поскольку в 20–30‑е годы XX в. модерн больше существовал в общественной фантазии нации, нежели действительно переживался ею на уровне повседневности249.
Если основополагающим принципом западной культуры является индивидуализм (который, в значительной степени, связан с духом протестантизма), то характерная особенность японского менталитета — коллективизм. Его концептуальным объяснением стала предложенная японским психиатром Дои Такео теория «амае» — «радостно принимаемой зависимости», «ориентации на зависимость и надежду, на снисходительность и всепрощение». Подобная установка весьма способствовала примирению с вынужденным аскетизмом бурного периода Мейдзи–исин и последующего становления Японии вначале как империалистического государства, бросающего вызов традиционным европейским метрополиям, а затем как экономического гиганта — политического карлика, находящегося под военно–политическим протекторатом США.
В этой связи нельзя игнорировать специфику японского буддизма, в учении ведущей школы которого «Дзедо–синсю» некоторые исследователи (например, американский социолог Р. Белла в своем трактате о религии токугавской эпохи) усматривают аналог протестантской этики, поскольку эта секта, идейной основой которой был амидаизм, требовала от своих последователей аскетического стиля жизни, посвященного «священному долгу» труда.
Характерной особенностью развития японских религиозно–этических систем было соединение конфуциантства, буддизма, синтоизма и даосизма в едином мировоззрении. Попытки создать цельное синтетическое учение в особенности распространились в эпоху Токугава. Именно в этот период формируется школа «сингаку»250, основатель которой Исида Байган (1684–1744) подвел философскую базу под практическую повседневную этику городских торговцев и предпринимателей, обобщив идеи об особом пути торговца — «сениндо», в котором выгода — «ри» — становилась такой же ключевой ценностью, как и понятие долга для сословной самурайской этики «бусидо».
Школа «сингаку» старалась легитимизировать предпринимательскую деятельность, которая выносилась за рамки сложившейся этики, разработать моральные нормы для регуляции поведения торгового сословия в обществе. Исида Байган выдвигал аргументы в пользу концепции равенства всех прослоек общества, предложив понятие «секубун» для занятий, которое было семантически родственным термину «Beruf». Он также провозгласил моральную ценность труда в противоположность праздности и развлечениям. Для него «путь торговца» и «путь самурая» были идентичными, поскольку торговцы тоже исполняют свой долг, удовлетворяя потребности покупателей. Накопленное таким образом богатство не является самоцелью, оно лишь свидетельствует о полноценном выполнении долга. Идеалом здесь становится постепенное накопление, которое происходит благодаря тяжелому повседневному труду на основе воздержания и честных соглашений.
Хотя Исида Байган способствовал проникновению этики в сферу профессиональной деятельности в манере, близкой к протестантской этике, не следует забывать о нетождественности этих феноменов. Во–первых, с точки зрения учения «сингаку», действие понимается как существование в соответствии с принципом Неба и Земли и, если не выходить за пределы «Небесного веления», оно становится недеянием. То есть в этом элементе воссоздается даосистская концепция «недеяния» и сохраняется созерцательность, в особенности присущая дзен–буддизму. Во–вторых, нельзя игнорировать тот факт, что аскетический протестантизм стал импульсом для рационального производительного предпринимательства, тогда как в Японии имела место разработка моральных принципов для регуляции торгового капитала, то есть коммерческой деятельности в сфере обращения.
Закономерным продолжением высказанных соображений относительно вопроса о том, играл ли религиозный фактор (шире — ментальность, вписанная в существующий социокультурный контекст) определенную роль в экспансии «капиталистического духа» и связанного с ним типа хозяйства, становится рефлексия над исторической динамикой «идей» в нашей стране. При этом не следует игнорировать тот факт, что, несмотря на специфику социокультурного и политического развития Украины, 350 лет включенности в Российскую «мир–империю» (или «Русскую систему», если воспользоваться термином А. Фурсова и Ю. Пивоварова) не могли не сказаться на характере структурных и культурных характеристик украинского общества. (Тем более, что М. Грушевский усматривал даже в такой канонической для многих современных исследователей фигуре, как Богдан Хмельницкий, существенные элементы «Азии»)251.
Еще полтора века тому назад П. Чаадаев, выдвинув тезис о том, что народы, как и отдельные личности, являются существами моральными, отмечал динамизирующее влияние христианства на общественное развитие: «Только христианское общество поистине одушевлено духовными интересами, и именно этим обусловлена способность новых народов к совершенствованию, именно здесь вся тайна их культуры… Этот интерес, конечно, никогда не может быть удовлетворен; он беспределен по самой своей природе. Таким образом, христианские народы в силу необходимости постоянно идут вперед. При этом хотя цель, к которой они стремятся, не имеет ничего общего с тем другим благополучием, на которое одно только и могут рассчитывать нехристианские народы, но они попутно находят его и пользуются им»252.
Развивая свою мысль дальше, П. Чаадаев отмечал, что само католическое христианство заложило устои Западной цивилизации с ее идеями обязанности, справедливости, права, порядка, в то время как мы позаимствовали моральные установки у Византии, а вместе с ними — и ее религиозную обособленность (позднее эту мысль подхватит и разовьет С. Булгаков в своих работах периода гражданской войны). Русский мыслитель именно этим объясняет отсутствие активной социальной деятельности в начале истории Российской империи, что, в свою очередь, позволяет ему сформулировать положение, согласно которому общий закон человечества был словно бы упразднен по отношению к территории империи, поскольку, по его мнению, она ничего не дала миру и ничему не научила его, не предложив ни одной большой истины, и посему может быть наглядной демонстрацией сугубо порочного пути развития.
Славянофилы отказались от амбивалентного стиля мышления П. Чаадаева, предложив более однозначную мифологему, содержательным каркасом которой была дихотомия «Русь (Восток)» — «Европа (Запад)», размещая членов этой дихотомии на противоположных полюсах своей ценностной шкалы. Для славянофилов не было никаких сомнений в том, что утопический образ Руси (Востока) характеризуется такими чертами: право является не формальным принуждением, лишенным внутренней справедливости, как это имеет место на Западе, а внутренней и истинной законностью; вместо эгоизма собственника–утилитариста мы встречаем общинное братство и отсутствие частной собственности на землю в «миру»; и, наконец, «всеразрушающая личность, логически развивающаяся из протестантизма» (А. С. Хомяков), продуцирующая индивидуальную изолированность, противопоставляется общинному быту, ограничивающему честолюбие частных лиц и создающему общинно–православный дух в обществе253.
Такое исчерпывающее самоописание культуры (при условии освобождения его от эмоциональной нагрузки) предоставляет объективную картину общества, лишенного мощных мотиваторов, которые могли бы содействовать становлению «ярмарки тщеславия», но в рамках стремления к спасению, что исторически являлось формулой западного развития. Религиозный мессианизм, перенесенный в политическую плоскость, легитимизировал централизацию и одновременно сам усиливался ею. Комбинация этих двух факторов блокировала попытки частной инициативы, тормозила генезис капиталистического духа, который, согласно веберовской схеме, развивался в Западной Европе от романтического экономического авантюризма в направлении к рациональному экономическому жизненному поведению.
Даже раскол, который привел к возникновению независимых общин поборников «старой веры», некоторые черты организации религиозной жизни и хозяйственные успехи которых демонстрировали типологическое сходство с протестантскими сектами (в особенности того периода, когда, по выражению М. Вебера, в прошлом остается их юношеский разрыв с миром). И все же было бы некорректно игнорировать тот факт, что движение раскольников было носителем традиционализма (да и к тому же сложно представить себе кальвинистский эквивалент Парфена Рогожина!), а экономические успехи могли обуславливаться изоляцией от других сфер общественной жизни в соединении с необходимостью накопления достаточных ресурсов для поддержания своего существования в условиях постоянного давления со стороны государства.
Интуитивно прочувствованный в начале XX в. авторами «Вех» разрыв между носителями политической власти, культурной элитой и народными массами, то есть ситуации, которая на языке функционалистски ориентированной социологической теории описывается как состояние отчуждения центральной культурной системы от центральной институциональной системы (Э. Шилз), привел к возникновению несовместимых мировоззренческих систем, присущих каждому отдельному слою общества. Поэтому все попытки модернизации сверху ограничивались формальной имитацией западных институтов, социальная укорененность которых была невозможной в условиях отсутствия идеологической легитимации подобной политики, склонности класса интеллектуалов — интеллигенции — к конструированию проективных утопий, направленных на уничтожение существующего положения вещей и сопротивления со стороны народных масс, руководствовавшихся как традиционалистской ментальностью, так и рациональным осознанием отсутствия своих ставок в происходящей капиталистической азартной игре.
В условиях сегодняшней ситуации успешный прорыв в направлении «рационального общества» (Ю. Хабермас) невозможен лишь в случае наличия у социального носителя этих инноваций специфических мотиваторов, этоса, который может обеспечить нормативную регуляцию эгоистических устремлений «агентов» рынка. В условиях отсутствия последней «свободная игра целерациональности» (Р. Мюнх) ведет к хаосу в обществе и ставит под угрозу существование социального порядка. Такой проницательный исследователь ленинских обществ, как Кен Джавит, отмечал существование капитализма в Советском Союзе еще в 70–80‑е годы, акцентируя внимание на его «политическом» характере, что делало этот феномен противоположным капитализму предпринимательского типа254 Дальнейший ход событий ярко продемонстрировал, что капитализм и рынок (в особенности, если капитализм является спекулятивным, а рынок преимущественно теневым) сами по себе не являются панацеей для решения проблем общественного развития.
ГЛАВА 4: МАКРОХРИСТИАНСКИЙ МИР И ФОРМИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ МАКРОЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (Ю. Н. Пахомов, Ю. В. Павленко)
Новоевропейская цивилизация и формирование социально–экономической структуры современного Макрохристианского мира (Ю. В. Павленко)
Качественный скачок, осуществленный Западной цивилизацией в течение XV–XVIII вв., при характерной для ее «фаустовского духа» экстравертированности и экспансионизме, не мог не иметь существеннейших последствий для судеб мира. Прежде всего они сказались на жизни двух ближайших к ней Америки и Восточной Европы.
Америка, после завоевания испанцами империй ацтеков и инков, дала Европе золото и серебро в необходимом для развития товарно–денежных отношений количестве. Боровшийся за мировое господство император Карл V Габбсбург, как затем и его сын, Филипп II Испанский, расходовали огромные, получаемые главным образом из их заморских владений, средства на войны и прочие внешнеполитические авантюры, расплачиваясь с производителями военной продукции и прочих товаров звонкой монетой. В результате их деньги переходили в руки их заклятых врагов — протестантских, с развитым мануфактурным производством и торговым флотом, Нидерландов и Англии.
При этом сама Америка становилась аграрно–сырьевым придатком Европы. Многие ее части, в наибольшей степени Бразилия, Вест–Индия и Юго–Восток Северной Америки, превращались в сплошную зону плантационного, основанного на эксплуатации рабского труда, земледелия, специализировавшегося на производстве «колониальных» товаров — сахара, хлопка, табака, кофе. При этом по итогам Войны за испанское наследство (1701–1714 гг.) Англия получила монопольное право на ввоз негров–рабов в испанские колонии в Америке (асьенто).
Восточная Европа не была полностью подчинена Западу в лице развернувшей свою экспансию на восток Польши и, частично, Швеции. Однако сделано в этом направлении было немало. Уже в 40‑х годах XIV в. польский король Казимир III подчиняет Галицкую землю. С первой половины XV в. Великое княжество Литовское (с на 90% восточнославянско–православным населением, законодательством на древнерусском языке и пр.), включавшее кроме собственно Литвы также земли нынешних Белоруси и большей части Украины, оказывается в положении младшего партнера королевства Польского.
По условиям Люблинской унии 1569 г. Польша и Великое княжество Литовское объединяются в федеративное государство Речь Посполитую, при том, что Украина переходит под прямую юрисдикцию Польши. Политическая экспансия подкреплялась конфессиональной: в 1596 г. на соборе в Бресте православные иерархи Украины и Белоруси приняли унию с католицизмом и признали над собою верховенство папского престола. Однако население в массе своей отвергло это решение, и в 1620 г., при активном участии запорожских казаков под руководством гетмана П. Сагайдачного, в Клеве была восстановлена православная митрополия.
Кульминацией западнохристианского наступления на восток было вмешательство Речи Посполитой в дела Московского государства в Смутное время — с провозглашением московским царем королевича Владислава (сына Сигизмунда III, будущего короля Владислава ГУ), занятием польским гарнизоном Кремля в 1610–1612 гг. и последующим удержанием Смоленской и Северской земель. Параллельно Швеция, вернув Новгородскую землю, сохранила за собой берега Финского залива с Невою до Ладожского озера.
В результате большая часть экономически наиболее развитых восточно–славянских земель оказалась в сущности под колониальным правлением Польши и через нее вошла в качестве аграрного придатка в систему европейского (прежде всего — балтийского, поскольку зерно и прочие сельскохозяйственные товары вывозились с Украины по Западному Бугу и Висле через Гданьск) рынка. Повышению спроса на украинскую сельскохозяйственную продукцию способствовало похолодание, имевшее место в Европе в конце XVI — первой половине XVII вв., сократившее производство зерна в бассейнах Северного и Балтийского морей. В североевропейский рынок постепенно начинало втягиваться и отстоявшее свою самостоятельность Московское государство — в качестве поставщика сырья, мехов и прочих товаров преимущественно лесной зоны.
Таким образом, в XVI–XVII вв. как Америка, так и Восточноевропейско–Евразийский регион (территория Речи Посполитой без собственно Польши как метрополии и все Московское государство с приобретавшимися им территориями за Уралом, до Тихого океана) в экономическом отношении превращаются в аграрно–сырьевые придатки Новоевропейской цивилизации. Она своим спросом на ту или иную продукцию начинает прямо воздействовать на направление их экономического роста, оказывая при этом существенное влияние также и на их политическое и культурное развитие.
При этом если Америка оказалась подчиненной Западу непосредственно и в политическом, и в религиозном (в пределах владений католических держав — Испании, Португалии и Франции) отношениях, то евразийское Московское государство отстояло политическую и церковную независимость. Последняя, будучи едва не утраченной, была восстановлена и на православных украинско–белорусских землях. К тому же и Украина полностью поляками так и не была подчинена — Запорожье, с момента своего возникновения в 50‑х гг. XVI в., держалось самостоятельно, выступая незатухающим очагом антипольских восстаний и, в то же время, совместно с казачьим Доном, противостоя турецко–татарской экспансии.
Эти процессы происходили на фоне почти непрерывных войн католических средиземноморско–дунайских государств испанской и австрийской ветвей дома Габбсбургов, в союзе с Венецией и Речью Посполитой, а с конца XVII в. и Московским государством, с Османской империей — ведущей военно–политической силой тогдашнего Мусульманского мира.
В 1526 г. турками была завоевана Венгрия, и вскоре после этого жители Вены впервые увидели янычар под своими стенами. К концу XVI в. власть султана простиралась уже от Атлантики (Марокко) до Каспия и Персидского залива. В 1678 г. турки завладели руинами Чигирина, гетманской столицы Украины, а в 1683 г. держали в осаде Вену, спасенную польско–казацким войском короля Яна III Собесского. Этот момент стал переломным в борьбе народов Центральной и Восточной Европы против турецкой экспансии. Началось контрнаступление государств «Священной лиги», и по соглашениям Карловицкого конгресса 1698–1699 гг. Австрия приобретала Венгрию, Трансильванию, Хорватию и Словению, Речь Посполитая восстанавливала свой суверенитет над Подолией и южными районами Правобережной Украины, а Московское царство удерживало за собою Азов.
Во второй половине XVIII в. натиск христианских держав, прежде всего, России и Австрии на Турцию резко усилился. Екатерине II удалось присоединить Северное Причерноморье, и она даже разрабатывала проект воссоздания Византийской империи на Балканах, со столицей в Константинополе, для царствования своего второго внука Константина. В это же время Восточное Средиземноморье в торговом отношении все интенсивнее втягивается в образовывающуюся вокруг Западноевропейского центра опережающего развития макроэкономическую систему.
По–настоящему этот процесс разворачивается уже в XIX в., после провозглашения независимости Грецией в 1822 г., получения фактического суверенитета Египтом под главенством Мухаммеда Али, при англо–французской его поддержке, и французского завоевания Алжира в 30‑х гг. XIX в. Однако такое развитие протекало уже в русле формирования глобальной макроцивилизационной системы и лишь в той мере, в какой касалось восточнохристианских народов Балкан и Кавказа (греков, болгар, македонцев, сербов, румын, молдаван, грузин, армян), имело отношение к расширению системы Макрохристианского мира.
Итак, в течение XVI–XVIII вв. Новоевропейская цивилизация стягивала вокруг себя, с одной стороны, Америку, где христианство распространялось в процессе ее завоевания и колонизации, и с другой, Восточную Европу с российскими владениями за Уралом (как и, несколько позднее, восточнохристианские Балканы и Закавказье). Поэтому всю эту сложную макроцивилизационную систему, в целом оформившуюся в начале XVIII в. в результате Войны за испанское наследство, Северной войны и реорганизации Московского царства в Российскую империю Петром I, можно было бы назвать Макрохристианским цивилизационным миром — рассматривая его в качестве цивилизационной ойкумены, сопоставимой с Афроазийско–Мусульманским, Индийско–Южноазиатским (индуистско–буддийским) и Китайско–Дальневосточным (конфуцианско–буддийским) мирами Нового времени, однако по сравнению с ними не только гораздо более динамичным, демонстрирующим невиданные ранее темпы развития, но и структурно более сложным.
Его основными пространственно–цивилизационными компонентами можно считать три: Западноевропейско–Североамериканский — протестантско–католический, Латиноамериканский — в целом (однако во многом преимущественно лишь внешне) католический, и Восточноевропейско–Евразийский — преимущественно православный с анклавами ислама (крымские и волжские татары, башкиры и пр.) и даже буддизма (калмыки и буряты), не считая остатков традиционного язычества в двух последних случаях (индейцы обеих Америк, автохтонное шаманистское население Сибири).
При этом не следует забывать, что с самого начала самоорганизации Макрохристианского мира в его структуру начинает вовлекаться и Черная Африка как вспомогательный, второстепенный, но существенный и неотъемлемый компонент. В течение столетий ее роль была по преимуществу пассивной и сводилась, главным образом, к поставке на плантации Нового Света масс невольников, а также золота и некоторых экзотических товаров — слоновой кости, страусовых перьев и пр. По очень осторожным подсчетам французских специалистов за века трансатлантической работорговли, особенно интенсивной в XVII–XVIII вв., в Америку было вывезено 12–14 млн человек255, при том, что примерно столько же погибло при захватах людей в рабство, их транспортировке и пр.
Не вызывает сомнения, что именно работорговля сыграла решающую роль в вовлечении Черной Африки в сферу цивилизационного воздействия Западного мира. Без притока невольников создание сплошной — от Виргинии до Уругвая — зоны плантаций тропических и субтропических культур, продукция которых была ориентирована на западноевропейско–североамериканский рынок, было бы немыслимым. При этом вывезенных в Новый Свет негров крестили (религиозно работорговля оправдывалась как раз тем, что она якобы способствовала обращению темных языческих душ в христианство). Крещение иногда принимали и правители прибрежных африканских государств–вождеств вместе со своими подданными. Первым на этот путь стало Конго в начале XVI в.
Таким образом, с определенными оговорками, к системе Макрохристианского мира Нового времени следует относить и Атлантическое побережье Черного континента с Южной Африкой и Мозамбиком, однако не его Восточное, исламизированное от Египта до Занзибара уже к XI в., побережье и не его внутренние районы, где к началу Нового времени ислам либо уже утвердился (как во всей полосе Судана от Сенегала до Красного моря), либо постепенно утверждался и продолжает утверждаться до сегодняшнего дня, имея там куда больший успех, чем христианство256.
В экономическом отношении интеграция Макрохристианского мира определялась усилением в Западной Европе спроса на благородные металлы, экзотические товары, продукцию традиционного сельского хозяйства (хлеб и пр.) и плантационного земледелия, отдельные категории сырья и пр. Это, соответственно, было связано с увеличением в протестантско–католической Европе числа людей, непосредственно не занятых в аграрной сфере, с усилением там социально–имущественного расслоения и повышения уровня престижного потребления верхов (достаточно сравнить Лувр Людовика XI или даже Карла IX с Версалем Людовика XIV), с ростом товарного (все более — мануфактурного) производства и денежного обращения в ведущих государствах Запада.
Традиционные сельскохозяйственные товары где–то с середины XVI в. во все увеличивающемся объеме начинают поступать на Запад с территории Польского королевства, сперва из собственно Польши и Галиции, а после Люблинской унии 1569 г. — и с подчиненных поляками Волыни, Подолии и Приднепровской Украины (Украины в собственном, изначальном значении этого слова), а также, в большем чем ранее объеме, из Литвы и Белоруси. Возраставший экспорт хлеба в Нидерланды, Англию и страны Балтийского бассейна способствовал утверждению в польских владениях фольварочно–барщинной системы, вполне укрепившейся уже в XVI в. После названной унии процесс закрепощения земледельческого населения переносится на Украину, что ведет к массовому оттоку населения в порубежные со степью казачьи районы, усиливает роль Запорожья и стимулирует ряд казацко–крестьянских восстаний, главными требованиями которых было признание за основной массой населения казачьих прав и (после Брестского собора 1596 г.) ликвидация церковной унии.
Наибольшее развитие польской торговли зерном приходится на первую половину XVII в. (до восстания под руководством Б. Хмельницкого в 1648 г.), когда через Гданьск ежегодно экспортировалось около 200 тыс. тонн зерна. Рекордная цифра, почти 260 тыс. тонн, приходится на 1618 г. Кроме зерна из Речи Посполитой в Западную Европу вывозилось также большое количество леса, поташа, воска. Главными же предметами ввоза являлись промышленные изделия, особенно предметы роскоши, и дорогие вина. В 1650–1660 гг., в связи с отделением Украины и постоянными войнами, разорявшими и собственно Польшу, наступил упадок ее зернового экспорта.
С середины XVII в. в торговлю с Западом (преимущественно через Архангельск) постепенно начинает втягиваться и Московское государство, внешнеэкономические связи которого до того были ориентированы (преимущественно по Волге) на прикаспийско–среднеазиатские мусульманские страны. Особую роль начинает играть экспорт мехов, что во многом и стимулировало столь быстрое покорение Сибири, сопровождавшееся наложением ясака, т. е. дани мехом, на ее коренное население. На экспорт шла и прочая продукция лесных промыслов. Новые перспективы для российской торговли с Западом открылись с завоеванием Петром I части Восточной Прибалтики.
В течение XVIII в. объем экспорта сельскохозяйственных товаров и продукции лесных промыслов из Речи Посполитой и Российской империи на Запад неизменно возростает. Потребность дворянства в деньгах и престижных вещах во всех ориентированных на агропроизводство землях обоих держав стимулирует усиление крепостного гнета, прежде всего, в виде барщинной эксплуатации все более лишающихся элементарных человеческих прав крестьян. Этот процесс охватывает и освободившуюся ранее от польского владычества и навязанного шляхтой крепостного ига Украину, утратившую казачьи права и свободы в правление Екатерины II. Крепостничество становится нормой повсеместно, и помещичьи крестьяне превращаются в объект купли–продажи, т. е. фактически низводятся до положения рабов. Принудительным трудом обеспечиваются и возникавшие с петровских времен рудники, заводы и мануфактуры.
Еще более выразительно та же, в сущности, тенденция имела место и в Америке. Здесь неприкрытые формы внеэкономической эксплуатации утверждались легче в силу факта завоевания земледельческого индейского населения на территориях древних цивилизаций и массового ввоза негров–рабов, при параллельной охоте на индейцев, которых также обращали в рабство, во многих районах Южной Америки (например — на территории Парагвая, где действовали охотники за «живым товаром» с территории Южной Бразилии — так называемые «паулисты» из Сан–Паулу).
Продукция тропического земледелия поступает в XVII — сер. XIX вв. в Европу главным образом с рабовладельческих плантаций Нового Света. Возраставший спрос на хлопок, табак, сахар, кофе способствовал интенсификации и рационализации их производства, нарастанию его объемов, что расширяло сферу применения подневольного труда. Понятно, что многие виды промышленной продукции, товары престижного потребления и пр. ввозились преимущественно из Европы (а затем и северной части США). При этом подневольный труд широко применялся и на рудниках Центральной и Южной Америки, что также соответствует развитию металлургического производства в России, в особенности на Урале, за счет использования труда приписанных к заводам (так называемых «посессионных») крестьян.
Таким образом, создание межрегионального разделения труда, при котором Западная Европа (а потом и север США) закрепляли за собой промышленное, в особенности техноемкое, производство, требовавшее относительно образованной и квалифицированной рабочей силы, а тропические и субтропические области Америки, равно как и Восточноевропейско–Евразийский регион, превращались в ее аграрно–сырьевой придаток, имело для последних (и обескровленной работорговлей Африки) тяжелые (даже трагические) последствия.
В то время как на Западе нормой становилось использование в производственной (как и в любой другой) сфере свободного наемного труда — т. е. буржуазные, экономические методы эксплуатации человека человеком, то в регионах, становящихся аграрно–сырьевыми придатками Новоевропейской цивилизации, утверждались жесточайшие формы внеэкономической эксплуатации: барщинное крепостничество в Восточной Европе, практически не отличавшееся от рабства, поскольку барин мог продать крепостного; пеонат и родственные ему формы зависимости в большинстве испанских владений Америки; прямое рабовладение в Бразилии, Вест–Индии и юго–восточной части Северной Америки.
Установленная зависимость между развитием капитализма в Западной Европе и усилением эксплуатации подневольного труда в названных регионах Америки и Евразии представляется вполне закономерной.
Чем более высокого экономического и технического уровня достигал Запад, тем более он испытывал потребность в называвшихся выше категориях сельскохозяйственной продукции и сырья. А эти товары производились простым, малоквалифицированным трудом, продуктивность которого зависела не от уровня образованности или внедрения новых технологий, а прежде всего от длительности и интенсивности самих физических усилий.
Это определяло заинтересованность плантаторов и помещиков в непосредственном увеличении норм эксплуатации. Последнее достигалось самым простым способом — удлинением рабочего времени и усилением надзора за подневольными работниками — рабами–неграми или православными крепостными. При этом подобными методами не гнушалось и государство, особенно Российское, где, как отмечалось, само промышленное производство, начиная с петровских времен, создавалось на эксплуатации труда практически бесправных лиц.
И если рассматривать Макрохристианский мир XVIII — первой половины XIX вв. в качестве целостной структурно–функциональной суперсистемы, то можно с уверенностью утверждать, что нигде и никогда ранее труд невольников (рабов и крепостных) не имел такого удельного веса в общем объеме производства, как именно здесь. В Античном и, тем более, Мусульманском мирах (в других цивилизациях рабовладельческий уклад вообще не играл существенной роли, а крепостничество с правом продажи людей — сугубо восточноевропейское явление Нового времени) невольничество имело по преимуществу локализованный характер.
В Древней Греции оно обычно не выходило за рамки работавших на рынок (преимущественно — внешний) ремесленных мастерских. В Карфагене и Римской империи оно было ограничено рудниками и небольшим числом наиболее крупных городов с работавшими на обеспечение их продуктами питания виллами в радиусе не более 60 км. В странах ислама свободный труд всегда полностью господствовал в производственной сфере. Тем более это относится к средневековым Индии, Китаю и Японии.
Иными словами, освобождение труда и успехи капитализма в Западной Европе обратной стороною имели закрепощение и порабощение труда на полях Восточной Европы и плантациях обеих Америк. И этот факт имел далеко идущие последствия, в том числе и для мировой истории в XX в.
Асинхронность развития в пределах Макрохристианского мира Нового времени (Ю. В. Павленко)
Если социально–экономические последствия вовлечения в систему экономического доминирования Запада для большинства регионов Америки и Восточной Европы были в сущности сходными, то этого никак нельзя утверждать по отношению к политической сфере. Здесь мы наблюдаем принципиально противоположную картину в обоих, «подстегнутых» к Западу, макрорегионах257.
В первом случае, в Мексике и Перу, имело место завоевание, тотальное уничтожение предыдущих местных цивилизаций (при физическом истреблении масс коренного населения) и превращение региона в зону колониального господства абсолютистски–бюрократической Испании. В других областях истребление первобытного индейского населения, мало пригодного для работы на плантациях, сопровождалось ввозом более привычных к земледельческим работам негров. Однако повсеместно утверждался колониальный режим, сохранявшийся на большей части Америки (кроме провозгласивших независимость США) до конца первой четверти XIX в.
При этом существенно подчеркнуть, что в рамках испанских владений в Новом Свете внутреннего самоорганизующегося единства не было. Администрации вице–королевств — Новой Испании (Мексики с прилегающими территориями), Новой Гранады (север Южной Америки), Перу (с Чили), Рио–де–Ла–Платы (Аргентина с Уругваем, Парагваем и Боливией) имели на Мадрид самостоятельный выход и общих структур между собой (тем более с португальской Бразилией) не имели. Минимальными между ними были и экономические и культурные связи (при общности языка и веры).
При этом вся система колониального управления вице–королевств была пронизана жестокой централизацией и бюрократизмом. Высшая власть в колониях вверялась вице–королям, наместникам испанского короля, правившим от его имени и располагавшим всей полнотой политической, экономической, законодательной и военной власти, включая и патронат над церковью подведомственных территорий. При этом, однако, деятельность вице–королей и колониальной бюрократии подвергалась самому придирчивому контролю со стороны королевского двора, что выражалось как в организации регулярных ревизий, так и в подробных отчетах, которые вице–короли систематически посылали в Мадрид258.
В чем–то подобную, но во многом и существенно отличную картину мы наблюдаем во втором случае. В Восточной Европе сопротивление западному (прежде всего — польскому) экспансионизму неизменно наростало с начала XVII в., а в середине этого века, при подрыве сил Речи Посполитой в результате восстания под руководством Б. Хмельницкого, Московское царство само переходит в контрнаступление, возвращая себе Смоленскую землю и закрепляя за собой Левобережную Украину с Киевом. Новый этап консолидации сил России, при закреплении ее позиций в Северо–Восточной Прибалтике, приходится на Петровские времена.
Таким образом, в процессе противостояния Западу (и при, соответственно, заимствовании у него передовых технологий, форм абсолютистского правления и пр.) складывается обширная, «евразийская» Российская империя. В ее системе самодержавное военно–бюрократическое государство, поставившее себе на службу церковь не только фактически (после падения патриарха Никона в 1666 г.) но и формально (упразднение патриаршества и учреждение Синода во главе с назначаемым государем светским обер–прокурором), возвышалось над обязанным ему службой дворянством и, в значительной мере уже бывшем в крепостной зависимости от последнего, крестьянством, издревле объединенным в прочные общины. Жесткому административному надзору была подчинена и городская жизнь.
На окраинах империи сохранялись свободные люди — казаки, крестьяне Русского Севера и Сибири и пр., а также зависимые, но более или менее автономные (особенно до конца XVIII в.) общественно–политические структуры — Гетманщина и Запорожье на Украине, казачьи Дон и Яик, признавшие верховенство России калмыки, башкиры и пр. Однако в годы правления Екатерины II эти пограничные самоуправляющиеся структуры были либо уничтожены (Гетманщина, Запорожская Сечь), либо поставлены под жесткий контроль правительства (донские казаки, башкиры, калмыки и пр.). Государство, при предельной инертности общества, брало под свой неограниченный контроль не только великорусский центр, но и еще сохранявшие институты самоорганизации окраины империи.
В результате, при всем, казалось бы, сходстве в принципах управления и формах эксплуатации в пределах Испанской колониальной державы и Российской империи к концу XVIII — началу XIX вв., их судьбы оказались противоположными. Вторая выдержала нашествие Наполеона и на определенное время даже стала гегемоном Центральной Европы, тогда как первая, ослабленная подобным вторжением французских войск на Пиренейский полуостров, рассыпалась в ходе войны американских колоний за независимость.
И если в середине XIX в. Российская империя, даже после поражения в Крымской войне, сохранялась в качестве военно–бюрократического монолита, робко пытавшегося реформировать свои общественно–экономические основания, то Латинская Америка представляла конгломерат скорее враждебных, нежели дружественных военно–бюрократических государств, экономически завязанных на спрос Западноевропейского и Североамериканского рынков.
Даже освободившись в политическом отношении, Латинская Америка не стала чем–то целостным и прочным и очень скоро попала в неоколониальную зависимость от ведущих государств Запада, прежде всего США Властвующие сообщества ее новоиспеченных государств, состоящие из связанных родственными и иными узами латифундистов (во многих регионах, особенно в Бразилии — рабовладельцев–плантаторов), владельцев рудников и военно–бюрократическо–клерикальной верхушки, очень быстро оказались завязанными на интересы личного и корпоративного обогащения. А последнее достигалось за счет эксплуатации крайне дешевого (в Бразилии до 1888 г. — рабского) труда на плантациях и в рудниках, принадлежащих частным лицам.
При попустительстве государственной бюрократии (быстро научившейся удерживаться при власти и пользоваться предоставляемыми ею возможностями в личных целях при формально республиканском устройстве) крупные собственники могли осуществлять практически бесконтрольную эксплуатацию юридически свободного, но лишенного средств производства и в массе своей неграмотного населения. Объективно это вело к тому, что частные интересы плантаторов и компрадорской буржуазии определяли внешнюю политику соответствующих государств в гораздо большей степени, чем объективные интересы развития страны и повышения жизненного уровня основной массы ее граждан. Такая ситуация определяла едва ли не перманентную гражданскую войну в латиноамериканских государствах, сдерживаемую установлением во многих из них откровенно диктаторских режимов при поддержке западных государств, прежде всего, с рубежа XIX–XX вв., США.
Россия же в течение XVIII–XIX вв. все более расширяла свои владения и укрепляла военно–бюрократический контроль над ними. В целях эффективного противостояния Западу она со времен Петра I вынуждена была переориентироваться на западные технологии, воспринимать элементы (именно элементы, а не систему) западной культуры, заимствовать даже отдельные принципы и институты западного политического устройства (Сенат, со временем замененные министерствами коллегии и пр.).
Однако все это, как справедливо отмечали уже славянофилы, осуществлялось не органически, не вследствие саморазвития и самоусовершенствования ее собственных начал, исходя из ее собственных принципов, а внешне, механистически, через навязываемые сверху инициативы могущественных самодержцев типа Петра I и Екатерины II или либерального монарха, каким был Александр II. Именно государство выступало инициатором экономической модернизации.
И в этой связи существенно подчеркнуть то обстоятельство, что Петровские преобразования определили в конечном счете тупиковый характер движения России. Подчинив общественную жизнь задаче усиления и расширения государства, бесконтрольно распоряжаясь людскими и природными ресурсами страны, царь–реформатор намеревался добиться своих целей экстенсивными методами расширения производства — за счет все возрастающей эксплуатации основной массы населения и природных ресурсов. Этому же курсу следовала Екатерина II. И до определенного момента он, казалось бы, оправдывал себя. Крепостная экономика (прежде всего крепостные оружейные заводы и суконные мануфактуры) смогла обеспечить победу в Отечественной войне 1812 г. — в то же время, когда и во Франции (вслед за Англией) начался промышленный переворот. Крымская война 1853–1856 гг. уже показала необходимость преобразований всей системы социально–экономических и политических отношений. Но конституционная монархия так и не была введена, административно–бюрократический аппарат сохранял полное господство над обществом, а начавшаяся, особенно после крестьянской реформы 1861 г., либерализация экономической жизни привела к тем тяжелым последствиям, которые в полной мере сказались уже в начале XX в.
Ослабление диктата самодержавного государства над обществом привело не к утверждению свободной личности собственника и гражданина, а к еще большему, чем то было в дореформенной России, социально–экономическому расслоению, при постепенном отказе государства от выполнения патерналистских функций по отношению к народу, в массе своей так и не сумевшего психологически адаптироваться к свалившимся на его голову переменам. Подобное можно сказать и об основной массе аграрного, освобожденного от пеоната и рабства без земельных наделов, населения Латинской Америки.
Политическая жизнь на Западе разворачивалась через раскрытие гражданской свободы индивида, тогда как в России — наоборот, через все усиливающееся подчинение человека государству (с некоторыми отклонениями, как, например, в годы правления Александра II и Николая II). Безусловно, и Западная Европа прошла абсолютизм в его крайнем выражении (Филипп II Испанский, Людовик XIV). Более того, Запад знал фашизм. Однако эти явления были все–таки преодолены, и общая тенденция утверждения парламентского либерально–демократического строя вполне возобладала.
В истории же России либеральные тенденции никогда не имели самодовлеющего значения и, начиная проявляться, неизменно залавливались при следующем повороте истории, не имея реальной поддержки среди основной массы населения. А советский период (когда руководство страны, как и Петр I, решило поднять экономику страны путем неограниченной эксплуатации бесправных людских масс и природных ресурсов) демонстрирует апофеоз государственно–идеологического тоталитаризма, трансформирующегося в течение последнего десятилетия (с начала горбачевской перестройки и, особенно, после распада СССР) в некий противоречивый симбиоз государственно–бюрократической власти–собственности (характерной в равной степени как для древневосточных деспотий, так и для социалистических государств) и компрадорского капитализма, богатеющего за счет бесконтрольного разграбления и продажи за границу природных ресурсов, добываемых при минимальной оплате труда рабочих.
Если в России-СССР видим тенденцию к порабощению человека прежде всего (а в СССР почти исключительно) государством, то в Латинской Америке — представителями олигархических кругов собственников земель и рудников, банковского и промышленного капитала, которые в случае невозможности удержания своего господства легитимными методами прибегали к установлению военных диктатур. Однако в течение почти всего XX в. реальной альтернативой таких олигархически–республиканских или олигархически–диктаторских режимов в Латинской Америке была не либеральная демократия западного образца (которая невозможна без сильного среднего класса), а коммунистический тоталитаризм типа кастровской Кубы, чуть было не перекинувшийся на другие страны Карибского бассейна.
Похоже на то, что две рассматриваемые социально–политические системы относительно легко могут конвертироваться одна в другую, однако вопрос о возможности превращения в либерально–демократическую систему западного образца для каждой из них остается открытым. И события последних лет склоняют скорее к пессимистическому взгляду на такую возможность.
Если коммунистический тоталитаризм Ф. Кастро сменяет олигархическую диктатуру Р. Батисты (при том, что Куба автоматически переходит из зависимости от США к почти такой же зависимости от СССР), то в России, Украине и в большинстве других государств СНГ разворачивается противоположный процесс: советская номенклатура, перераспределив между собой (и связанным с нею криминально–мафиозным миром) дающую прибыль часть государственной собственности, превращается в откровенно олигархическую власть, не брезгующую использованием военной силы для разрешения внутриполитических проблем (расстрел Государственной Думы в октябре 1993 г., война в Чечне).
Исторический опыт и Латинской Америки, и Восточноевропейско–Евразийского региона последних двух–трех столетий убеждает в том, что несмотря на появление в соответствующих странах тончайшей пленки либеральной интеллигенции (всегда легко сметаемой в социальных бурях) их развитие в общей системе Макрохристианского мира определяется не прогрессом индивидуальной свободы (как–то длительное время наблюдалось на Западе), а ее сковыванием — от крепостничества, пеоната и плантационного рабства до жесточайших форм государственной и частной эксплуатации юридически правоспособных, но фактически бесправных масс в XX в. Насколько эта тенденция сможет быть переломленной, или же нас ждет повторение на новом витке чего–то давно знакомого по собственной или латиноамериканской истории — покажет будущее.
В конечном счете вопрос может быть сформулирован предельно просто: в какой мере в принципе возможна трансформация системы, основанной на описанном Л. С. Васильевым феномене «власти–собственности» (в ее древневосточной или социалистической разновидности259) в систему, основанную на примате прав личности, где власть и собственность суть явления принципиально различные, хотя и функционально связанные?
Пока что, если абстрагироваться от центральноевропейских и прибалтийских государств, органически причастных протестантско–католическому Западу и лишь временно оказавшихся под советским диктатом, положительные примеры такого рода трансформации найти трудно. Пример Японии, тем более Южной Кореи и Тайваня, также не могут нас обнадеживать. Либеральные преобразования в послевоенной Японии проводились правительством США в сущности насильственно, а в Южной Корее и на Тайване процесс политической либерализации, прерываемый годами военного диктаторства, растянулся на десятилетия. Кроме того, утвердившийся в них социально–экономический строй имеет столь глубокие отличия от западноевропейско–североамериканского, что об идентичности этих систем можно говорить лишь весьма условно.
Высокий уровень технологии и эффективности производства, при, в целом, сохранении социального мира, в последние десятилетия в обоих случаях (Запад и некоммунистический Дальний Восток) были достигнуты очень разными способами. Пример передовых дальневосточных государств скорее показывает, что уровень западного производства принципиально достижим и без отказа народа от своих социокультурных и нравственных ценностей. Однако пока что такое наблюдалось лишь в отдельных восточноазиатских странах, причастных конфуцианско–буддийской традиции. Возможно ли такое на иных цивилизационных основаниях — покажет время.
Посмотрим теперь на религиозно–культурную идентичность Восточноевропейского и Латиноамериканского макрорегионов в их соотношении с Новоевропейско–Североатлантической цивилизацией. Имея во многом общие христианско–позднеантичные основания, культуры этих трех цивилизационных блоков находятся друг к другу (точнее — двух первых по отношению к третьей) значительно ближе, чем к Мусульманской или, тем более, какой–либо иной цивилизации. Это способствовало относительной легкости восприятия немногими представителями образованных слоев латиноамериканских или восточнохристианских народов отдельных западных идей и достижений — при, понятно, их специфической интерпретации. Примером может быть восприятие в России взглядов Г. В. Гегеля или Ф. В. Шеллинга, позднее К. Маркса или Ф. Ницше.
Однако и в таком случае, особенно для сколько–нибудь широких кругов читающей публики, восприятие западных представлений, ценностей и установок не могло и не может быть органическим, поскольку местные культуры не прошли (или прошли крайне поверхностно, сугубо внешне и с большим запаздыванием) тех этапов развития, которые были внутренне, во всей их полноте, пережиты Западом.
Православный мир как таковой не пережил ни гуманизма, ни Реформации, ни (при некоторых оговорках относительно Украины и Белоруси, особенно их западных областей, а также Сербии и восточнороманских княжеств) барокко. Гуманизм в специфически греческой форме зарождался в Поздней Византии — в XIV в.260, однако последующие трагические события византийской истории, как и противостояние со стороны исихазма, не дали ему развернуться. Из возникших в уже обреченной на гибель «империи ромеев» духовных движений именно исихазм, а не гуманизм, оказал качественное воздействие на культуру православных народов — до «нестяжателя» Нила Сорского (1433–1508 гг.) в Московском государстве и Ивана Вишенского, галицкого полемиста и борца против Брестской унии (40‑е гг. XVI в. — ок. 1620 г.).
Итальянский Ренессанс нашел в православных землях, главным образом во Львове втор. пол. XVI — нач. XVII в., лишь запоздалое, фрагментарное и внешнее (почти исключительно в архитектуре, благодаря, главным образом, работавшим в нем западным зодчим — итальянцам Пьетро Барбони, Паоло Доминичи и пр.) отражение. Однако сколько–нибудь существенное воздействие гуманистического миропонимания на православный люд и здесь обнаружить трудно. Более существенное воздействие на духовную жизнь православных земель Речи Посполитой, прежде всего Волыни и Галиции, имели идеи Реформации261). Однако и их влияние пошло на спад в условиях ожесточения католической реакции в Польше с конца XVI в., с одной стороны, и развернувшейся на территории Украины (под православными лозунгами) освободительной войны под руководством Б. Хмельницкого — с другой.
Впервые по–настоящему творчески и глубоко Украина (в том числе Поднепровская) и Белорусия из западных идейно–стилистических направлений восприняли барокко262, к культуре которого, главным образом уже в первой четверти XVIII в., начинает приобщаться и Россия263. При этом восприятие барокко в России было скорее парадно–придворным (в архитектуре, изобразительном искусстве, развивавшихся тогда при решающей роли иностранных влияний), чем духовно–сущностным. По преимуществу сугубо поверхностным, однако уже в относительно широких кругах дворянства времен царствования Екатерины II, было и воспритие философии французских просветителей. Куда более органически и системно Россия восприняла классицизм, глубоко созвучный идеалам дворянско–бюрократической верхушки самодержавной империи.
Неукорененность на православной почве таких, проявленных в культуре Ренессанса и Реформации, феноменов западноевропейского духа Нового времени, как индивидуализм и рационализм, блокировала возможность адекватного восприятия последующих идейных достижений протестантско–католических народов в Восточной Европе. Личность на уровне массового сознания так и не утвердилась в качестве самостоятельной субстанции религиозной, нравственной и интеллектуальной жизни.
Между человеком и Богом сохранялся по преимуществу чрезвычайно консервативный клир огосударствленной церкви — так же точно, как между человеком и царем находилась гигантская бюрократическая пирамида. Официальная церковь требовала не внутренней, личностной веры, а соблюдения ритуалов и освященных традицией правил, так что религиозность выступала не столько внутренне мотивированной, сколько внешне запрограммированной.
При этом, при практически полной неосведомленности абсолютного большинства православного люда относительно библейских текстов (православное издание на русском языке Четвероевангелия было впервые осуществлено только в 1860 г., а Библии в целом — в 1876 г.264), народное православие было перенасыщенно языческими рудиментами. Это и многое другое определяло неперсоналистический характер религиозного сознания практически всего восточнохристианского населения Восточноевропейско–Евразийского региона. Внешняя, обрядовая сторона неизменно доминировала над индивидуальным постижением истин христианства.
Определенным преодолением такого состояния и выступало распространение атеизма в качестве своеобразного способа духовного освобождения уже прикоснувшегося к плодам образования человека от официальной огосударствленной церкви. Как в связи с этим писал Н. А. Бердяев: «Именно абсолютически–монархическое понимание Бога породило атеизм, как справедливое восстание. Атеизм, не вульгарно–злобный, а высокий, страдальческий атеизм был диалектическим моментом в богопознании, он имел положительную миссию, в нем совершалось очищение идеи Бога от ложного социоморфизма, от человеческой бесчеловечности, объективированной и перенесенной в трансцендентную сферу»265.
Во многом подобную ситуацию наблюдаем и в Латинской Америке, католицизм основной массы населения которой можно в не меньшей (если не в большей) степени, чем русское православие, характеризовать как «обрядоверие» и «двоеверие». С эпохи конкисты католицизм выступал в качестве официальной, государственной религии, органичной для испанских и португальских переселенцев (практически не затронутых даже духом гуманизма, не говоря уже о Реформации), однако насильственно навязанной индейскому земледельческому населению (потомкам создателей цивилизаций доколумбового времени) и невольникам–неграм.
Гуманизм как духовное направление в самой Европе исчерпывается еще до испанского завоевания Мексики и Перу, так что никакого сколько–нибудь существенного влияния в колониальной Латинской Америке он иметь не мог. Тем более в конкистадорах, людях весьма часто с криминальным и менее всего с университетским прошлым, трудно заподозрить читателей Платона или М. Фиччино. Еще меньше шансов для проникновения в сознание колониального латиноамериканского общества имели идеи Реформации, за исключением тех немногих островов Карибского моря (как Ямайка, Барбадос или Тринидад и Тобаго) или близлежащих побережий (как Гвиана), где закрепились голландцы и англичане. Однако едва ли в восприятии предельно извращенного христианства (когда Бог трактовался как верховный надсмотрщик) черными невольниками на плантациях испанско–католической Кубы и английско–протестантской (с 1655 г.) Ямайки была какая–нибудь существенная разница. Конфессионализм навязывался сверху и выступал в сугубо формально–обрядовой форме, тогда как сознание основной массы населения Латинской Америки выразительно демонстрировало свою языческую подоснову, индейскую или негритянскую.
Как католический (по крайней мере внешне) регион, Латинская Америка достаточно органично воспринимает архитектурно–художественный стиль барокко, однако ее духовная жизнь остается практически незатронутой процессами становления новоевропейской ментальности (с индивидуализмом, рационализмом, религиозно освященной трудовой этикой, предпринимательским прагматизмом, идеями прав и свобод человека и пр.), имевшими место в Западной Европе XVI–XVIII вв.
В течение всего этого времени местная общественно–философская мысль остается в полной мере в силках схоластической католической теологии, а между человеком и Богом в качестве обязательного звена–посредника (как и в православии) стоит иерархически организованный клир, интересующийся мыслями и убеждениями паствы значительно меньше, чем соблюдением ею обрядовых формальностей. Только в самом конце XVIII в. узкие круги образованных лиц начинают спорадически приобщаться к просветительским идеям, под лозунгами которых происходили Североамериканская и Французская революции.
С начала XIX в. латиноамериканская интеллигенция начинает знакомиться и с либерализмом британско–североамериканского образца (с установкой на невмешательство государства в экономическую жизнь общества, аболиционизм и пр.). Однако, как отмечает мексиканский философ А. Вильегас, либерализм как программа появляется в Латинской Америке (как, добавлю, и сегодня на постсоветском пространстве) раньше, чем соответствующая социально–экономическая реальность и исторический опыт266.
То же самое можно сказать и обо всех остальных идейных течениях XIX–XX вв., которые Латинская Америка (как и Восточная Европа) воспринимала от Западноевропейско–Североамериканской цивилизации. Эти влияния (мало совместимые с базовыми основаниями менталитета и ценностных установок широких масс местного населения) в обоих регионах непосредственно усваивались лишь чрезвычайно узкой прослойкой периферийно приобщенных к западному идейному полю образованных людей, трансформируясь в их сознании, и уже в упрощенном, даже примитивизированном виде транслировались в полуязыческую, пронизанную (особенно в Латинской Америке, но также и в России — достаточно вспомнить «Чевенгур» и «Котлован» А. П. Платонова) магически–фетишистским духом атмосферу социальных низов. На этой основе и конституировались радикальные идеологии борьбы за социальную справедливость (от России до Кубы, Венесуэлы или Перу, даже до Кампучии), облекавшиеся в течение XX в. в преимущественно революционно–марксистскую форму, часто синкретицированные с национальными и даже расовыми установками.
Таким образом, приходится сделать вывод о том, что Восточноевропейско–Евразийский и Латиноамериканский регионы, являясь органическими частями Макрохристианского мира, но не пройдя гуманистически–реформационно–просветительской школы персонализации человека, утверждения его в качестве свободного гражданина–собственника, не обеспечили себе необходимых оснований для адекватного восприятия западных либеральнодемократических экономических и социокультурных моделей развития.
Оба региона (не говоря уже о Тропической Африке) выступают каким–то Зазеркальем Западного мира, где все, внешне перенимаемое у Запада, оборачивается фантасмагорией, по сути прямо противоположной соответствующим западным образцам. Это относится и к характеру труда, и к политической жизни, и к идеологемам (особенно в отношении к личности) и ко многому другому.
Таким образом, экспансия Запада обрушивается на Америку, побережья Африки и Южной Азии, Восточную Европу уже в XVI в. При этом в одних местах она проходит с относительной легкостью и вполне успешно для западных государств (Америка, побережья Тропической Африки), тогда как в других сталкивается с решительным сопротивлением (в особенности в Украине и России). При этом мир ислама (в первую очередь в лице Османской империи) практически до конца XVII в. противостоит Западу на равных.
Наиболее рано и сильно притянутыми к Западу оказались Латинская Америка и Восточная Европа с подчиняемой ею (через включение в состав Московского государства) Северной Евразией, а также — побережья Черной Африки. Бурно развивавшаяся экономика и общественная жизнь Запада требовали притока сельскохозяйственных продуктов, сырья, экзотических товаров. Взамен Запад начинал предлагать свои, более качественные чем в Восточной Европе, колониальной Латинской Америке и Африке товары. Господствующие силы в последних стремились к получению этих престижных товаров за счет увеличения производства того, что пользовалось спросом на Западе (зерно — Украина, сахар — Вест–Индия и пр.), а это достигалось путем увеличения норм внеэкономической эксплуатации — крепостничество, пеонат, рабство.
В Латинской Америке, Вест–Индии, на юго–востоке Северной Америки, т. е. в зоне прямого западного колониального господства в тропической и субтропической зонах Нового Света, утверждается система подобного крепостничеству пеоната и плантационного рабства, с использованием подневольного труда потомков имевших свои цивилизации индейцев в первом случае, и привезенных негров во втором. При господстве военно–бюрократических структур в испанских вице–королевствах и португальской Бразилии, как и затем в независимых латиноамериканских государствах, утверждается бесконтрольное, почти неограниченное господство крупной частной собственности над сперва подневольным, а затем формально свободным, но в сущности бесправным перед латифундистами и крупным капиталом трудом.
В Восточной Европе, после временного взлета, но скорого заката Речи Посполитой (чье слабое государство при своеволии крупных собственников–землевладельцев, эксплуатировавших крепостной труд во многом типологически сходно с латиноамериканским образцом) происходит территориальное расширение и укрепление России — при неизменном усилении ее государственнического начала, по отношению к которому собственность крепостников суть явление вторичное. Субстанцией эксплуатации человека в России выступало (и в значительной мере выступает) государство. В становлении такой системы существенную роль сыграл вызов Запада, реакцией на что и было укрепление государства при закрепощении человека.
Параллельно в Черной Африке, втягивавшейся в зону европейской экспансии, происходило ослабление держав внутри континента и усиление прибрежных работорговых государств (типа Ашанти), также непрочных и не способных противостоять европейцам. Массовый вывоз рабской силы в Америку подрывал демографический потенциал и разрушал традиционную, вполне жизнеспособную при самостоятельном ее существовании, социокультурную систему континента.
Макрохристианский мир XVI–XVIII вв. в общих чертах выглядит следующим образом: Новоевропейско–Североатлантический центр опережающего развития, с подключенными к нему Латиноамериканским и Восточноевропейско–Евразийским регионами и подчиненной ролью примыкающих к побережью океанов Черной Африки. Его структура и характер развития задаются опережающим развитием Запада. Трансформационные процессы в Латинской Америке и, тем более, Прибрежной Африке полностью детерминируются потребностями и воздействием Запада.
Но Восточноевропейско–Евразийский регион, объединенный к концу XVIII в. (особенно после трех разделов Речи Посполитой) в пределах Российской державы, оказывается способным к военно–политическому противостоянию Западу, и Россия, будучи вдобавок и христианской страной, признается Западом в качестве великой державы, иногда — дружественной, иногда — враждебной.
Во многих важнейших сферах процессы в центре опережающего развития — на Западе, и в других субцивилизационных регионах Макрохристианского мира имели противоположный характер. Главное здесь состоит в том, что по мере того как на Западе личность раскрепощалась, в последних — только закрепощалась и порабощалась. Восточная Европа и Латинская Америка стремились в экономическом отношении подтягиваться к Западу, перенимали технологии, систему образования и пр. Но качество личности, духовный, ценностный мир, этос от этого у основной массы населения мало менялся.
Ликвидация крепостничества и рабства не определили внутреннего освобождения и пробуждения личностного начала у прежде подневольных масс трудящихся, что и дало свои последствия в XX в. Общества, исторически не прошедшие через опыт гуманизма и протестантизма, были не способны адекватно воспринять индивидуалистически–утилитаристски–рационалистическую культуру Запада. Нарастало противоречие между западными стандартами жизни, переносимыми на чужую почву, и местными системами ценностей и культурных установок. Особенно резко это стало проявляться в пореформенной России, открывая путь успеху леворадикальных элементов в 1917 г.
Макрохристианский мир и традиционные цивилизации Востока (Ю. В. Павленко)
Тот факт, что примерно с рубежа XIX–XX ст. человечество, сохраняя свое разделение на народы, государства и цивилизации, представляет собой планетарную макроцивилизационную систему, сомнений не вызывает. События в одних регионах планеты неизменно отражаются на состоянии других.
Человечество, как писал в связи с этим в середине истекшего века С. Л. Франк, «несмотря на все политические, национальные и культурные обособления и раздоры — фактически живет некой общей жизнью, его отдельные части тесно соприкасаются между собой. Запад и Восток, мир христианский, магометанский, китайский… находятся в беспрерывном и тесном общении»267. О том же (в те же самые годы) говорил и В. И. Вернадский. В XX в. свершилось небывалое: «впервые в истории человечества мы находимся в условиях единого исторического процесса, охватившего всю биосферу планеты. Как раз закончились сложные, частью в течение ряда поколений независимо и замкнуто шедшие исторические процессы, которые в конце концов в нашем XX столетии создали единое, неразрывно связанное целое (курс. — В. В.)»268.
Однако формирование под эгидой буржуазно–индустриального Запада всемирной макроцивилизационной системы вызывало двойственную реакцию у втягивавшихся (а более втягиваемых) в нее народов. Одни, как правило численно незначительные, но влиятельные и более–менее образованные в западном духе круги в целом принимали этот процесс как должное и необходимое, тогда как другие, ориентированные на традиционные ценности, это развитие решительно отвергали. Классическим примером такого рода раскола в верхушечных слоях поверхностно вестернизируемого общества может считаться полемика между западниками и славянофилами в России.
При рассмотрении такого рода явлений А. Дж. Тойнби269, используя метафоры из еврейской истории эллинистичеки–римского периода, определял позиции первых как «иродианство», а вторых — как «зелотство», поскольку политика царя Ирода Великого (как и его непосредственных предшественников) состояла в интеграции Иудеи в систему античного мира с восприятием всего комплекса достижений последнего, тогда как религиозно–политическое движение зелотов противилось этому, занимая, выражаясь современной терминологией, фундаменталистскую позицию, вплоть до радикальной борьбы с нововведениями и верхами, их проводящими.
С началом действительно серьезных преобразований, затрагивавших сами основы жизнедеятельности основных масс народа, подобного рода дискуссии перестают быть салонным времяпрепровождением интеллектуалов. Выбитые из своего традиционного жизненного уклада миллионы людей не могут найти себе адекватного, психологически приемлемого для них, с учетом их традиционных ценностей и представлений, места в жизни Вчерашние крестьяне в поисках работы устремляются в промышленные города, на шахты и рудники, где их прежнее, основанное на опыте многих поколений предков сознание не может служить ориентиром. В результате наступает деморализация и потеря морально–ценностных установок, и люди оказываются легкой добычей проповедников массовых идеологий.
В пределах славянских губерний Российской империи данный процесс с нараставшей силой разворачивался с 60‑х гг. XIX в. — с момента отмены крепостного права. С этого времени народническо–социалистические представления, пустившие корни в интеллигентском сознании уже во второй половине правления Николая I (в некотором смысле сюда можно причислить киевских кирилло–мефодиевцев, тем более В. Г. Белинского, петрашевцев и пр.), распространяются с поразительной скоростью, приобретая все более радикальный характер. Деятельность народовольцев готовит почву для восприятия образованной молодежью 90‑х гг. XIX в. марксизма. И можно лишь поражаться тому факту, в какой мере увлечением прежде всего социально–экономической (бесспорно — сильнейшей в нем) стороной марксизма было массовым. Через него прошли почти все религиозные философы России первой половины XX в. — С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, даже Л. Шестов и многие другие.
Русская революция была действительно подготовлена всем ходом развития пореформенной России, хотя, конечно при ином стечении обстоятельств (если бы не был убит П. А. Столыпин, если бы страна не вступила в Первую мировую войну и пр.) этого рокового события, вероятно, можно было бы избежать.
Русская революция дает нам первый яркий пример цивилизационного отторжения не–западного (пусть и ближайшим образом связанного с ним как культурными корнями, так и длительными контактами) региона от норм и ценностей жизни, навязываемых буржуазным (в своем естественном проявлении — западным) обществом. Вехами на этом пути потом становятся Китай и Иран. Однако революционно–марксистские движения Карибского бассейна и Латинской Америки, Юго–Восточной Азии и пр. могут быть поставлены в тот же ряд, равно как и происходящий на наших глазах рост мусульманского фундаментализма.
После отхода на второй план массово–революционной борьбы, крайней формой (вплоть до самопожертвования) неприятия буржуазных норм, ценностей и образа жизни становится террор. Неприятие буржуазности, столь яркое на самом Западе еще во второй половине XIX в. (достаточно вспомнить хотя бы Ш. Бодлера или Ф. Ницше, не говоря уже о К. Марксе), пройдя опыт массовых движений, все более индивидуализируется, порождая бунт личности, не желающей жить по навязываемым чуждой цивилизацией канонам. А бунтующий человек, как писал А. Камю, «в своем первом порыве протестует против посягательств на себя такого, каков он есть. Он борется за целостность своей личности. Он стремится поначалу не столько одержать верх, сколько заставить уважать себя»270.
Не столь важно, считает ли террорист себя народовольцем, революционным марксистом или воином ислама — важно то, что если он вступает в борьбу искренне, принимает, выражаясь словами Н. А. Бердяева271, «революционную аскезу», готов жертвовать своей жизнью для борьбы с тем злом, которое в его глазах ассоциируется с частной собственностью и основанном на ней социально–экономическом неравенстве, он движим неприятием (переходящим в самозабвенную ненависть) к западным ценностям и установкам жизни, деформирующим и разрушающим (или уже вполне разрушившим) установки и ценности его собственной цивилизационной системы.
В известном смысле сказанное относится даже к германскому национал–социализму, выступавшему на своих ранних стадиях (как и итальянский фашизм) в значительной степени в качестве реакции на деструкцию и кризис традиционных ценностей под ударами утверждавшегося капитализма приатлантического образца, обостренной чувством унижения в результате поражения в Первой мировой войне, последующих отторжений территорий, репараций и контрибуций.
Зло, привнесенное в мир Русской и Китайской революциями, нацистским режимом в Германии и пр., имело в своем основании, кроме всего прочего, и острое чувство неудовлетворенности огромных масс людей, порожденное распадом традиционного, аутентичного сложившимся представлениям этих людей мира, и утверждения новых, непривычных и неприемлемых для большинства из них ценностей, ориентиров и установок индивидуалистически–прагматически–рационалистически–буржуазного образца. Как в связи с этим сразу по окончании Второй мировой войны писал С. Л. Франк, «близоруко усматривать последний источник зла только в определенной доктрине. Доктрина есть только внешняя оболочка и идеологическое оправдание для инстинкта зла, дремлющего в душе человеческой; весь ее успех состоит в том, что она потакает разнузданию этого инстинкта. Где этот дух зла становится активным и ищет обнаружения, он легко себе найдет оправдание и в других доктринах»272 (автор имеет в виду другие, потенциально возможные, доктрины кроме национал–социализма и большевизма).
Однако не менее близоруко было бы не видеть того, что если «дух зла» (гоббсовский изначальный и безмерный эгоизм, порождающий «войну всех против всех» в государственно неупорядоченном, «естественном» состоянии общества, фрейдовский первичный зов Танатоса, противоположный по своим устремлениям Эросу, или просто библейски понимаемая врожденная греховность человека) действительно искони присущ индивиду, то проявляется он не просто будучи спровоцированным некоей по своей сути антиперсоналистической идеологией.
Этот дух вырывается на простор лишь там, где традиционные нравственные ценности и идеалы, будучи разрушенными, перестают оказывать на него сдерживающее воздействие.
Древняя Русь медленно сползала в кризисное состояние как минимум с начала второй трети XII ст., со времени смерти Мстислава Великого, старшего сына Владимира Мономаха. Однако никаких катастрофических последствий (кроме типичных для всего Средневековья княжеских междуусобиц и, что существеннее, снижения темпов развития на фоне впечатляющего успеха Западнохристианского мира того времени) это не имело. Ослабленная борьбой между князьями Русь оказалась неспособной противостоять нашествию Батыя и была сокрушена. Таким образом внутренний кризис совпал (а в известной степени и подготовил ее) с обусловленной действиями внешних сил катастрофой. Однако никакого взрыва внутренней агрессивности, социального безумия, жестокости и пр. на Руси в результате всего этого не произошло. То же можно было бы показать на примерах также завоеванных в XIII в. монголами Китая, Средней Азии или Ирана.
Во всех этих и множестве подобных случаев гибли люди, рушились державы и пр., но сохранялись прежние, многими веками выработанные и проверенные, социально–нравственные, санкционированные авторитетом религии духовные ценности, которые не могли быть отменены или даже принципиально поколеблены одним лишь фактом политической катастрофы и связанными с этим бедствиями.
Иными словами, добуржуазные формы межцивилизационного взаимодействия в минимальной степени вели к разложению присущих той или иной цивилизации традиционных социокультурных регуляторов. Последнее имело место лишь там, где некая (практически всегда стадиально более низкого уровня) цивилизация физически уничтожалась в системной целостности ее проявлений, и ее деморализованные потомки, утрачивая собственные регуляторы поведения, так или иначе воспринимали чужие. Однако до середины II тыс. такие случаи фиксируются лишь по отношению к отдельным раннеклассовым образованиям на периферии крупных цивилизационных ойкумен, в систему которых включались соответствующие этносы (иберы, галлы, иллирийцы и др. и Рим, вьетские народности к югу от Янцзы и Китай династий Цинь и Хань; негры Судана и Восточного побережья Африки и Мусульманская цивилизация и пр.).
Случаи же тотального уничтожения самостоятельных, насчитывавших более двух тысячелетий цивилизационной жизни, социокультурных систем относятся как раз к началу западной колониальной экспансии. Имеются в виду великие цивилизации Мезоамерики и региона Перуанско–Боливийских Анд с примыкающей к ним прибрежной полосой. Однако испанская экспансия в Новом Свете по своей природе была еще добуржуазной, хотя по духу уже вполне новоевропейской. Это же можно сказать и о попытке Польши в XVI — начале XVII вв. подчинить православную Восточную Европу (вехами на этом пути были Люблинская уния с передачей полякам Украины 1569 г., Брестская церковная уния 1596 г., коронация в Кремле королевича Владислава и введение в Москву польского гарнизона в 1610 г.).
Принципиально иной характер носила колониальная деятельность Голландии в XVII в. и Англии с XVIII в., особенно после промышленного переворота, в результате которого английская промышленность оказалась заинтересованной в широком экспорте своих дешевых товаров, ввоз которых в традиционные цивилизации Востока определял разбалансирование их собственных экономических систем. А последнее, накладываясь на внутренние противоречия в них самих, определяло уже системный социокультурный кризис, охвативший с середины XVIII в. Индию, а вскоре Китай и Юго–Восточную Азию.
Исключение составляла, в сущности, лишь Япония, закрывшаяся от внешнего мира в начале XVII в. и уже самостоятельно и сознательно принявшая программу модернизации страны после победы революции Мейдзи в 1868 г. При этом уже с конца XVIII в. западное, в особенности английское, влияние все более усиливается в Османской империи, а вскоре и в Персии, дополняясь вскоре в Северной Африке и на Ближнем Востоке влиянием (а затем и прямым колониальным подчинением Алжира, Туниса и отчасти Марокко) французским. С конца XIX в. Турция оказывается в сфере германского влияния.
В результате в инициируемую Западом мировую интеграцию втягиваются (с разными для них последствиями) Мусульманский, Индийско–Южноазиатский и Китайско–Дальневосточный миры. Первая мировая война со всею очевидностью засвидетельствовала функциональное единство человечества. И с ее окончанием в мировом масштабе мы наблюдаем рост альтернативных по отношению к Западной цивилизационной системе тенденций, настроений и сил, выступающих сперва в преимущественно марксистско–большевистской форме, а в последние десятилетия (особенно в мусульманских государствах) принимающих все более отчетливый цивилизационнорелигиозный характер.
Цивилизационными ойкуменами, не входившими в Новое время в состав Макрохристианского мира, были три: Мусульманско–Афразийская, преимущественно Североафриканско–Западноазиатская, Индийско–Южноазиатская, и Китайско–Дальневосточная, дифференцирующаяся на Китайско–Восточноазиатскую и Японско–Дальневосточную. В сущности, эти ойкумены в своих традиционных контурах живут и сегодня.
Конечно, ни конфессиональное, ни пространственное определение этих ойкумен сами по себе не дают адекватного о них представления. Так, к примеру, ислам с позднего средневековья был распространен далеко за пределами Афразии — до Албании, Боснии и Среднего Поволжья в Европе, с одной стороны, Сенегала, Нигерии и Танзании — с другой, и Малайзии, Индонезии и, отчасти, Филиппин — с третьей. Аналогичным образом процессы, имевшие место в XX в., привели к определенному отстранению от традиционной духовной культуры некоторого количества людей в различных цивилизационных ойкуменах, наиболее ощутимо — в странах Восточной и Юго–Восточной Азии, прежде всего, в прошедших через коммунистическое господство (Китай, Северная Корея, Вьетнам), но в некотором отношении и в тех, которые после Второй мировой войны оказались в зависимости от США (Япония, Южная Корея, Тайвань).
Однако, учитывая эти и другие тонкости, при макроцивилизационном анализе все же можно говорить именно о трех названных цивилизационных мирах или ойкуменах. Каждая из них имеет глубокие исторические корни, выходящие из раннецивилизационных структур соответствующих регионов III–II тыс. до н. э., в определенном смысле образующих их глубочайшую подоснову, трансформированную в преддверии и в эпоху «осевого времени» и последующего распространения мировых религий. Все эти три мира к концу Средневековья были полностью самодостаточными (хотя значительная часть Индии и находилась под властью мусульман) и имели, особенно по сравнению с Западом, достаточно высокий жизненный уровень.
Поданным, собранным Ф. Броделем, даже в XVIII в., когда Восток уже явно начинал отставать от динамически развивавшегося Запада, доход на душу населения, подсчитанный в долларах и ценах США 1960 г., составлял: Англия (1700 г.) — 150–190 $; английские колонии в Северной Америке, будущие США (1710 г.) — 250–290 $; Франция (1781–1790 гг.) — 170–200 $; Япония (1750 г.) — 160 $. Однако особенно примечательно сопоставление на 1800 г.: США — 266 $, Китай — 228 $ (в 1950 г. — 170 $), Западная Европа в целом — 213 $, Индия — 160–210 $ (в 1900 г. — 140–180 $). Соответственно, когда в 1976 г. Западная Европа достигла среднего жизненного уровня в 2325 $ в год, Китай имел 369 $, а «третий мир» в целом — 355 $.
Как видим, если до 1800 г. жизненный уровень Запада в целом не превосходил средние показатели основных стран традиционного Востока (в частности Китая) и определенное исключение составляла лишь Северная Америка, где при наличии огромных и ранее не использовавшихся природных ресурсов и притоке энергичной свободной (как и бесправной невольничьей) рабочей силы не было абсолютистских структур и многочисленной бюрократии, дворянства, сколько–нибудь значительных военных расходов и пр., а значит и налоги были меньше, чем во всем остальном мире, то на 1976 г. разрыв вырос приблизительно в 6–7 раз, а на исходе XX в. составил еще более внушительную величину.
Такая картина, продолжает французский исследователь, вынуждает нас другими глазами посмотреть на соотношение позиций Запада и остального мира до 1800 г. и после промышленного переворота. Не вызывает сомнения, что Европа (по причинам скорее социальным и экономическим, чем самого по себе технического прогресса) одна оказалась способной совершить машинную революцию, обеспечившую средства для утверждения западного господства в мире и уничтожения межцивилизационной конкуренции. Механизировавшись, промышленность Запада стала способной вытеснить традиционную промышленность других народов. Картина мировой истории с XV в. до 1850–1950 гг. — это картина унитожения прежнего равенства между мировыми цивилизациями. По сравнению с этой преобладающей линией все другое было второстепенным273.
Если иметь в виду не раннюю колониальную торговлю, не первые захваты на Востоке торговых факторий, а действительное вторжение европейской экономики в хозяйственную жизнь традиционных миров, то начинать процесс утверждения западного господства над великими цивилизациями Азии следует примерно с рубежа XVIII–XIX вв.
Яркими вехами здесь можем считать этапы постепенного утверждения британского владычества в Индии в течение второй половины XVIII — начала XIX вв. — подчинение Бенгалии после битвы при Плесси (1757 г.), а затем и многочисленных других княжеств в ходе четырех англо–майсурских (1767–1799 гг.) и трех англо–маратхских (1775–1818 гг.) войн. Кульминацией этого процесса может считаться момент захвата Дели в 1803 г. и превращение Великого Могола в марионетку английской Ост–Индской кампании. В этом ключе следует рассматривать и широкие восточные замыслы молодого Наполеона Бонапарта, вылившиеся в Египетскую экспедицию 1798–1799 гг. и едва (помешало убийство Павла I) не приведшие к совместному французско–русскому походу в Индию.
Конечно, есть все основания говорить о том, что Восток к третьей четверти истекшего тысячелетия оказался в состоянии определенной стагнации по сравнению с тем, что он представлял собою ранее, особенно до опустошительных монгольских завоеваний XIII в. Однако с таким же точно успехом можно утверждать, что три названные ранее цивилизационные ойкумены нашли, с учетом специфики каждого макрорегиона, оптимальный баланс экономических, экологических и демографических показателей, при утверждении и многовековом опробировании соответствующих ему социокультурных (цивилизационных) регуляторов. А это, при всех внутренних кризисах и внешних ударах в целом обеспечивало стабильность жизни и ее многопланового воспроизводства.
Катастрофы начинались там и тогда, где и когда внутренние кризисные моменты вступали в резонанс с разрушительным (против которого восточные народы не могли выработать иммунитет на основе опыта своей прошлой истории) воздействием индустриальных буржуазных государств. Примером может служить Китай, в котором внутренний эколого–демографический кризис, явственно ощущавшийся с рубежа XVIII–XIX вв. и имевший собственные социально–экономические причины274, совпадает с началом разрушительного для экономики страны вторжения англо–французского капитализма после проигранных Цинской империей в 1840–1842 гг. и 1856–1860 гг. двух «опиумных войн».
Наложение двух, дестабилизировавших ситуацию в стране, совершенно различных по своим источникам факторов привело к страшному по своей кровавости и разрушительности восстанию тайпинов 1850–1864 гг., потрясшему и окончательно подорвавшему весь прежний жизненный уклад275. С этого момента страна встала на тот путь нарастающего недовольства народных масс и усугубляемых вмешательством иностранных государств гражданских смут, который привел к победе коммунистов в 1949 г.
Современные исследователи приходят к единодушному выводу о том, что именно вторжение (обычно в предельно грубой и вызывающей, оскорбляющей чувство собственного достоинства древних культурных народов форме) западных, стремившихся к расширению зоны своего колониального господства держав спровоцировало внутреннюю трансформацию цивилизаций Востока. Поэтому, по мнению Л. С. Васильева, относительно стран Востока гораздо уместнее говорить не о «новой истории» и даже не об «истории Востока в новое время», но именно «о колониализме как эпохе, спровоцировавшей внутреннюю трансформацию» — при том, что в каждой из восточных стран ее внутренние социокультурные, религиозно–цивилизационные факторы сыграли едва ли не решающую роль в том, какую форму приняла эта трансформация.
В этом плане, для мировых событий XX в., колониализм был важен именно в качестве провокационного фактора, фактора «вызова», выражаясь словами А. Дж. Тойнби, стимулировавшего разнохарактерные (в соответствии с социокультурными основами различных государств) «отклики». «Нельзя забывать, — продолжает Л. С. Васильев, — что в тот момент, когда бацилла колониального капитализма начала действовать в разных восточных регионах, Восток был во многих отношениях не менее процветающим, чем Европа, а где–то и в чем–то даже и более»276.
Специальные исследования разных ученых, обобщенные А. М. Петровым277, доказывают, что даже в XVII–XVIII вв. колониальная торговля Запада с Востоком строилась таким образом, что за высоко ценимые в Европе пряности, шелка, фарфор и пр. западные купцы должны были платить золотом и серебром (которые преимущественно выкачивались через Испанию из Латинской Америки), а не собственными товарами. Некоторое исключение составлял лишь западный экспорт на Восток огнестрельного оружия, в особенности появившихся в начале XVI в. мушкетов и вытесняющих их с конца XVII в. кремневых ружей. О пассивном торговом балансе Западной Европы названных веков по отношению к Востоку, покрывавшемся благородными металлами Нового Света, пишут и другие специалисты по экономической истории, например, с опорой на зарубежные исследования, В. А. Зарин278.
Итак, состояние определенного глобального цивилизационного равновесия в мире решительно изменяется лишь где–то в первой половине XIX в., с началом эпохи машинной индустрии и фабричного производства, конкурировать с которыми восточные хозяйственные системы, основанные преимущественно на ручном труде, были неспособны.
К этому же приблизительно времени (где раньше, где позже) относится и начало вызревания на традиционном Востоке комплекса неполноценности по отношению к Западу (что в Восточной Европе началось за полтора — два столетия до того). Под знаком ощущения такого рода ущербности усиливались различного рода вестернизационные влияния и задумывались широкие реформы, закладывались основы капиталистического (особенно — компрадорского) предпринимательства, развивалась жажда наживы любыми средствами и т. д., что в комплексе подрывало основы соответствующих социокультурных систем, ценностно–мотивационных установок и базовых, специфических в каждом случае, цивилизационных регуляторов.
И в качестве реакции на подрыв традиционных смысложизненных устоев, сопровождающийся обнищанием и деградацией масс при циничном обогащении попирающих местные и не воспринявших западные моральные нормы нуворишей, стремительно начинают набирать силу радикальные социальные, национальные и конфессиональные движения, зачастую использовавшие по–своему интерпретированные западные доктрины, в частности — адаптированный сперва к русским, а затем и собственно азиатским условиям марксизм. Иной формой в сущности той же самой реакции неприятия разрушительной для местных форм жизни псевдовестернизации становятся навеянный аналогичными европейскими настроениями национализм и религиозный консерватизм с креном в сторону почвеннического фундаментализма. Соответствующий блок проблем, каким он виделся полвека назад, тогда специально анализировал А. Дж. Тойнби, впервые поставивший вопрос об отношениях Запада с традиционными цивилизационными мирами Востока в качестве важнейшего и действительно глобального для судеб человечества последней четверти XX в.279 При этом он, как до него, к примеру, Г. В. Гегель или К. Маркс с Ф. Энгельсом, а сегодня — Ф. Бродель или С. Хантингтон, к незападному миру относит и Россию, точнее — те огромные восточноевропейско–североевразийские пространства, которые в течение последних четырех столетий находились под скипетром Романовых, а затем под властью большевиков.
Конечно, такой взгляд во многом оправдан, особенно применительно к, пользуясь терминологией Н. А. Бердяева280, московскому и советскому периодам российской истории. Однако по отношению к ее петербургскому периоду такое суждение выглядит неоправданным упрощением. Это ошушал уже П. Я. Чаадаев, столь решительно и аргументированно обосновавший глубинное отличие России от Западнохристианского мира. Он выводит проблему цивилизационной идентичности России за плоскость противопоставления Запада и Востока, осознавая невозможность усмотрения ее предельных оснований ни в том, ни в другом социокультурном типе281.
Предложенная ранее концепция Макрохристианского мира в составе его Западноевропейско–Североамериканского ведущего центра и Латиноамериканской и Восточноевропейско–Евразийской периферий, имеющих при этом и собственную цивилизационную природу, далеко не тождественную, а во многом и противоположную Западной цивилизации, помогает, как кажется, решить проблему цивилизационной идентичности Восточноевропейско–Североевразийского пространства.
По отношению к традиционным цивилизациям Востока Россия в XIX в. в значительной степени действительно выступала в качестве проводника западного влияния, но сугубо внешнего, не затрагивающего основ социокультурного бытия соответствующих народов. В качестве «Запада» она в этом качестве воспринималась восточными народами и даже, до некоторой степени, самими европейцами. В этом ключе можно рассматривать вовлечение Московского государства в антитурецкую коалицию («Священную лигу») Австрией, Речью Посполитой и Венецией в 1686 г., тем более победоносные войны Российской империи с Турцией в царствование Екатерины II, вторая из которых, окончившаяся Ясским миром 1791 г., велась в союзе с Австрией. О том же говорит и длительное русско–английское противостояние на Ближнем и Среднем Востоке в середине — второй половине XIX в., в ходе которого Великобритания рассматривала Россию уж никак не в качестве «восточной» страны, а как подобного себе по хищническим колониальным устремлениям конкурента.
Но не менее важно и другое обстоятельство, разительно прослеживающееся во всей западной политике по отношению к России в те века. Как, анализируя этот вопрос, писал находившийся еше под впечатлениями Крымской войны 1853–1856 гг. Н. Я. Данилевский в конце 60‑х годов XIX в., на Западе по отношению к России во всех сферах «господствует один и тот же дух неприязни, принимающий, смотря по обстоятельствам, форму недоверчивости, злорадства, ненависти или презрения. Явление, касающееся всех сфер жизни, от политических до обыкновенных житейских отношений, распространенное во всех слоях общества… может недриться только в общем инстинктивном сознании той коренной розни, которая лежит в исторических началах и исторических задачах племен. Одним словом, удовлетворительное объяснение … этой общественной неприязности можно найти только в том, что Европа признает Россию … чем–то для себя чуждым, и не только чуждым, но и враждебным»282.
И европейские государства вскоре лишний раз подтвердили этот вывод, приняв сторону Турции в войне 1877–1878 гг. и сведя к минимуму политическое значение побед под Шипкой и Плевной. В статье «Как отнеслась Европа к русско–турецкой распре» Н. Я. Данилевский снова отмечал очевидный факт широкого распространения на Западе антирусских настроений. На стороне Турции, писал он, выступила не только «банкирствующая, биржевая, спекулятивная Европа — то, что вообще понимается под именем буржуазии», но и левые политические силы — «Европа демократическая, революционная и социалистическая, начиная от народно–революционных партий до космополитической интернационалки»283.
Сказанное лишний раз подтверждает органический и непреодолимый, веками существующий дуализм в отношениях Запада и России, равно как и России к Западу. Он сводится к тому, что на глобальном уровне, по отношению к традиционным цивилизационным ойкуменам Востока, обе стороны (хотя бы как причастные к древнехристианской культуре) ощущают свое родство и общность. Однако в рамках собственно Макрохристианского мира Запад, как сторона ведущая и почти всегда сильнейшая, по крайней мере всегда более богатая, откровенно не признает Россию (восточнохристианско–славянский мир в целом, делая определенное исключение лишь для славянских народов западнохристианской традиции — чехов, поляков, словаков, словенцев, хорватов) своей составной частью. Россия же (в лице образованной части своего общества) со времен спора западников и славянофилов так и не выработала единого отношения к этому вопросу.
Такая двойственность цивилизационного статуса России как ведущей силы Восточноевропейско–Евразийского региона, имела глобальные исторические последствия в XX в. В качестве одной из могущественнейших мировых держав Российская империя проводит экспансионистскую политику на Востоке, заключает направленный против Германии союз с Францией (1891–1893 гг.), подписывает в 1907 г. с Англией соглашение о разграничении сфер влияния в Азии, и, наконец, совершает роковой шаг — вступает 1 августа 1914 г. в Первую мировую войну. Казалось бы, она — один из нескольких мировых империалистических хищников. Но в то же время в ней самой, по мере ломки устоев традиционной жизни, кризиса общины и кризиса самодержавия, промышленного переворота и ускоренной урбанизации, вызревают радикальные силы, неприемлющие попирающую ценности народной жизни вестернизацию (обуржуазивание) страны. В лице разночинной интеллигенции они подыскивают для себя доктринальное самовыражение и, пройдя через народничество, останавливаются на революционно понятом марксизме. При этом усугубляющиеся внутренние противоречия накладываются на внешние бедствия — сперва (еще в ограниченном масштабе) в виде поражений в русско–японской войне 1904–1905 гг., а затем — перенапряжения и колоссальных, ничем не оправданных жертв 1914–1917 гг.
Взаимоналожение этих двух вполне самостоятельных процессов и обуславливает катастрофу 1917 г. Однако в результате Первой мировой войны в катастрофическом положении оказался весь мир. Началась подлинно всемирная — общечеловеческая — история: в форме системно–функционального взаимодействия всех цивилизаций, государств и народов планеты.
Таким образом, к началу XX в. всемирная макроцивилизационная суперсистема в целом уже сложилась — в виде, так сказать, трехчленной структуры. Ее господствующим, ведущим и системообразующим центром (ядром) выступал Западноевропейско–Североамериканский, или, проще, Североатлантический — Западный мир (с его непосредственными ответвлениями в Австралии, на Новой Зеландии, отчасти в Южной Африке и пр.); ближайшей периферией (внутренний пояс) — Восточноевропейско–Евразийский (в целом объединенный в рамках Российской империи, потом — СССР) и Латиноамериканский миры, родственные первому в исходных религиозно–духовных основаниях, а также колониально покоренная и разделенная между европейскими империалистическими державами Африка, не имеющая высокоразвитой (как Китай или Индия) цивилизационной идентичности и воспринимающая своей патриархально–языческой основой христианские и мусульманские прививки. Запад вместе с Восточнохристианско–Евразийской и Латиноамериканской цивилизациями, а, отчасти, и с колониальной Африкой, образовывает Макрохристианский мир — в котором, кроме собственно западных буржуазных держав, силой мирового значения выступает только Российская империя.
Отдаленную, функционально в большей (колониальной) или в меньшей мере связанную с Западом и Россией периферию образовывали: Мусульманско–Афразийская цивилизация, ведущие державы которой — Османская империя и Персия — внешне сохраняли политическую самостоятельность; порабощенная Индия с Юго–Восточной Азией — Индийско–Южноазиатская цивилизация; Китайско–Дальневосточный мир, представленный прежде всего вошедшими в принципиально различные русла дальнейшего исторического движения Японией, в полной мере сохранившей свой суверенитет и начавшей после революции Мейдзи (1867–1868 гг.) воспринимать передовые западные достижения (преимущественно в научно–технической и военной сферах), и формально независимым Китаем, все глубже увязавшим в неразрешимых внутренних противоречиях, усиливающихся в связи с последствиями его раздела империалистическими державами на сферы влияния.
Такая, утвердившаяся к началу XX в., структура означала преодоление самодостаточных цивилизационных ойкумен и интеграцию человечества в единую макроцивилизационную суперсистему. На этом окончательно завершается цивилизационно–региональная история и начинается действительная всемирная история — первым глобальным проявлением которой стала Первая мировая война.
Трансформация мировой макроцивилизационной системы в XX веке (Ю. В. Павленко)
Характеризуя состояние человечества к началу XX в., О. Шпенглер на исходе его первой трети писал, что господствующей силой «на этой небольшой планете» была «группа наций нордической крови под руководством англичан, немцев, французов и янки». Их политическая власть «покоилась на богатстве (везде курсив — О. Ш.), а богатство заключалось в силе их промышленности». Прочие же народы, «…будь они колониями или формально независимыми государствами, играли роль поставщиков сырья или покупателей. Такое разделение обеспечивалось армией и флотом, содержание которых предполагало богатство индустриальных стран… Уровень военной мощи зависел от ранга индустрии. Промышленно бедные страны вообще бедны, а потому не способны оплачивать армию и войну. Они политически бессильны, а потому… являются объектами экономической политики своих противников»284.
С точки зрения силы господство Запада (расколотого на два враждебных блока, к одному из которых оказалась пристегнута Российская, а к другому — Османская империя) базировалось, таким образом, на его военно–промышленном могуществе, на технике, порожденной и связанной, как подчеркивал немецкий философ, со специфической, «фаустовской» душой западной культуры. Для «…цветных — а в их число входят и русские — фаустовская техника не является внутренней потребностью, только фаустовский человек мыслит, чувствует и живет в этой форме. Ему она душевно необходима…»285
Однако угнетенные народы Востока оказываются способными заимствовать западную технику, используя ее в ряде случаев даже эффективнее, чем европейцы и северные американцы. «Тут начинается месть эксплуатируемого мира против своих владык. Бесчисленные руки цветных работают столь же умело и без таких притязаний, а это потрясает самые основания западной хозяйственной организации…. Центр производства неуклонно смещается, а после мировой войны цветные утратили и всякое почтение к белым»286. Это рассматривается О. Шпенглером в качестве симптома будущего краха Западной цивилизации, утрачивающей монополию на научно–технические знания и военно–промышленное преимущество над другими частями человечества.
Такие рассуждения имманентно содержат идею о неизбежной трансформации моноцентрического, при господстве Запада, мира начала XX в. в полицентрический мир начала XXI в., чреватый хантингтоновским «столкновением цивилизаций». И, как оказывается, великое противостояние социальных систем, миров капитализма и социализма, определявшее характер мировой политики в течение четырех десятилетий после окончания Второй мировой войны, как и большевистская революция, не говоря уже о революции Китайской или национальной борьбе, приведшей к падению британского колониального владычества в Индии, фундаменталистской революции в Иране и пр., как звенья одной цепи оказываются взаимосвязанными и получающими свое философско–историческое осмысление в контексте этого восстания незападных народов против западного господства.
Следует отметить, что в начале XX в. так думал не один О. Шпенглер. О том же, к примеру, в начале 20‑х гг. писал и А. Вебер. Отмечая, что «европейский дух играет революционизирующую роль в мировой истории»287, он констатировал, что «как бы сильно ни стремился европейский империализм, насаждающий на всем Земном шаре достижения современной цивилизации, употребить открывающиеся при этом возможности исключительно в своих целях», народы колоний и полуколоний «уже осознали возможность в дальнейшем использовать структуры европейской цивилизации для самоопределения». И далее немецкий культуролог продолжал: «Всем известный подъем антиимпериалистического движения… способен привести к тому, что охваченные этим движением регионы попытаются освободиться от пут европейского империализма, разрушив капиталистическую форму хозяйства, и вновь обрести себя в собственных экономических структурах, что в крайне гротескном виде и составило глубинный смысл проведенной… советизации России»288.
По–своему это понимали и большевики. Так, В. И. Ленин уже в годы Первой мировой войны писал о том, что социалисты должны «…не только требовать безусловного, без выкупа, и немедленного освобождения колоний… социалисты должны самым решительным образом поддерживать наиболее революционные элементы … национально–освободительных движений в этих странах и помогать их восстанию, — а при случае и их революционной войне — против угнетающих их империалистических держав»289. Лидер российских большевиков уже тогда ориентировался на единый антибуржуазный (в сущности антизападный) «фронт народов», не отдавая еще себе отчета в том, что революционный марксизм станет знаменем антибуржуазных сил преимущественно в незападных странах — в России, Китае, Латинской Америке и пр. Еще более на подъем антизападного движения в странах Востока большевики делают ставку с середины 20‑х гг., все более ввязываясь в гражданскую борьбу в Китае. Их целью становится лидерство над всеми антизападными силами мира, и они последовательно поддерживают антиколониальные выступления во всех частях Земного шара.
В середине XX в. такого рода намерения советских коммунистов прекрасно понимали многие западные интеллектуалы. Так, в первые годы после Второй мировой войны — на заре Холодной войны — А. Дж. Тойнби писал: «Сегодняшний страх Запада перед коммунизмом — это отнюдь не боязнь военной агрессии, как это было перед лицом нацистской Германии или милитаристской Японии… Оружие коммунизма, которое так нервирует Америку… — это духовное орудие пропагандистской машины. Коммунистическая пропаганда обладает собственным «ноу–хау» в отношении разоблачения темных сторон Западной цивилизации, показывая ее изнанку под увеличительным стеклом, с тем, чтобы коммунистический образ жизни предстал желанной альтернативой для неудовлетворенной части населения Запада. Коммунизм также ведет конкурентную борьбу за влияние на подавляющее большинство человечества, которое не является ни коммунистическим, ни капиталистическим, ни русским или западным, но живет сейчас в тревожном мире… между этими двумя враждующими твердынями»290.
План В. И. Ленина во многом был воплощен в жизнь. После победы во Второй мировой войне СССР добился грандиозных успехов в деле поднятия в мире антизападных настроений. Важнейшими вехами на этом пути могут считаться: гражданская война 1946–1949 гг. в Китае, завершившаяся победой коммунистов, провозглашением 1 сентября 1949 г. КНР и подписанием 14 февраля 1950 г. Договора о дружбе, союзе и взаимопомощи между СССР и Китайской народной республикой; образование коммунистической КНДР в 1948 г. и закрепление за Северной Кореей статуса самостоятельного государства по итогам Корейской войны 1950–1953 гг.; подъем национально–освободительной борьбы в Британской Индии и образование в 1947 г. на ее территории независимых государств Индии (Республика Индия с 26 января 1950 г.) и Пакистана; провозглашение 17 августа 1945 г. независимости Индонезии, с признанием ее независимости к концу 1949 г., после кровопролитной войны, западными государствами; победа коммунистов в Северном Вьетнаме, признанная Женевской конференцией 1954 г.; мощное антизападное, с широким использованием социалистических лозунгов, движение в арабских странах в 50‑е годы, узловыми моментами которого можно назвать революции в Египте (1952 г.) и Ираке (1958 г.), а также кровопролитную войну в Алжире, закончившуюся подписанием между ним и Францией Эвиантских соглашений в марте 1962 г.
В этом же ряду стоят такие события, как обретение независимости большинством стран Африки в 1960 г., захват левыми радикалами во главе с Ф. Кастро власти на Кубе в январе 1959 г., при резком обострении положения практически во всех латиноамериканских государствах к началу 60‑х гг. и многое, многое другое, связанное с распадом мировой колониальной системы и впечатляющими успехами леворадикальных, использующих практически всегда национально–демократические и очень часто — социалистические лозунги сил, единодушно выступавших под антизападными (антиимпериалистическими, как тогда говорили, антиколониальными, антибуржуазными лозунгами).
Глядя на происходящее в те годы в мире, многим казалось, что в великом противостоянии социальных систем коммунистический лагерь (особенно до его резкого ослабления после разрыва между СССР и КНР в середине 60‑х гг.) неизменно берет верх; что за ним пойдут освободившиеся от колониального господства и весьма склонные к социалистическим экспериментам страны «третьего мира»; что даже так называемые «неприсоединившиеся государства» (Индия, Югославия и др.) скорее склонны поддерживать на мировой арене «лагерь социализма», нежели его противника.
На этом фоне продолжавшаяся до начала 50‑х гг. в Западной Украине и Литве антисоветская партизанская борьба, антикоммунистические выступления в Берлине (1953 г.), Венгрии (1956 г.), Чехословакии (1968 г.), неоднократные протесты рабочих и интеллигенции в Польше (особенно сильные в 1971 г., до появления «Солидарности» и другие явления того же рода воспринимались на Западе скорее в качестве героических, но обреченных на неудачу восстаний, неспособных изменить общую расстановку сил.
Более того, западные, особенно французские интеллектуалы, такие как Ж. — П. Сартр или М. Фуко, вплоть до оккупации советскими войсками Чехословакии в 1968 г., проявляли к советской и даже китайской коммунистической системам нескрываемую симпатию, усматривая в них реальную, призванную в скором будущем восторжествовать в мировом масштабе, альтернативу буржуазному обществу. Такого рода умонастроениями, как и реальной военной силой СССР, и можно объяснить последнюю большую победу советского правительства на международной арене — закрепление по итогам Хельсинского совещания 1975 г. результатов послевоенного раздела Европы, остававшегося в силе до 1989 г.
Иными словами, можно сказать, что с момента окончания Первой мировой войны и победы большевиков в ходе гражданской войны в России до 60‑х годов включительно мировая история проходила под знаком антизападной (антибуржуазной, антиколониальной) реакции основной массы народов планеты против господства нескольких ведущих капиталистических, промышленно развитых государств. В указанный промежуток времени в этой антизападной борьбе роль идеологического оружия играли коммунистические (с их разнообразными социалистическими вариациями) и национально–освободительные лозунги.
В этой плоскости рассмотрения фашизм в Италии и национал–социализм в Германии, при всей глубинной идентичности их тоталитарной сущности с советским большевизмом (особенно в его крайней, сталинской, форме) должны считаться явлениями аутентично–западными. Они, как в те годы подчеркивали многие европейские интеллектуалы, развивали тенденции, заложенные в Новоевропейской цивилизации в первые века ее существования (эгоизм, рационализм, технократизм, экспансионизм, пренебрежение интересами всех незападных цивилизаций и народов, взгляд на них как на «неполноценных», а значит, и отношение к ним как к средству достижения собственного благополучия).
Однако эти тенденции оказались преломленными сквозь призму, во–первых, антиперсоналистических, а потому легко скрещивающихся, массовых идеологий XIX — начала XX вв. — идеологий социализма и национализма (или расизма), в одинаковой степени презиравших духовность отдельной личности, и, во–вторых, объективных социально–экономических трудностей соответствующих государств в годы после окончания Первой мировой войны, в особенности (для Германии) в период Мирового экономического кризиса 1929–1933 гг., преодоление которых с неизбежностью требовало усиления регулятивно–организационных функций государства в социально–экономической сфере.
То, что нацизм имеет глубокие истоки в западноевропейской ментальности, в наше время осознается вполне отчетливо. Так, к примеру, Ф. Фокуяма совершенно справедливо подчеркивает тот факт, что уже в XIX в. самые «либеральные» европейские общества были нелиберальны, поскольку верили в законность империализма, т. е. в право одной нации господствовать над другими народами, не считаясь с тем, желают ли последние этого господства. Это способствовало широким колониальным захватам второй половины названного столетия с последующим соперничеством и борьбой за передел мира, приведший к Первой мировой войне. В этой связи американский исследователь пишет: «Безобразным порождением империализма девятнадцатого столетия был германский фашизм, идеология, оправдывавшая право Германии господствовать не только над неевропейскими, но и над всеми негерманскими народами. Однако — в ретроспективе — Гитлер… представлял нездоровую боковую ветвь в общем ходе европейского развития»291.
В эпоху мирового экономического кризиса рубежа 20–30‑х гг. перед ведущими странами Запада объективно открывались две возможности: сохраняя ориентацию на традиционные либеральные ценности, ввести элементы государственного планирования и регулирования в народнохозяйственную деятельность (опирающийся на концепцию кейнсианства «новый курс» Ф. Рузвельта, пришедшего к власти в США в 1933 г.), или, переориентировавшись на расистско–националистическую идеологию (сознательно отвергающую ценности христианства и либерализма) установить, не отрицая правомочности самого принципа частной собственности, над всеми сферами общественной жизнедеятельности откровенную партийно–государственную диктатуру (установление нацистского режима А. Гитлера в Германии в 1933 г.) с конечной задачей покорения и эксплуатации окружающих народов внеэкономическими средствами.
Исторический опыт показал, что казавшаяся в те годы реальной коммунистическая альтернатива первому и второму сценариям на самом деле была очень преувеличена. Широкое распространение в Западной Европе между двумя мировыми войнами коммунистического движения сомнения не вызывает, однако в него была вовлечена прежде всего радикальная интеллигенция, не принимавшая как коррумпированные режимы собственных демократий–плутократий, так и, тем более, вырисовывавшуюся им фашистскую альтернативу. Основная же масса населения западных государств не могла принять коммунизма в его полноте и аутентичности уже в силу своей органической приверженности частнособственническим идеалам, укоренившимся в ее сознании еще в XVI–XVIII вв. Коммунизм был изначально обречен на Западе на неудачу, особенно при заметном улучшении условий жизни промышленного пролетариата в соответствующих государствах в течение второй половины XIX в., где с неизбежностью был вытеснен социал–демократией, а после первой мировой войны в Италии — фашизмом, а в Германии — национал–социализмом.
Не следует забывать, что, несмотря на мощнейшую поддержку со стороны СССР и финансируемую из него разветвленную сеть агентуры, коммунисты (даже в составе широкого блока левых сил) ни в одной из западных стран не смогли прийти к власти ни в ходе революционных выступлений, ни в результате победы на выборах. Не является в этом отношении исключением и победа на парламентских выборах во Франции в 1936 г. Народного фронта. Ведущей силой в нем была социалистическая партия, а из полученных им 375 депутатских мандатов коммунисты имели только 72. Победы коммунистов оказывались возможными лишь за пределами Западного мира — там, где буржуазные ценности Новоевропейской цивилизации не были укоренены, более того — с враждебностью отвергались основной массой населения.
Принципиальным успехом, в качестве идеологии, направленной своим острием против частной собственности и основанной на ней эксплуатации, коммунизм мог пользоваться лишь в тех странах и у тех народов, в ценностном строе культур которых частная собственность не занимала доминирующего положения, но где осуществлявшаяся в течение XIX — начала XX вв. социально–экономическая и связанная с ней культурная и политическая трансформации вели к ускоренному, насильственному, попирающему традиционные нравственные приоритеты насаждению квазивестернизированного сознания богатеющих на народных бедствиях верхов — нуворишей, преимущественно из компрадорской буржуазии, коррумпированного чиновничества и их многочисленных прихлебателей.
Таким образом, мы снова возвращаемся к проблеме базовых различий обществ западного и незападного («преимущественно восточного») типов с их принципиально различными экономическими и социокультурными основаниями. В предельно широком обобщении основой первого является индивидуализм, частная собственность и рационализм, тогда как второго — социоцентризм (сочетающий коллективизм с патернализмом и иерархизмом), раскрытый Л. С. Васильевым «феномен власти–собственности» и традиционализм. Ярким примером принципиального несоответствия аксиологических оснований конкретных цивилизаций этих двух типов может служить предложенная Э. С. Кульпиным292 таблица структуры ценностей Запада и Китая, шире — оказавшегося в его цивилизационной ойкумене Дальнего Востока в целом:
Системы ценностей цивилизаций
Дальневосточной
1. Государство
2. Мир, порядок, традиции
3. Иерархия, ритуал, прошлое конфуцианское знание
……….
Стабильность
Европейской
1. Личность
2. Свобода, равенство, братство
3. Труд, эквивалент (эквивалентный обмен), частная собственность, закон (право)
……….
Развитие
Первичным на Западе является индивид–собственник, а не иерархически организованная государственно–бюрократическая структура, царящая над подвластными ей работниками. Однако сущностные основы Западной цивилизации уже к концу XIX в., а особенно в первой трети XX в. все более подрываются как процессами обобществления труда и капитала, сполна раскрытыми на их ранней стадии К. Марксом, так и бюрократизацией, что подчеркивал М. Вебер, в том числе с элементами государственной регуляции и планирования экономической жизни, проявившимися, особенно в Германии, уже в годы Первой мировой войны.
С противоположной стороны Восток, точнее — все незападное человечество, достигнув в пределах собственных цивилизационных систем определенной стабильности, самодостаточности и гармонии с окружающей средой, оказалось в зоне экспансии новоевропейских наций. Развив невиданное экономическое, техническое и военное могущество, Запад с первых веков Нового времени начинает преобразовывать мир в соответствии с собственными нуждами, не считаясь с интересами и традиционными ценностями незападных обществ.
Повсюду, как в пределах Макрохристианского мира, так и в традиционные цивилизации Востока, Запад вносил свои принципы и ценности, которые разлагали прежнюю жизнь местных, хорошо ранее сбалансированных обществ. Часть общества поддавалась насаждению новых стандартов жизни, но повышение ее жизненного уровня определялось возрастанием эксплуатации и степени бесправия основной массы населения.
«Западнизация» (термин А. А. Зиновьева) в большинстве случаев вела к понижению жизненного уровня основной массы населения и (что, возможно, еще более существенно) деструкции ценностно–мировоззренческих ориентаций людей при прогрессирующем кризисе доверия к традиционным нормам и представлениям в соединении с неспособностью адекватно воспринимать чуждые им западные ментальность и этос. Даже в случае, когда жизненный уровень основной массы в абсолютном измерении не ухудшается, или даже несколько возрастает (Турция последних десятилетий), это не снимает напряженности, поскольку добытые нечестным путем богатства и соответствующий образ жизни нуворишей воспринимаются остальной частью общества как вызов устоям и традиционным ценностям.
Отсюда — взрыв национально–освободительных и социальных движений в незападных странах, поначалу (в силу высокого авторитета европейской науки и неспособности традиционных учений к выработке адекватной реакции на вызов Запада) опиравшихся на заимствованные у Европы доктрины антибуржуазной направленности. Главным образом это относится к так или иначе перетолкованному в соответствии с местными условиями социализму и, особенно, коммунизму, получившему специфические интерпретации на почве дискредитированных ранее православия (в России) и конфуцианства (в Китае), местных воззрений в Корее и Индокитае, других регионах мира.
Однако в ряде случаев изначально избиралась ориентация на собственные модернизированные учения и политические доктрины (неоиндуистские течения, в частности, гандизм в Индии, «дух Ямато» в Японии до ее катастрофы во Второй мировой войне и пр.). А в последние десятилетия, особенно после победы исламской революции в Иране, на всем Ближнем и Среднем Востоке очевидной становится тенденция к выдвижению в качестве альтернативы «духу Запада» (особенно американизма, порождения массовой культуры США, названных айятолой Хомейни «Большим шайтаном») радикальной мусульманской (фундаменталистской) доктрины, адаптированной к духовным запросам соответствующих народов в современных условиях.
Последняя становится все более популярной даже в таких относительно благополучных странах, как Турция или Египет. Поэтому не удивительно, что даже там, где исламистские партии действуют вполне легитимными, парламентскими методами, местные правящие прозападные силы применяют по отношению к ним (с одобрения Запада) силовые методы. Один из последних тому примеров — запрет на 5 лет исламистской партии в Турции в начале 1998 г.
Таким образом в наши дни, особенно после дискредитации коммунизма и краха СССР, похоже, начинается новая фаза противостояния незападного мира Западу. Однако если ранее основным идейным противовесом «западнизации» выступали заимствованные из Европы (часто — через Россию) леворадикальные (сочетавшие идеи национально–освободительных движений с модификациями коммунизма и социализма) учения, то теперь незападные народы все увереннее становятся на почву собственных традиционных, но обновленных (не всегда в сторону гуманизации) в соответствии с запросами времени учений, имманентно содержащих определенный, специфический для каждой великой цивилизации, глубинный религиозный слой.
Наиболее ярко это проявляется в странах ислама. Однако на наших глазах постепенный, но решительный поворот к традиционным духовным ценностям (при их прагматическом сочетании с научно–техническими и другими рациональными знаниями западного происхождения) происходит в Китае В таком ракурсе рассмотрения коммунизм XX в. сыграл роль идейной основы противостояния западному «духу капитализма» со стороны наиболее способных к самоорганизации незападных народов, прежде всего — русских и китайцев.
Однако будучи учением бездуховным и тоталитарным, породившим ужасающие по совершенным ими преступлениям режимы, и оказавшимся не способным дать удовлетворение глубинным потребностям человеческой личности, коммунизм относительно быстро утрачивает на мировой арене свое первостепенное значение. До некоторой степени его роль начинает перенимать обновленный ислам, с успехом способный противостоять системе западных ценностей и жизненных установок. Похоже, начинает сбываться пророчество о том, что «…исторические образования и расы, которые… оказались порабощенными империализмом, не только попытаются освободиться от империалистических пут, но, кроме того, будут стремиться воссоздать самобытные формы духовной жизни, имеющие им одним свойственные черты»293.
Таким образом, трансформация сложившейся к началу XX в. всемирной макроцивилизации происходила в первой половине прошлого века в единстве двух разнохарактерных, но органически связанных между собой процессов. С одной стороны, нарастало противоречие между самими промышленно развитыми державами (точнее — их объединенными в военные блоки группами) в борьбе за перераспределение власти над миром, а с другой — усиление реакции неприятия этоса и образа жизни доминирующего на мировой арене Запада со стороны ориентированных на традиционные ценности незападных обществ. Последнее, особенно в Русской и Китайской революциях, проходило под флагом коммунизма, что не должно скрывать от нас глубинную сущность вызвавших эти события и порожденных ими процессов.
Взаимосвязанное разворачивание этих двух параллельных процессов приводит к неожиданным последствиям — быстрое развитие и милитаризация Японии, возникновение тоталитарных СССР и Германии, затем Китая. Крах гитлеровской Германии и милитаристской Японии при создании мировой социалистической системы; экономический взлет послевоенных Японии и Германии; крах колониальной системы; раскол социалистического блока на СССР с сателлитами и Китай; создание устойчивой зоны североатлантического сотрудничества стран Запада — на все это (до развала СССР) уходит менее столетия. В конце–концов, через две мировые войны, установление тоталитарных режимов и пр. в середине XX в. был создан биполярный мир эпохи «Холодной войны», исчезнувший с крахом СССР. Как в связи с этим писал О. Тоффлер: «В 1989 г. весь мир с изумлением наблюдал за распадом просуществовавшей более полувека советской империи в Восточной Европе. Сам Советский Союз… погрузился в состояние почти хаотических изменений. Но и вторая мировая сверхдержава также переживает относительный спад, хотя и не в столь интенсивной и драматической форме»294.
США, естественно, оказавшись единственной сверхдержавой, стремятся закрепить свое господствующее положение в мире. Однако шансы на воссоздание однополярного, «западноцентрического» мира, при всей гигантской военной мощи США и их бесцеремонном ее использовании под любыми надуманными предлогами, представляются невысокими, поскольку консолидация народов в рамках традиционных цивилизационных ойкумен, на обновленных традиционных идейно–ценностных основаниях становится велением времени.
При этом Западный мир (с примыкающими к нему по ряду важнейших показателей Японией и «восточноазиатскими тиграми») явно утрачивает былое единство с потерей общего (в лице СССР) противника. Есть все основания предполагать дальнейшее нарастание противоречий, уже проявившихся в последние годы, в рамках выделенного И. Валлерстайном мир–системного ядра как по трансатлантической (между Европейским Союзом и Северной Америкой), так и по транстихоокеанской (между Северной Америкой и Японией) линиям. Существенно, что ни Китай, ни Мусульманский мир, в отличие от СССР, не воспринимаются в качестве потенциального противника всеми тремя названными очагами постиндустриальной цивилизации. Если мусульманский фактор беспокоит Европу и Америку, то китайский — Японию и Америку.
Мировая цивилизация приобретает, таким образом, характер полицентрической макросистемы, в структуре которой Запад (быстро утрачивающий свою сконсолидированность времен «Холодной войны») является наибольшей, однако не способной контролировать все остальные (например Китай, Иран и пр.) центры силой. На наших глазах, как то уже отмечалось С. Хантингтоном и другими политологами, мир все более реструктурируется по цивилизационным и субцивилизационным (Северная Америка — Европейский Союз) признакам, в соответствии с чем определяются и геополитические ориентиры, и перспективы отдельных государств и народов.
С 60‑х гг., с ликвидацией колониальной системы, расколом социалистического лагеря (по линии СССР — Китай) и возрождением Японии, структура биполярного мира времен Холодной войны начинает эрозировать. Ряд государств–цивилизаций, прежде всего Китай и Индия, занимают на мировой арене самостоятельную позицию. В значительной мере это относится и к Японии, внешне демонстрирующей лояльность к курсу США.
В то же время сам буржуазно–либеральный Запад, в сущности Западноевропейско–Североамериканская или Североатлантическая цивилизация, несмотря на все бросавшиеся ему в течение XX в. вызовы (рост коммунистического движения, Мировой экономический кризис и Великая депрессия 1929–1933 гг., нацизм и японский милитаризм, национально–освободительное движение и распад колониальной системы, мировое противостояние социальных систем и пр.) оказался поразительно жизнеспособным, и на рубеже 80‑х — 90‑х гг. уходящего века добился победы в Холодной войне, ознаменовавшейся крахом СССР и вступлением в НАТО ранее зависимых от последнего центральноевропейско–прибалтийских государств, с распространением влияния США и на многие другие государства СНГ (более всего — Грузию, но также, в известной степени, на Узбекистан, Украину и пр ).
Однако в годы противостояния Запада и СССР, после краха колониальной системы и, особенно, выхода Китая из сферы советского влияния в первой половине 60‑х гг., мир начал превращаться из биполярного в полицентричный. Этот процесс тем более усилился после краха СССР и низведения России (при потакании тому со стороны кремлевских «демократов» ельцинского времени) до статуса региональной североевразийской державы. Запад, прежде всего в лице США, временно оставаясь господствующей на планете силой, оказывается не способным контролировать мир в целом.
При этом, как в сущности в свое время было предсказано А. Дж. Тойнби и в 90‑х гг. минувшего века показано С. Хантингтоном, реструктуризация человечества осуществляется на цивилизационной основе. Время национальных государств в мировом масштабе проходит, хотя в отдельных регионах, где такого рода структурам не удалось закрепиться в соответствующее время (до середины XX в.), проблема национальной государственности все еще актуальна. Цивилизационный фактор оказывается ведущим, тем более, что в наше время все более очевидной становится неприемлемость западных норм и ценностей для незападных регионов планеты.
И этому утверждению не противоречит факт успешной адаптации западных технологий народами конфуцианско–буддийского Дальнего Востока (Япония, Южная Корея, Тайвань, теперь и Китай в целом). В каждом из этих случаев восприятие инноваций происходило при их адаптации к традиционным социокультурным формам, а не за счет их замены идейно–ценностными стандартами западных государств.
В этом смысле можно смело утверждать, что навязанные Западом отказавшимся от него в свое время в той или иной зависимости незападным государствам (будь–то Япония или Индия, Пакистан или Турция, Нигерия или Танзания) формы парламентаризма и многопартийности, при сохранении традиционных социальных отношений и ориентаций в обществах, не прошедших школы Ренессанса, Реформации и Просвещения, не сформировавших западного представления о гражданине–собственнике, в сущности не имеют с аналогичными западными учреждениями ничего общего. Западная форма наполняется принципиально иным (и в различных цивилизационных регионах весьма разным) содержанием, что не трудно проверить и на примерах государств СНГ.
Резкое ослабление СССР в 80‑е гг. и его последующий крах, как уже говорилось, привели к низведению роли России до положения одного из цивилизационно–государственных центров, наряду с Китаем, Индией и Японией. Дальнейшая ее судьба прямо связана с тем, победят ли на пространстве СНГ интеграционные или реинтеграционные процессы. Последнее зависит, в первую очередь, от политического будущего Украины.
Если Украина, восточнославянская страна, относящаяся к тому же к восточнохристианско–постсоветскому цивилизационному пространству, что и Россия, но в гораздо большей степени чем последняя на уровне массового менталитета причастная воздействию со стороны Запада, будет вовлечена в орбиту политики России, то последняя имеет шанс восстановить Восточнославянско–Евразийское ядро современной Восточнохристианско–Евразийской цивилизации. В противном случае это пространство ждет состояние, близкое к латиноамериканскому — в качестве конгломерата политически слабых, непосредственно зависимых от Запада государств. Это относится и к России, экономика которой становится все более зависимой от мировых цен на нефть и газ.
При показанной ранее морфологической близости судеб Латинской Америки и Восточноевропейско–Евразийского региона принципиально возможной является трансформация существовавших в каждой из них систем в систему другого типа, но не в западную систему. Так, многие латиноамериканские государства после победы Ф. Кастро на Кубе объективно подошли к рубежу коммунистических революций (в том числе и через выборы — как Чили начала 70‑х гг.), однако активное вмешательство США заблокировало этот процесс. Теперь наблюдаем обратную ситуацию: при столь же активном участии Запада постсоциалистическая система трансформируется в частнособственническую систему латиноамериканского образца, но никак не социально–рыночную систему Запада.
Никто еще теоретически не обосновал возможность трансформации социально–экономических и политических систем как латиноамериканских, так и постсоветских, восточноевропейско–евразийских государств в систему западного образца, и примеров тому мы еще не видим. Эстония, Латвия и Литва — тот пример, который лишь подтверждает правило: в своей основе они относятся к Западнохристианской цивилизации и Запад их считал и считает «своими». Поэтому перспектива трансформации постсоветско–евразийских государств с православными или, тем более, мусульманскими корнями в общество западного типа представляется как минимум проблематичной. Излишне смелым было бы утверждать, что это (как и в случае с Латинской Америкой, особенно странами ее южной оконечности с белокожим населением) невозможно в принципе, но и оснований для позитивного ответа пока нет.
В то же время наблюдаем быстрые темпы развития Китая, а в последние годы и Индии, с непредсказуемыми для этих стран и всего мира последствиями, и деградацию Черной Африки. Особо следует отметить возрастающую роль Мусульманского мира, децентрализованного (прямая противоположность сверхцентрализованному СССР), но становящегося все более опасным для Запада, особенно после окупации США и их союзниками Ирака.
Все это позволяет говорить о том, что в настоящее время наиболее противостоящими Западу (прежде всего — США) цивилизационными мирами являются Китай и исламский Восток, на глазах становящийся все более фундаменталистским. Наибольшую потенциальную угрозу Западу составляет быстро развивающийся Китай, но его будущее непредсказуемо. Понятно, что Соединенные Штаты стремятся его разложить, как то было сделано с СССР. Но в случае с Китаем это значительно сложнее — этнически, тем более цивилизационно, он достаточно однороден и находится в состоянии экономического подъема. Китайцы поверили в себя и свое великое будущее. А это — залог успеха.
Второй угрозой для Запада является возрастающая агрессивность определенных групп на Мусульманском Востоке. Эта угроза, по сравнению с китайской, не столь опасна в силу традиционной неспособности радикальных мусульманских сект и режимов к согласованным действиям. Со времен фактического распада Багдадского халифата Аббасидов в конце IX в. о единстве действий мусульманских народов на исторической арене речь не идет. Однако Мусульманский мир имеет свои совещательные органы типа Исламской конференции и Лиги арабских государств. В последнее время что–то наподобие последней, но на основе тюркоязычно–мусульманских государств (большинство из которых — бывшие советские республики) пытается создать и Турция. В таких организациях представлены государства самой различной политической ориентации с общей цивилизационной или субцивилизационной (на религиозно–макроэтнической основе) идентичностью.
Персоналистические ценности и антропологический редукционизм тоталитарных идеологий (Ю. В. Павленко)
Идея сознательного преобразования мира по «законам разума» не только обернулась в последнем десятилетии XVIII в. страшным кровопролитием, но и способствовала формированию у республиканских, а затем — наполеоновских солдат ощущения своего национального превосходства над представителями других народов. Теоретические основания этого невольно заложил Ж. — А. Кондорсе, считавший, что прогресс человечества в каждое время возглавляется неким ведущим народом, в частности, греками в древности и французами в Новое время. Несколько позднее о том же, но уже имея в виду немцев, говорили И. Г. Фихте и Г. В. Гегель. Вызов со стороны Наполеоновской империи порождал подъем национальных чувств (осмысливавшихся в контексте культуры формировавшегося романтизма) у немцев, русских, итальянцев, испанцев и пр. Национальное самоощущение, после того как конфессиональное, династическое и сословное оказались в значительной степени дискредитированными, стало все более выдвигаться на первый план.
В то же время внедрение лозунгов свободы, равенства и братства происходило на фоне неприкрытого обогащения одних за счет других, при том, что имущественное неравенство после отмены сословных привилегий утратило какое–либо идейное оправдание. Формальное гражданское равенство перечеркивалось фактическим экономическим неравенством, оборачивавшимся неравенством социальным, политическим и пр. В обществе обнажились классовая структура и классовые противоречия. Неимущие ощутили себя обманутыми, тем более, что в среде западных интеллектуалов вскоре нашлись проповедники социализма и коммунизма. Начиная с Г. Бабефа идея равенства осмысливается в таких кругах в плане равенства социально–экономического, на основе ликвидации частной собственности. Наиболее последовательно такое его понимание получило разработку у К. Маркса.
Таким образом, ко времени проведения Венского конгресса 1815 г. в Европе в эмбриональном виде уже сформировались две тоталитарные по своим потенциям идеологемы массовых движений следующих десятилетий: националистическая и социалистическая (как ее крайняя форма — коммунистическая), в равной мере противостоящие духу либерализма, но находящиеся между собой в самых различных отношениях — от симбиоза до противоборства.
Социально–психологические их основания достаточно подобны. Определенная совокупность людей, объединяемых сходными социальными или национальными чертами, отличающими их от других и конституирующими в их глазах их идентичность, ощущают себя обездоленными, несчастными и угнетенными по вине некоей иной общественной группы. Если основой самоидентичности избирается национальный момент, то и угнетателей (врагов, обидчиков) видят в представителях другого народа. Если же идентичность понимается преимущественно в социальном, классовом плане — то и «силы зла» персонифицируются в виде господствующего класса. Обе идеологемы предполагают наличие «образа врага» и пафос «борьбы за справедливость».
В контексте социалистической (особенно — коммунистической) парадигмы главной шкалой определения «качества» людей является их классовая принадлежность. Правда на стороне бедных, не имеющих собственности и угнетаемых. Они должны объединиться, сбросить иго богачей, которым принадлежат средства производства, обобществить собственность и утвердить новый, справедливый порядок.
В контексте националистической парадигмы главное, что характеризует и отличает людей — их этно–культурно–языковая принадлежность. Как само собой разумеющееся принимается положение о том, что последняя определяет не только сущность каждого отдельного индивида, но и задает базовые параметры сплочения и противостояния людей, причастных или не причастных данной этнической общности.
Если данная этническая группа является доминирующей в пределах некоего полиэтнического государственного образования, у ее представителей развивается комплекс превосходства по отношению к другим народам, что порождает шовинизм. Шовинизм является родимым пятном всех империй, существовавших в мире — от Персидской, Ханьской и Римской до Британской, Германской или Российской. Если же народ занимает подчиненное положение, тем более, если его представители ущемлены в правах именно в связи с их этнической принадлежностью, у его представителей развивается комплекс неполноценности, компенсирующийся ростом ненависти к господствующему этносу и неадекватной оценкой собственного былого и будущего величия. Доминирующий народ (в целом, как таковой) объявляется виновником всех бед и страданий. На этой основе и формируется собственно националистическая идеология.
Собственно говоря, в общественной жизни ущемление человека всегда носит социально–экономический характер — бедность, социальное неравенство, политическое неполноправие и пр. Однако внешне оно очень часто проявляется в этноязыковой и (или) расовой форме, в том, что определенные социальные позиции в обществе занимают преимущественно лица тех или иных этнических или расовых групп. Так, расовая сегрегация, даже при ее юридическом запрете, фактически наличествует и в Бразилии, и в США. А этническая сегрегация (при корреляции национального, языкового, конфессионального и социально–экономического статусов) была характерной чертой общественной системы в Галиции времен ее вхождения в состав Речи Посполитой, Австро–Венгрии и межвоенной Польши. В этом же ряду — и законодательно оформленное ущемление прав евреев в царской России.
Адепты как коммунизма, так и национализма утверждают, что решать общественные вопросы (в том или другом ключе, в зависимости от идеологической установки) следует совместными усилиями соответствующего круга лиц (ощущающих свою идентичность как представителей одного класса или одного народа), осознающих общность своих интересов.
С одной стороны, против этого едва ли что–то можно возразить. Пока люди не объединятся и в форме демонстраций, забастовок или каким–то иным образом не организуют давление на господствующую, эксплуатирующую их верхушку, последняя с их интересами считаться не начнет. И безусловной заслугой социал–демократического движения в передовых странах Европы было достижение гарантированного социального обеспечения всех граждан, также, как и национально–демократических движений — ликвидация имперских структур, в рамках которых метрополии властвовали над колониями.
Однако, с другой стороны, в борьбе за достижение общих целей предельно схематизированные (до формы лозунгов) идеи соответствующих движений начинают утверждаться в общественном сознании в качестве самостоятельных, самоценных реалий. Более того, казалось бы, вполне оправданные и в некоторых ситуациях уместные метафоры типа «дух нации» или «сознание класса» (имплицитно предполагающие конструирование образа нации или класса по аналогии с личностью) начинают онтологизироваться. При этом забывают, что такие понятия как «нация», «государственность», «класс» и пр. — фантомы по сравнению с реальными людьми и их интересами.
В этой связи уместно вспомнить критику, с которой Н. А. Бердяев в свое время выступил против «иерархического персонализма» Н. О. Лосского, склонного усматривать личностное начало в состоящих из множества личностей сообществах людей. Согласно такому подходу, иерархическое целое, которому личность соподчинена, считается большей ценностью, чем сама личность. Но, как пишет первый из названных философов, «подлинный персонализм не может этого признать. Он не может признать личностью целость, коллективное единство, в котором нет экзистенциального центра, нет чувствилища к радости и страданию, нет личной судьбы». И далее Н. А. Бердяев продолжает: «Личности коллективные, личности сверхличные в отношении к личности человеческой суть лишь иллюзии, порождения экстериоризации и объективации. Объективных личностей нет, есть лишь субъективные личности. И в каком–то смысле собака и кошка более личности, более наследуют вечную жизнь, чем нация, общество, государство, мировое целое»295.
При этом, как известно, партийные и государственные деятели прилагают все усилия для того, чтобы вытеснить из сознания людей реальности бытия идеологическими фикциями. Псевдореальность лозунгов подменяет действительность индивидуального существования, индивидуального страдания, оправдываемого «высшими целями» будущего блага. И опыт уходящего века многократно продемонстрировал, как те, кто провозглашает такие цели и лозунги, используют в личных целях плоды одержанных массами побед, зачастую устанавливая над своими народами куда более страшные заидеологизированные режимы, чем те, против которых ранее велась борьба.
Подмена действительных проблем идеологическими фикциями происходит во многом благодаря тому, что качества реальных людей редуцируются до свойств и характеристик одной из общностей, которой они принадлежат — социальной группы (класса) или народа (нации). Это можно назвать принципом антропологического редукционизма тоталитарных идеологий. Человек признает себя как бы проявлением, аспектом, моментом такого рода целостности, ее функцией и фрагментарной персонификацией, соотносит себя с нею как часть с целым, единичное с общим. А если так, то интересы целого, фундаментального, глубинного ставятся выше интересов личных. Неразвитость личностного начала в человеке санкционирует иллюзию того, что условная реальность, существующая лишь в сознании людей, становится над реальностью онтологической (индивид) и метафизической (дух, трансцендентная основа персонального бытия).
Более того, условная реальность начинает выдаваться за сущность человека. В классическом (в отличие от современного, выхолощенного) коммунизме говорится о классовой сущности человека, о том что человек есть прежде всего представитель своего класса и действует в соответствии со своим классовым сознанием. В национализме сущность человека определяется в качестве национальной, культуру личности, ее взгляды поступки и пр. пытаются редуцировать к особенностям национального характера, национальной ментальности и пр. Суть одна и та же: не суббота для человека, а человек для субботы.
Массовые идеологии (с поразительной легкостью превращающиеся в тоталитарные, как только их носители захватывают власть) неизменно базируются на неразвитости человека как личности. Человек в недостаточной степени осознает свою духовную самость, отдельность, самоценность, и поэтому легко идентифицирует себя с другими по тому или другому общему с ними признаку, соглашается сводить к этому признаку собственную сущность, смешивается с толпой таких же (по этому критерию), как и он сам, и растворяется, обезличивается в ней, соглашается быть средством для реализации той или иной идеологической доктрины, под флагом которой к власти рвется та или иная группа честолюбцев и корыстолюбцев.
Более того, как справедливо подчеркивает Дж. Кришнамурти, психологической основой национализма (равно как, добавим, и расизма, большевизма, религиозного фундаментализма и пр.) является потребность достаточно большого числа людей со слабо развитым личностным сознанием в идентификации себя с чем–то «великим», в частности — с нацией (как и расой, классом, партией, конфессией и пр.). В связи с этим индийский мыслитель писал: «Живя в маленькой деревне или большом городе, или где угодно, я — никто, но если я отождествляю себя с большим, со страной… это льстит моему тщеславию, это дает мне удовлетворение, престиж, чувство благополучия»296.
Каждый человек так или иначе относится к определенному расовому типу, социальной группе, владеет родным языком, имеет национальность, пол, возраст и пр. Но все эти качества и признаки ни в коей мере не исчерпывают духовную полноту человека. Его сущность остается скрытой, в трансцендентной бездне сопричастной глубинным истокам бытия. Роковая ошибка происходит там, где духовная, нерационализируемая сущность человека подменяется одним из ее внешних признаков. Частичное и производное провозглашается общим и базовым. Такую ошибку в одинаковой степени допускают и коммунизм, и национализм — идеологии, зародившиеся в одно время, в идентичных социокультурных и общественно–психологических условиях, увлекшие за собою массы людей в самых разных странах, воплотившиеся в двух основных формах тоталитарных режимов XX в. и тем самым вполне себя дискредитировавшие.
Как по этому поводу писал Н. А. Бердяев «Защита национального человека есть защита отвлеченных свойств человека, и притом не самых глубоких, защита же человека в его человечности и во имя его человечности есть защита образа Божия в человеке, т. е. целостного образа в человеке, самого глубокого в человеке и не подлежащего отчуждению, как национальные и классовые свойства человека, защита именно человека как конкретного существа, как личности, существа единственного и неповторимого. Социальные и национальные качества человека повторимы, подлежат обобщению, отвлечению, превращению в quasi реальности, стоящие над человеком, но за этим скрыто более глубокое ядро человека. Защита этой человеческой глубины есть человечность, есть дело человечности. Национализм есть измена и предательство в отношении к глубине человека, есть страшный грех в отношении к образу Божию в человеке. Тот, кто не видит брата в человеке другой национальности…, тот не только не христианин, но и теряет свою собственную человечность, свою человеческую глубину»297.
Западная модель саморегулирования (Ю. Н. Пахомов)
В XX в. человечество натолкнулось на огромную, невиданной сложности проблему — проблему достижения разумной, общественно приемлемой (и безопасной) сознательной регулируемости экономики и социальной сферы в масштабе всего общества. Отсутствие такой регулируемости, как показала история капитализма конца XIX — начала XX вв., делает кризисы хроническими, усиливает их разрушительность. Попытки же тотально регулировать все процессы, или же просто охватывать единым сознанием чрезмерную их совокупность ведут к еще большим бедствиям.
Общество, стремящееся командно–административным методом преодолеть все возникающие сложности, неизбежно становится на путь примитивного управления, сводящегося к казарменному методу. Мотивации — эти единственные моторы прогресса — при этом гасятся, способности атрофируются. Ошибки, тиражируемые едиными командами в масштабах общества, оборачиваются катастрофическими последствиями, ведут в конце концов систему к неизбежному краху. Представляется, что подход, рассматривающий судьбы цивилизаций в зависимости от успешности их регуляторов, — есть ключ к пониманию хотя и не единственного, но все же важнейшего критерия жизнеспособности человеческих сообществ. Под этим углом зрения важно сравнить судьбы двух противостоявших в течение почти всего XX в. социальных систем.
Как видим, человечество не могло полагаться в XX в. ни на традиционные механизмы саморегулирования, взятые сами по себе, ни на сознательное управление процессами в масштабах общества, исключающие свободное взаимодействие спонтанных сил, прежде всего — рыночных. Выход заключается в доселе неведомом истории искусстве сочетания обоих регуляторов. Достижение в этом сочетании и взаимодействии оптимума — вот поистине историческая проблема, от решения которой отныне зависит судьба мировой цивилизации. Но такое спасительное соединение, как показал опыт, трудно достижимо. Преграды на его пути имеют как гносеологическое, так и онтологическое происхождение.
Первая преграда исходила от учений о социалистическом обществе, которые были весьма утопичны. Это касалось и экономики, которая, как известно, в решающей степени определяет собою состояние других сторон жизни общества. В учениях этих, как правило, отвергалось рыночное (стоимостное) саморегулирование, ибо оно трактовалось как несовместимое с идеалами планомерности и социальной справедливости.
Полная же замена спонтанного (стихийного) рыночного регулирования плановым оценивалась как выход из тьмы предистории и вступление в подлинно человеческую, сознательно творимую историю. Силы рынка сравнивались при этом с разрушительным электричеством молнии, а полностью централизованное управление — с покорной энергией электрической лампы. Именно на таком идейном багаже основывался советский эксперимент (хотя, конечно же, дело к одному только этому не сводилось).
Жизнь показала, что подобные представления губительны. Их реализация на практике — источник катастрофы. И наоборот — спонтанное рыночное регулирование, вопреки марксистским выводам, оказалось вполне совместимым с сознательно управляемым развитием. Более того, становилось ясно, что именно такое совмещение открывает путь человечеству к мощнейшему взлету производительных сил и невиданному ранее благосостоянию.
Импульс для поиска путей соединения в едином механизме двух противоположных регуляторов был получен в итоге небывало разрушительных кризисных ударов, поставивших под вопрос само существование традиционного капитализма. Крупнейшим толчком, побудившим искать новый путь, явился Великий кризис и последовавшая затем Великая депрессия конца 20‑х — начала 30‑х гг., принесшие экономике Запада невиданные ранее разрушения и заставивший искать выход под угрозой гибели.
Открытием, содержащим целительные рецепты, явились прежде всего теоретические построения Дж. М. Кейнса. К середине 30‑х гг. совместимость спонтанных и целенаправленно действующих регуляторов, прежде всего в США, была достигнута, цивилизация обрела способность ускоренного движения через экономический рост. Экономические системы, основанные лишь на традиционном для капитализма стоимостном спонтанном саморегулировании, стали в новых условиях архаичными и уходящими. Капитализм в итоге перестал быть устройством с перекошенной рулевой системой, воспроизводящей углубляющиеся кризисы, анархию и нищету подавляющей части населения.
Экономическая гармония в наиболее развитых странах (уже преимущественно после Второй мировой войны) гармонизировала и социальные процессы. Это, конечно, не исключает, а скорее даже предполагает накопление в будущем предпосылок для новых, пока еще не известных, но уже проклевывающихся социально–экономических потрясений. Тенденции такого рода таит в себе, по–видимому, всеобщая компьютеризация. Однако на данном витке развития человеческой цивилизации обновленный капитализм западного образца продемонстрировал наибольшую успешность.
Нет сомнения — Западная цивилизация исключительно привлекательна и жизнеспособна. По этим критериям она превосходит все, что знало до сих пор человечество. Образ и качество жизни в странах Запада благоприятны не только для высших слоев, но и для простых людей, в том числе и относительно бедных, что само по себе уникально. Когда говорят о конкуренции как жестокой борьбе, то это правда. Но правда и то, что человек, выпавший из этой борьбы и опустившийся на дно, находит там приют и заботу. Современная Западная цивилизация дала остальному миру эталон свободы, невиданной ни ранее в ней самой, ни в других, незападных, странах сегодня; дала возможность личности не только пользоваться свободой, но и ощущать ее как неотъемлемое право, и строить свою жизнь в соответствии с собственными представлениями о том, какой она должна быть.
Конечно, не каждый способен вынести испытание свободой, но человек, ее не имеющий, о ней мечтает. Правда, он вначале не подозревает, что когда он ее получит, то с ним может случиться всякое, поскольку он окажется предоставленным самому себе. Но абстрактно, не опробовав еще ее, он убежден (и в этом он прав), что мир свободы — это лучший из миров. Помимо этого, Запад привлекает высоким уровнем потребительского комфорта и тем, что эффективная экономическая модель, как уже говорилось, сочетается здесь с социальной защитой.
Но дело, безусловно, не только в привлекательности модели. В мире было множество привлекательных моделей, которые рушились, сыпались, если они не имели другого критерия: если они не были наиболее жизнеспособными. Главное в западной модели, то, что позволило совершить небывалую в мире экспансию, то, что сделало западные образ жизни и систему ценностей эталонными в планетарном масштабе — что подтверждает неимоверную выживаемость его общественной системы.
Мы сейчас подзабыли, что Запад на глазах старшего поколения пережил эпоху краха. Забыли, что в 20–30‑х гг. наиболее прогрессивные умы человечества, даже будучи сторонниками ценностей Запада, считали, что Западу пришел конец. Кризисная ситуация становилась все более тупиковой, разрывы между кризисами сокращались, и в 1929 г. мировая экономика была парализована. Люди типа Н. А. Бердяева — противники большевиков — говорили, что за большевиками, увы, будущее, и печально, что капитализм, несомненно, погибнет. Тем более к этому склонялись более левые интеллектуалы типа Р. Роллана, Л. Фейхтвангера или Т. Драйзера. А капитализм, вопреки прогнозам, совершил чудо. В начале 30‑х гг. он открыл второе дыхание и обеспечил себе доминирующее положение с еще большим запасом прочности.
Источник успеха и невиданной в мире способности реанимироваться состоял в том, что капитализм оказался в силах изменить свой облик, переделать самого себя — во многом отказаться от традиционных либеральных ценностей, основанных исключительно на саморегулировании, в пользу ценностей социальных. Капитал стал уступать часть функций государству, и в новой, изменившейся ситуации ранее отвергаемое в этой роли государство оказалось способным выводить экономику из кризиса. Учтено было то обстоятельство, что в новые времена, когда наступает кризисный тупик, классические либерально–рыночные саморегуляторы уже не срабатывают. И хотя о капитализме его оппоненты справедливо говорили, что этот строй не способен делиться наживой — как не может человек сам себя поднять за волосы, к удивлению, капитализм это сделал. Он пересилил самого себя, поделился прибылью с государством, а через него — с народом, с обездоленными.
В отличие от русской буржуазии, которая погибла от своей жадности, именно западная буржуазия оказалась способной не просто делиться с народом, но и, позже, позаимствовать у своего врага — социализма — соответствующие механизмы социальной защиты и при этом существенно их улучшить. Идя на уступки, государство стало концентрировать в руках все больше прибыли, направляя ее безработным на пособия, на другие социальные программы, а потом и на развитие культуры, образования и науки; наконец — на развитие высоких технологий, всеобщую компьютеризацию и пр.
Истоки живучести и гибкости Западной цивилизации заключены в системе европейских (западных) ценностей, в механизмах их функционирования, в их «гомеостазе». Механизмы, регулирующие западные ценности, действуют как компенсаторы отклонений от некоего оптимального состояния. Каждое «выходящее за рамки» отклонение, как правило, вовремя вызывает соответствующее противодействие, что и определяет противоположный вектор движения.
В такой ситуации ценностная система сочетает в себе, казалось бы, трудносоединяемое, но важное и нужное именно в своем постоянно нарушаемом равновесии. Так, монополия (не только экономическая!) уравновешивается здесь конкуренцией; свобода — как благо прежде всего для богатых, — принципами справедливости; азарт борьбы — поисками согласия в результате компромиссов и взаимных уступок при понимании каждой стороной интересов противоположной и уважением к последним и т. д.
И здесь следует подчеркнуть, что когда мы, ползущие пока что к Западу в этом смысле на четвереньках, витийствуем о том, что социальная справедливость — как нечто от социализма — должна быть похоронена, что жить мы будем лишь под знаком свободы — совсем как на Западе, то мы в очередной раз раскрываем себя не как приверженцы современных ценностей, а как поклонники хищнического, пришедшего из далекого прошлого капитализма. Или когда мы бьем в набат, что в западном мире «кончают» государственную собственность, то нашим радикал–реформаторам невдомек, что они наблюдают лишь очередное циклическое отклонение экономического маятника, что до этого — было, а когда–то после — снова будет оправданное нарашивание государственности в сфере экономической жизни. Мы же, не зная о несовпадении наших и «чужих» циклов, рушим и без того слабое государство под «модным» девизом «чем меньше государства, тем лучше».
Необходимо отметить, что любое общество функционирует, опираясь на свои экономические и социальные регуляторы. Именно регуляторы, действующие на полную мощность, обеспечивают обществу высокую жизнеспособность. И, наоборот, слабеющие регуляторы определяют упадок и гибель общества.
Величайшее достоинство Западной цивилизации — оснащенность регуляторами, способными к самонастройке и к разрешению на этой основе противоречий, возникающих по ходу движения. Регуляторы остальных цивилизаций, вполне эффективные в докапиталистическую эпоху в соответствующих природно–климатических зонах, в условиях западной колониальной экспансии оказались несостоятельными. В этом истоки не только стагнации, а то и деградации соответствующих цивилизаций, но и уродливого, прерывистого, мучительного развития в постколониальный период большинства из них (включая, в определенном смысле, даже милитаризировавшуюся Японию — до ее разгрома во Второй мировой войне).
Отсутствие регулирующих устройств, действующих в режиме гомеостаза, исключает «мирное» разрешение неизбежно накапливающихся противоречий. Последние разрешаются посредством войн, переворотов, расправы над собственным населением, режимами подавления свобод, воцарения деспотии. Наглядные примеры тому дает латиноамериканская история двух последних веков. Россия до революции, позже — СССР, и, наконец, новая Россия (расстрел Думы в октябре 1993 г., бойня в Чечне, перекрытие не получающими месяцами зарплат рабочими Кузбаса Транссибирской магистрали и пр.) также иллюстрируют отсутствие в стране подлинно эффективных регулирующих механизмов.
Лишь рынок и вызревший на его основе западный капитализм, лишь западная демократия как адекватная его природе социально–регулирующая система выработали в Новое время, в особенности после страшных испытаний 1914–1945 гг., эффект подлинно гомеостатического, самонастраивающегося регулирования, а значит и саморазрешения противоречий не в ходе беспорядочных скачков, а в процессе относительно нормальной эволюции.
И дело тут не только, а часто и не столько в эффективности. Напомним, что эффективность экономики Советского Союза в 30‑е гг. (при всей бесчеловечности отношения сталинского руководства к собственному народу) была не только сопоставима с эффективностью капитализма, но и в чем–то превосходила ее. По тем временам это признавали и друзья, и враги СССР за рубежом. Президент США Ф. Рузвельт, например, считал, что «будущее принадлежит идеалу, который будет представлять нечто среднее между капитализмом США и коммунизмом СССР»298. Но оказалось, что этот «монстр» бесславно рухнул, так и не приспособившись к новым вызовам, а капитализм уже к середине уходящего столетия переделал сам себя.
Рассмотрим и иные детали этой разрешающей противоречия трансформации Запада, в корне отличной от той, которая имела место в начале 30‑х гг., в годы преодоления Великой депрессии. Где–то к 60‑м гг. казалось, что на Западе уже вытеснено мелкое, питающее рыночные отношения, производство, что капитализм перестает быть саморегулирующимся, и окончательно становится государственно–монополистическим; что либеральные ценности саморегулирования вот–вот будут похоронены навсегда. Вытеснялось фермерство, вытеснялось мелкое предпринимательство.
И вдруг снова, как и в начале 30‑х гг., происходит резкая, вроде бы непредсказуемая трансформация. Оказалось, что компьютеризация, взятая на вооружение, открывающая широчайшие горизонты для предпринимательского кругозора, сделала одинаково эффективными и мелкие, и крупные предприятия, обеспечила очередной ренессанс саморегулирования. Более того, в условиях равного доступа к электронной информации небольшие и средних доходов фирмы оказались более мобильными и способными к необходимым в соответствии с велениями времени трансформациям. Снова явственно обнаружилась уникальная живучесть капитализма. И снова благодаря тому, что он оснащен регуляторами с разрешающими устройствами. Теми регуляторами, которые разрешают и преодолевают противоречия развития, причем и такие, которые кажутся в рамках данной системы непреодолимыми.
Что же это за регуляторы? Первый регулятор — рынок, в своем регулирующем ядре — товарных отношениях, делает строй живучим, обеспечивая превосходство сильным и жизнеспособным. Действие «невидимой руки» дает преимущество тем, у кого лучше качество, выше производительность, кто полнее видит спрос и лучше в нем ориентируется. Это — в «упрощенном» виде — механизм сведения индивидуального труда к общественно необходимому. Труд каждого переоценивается с точки зрения общественной необходимости. В ходе этой переоценки лучшему воздается, а у слабого — отбирается. Происходит автоматическое селекционирование, отделение сильных от слабых.
Но по мере усложнения социально–экономической жизни устойчивое развитие все в большей степени обеспечивается соединением механизмов рынка с регулирующей ролью государства, что на Западе становится очевидной реальностью после Мирового экономического кризиса и Великой депрессии конца 20‑х — начала 30‑х гг. Таким образом в качестве утвердившегося в западной (и, тем более, дальневосточной японского образца) экономике дополнительного, вошедшего в органический симбиоз с рыночным, фактора стабильности выступает государство с его колоссальными возможностями воздействия на социально–экономическое развитие страны.
Согласимся, ничем подобным не обладал Советский Союз, его экономика. Принцип государственной организации был самодовлеющим. Отсюда — неспособность к трансформации экономики страны. СССР держался, пока экономика была простой, экстенсивной и адекватной грубым командным механизмам. Но строй этот рухнул, когда условия изменились, когда экстенсивный тип воспроизводства должен был уступить место интенсивному, количественные подходы — качественным, простое — сложному. Рухнул именно как жесткая система, не поддающаяся эволюции.
Вторым разрешающим устройством, которое тоже выводило капитализм из тяжелых, тупиковых ситуаций, была демократия. Она же подстраховывала и действенность, изменчивость экономического регулирования. Демократия обеспечивает самонастройку через тонкие механизмы, побуждающие действовать целесообразно, посредством последовательных итерационных взаимодействий, через компромиссы и поиск обоюдной выгоды (а не по принципам: «кто не с нами, тот против нас» или «победа любой ценой»). В ходе эволюции самой демократии сформировалась система институций, позволяющих четко улавливать сдвиги в общественных интересах и разворачивать «корабль» в сторону, нужную для равновесия развития общества.
Таковы западные социально–экономический и общественно–политический регуляторы с мощными разрешающими устройствами, обеспечивающие планетарное шествие капитализма в прошлом и его (в обновленной форме) мировое преобладание сегодня.
Следует, однако, заметить, что в условиях сверхвысокого динамизма, порожденного эффективными механизмами западного общества, разрешение противоречий все чаще отстает от их накопления. В первую очередь это относится к накоплению в планетарном масштабе тех противоречий (экологических, между богатыми и бедными странами и пр.), которые в пределах отдельных высокоразвитых стран и регионов их компактного размещения (Объединенная Европа, Северная Америка) успешно разрешаются в последние десятилетия.
В итоге происходит перенакопление противоречий, а значит, и негативных последствий фактора высокого динамизма стран Западной цивилизации. Негативы эти, конечно же, «расходятся» по планете, тем более, что цивилизационная экспансия Запада (особенно — панамериканизма) нарастает, равно как и сопротивление ей со стороны приверженцев традиционализма среди представителей других цивилизаций.
Вначале казалось, что эти негативные тенденции планетарного масштаба касаются преимущественно экономики; в дальнейшем же становилось очевидным растущее пагубное влияние ускоренной вестернизации на состояние духовно–нравственной сферы, что может быть в наибольшей степени и вызывало протест и отторжение западных ценностей в иных регионах, в особенности в мусульманском обществе. Что же касается перенакапливаемых противоречий экономического свойства, то они и оказывались прямо–таки разрушительными для незападного (особенно — слаборазвитого) мира.
Иными словами, успешное преодоление наиболее развитыми странами Запада трудностей и противоречий традиционного капитализма внутри их самих не улучшило, а скорее ухудшило общепланетарное состояние человечества к концу XX в.
Вопиющим образом разверзается пропасть между богатыми и бедными государствами, причем наблюдается тенденция не только, а может и не столько, перехода вторых в категорию первых (это можно сказать о многих странах Азиатско–Тихоокеанского региона — АТР), но и обратного движения — деградации и обнищания другой категории стран, не только африканских, но в первую очередь — постсоветских. Последнее особенно ярко видно на примере Украины.
Катастрофа советского социализма (Ю. Н. Пахомов)
Запад, как было показано выше, смог обновить свои регуляторы жизнедеятельности и выйти во второй половине XX в. на новый уровень саморазвития и благосостояния. Противоположной оказалась судьба системы, проявившей крайний радикализм и отвергнувшей начисто стоимостные, т. е. рыночные, экономические саморегуляторы, а равно и спонтанное развитие в социальной сфере.
Еще лет 20–30 назад никто не мог представить, что предметом нашей зависти станут Южная Корея, Тайвань, даже Таиланд, Малайзия и Индонезия; что они «обскачут» нас так, что мы уже (даже после на время приостановившего их рост финансового кризиса 1997–1998 гг.) и не надеемся их догнать. На фоне того статуса, тех ресурсов и потенциальных возможностей, которые имела наша страна, это казалось невозможным. Но это опережение совершилось еще до того, как Советский Союз распался. Многие страны АТР обогнали СССР — могучую державу, когда она, по существу, еще оставалась могучей.
Опыт СССР, близкий к вековому, вынес приговор попыткам поставить человека в полнейшую зависимость от сознательно сформированных регулирующих конструкций. Катастрофа — вот, пожалуй, наиболее обобщающий результат развития по командам и планам, исходившим из единого планирующего центра.
Жизнеспособность социалистического строя в СССР до поры до времени не вызывала сомнений. Это было до тех пор, пока основной его регулятор — плановость как тотальность экономического регулирования, не исчерпала своих возможностей в чистом виде. Шанс же на трансформацию, на взаимодополнение планового начала рыночными механизмами не мог быть использован из–за окостенелости другого основного регулятора — тотальности политического и социального регулирования. Исчерпался, потерял работоспособность регулятор — сошла с арены система, причем в этой своей ипостаси — необратимо.
К настоящему времени командно–административная система фактически исчезла, но катастрофическое состояние налицо и оно непрерывно усугубляется. При этом не только из–за самого по себе краха системы. В ходе распада экономики и социальной сферы все четче просматриваются явления, свидетельствующие о принятии эстафеты катастроф новыми процессами, связанными именно с перестроечными и постперестроечными (после развала СССР) переменами. Поэтому вопрос об источнике, чертах и последствиях катастроф, характерных для нашей эпохи, оказывается обращенным не только к прошлому, но и к настоящему и будущему.
В мире и у нас преобладает мнение, что преодоление тяжелых последствий нашего социалистического опыта зависит в основном от того, как скоро мы образумимся, преодолеем психологию консерватизма и возьмем на вооружение выверенный временем западный опыт.
В этом есть смысл, но главное — в другом. Отмеченное мнение целиком логично для Венгрии, Чехословакии, Польши, но не для республик бывшего СССР. Мы во многом — иные в силу исторического прошлого наших стран и множества особенностей их нынешнего состояния. Модель, приживавшаяся в СССР в течение десятилетий, обусловлена не только порочными идеями, но и многовековой судьбой его народов, в особенности русского. Россию в течение веков неудержимо влекло к социалистическим утопиям, чреватым, в случае осуществления, губительными потрясениями. Более того — поклонение утопиям продолжается.
Среди причин, порождающих хроническую склонность нашего общества к утопиям, необходимо прежде всего указать на многовековое сопротивление России рынку. Главные же источники затянувшегося уклонения России от рынка и капитализма заключены в поистине уникальной российской общине, безраздельно царившей в деревне вплоть до второй половины XIX в. и сохранявшейся в собственно русских губерниях вплоть до начала XX в.
Российская община, в отличие от внешне подобных ей западно — и центральноевропейских, даже украинских структур, носила уравнительно–распределенческий характер. Это порождало ненависть к богатым, примитивный коллективизм и круговую поруку, а значит — власть толпы и растворение личности в среде, что несовместимо с демократией. Ко всему следует добавить многовековое унижение деспотией и беспросветным крепостным рабством, порождавшим склонность к бунту и страстную утопическую надежду на воцарение уравнительного равенства и справедливости.
Судьба крестьян (а Россия была страной крестьянской) определяла важнейшие стороны жизни всего общества: контраст между привелигированными и угнетенными, позицию прогрессивных сил, социально–классовую структуру. В просвещенных слоях общества доминировали нигилизм, ощущение вины перед народом, приверженность к стереотипам уравнительности и жертвенности. Могучие общественные движения, течения общественной мысли XIX в. были в основном социалистическими и антибуржуазными, а не просто антикрепостническими и антицаристскими. Это относилось не только к социал–демократам, но и к народникам, анархистам, эсерам.
Буржуазные течения отличались немощью, судьба реформаторов буржуазного толка (например М. М. Сперанского, позже — П. А. Столыпина) была трагической. И это тоже было естественным, ибо капитализм в России появился поздно, был жалким и убогим, оторванным от жизни основной массы народа — деревенского люда. Буржуазный и крестьянско–патриархальный уклады по своей природе были несовместимы, но они оказались рядом в стране с предельно отсталой общественно–политической системой.
Вхождение России в пятерку стран с наиболее развитым капитализмом есть лишь подтверждение уродливости, ненормальности ее капиталистического развития. Ибо в России, в отличие от Европы, почти отсутствовал средний класс частных собственников, питающих демократию, а также и нормальную рыночную (а значит и капиталистическую) среду. В обществе отсутствовало развитое сословное строение, это необходимое условие социального равновесия. Сам капитал был точечным, достигшим высочайшей (по тому времени) концентрации в городах, но крайне мало воздействовавшим на хозяйственную жизнь раскинувшегося вокруг них моря патриархальных деревень. Капитализм, при всей его высокой концентрации, застрял на стадии индивидуального, фабричного капитала. Акционирование, трестирование, развитие банково–финансовой, тем более — государственно–монополистической структуры в России оказалось мизерным. И не случайно партии буржуазного толка были здесь слабейшими, а буржуазные реформы с таким упорством отторгались.
Процессы, ведущие к катастрофическому разлому и, соответственно, провалу в мрак и бездну, надвигались на протяжении веков неумолимо и последовательно. Уступки, а равно и сопротивление правящих верхов уже со второй половины XIX в. ничего не значили. В этом смысле не только роковым для истории страны, но и символическим было убийство Александра II через несколько часов после подписания им указа о созыве Комиссии по выработке текста предполагавшейся Российской конституции299.
Страна становилась на дыбы; движение к тотальной социализации все больше обретало свойства неукротимого селевого потока. Значение имели и факты глобального порядка, а именно: надежды на революцию и социализм, распространенные в то время в Европе. Напомним о мощи рабочего движения, о триумфальном шествии идей социализма и, наконец, о нараставших симптомах кризиса капитализма, дававших о себе знать в начале века. Не случайно об этом тогда писали не только представители левого лагеря, как К. Каутский, Г. В. Плеханов или В. И. Ленин, но и маститые экономисты типа В. Зомбарта.
Сомнения нет, что общая атмосфера ожидания социального чуда, разлитая на огромном мировом пространстве, служила благоприятным фоном для социальной революции в России. Россия по сути была лишь эпицентром и испытательным полигоном процессов, характерных для всей планеты. Здесь линии планетарно–векового и социально–генетического свойства скрестились наиболее интенсивно. С учетом данных обстоятельств считать Октябрь 1917 г. явлением случайным по меньшей мере несерьезно.
Но как случилось, что утопия охватила десятилетия? Ведь утопия, по идее, несбыточна! Однако Н. А. Бердяеву принадлежат слова о том, что утопии имеют свойство легко осуществляться. Такая фраза — не просто игра мысли; в парадоксальной форме в ней отражена реальность. Дело в том, что социалистические утопии не во всем утопичны. Они отчасти реалистичны. Требования жизни в них налицо, но они гипертрофированы и однобоки — из–за оторванности от других сторон действительности. И именно из–за своей тотальности и однобокости утопии оказываются авантюрой. На практике же именно поэтому они ведут к катастрофе, дискредитируя и то ценное, необходимое для нынешней, или же будущей, жизни, что в них заключено.
Казалось бы, процесс движения по социально–утопическому пути мог быть прерван НЭПом, а с ним и государственной капитализацией. Но этот поворот, имевший — в силу неразвитости среднего класса — весьма слабую социальную опору, заведомо был провальным. Что же касается расхожего мнения, будто неудача НЭПа обусловлена болезнью и смертью В. И. Ленина, то оно лишено какого–либо основания. Логика была обратной: В. И. Ленин был заранее обречен именно как носитель идей НЭПа.
Неприятие НЭПа значительной частью населения, прежде всего большевиками и демобилизованными после окончания Гражданской войны красноармейцами, особенно командного состава, в условиях России было естественным. Слишком глубока была вера в социальное чудо, сильно стремление огромных масс бедноты к перераспределению богатства, велика и ненасытна ненависть к зажиточным, устойчива многовековая привычка переносить лишения, сменяя враз кровавые оргии бунта бессловесной покорностью перед очередной деспотией. Альтернативой же НЭПу в стране, взвалившей на себя бремя переделки мира, могла быть лишь кровавая диктатура. Причем сама по себе возможность многолетних бесчеловечных репрессий, протекавших уже за пределами революции и гражданской войны, определялась не только соцэкогенезом страны и личностью И. В. Сталина, но и самой по себе логикой осуществления утопических идей социализма.
Идеи все же частично были реалистичными, и это относилось прежде всего к обобществлению. Обобществление же в разумных пределах несло возможности планового регулирования экономики, и это вполне отвечало реалиям. Но плановость как функция общеэкономического центра — всего лишь одна сторона механизма регулирования: она необходима, но недостаточна. Ибо в ней отсутствует механизм личной мотивации.
Второй стороной регулирования является интерес, т. е. мотивация всех тех, кто работает, заложенная в принципе товарной (рыночной) эквивалентности. Именно товарный обмен, поощряющий эффективный труд (и лучший результат) толкает работников на непрерывное совершенствование производства, соединяет интерес производителей и потребителей. Без мощных мотиваций, заложенных в механизме эквивалентности (т. е. зависимости поощрения от результата), производство оказывается безжизненным, лишенным движущих сил развития.
Но именно здесь, в этой важнейшей стороне регулирования, внедрявшийся у нас социализм являлся полностью утопичным, оторванным от реалий. Товарная эквивалентность марксизмом отвергалась, ибо ее обратной стороной является материальное (а значит и капиталистическое) расслоение общества. В противовес закону стоимости, этому центральному регулятору рыночных отношений, был выдвинут принцип распределения по труду. Но он реален (и то лишь отчасти) только в пределах действия товарной, т. е. рыночной эквивалентности. Попытка же распределять по труду вне действия товарных отношений оказывается искусственной. Она основывается на усложненной регламентации, ведет к примитивной уравниловке, блокирующей трудовые мотивации работников.
Как видим, утопия, отвергающая рыночные отношения, автоматически лишает производство мотиваций труда, что неизбежно ведет к обесточиванию энергетического потенциала общества. Образовавшийся вакуум стимулов, а с ним — и движущих источников развития, компенсируется бюрократическим, планово–регулирующим принуждением, а затем и теневыми структурами.
Атрофия трудовых мотиваций, казалось бы, обрекала экономику и всю общественную систему на недолговечность. А это, в свою очередь, свело бы деформации к явлениям кризиса, а не катастрофы. Но, как мы знаем, система просуществовала достаточно долго. И само по себе бездействие естественных мотиваций вело к перерастанию очередного кризиса в катастрофу. Главное в этом — извращенность интересов. Стимулы в таких условиях все больше замещались антистимулами, которые толкали к абсурдным действиям, охватившим воспроизводство в целом.
Заинтересованность в экономии, присущая, казалось бы, любой нормальной системе, сменилась затратными тенденциями; ориентация на запросы потребителя — стремлением к расширению дефицита300, обеднению ассортимента и ухудшению качества; тяготение к новейшей технике — ее отторжением; поддержание профессионально–трудового имиджа — деградацией труда. В итоге общество, не успев оправиться от пребывания в цикле кровавых вакханалий и геноцида, вступило в новую фазу катастроф — в фазу тотального разрушения и деградации материальных производительных сил и совокупной рабочей силы.
Ошибается тот, кто думает, что подобное растягивание эпохи катастроф почти на столетие, эта смена фаз и циклов является следствием случайностей и рокового стечения обстоятельств. Все обстоит наоборот. И планетарно–вековой характер катастрофы, и ее цикличность, и пофазная разметка циклов — все это запрограммировано многовековой социально–экономической генетикой страны и реализовано посредством социальных утопий, упавших на благодатную почву российской действительности; утопий, которые, опять таки не случайно на этой почве легко осуществлялись и глубоко пускали свои корни в каждой из фаз катастрофического цикла. Напомним, что социальная утопия далеко не во всем была утопична, что она имела основу в реалиях обобществления, в потребностях социальной защиты и социализации ряда важнейших сторон жизнедеятельности общественного организма. Соответствующие механизмы, неуклонно деградировавшие по мере деградации системы, все же в течение долгого времени сдерживали движение экономики к краху.
Кстати, катастрофа, постигшая Украину в последнем десятилетии XX в., в числе решающих причин имеет игнорирование (по принципу — «теперь все наоборот») именно этих ценностей — ценностей, которые как раз и продлевали жизнь тоталитарному режиму и которые как раз и не были преемственно восприняты.
Сдерживающее влияние на саму возможность позитивных перемен оказывало и принуждение, исходящее от властных структур и огромного, всепронизывающего бюрократического аппарата. И это принуждение было не просто внешним фактором, стоящим над экономикой и социальной сферой. Оно вплеталось во все производственно–трудовые и социальные процессы, опосредуя и регулируя действие всех рычагов и механизмов общественного воспроизводства. Причем спектр разновидностей принуждения был исключительно широк; в этом смысле он просто несопоставим ни с одной регулирующей системой, действовавшей когда–либо на нашей планете. Прямое жесткое принуждение, мелочное нормирование и удушающее регламентирование — это лишь крупные блоки управляющей системы, дробящиеся внутри на множество изощренных и часто весьма экзотических (в т. ч. идеологических) подсистем.
И все это объяснимо. Ослабление, или же просто отсутствие стимулов, а тем более хаотичное движение производства из–за действия антистимулов побуждали к принуждению и многочисленным ограничениям, к попыткам через эти воздействия удержать систему на плаву. И до поры до времени, как известно, болезнь удавалось загонять вглубь и тем самым на десятилетия продлевать существование строя, который уже на старте мог казаться обреченным.
Как видим, насилие как сдерживающий фактор при катастрофической деградации безрыночной экономики оказывалось неотвратимым. Его отсутствие в условиях вакуума стимулов вело бы к развалу производства. Однако его наличие и культивирование обуславливало деградацию человеческого потенциала общества, а равно и потерю управляемости непосредственным производством. Первое не требует объяснения. Второе обусловлено тем, что централизованное управление — этот главный элемент экономического насилия — само по себе, вне связи с рыночными стимулами, способно развивать лишь примитивное, раннеиндустриальное производство. И именно успехи в развитии индустрии, полученные за счет насилия, буквально напрочь лишают это последнее сил созидания.
Развитие индустрии (тем более — постиндустриальные достижения) сопровождается огромным усложнением связей и зависимостей. Связи эти оказываются просто недоступными для управления «вручную», каким является управление через насилие. Роковым в данном случае оказывается отрицание утопией тех самых рыночных механизмов, которые рождают энергию низового действия и «подпирают» ею плановое управление. Это отрицание оказывается бедствием, парализующим систему. Развал пропорций и потеря качества, растущая материалоемкость и долгострой, приверженность упрощенному подходу в ущерб научно–техническим решениям — вот неизбежные последствия реализации управления, основанного на утопии.
Ослабление управленческой власти, основанной на насилии, означало, казалось бы, исчерпание всех возможностей административно–командной системы. Но тут реанимирование потенций отживающего строя произошло за счет явлений, утопией не только не предусмотренных, но и категорически отвергаемых. Системе, лишенной каких–либо рычагов и стимулов, на этом завершающем этапе почти столетней трагедии свое плечо подставила разросшаяся теневая экономика.
Известно, что исторически тоталитаризм и даже авторитаризм победоносно боролся с теневой экономикой. В Германии — А. Гитлер, в Испании — Б. Франко, а равно и другие диктаторы не раз демонстрировали подобные возможности. Однако успешная борьба с теневой экономикой посильна деспотии лишь на этапе ее жизнеспособности. В дальнейшем, по мере исчерпания потенциала насилия, тоталитаризм деградирует, и вакуум стимулов восполняется уже не насилием, а теневыми дельцами — т. е. интересами экономической мафии.
В СССР альянс властей с уголовным миром всегда был обширным и действенным. Каратели, экономя собственные силы, опирались на уголовный элемент, который, имея поддержку, процветал и разрастался. Однако это касалось в основном убийц, домушников и прочих лиц сугубо «бандитского профиля». Границы же теневой экономики довольно длительное время были весьма узкими.
Положение коренным образом изменилось в последние четверть века, т. е. на этапе деградации и краха производственного потенциала страны. Ни экономический регламент, ни даже прямое насилие не могли теперь восполнить отсутствие естественных рыночных стимулов, ибо то и другое деградировало и иссякало. «Ничейное» пространство — а оно ускоренно расширялось — было захвачено новым могучим властелином: теневой сферой экономики с ее мафией, срастающейся по ходу операций с властями и подчиняющей себе в конечном счете значительную часть общественного производства и почти полностью торговлю и сферу услуг.
На первых порах теневые дельцы всего лишь обслуживали властные структуры, ища у них покровительства. В дальнейшем, по–видимому, ситуация коренным образом поменялась: контролировавшая теневую сферу общественной жизнедеятельности мафия подчинила себе официальную власть, начав превращаться в реального хозяина страны где–то с начала 80‑х гг.
Но вот командно–административная система, в которую выродилась социальная утопия, начала расшатываться. В движение пришли демократические силы. СССР рухнул. Повсеместно провозглашается, что авторитарная экономика сменяется рынком, с которым связывается благосостояние передовых стран мира. Успеху преобразований должна способствовать и ситуация в мире, живущем идеями рыночной экономики и демократии.
Казалось бы, катастрофические процессы в таких условиях должны были прерваться. Тем более, что, как известно, такие разные страны, как Китай (несмотря на пережитую им трагедию «большого скачка» и «культурной революции») и Вьетнам — с одной стороны, и Чехия, Венгрия или Польша — с другой, буквально на второй–третий год стали пожинать плоды перехода к рынку. Но стремительный рост масштабов теневой экономики и решающая роль мафии в политике последних лет существования СССР имели определяющее значение у нас для судеб рыночных отношений — этого главного компонента перестроечных изменений. В своих нормальных, столь необходимых и долгожданных формах он не состоялся ни в годы перестройки, ни в большинстве постсоветских государств. А это, в свою очередь, сказалось на судьбах всей общественной системы.
Кризис либерально–гуманистических ценностей Запада (Ю. В. Павленко)
Чувство веры в самого себя и свое великое предназначение охватывает западное человечество с начала Нового времени. Однако вначале эта гуманистическая вера в человека, оппозиционная прежнему средневеково–христианскому миросозерцанию, была еще овеяна общей религиозной атмосферой. В эпоху Ренессанса гуманизм связан с пантеистическими тенденциями или платонической идеей небесной родины человеческой души. И даже декартовская вера в человеческий разум была верой в высший, исходящий от Бога, «свет» мысли. Подобным образом и пуританские переселенцы в Северной Америке, провозгласившие «вечные права человека и гражданина», обосновывали эти права святостью личного (утвержденного Реформацией) отношения человека к Богу. И, как продолжает С. Л. Франк, эта связь веры в человека с верой в Бога в форме «естественной религии» звучит еще у Ж. — Ж. Руссо.
Однако в целом в XVIII в., в эпоху французского Просвещения, происходит разрыв между верой в Бога и верой в человека. Последняя сочетается с натуралистическим, а в дальнейшем — с позитивистским или атеистическим мировоззрением. Но гуманизм в этой его форме содержал в себе глубокое и непримиримое противоречие: «Культ человека, оптимистическая вера в его великое призвание властвовать над миром и утверждать в нем господство разума и добра сочетаются в нем с теоретическими представлениями о человеке как существе, принадлежащем к царству природы и всецело подчиненном ее слепым силам»301.
Гуманистическо–просветительское сознание, утверждавшее достоинство человека и его призвание быть властелином мира за счет веры в Бога, оборачивалось редуцированием сущности человека к его биологической (естественнонаучный материализм серед. XIX в., расизм и базирующаяся на нем идеология национал–социализма, в некотором смысле психоанализ) или социальной (марксизм с развившейся на его основе коммунистической идеологией большевизма, в известной степени дюркгеймовский социологизм) основе.
При этом утверждение самодостаточности и самовластья человека в природном мире (как и западного человека с его буржуазно–индустриальной цивилизацией над всем остальным человечеством) органически сочеталось со второй половины XVIII в. (со времен А.-Р. Тюрго, Г. Э. Лессинга, Ж.-А. Кондорсе) с почти религиозной верой в прогресс, с глубоким чувством исторического оптимизма, составлявшего, несмотря на периодические нападки на прогрессистскую идеологию таких мыслителей, как А. Шопенгауэр, Ф. Ницше или Ф. М. Достоевский, на критику со стороны представителей баденской школы неокантианства (В. Виндельбанд, Г. Риккерт), основу мировоззрения образованных людей конца XVIII — первых лет XX вв. Поэтому кризис новоевропейского сознания в годы Первой мировой войны и далее, в последующие за ней десятилетия, в одинаковой мере характеризовался как кризисом веры в человека (кризисом идейных оснований ренессансно–новоевропейского гуманизма), так и кризисом идеи прогресса (исторического оптимизма).
Как в первой половине 30‑х гг. писал Н. А. Бердяев: «Мировая война была обнаружением накопившегося в человеческом существовании зла… Она объективировала зло, которое раньше оставалось прикрытым… Она обнаружила лживость нашей цивилизации… Все для войны. Война сама по себе была уже и своеобразным коммунизмом, и своеобразным фашизмом. Она страшно обесценила человеческую жизнь, приучила ставить ни во что человеческую личность и ее жизнь, рассматривать ее как средство и орудие фатума истории… Война обозначила грань, за которой начинается новая форма коллективного человеческого существования, обобществление человека»302.
Именно это «обобществление» не только средств производства или формы мировоззрения, но и самой человеческой личности сполна раскрывается и доводится до своего логического конца в истории XX в., через, на первых порах, большевизм и фашизм, а теперь все более — в системе «общества массового потребления», с его засильем рекламы, «поп–артом» и «индустрией развлечений», работающих над усреднением и обезличиванием индивидуального сознания не менее успешно, чем гитлеровская или сталинская пропаганда.
Все это, в течение прошедшего века, с августа 1914 г. до наших дней, демонстрировало в многообразии форм кризис гуманистически–просветительского и сложившегося на его основе либерального сознания. Ценности гуманизма и либерализма, концентрирующиеся в понятии «прав человека» (вдохновлявшего и вдохновляющего всех противников тоталитарных режимов), в практике мировой истории последнего столетия оборачиваются самоотрицанием. Человеческая личность, чье достоинство так ярко утверждали европейские мыслители со времен Пикко делла Мирандолы и Эразма Роттердамского, оказывается попираемой и пренебрегаемой господствующими в мире системами отношений и практическим отношением к ней как к средству достижения неких высших целей. И это относится не только к тоталитарным режимам фашистского или коммунистического образца, но и к либеральным демократиям, прежде всего — к США, не останавливающимся в применении силы в случае, если оно признается федеральным правительством целесообразным. Наиболее яркий пример здесь — Хиросима.
При этом как–то мало обращают внимания на тот факт, что сама нынешняя американская доктрина «национальных интересов», предполагающая использование практически любых средств для удовлетворения своих корыстных потребностей, не только противоречит концепции «прав человека» (ведь представители незападных народов — тоже люди, а значит, имеют человеческие права), но и сознательно проводит политику «двойных стандартов» по отношению к государствам, в одинаковой мере попирающим права своих граждан, но по–разному относящимся к гегемонии Запада. Достаточно вспомнить режим в Иране при последнем шахе, подавление Турцией борьбы курдов за независимость, поддерживаемые западными странами, отказ алжирского правительства от проведения свободных, с участием всех политических сил, выборов при учете перспективы победы на них исламистов и пр.
Но еще более выразительно кризис либерально–гуманистической идеологии просветительско–позитивистской традиции выражается в том процессе стагнации духовного творчества, оказывающегося в почти полной зависимости от меркантильных соображений получения прибыли, который многие мыслители, и далеко не одни лишь сторонники тоталитарных идеологий, связывали с категорией буржуазности. В этом плане буржуазность органически связана с либерализмом и, в то же самое время, является его наиболее очевидным отрицанием.
Западный, прежде всего британский, либерализм, основы которого были заложены Дж. Локком, Д. Юмом, А. Смитом и Дж. Миллем, исходит из представления о самодостаточности атомарного индивида, принципиально равного всем другим индивидам и обладающего от рождения неотъемлемыми правами, среди которых на первый план выдвигается свобода. Эта свобода понималась прежде всего как свобода религиозная (свобода совести), политическая (социальное равноправие, парламентаризм) и экономическая (частное предпринимательство).
Такая свобода может основываться лишь на гарантированном и нерушимом («священном») праве частной собственности. Однако общество, основанное на праве частной собствености, не может, как известно (и с наибольшей силой об этом писал К. Маркс), гарантировать равные права и свободы своим гражданам уже в силу того, что в его условиях невозможно равенство в распределении самой собственности. Таким образом принцип либерализма уже нарушается, так что если упомянутые формы экономической и политической свободы и реализуемы вне нынешних благополучных передовых государств Запада и, отчасти, Дальнего Востока, то лишь для относительно узкой прослойки вполне обеспеченных людей. Эмоционально и точно об этом писал Ф. М. Достоевский: «Что такое liberte? Свобода. Какая свобода? — Одинаковая свобода всем делать все что угодно в пределах закона. Когда можно делать все что угодно? Когда имеешь миллион. Дает ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона есть не тот, который делает все что угодно, а тот, с которым делают все что угодно»303.
В итоге ценности и идеалы либерализма имеют шансы не быть чистой фикцией лишь для людей состоятельных, обладающих капиталом — в сущности, для одной лишь буржуазии. Но и здесь мы сталкиваемся с самоотрицанием либерального идеала. Как писал Н. А. Бердяев: «Буржуазность стоит под символом денег, которые властвуют над жизнью, и под символом положения в обществе. Буржуазность не видит тайны личности, в этом ее существенный признак… Буржуазность социального происхождения, она всегда означает господство общества над человеком, над неповторимой, оригинальной, единственной человеческой личностью, тиранию общественного мнения и общественных нравов. Буржуазность есть царство общественности, царство большого числа, царство объективации, удушающее человеческое существование. Оно обнаруживает себя в познании, в искусстве и во всем человеческом творчестве. В XIX веке были замечательные люди, восставшие против царства буржуазности — Карлейль, Киркегардт, Ницше, Л. Блуа, у нас — Л. Толстой и Достоевский»304.
Последующую, относящуюся уже ко времени утверждавшегося в третьей четверти XX в. «общества массового потребления», фазу развития этого противоречивого либерально–буржуазного духовного комплекса Г. Маркузе метко охарактеризовал при помощи метафор «одномерный человек», «одномерное общество» и «одномерное мышление». Эти реалии соответствуют высокорационализированному и технологически передовому обществу. При этом немецкий социолог особенно подчеркивал значение в западном мире роли средств массовой информации, которые, обладая колоссальными техническими возможностями, уже не просто манипулируют общественным мнением, но создают его в качестве чего–то усредненного, общего и в то же время именно такого, в котором заинтересована господствующая в данном обществе властвующая группа: «Становится очевидным политический характер технологической рациональности как основного средства усовершенствования господства, создающего всецело тоталитарный универсум, в котором общество и природа, тело и душа удерживаются в состоянии постоянной мобилизации для защиты этого универсума»305.
К концу уходящего века фиктивность определения общественного устройства Запада как либерального (либерально–демократического) стала еще более очевидной в связи с новым уровнем организации и технической оснащенности масс–медиа. Медиа, как пишет по этому поводу А. А. Зиновьев, вторгается во все сферы общества — в политику, экономику, культуру, науку, спорт, бытовую жизнь, проявляя власть над чувствами и умами людей, «причем власть диктаторскую». Медиа есть, по его словам, «безликим божеством западного общества», «социальный феномен, концентрирующий и фокусирующий в себе силу безликих единичек общественного целого»: «Это их коллективная власть, выступающая по отношению к каждому из них как власть абсолютная»306.
Существеннейшим аспектом дегуманизации всей системы социокультурной жизни в мире XX в. как таковом, но наиболее явственно — в передовых, наиболее развитых в научно–техническом плане, ориентированных в заявлениях их лидеров на либерально–демократические ценности странах, является фактор техники. Технизация жизни, подчинение последней производственной, равно как и административно–бюрократической (с огромной силой раскрытой Ф. Кафкой в «Процессе» и «Замке») или любой другой рациональности, обрекает на гибель все органическое и непосредственное, свободно–творческое. В связи с этим Н. А. Бердяев писал: «Механика, созданная могуществом человеческого знания, покоряет себе не только природу, но и самого человека. Человек уже не раб природы… Но он становится рабом машинной цивилизации, рабом им созданной социальной среды. В цивилизации, как последнем результате гуманизма, начинает погибать образ человека»307.
Развивая эту, восходящую в сущности к Ж. — Ж. Руссо и заостренную К. Марксом, мысль, русский философ отмечает, что техника дегуманизирует человеческую жизнь, превращает человека в средство, инструмент, технологическую функцию. Техника оборачивается против человека, смертоносно действует на его эмоциональную жизнь, подчиняет его ускоряющемуся времени, в котором каждое мгновение есть лишь средство для последующего. Власть техники над человеческой жизнью, по его словам, означает, при всей актуализации человеческой энергии, именно пассивность человека, «его раздавленность миром и происходящими в нем процессами»308.
В те же годы в том же духе высказывался и О. Шпенглер: «Трагизм нашего времени заключается в том, что лишенное уз человеческое мышление уже не в силах управлять собственными последствиями. Техника сделалась эзотерической… Механизация мира оказывается стадией опаснейшего перенапряжения»309. Подобные мысли о тоталитарности техницизированного и тем самым обездушенного, деперсонализированного, забывшего о ценности и достоинстве личности мира находим и у других ведущих мыслителей уходящего века, в частности, у М. Хайдеггера310. И, как бы резюмируя такого рода мысли, но с учетом идей марксизма и психоанализа, Г. Маркузе писал в начале 60‑х гг. минувшего века: «Машинный процесс в технологическом универсуме разрушает внутреннюю личную свободу и объединяет сексуальность и труд в бессознательный ритмический автоматизм»311.
Таким образом, опыт XX в. засвидетельствовал не только крах тоталитарных идеологий и основывавшихся на них режимах фашистского и коммунистического образцов, но и выявил все углубляющийся кризис гуманистически–либеральных ценностей. Определенной альтернативой такому состоянию (с еще неопределенными шансами на успех) может рассматриваться становление в течение XX в. персоналистического религиозно–философского сознания, утверждающего самоценность человеческой личности как духовного, свободно–творческого начала. С особенной силой это сознание в эпоху мировых войн и тоталитарных режимов первой половины XX в. выразили Н. А. Бердяев и Л. Шестов, М. Бубер и К. Ясперс, Г. Марсель и Э. Мунье.
В переходные эпохи разочарования в иллюзиях предыдущих лет поиск внутренней, трансцендентной опоры личности становится жизненной необходимостью, поскольку во внешнем мире духовную опору, тем более оправдание своей приверженности высшим ценностям (ради которых внутреннее «Я» не хочет уступать «князю мира сего») найти невозможно. В сущности так же было и в древности (Будда, Сократ, Христос и апостолы), и в менее отдаленном прошлом. Поэтому в психологическом отношении религиозные искания (безотносительно к истинности или ложности самого их содержания) могут рассматриваться в качестве защитной реакции сохраняющей приверженность ценностям мировой культуры личности по отношению к разрушающим эти ценности (как нравственные основания ее бытия) внешним условиям жизни. Это позволяет рассматривать религиозные искания (прежде всего интеллигенции — в начале ли, или в конце истекающего века) в плоскости конфликта ценностей — внутренних, духовных и внешних, социально–материальных.
Вызов Запада человечеству на рубеже тысячелетий (Ю. Н. Пахомов)
Еще недавно казалось, что Запад с его мессианской планетарной ролью, с основанными им мощнейшими альтруистическими финансовыми институциями реально не только содействует гармонизации мирохозяйственных отношений, но и «подтягивает» слаборазвитый мир к собственному экономическому уровню.
Ныне очевидно иное. За фасадом благотворительной миссии скрыты механизмы небывало мощной перекачки ресурсов развивающихся стран в пользу стран высокоразвитых. Финансовые последствия этих процессов — небывало высокая, кабальная и безысходная задолженность. Социальные последствия — хроническая нищета и деградация. Количественно же разрыв между 10–15% передовых стран и 85–90% стран слаборазвитых выражается в задолженности последних западному миру и Японии одного триллиона двухсот миллиардов долларов, что составляет 40% их совокупного валового продукта. Ничего подобного ранее не было.
В капитализме заложена агрессия в виде ненасытной потребности гнаться за меновой стоимостью. Капитализм — первая в мире цивилизация, первая в мире модель, которая поставила во главу угла не потребительские ценности, не потребительскую стоимость, а меновую стоимость, погоню за деньгами как таковыми, за абстрактным богатством. А это — наркотик.
К тому же непрерывное обогащение — это условие преуспевания вообще, ибо кто приостанавливается, перестает гнаться за стоимостной формой богатства, тот сходит с арены и, в определенном смысле — как активный «капиталист» — погибает. Особенность состоит в том, что ты все время должен гнаться за меновой стоимостью для того, чтобы не просто лучше жить, но и чтобы выживать в капиталистическом статусе. Конечно, ты можешь стать безработным, тебя могут включить в тринадцать разных программ в США и каждая из них будет тебя кормить, но в капиталистическом смысле ты перечеркнешь свое реноме, утратишь свою ценность в глазах общества.
И этим динамизмом, своим «perpetuum mobile», капитализм разрушает все рутинное и архаичное. Как отмечал К. Маркс, кости индийских ткачей начали белеть в долинах, когда в стране появились дешевые английские ткани. Высокая производительность труда — вот тот снаряд, которым пробиваются любые крепостные стены, которыми разрушается любая архаическая экономика. В этом смысле капитализм неимоверно агрессивен, но агрессивен не субъективно, а объективно.
Характерно, что решающую роль в своеобразном перекладывании сугубо внутренних противоречий мира развитого капитала на страны других миров (а значит — других цивилизаций) сегодня выполняют во многом нетрадиционные механизмы экономического регулирования, порожденные, в первую очередь, новым типом отношений, складывающихся между инновационной экономикой Запада и архаичной, сырьевой экономикой развивающихся стран.
Среди этих регуляторов особо разрушительны, как это ни парадоксально, те, которые обслуживают инновационные процессы авангардного вестернизированного капитала. Именно каскад новых продуктов и новых технологий, монопольно производимых в первую очередь Западом, есть один из главных источников растущих «ножниц цен» и получения высокоразвитыми странами «временно–постоянной» (поскольку есть эффект непрерывного каскада) избыточной прибыли. Тут, как говорится, обижаться можно только на самих себя. Но это же — одна из иллюстраций неоэкспансионистской политики Запада.
Разрушительной для планетарных мирохозяйственных отношений оказывается в новых условиях и гигантски возросшая потребительская экспансия Запада. Свойство капитала — неудержимая и беспредельная погоня за стоимостью — которая в условиях неисчерпаемости (как казалось) ресурсов была двигателем созидания, в нынешних условиях превращается во все более разрушительную. Само превращение максимизации прибыли в планетарную определяло новые масштабы расточительности. Гигантские возможности новейших технологий дополняют картину. В итоге, скажем, США, имея около 5% населения планеты, потребляют около 40% ее невоспроизводимых ресурсов и 30% потребляемого планетарного кислорода.
Главное и трагичное заключается в том, что чрезмерная расточительность в пределах сложившейся на Западе экономической системы практически непреодолима. Ведь эта деструктивность экономического регулятора есть лишь оборотная сторона его высокой эффективности. К тому же сама ментальность западного общества — неудержимое стремление к максимизации богатства, его бесконечной вещественно–материальной диверсификации — также есть присущий Западу неустранимый фактор планетарного растранжиривания ресурсов.
Таков вызов, брошенный теперь всей планете Западной цивилизацией. Но, имея планетарные масштабы, этот вызов непосредственно затрагивает и сам Западный мир. Какой же отклик он дает на этот вызов? Увы, не обещающий ничего хорошего основной массе человечества.
Идеологи утвердившейся к концу XX в. на планете системы, причем даже слывущие прогрессистами, стали выдвигать идеи т. н. «золотого миллиарда» — что на практике означает: лишь жизнь миллиарда, т. е. населения преуспевающих стран, надо отстоять как благополучную. Остальная часть человечества заведомо обрекается на бедность и прозябание. Таков урок, данный миру Западом. Сомнений нет — это урок и Украине, и России, и всем прочим государствам СНГ.
И здесь нелишне вспомнить об уже отмеченной в предыдущих главах архетипической для Западнохристианского мира со времен бл. Августина и доведенной до абсурда кальвинизмом идее богоизбранности, предопределенности к спасению лишь ограниченного числа людей, при заведомой обреченности всех остальных.
В этом смысле концепция «золотого миллиарда» есть лишь современная транскрипция этой идеи, столь противной восточнохристианскому сознанию от истоков греческой патристики времен Климента Александрийского, Оригена и Григория Нисского до идей Г. С. Сковороды и П. Д. Юркевича, Ф. М. Достоевского и В. С. Соловьева, Н. А. Бердяева и С. Н. Булгакова, несущих упование на конечное спасение всех людей.
В таком случае закономерен вопрос: могут ли другие цивилизации представить альтернативу, которая была бы более человечной? Похоже, могут. Причем не посредством торможения научно–технического прогресса, и не путем возврата к какой–либо архаике, а на самой что ни на есть инновационной основе. Причем на иной, отличной от Запада, системе ценностей.
Речь идет о новом типе экономического роста, реализованном в последние десятилетия в Японии, Южной Корее и на Тайване, в новых индустриальных государствах Юго–Восточной Азии и потенциально содержащемся в модели развития современного Китая. Уже говорилось, что этот тип экономического роста по сути, по всем главным параметрам, превосходит развитие западных индустриальных систем. Но в данном случае хотелось бы отметить и другой аспект функционирования дальневосточно–южновосточноазиатской экономики: ее эффективность имеет своим источником не только достижения Запада, но и систему ценностей конфуцианского Востока.
А эти ценности, уже рассматривавшиеся выше в их сопоставлении с западными, не только обеспечивают повышенную жизнеспособность и устойчивость экономической системы, но и сдерживающе влияют на потребительский марафон (как это было, хотя и при помощи совершенно других механизмов, и в раннебуржуазной, по преимуществу протестантской, Европе). Всем ведь известно, что необузданное потребительство претит аскетически–сдержанной идеологии конфуцианства.
Но могут возразить: удивлявшая мир своими достижениями в течение последних десятилетий экономика Японии и «восточноазиатских тигров», а затем и ряда стран Юго–Восточной Азии после финансового кризиса рубежа 1997–1998 гг. оказалась в тяжелом состоянии. Не противоречит ли это самой эффективности и перспективности соответствующей модели? Нет, не противоречит. И вот почему.
Во–первых, колебание подъема и спада в экономике, в которой действует рыночный регулятор — вещь естественная и закономерная. В этом отношении разразившийся кризис во многом закономерен — слишком быстрыми темпами в последнее время развивались передовые страны АТР.
Во–вторых, этот кризис наиболее болезненно ударил по государствам, где такого рода экономическая модель лишь начинала внедряться и приносить свои первые плоды — по Индонезии, Малайзии и Таиланду. Заметим при этом, что в цивилизационном отношении они не являются составными частями традиционного Китайско–Дальневосточного, конфуцианского в основах своей деловой этики, мира. В Индонезии и Малайзии с начала XV в. в качестве ведущей религии начинает утверждаться ислам, вытесняющий (но и вступающий с ними в разнообразные формы симбиоза) буддизм и индуизм, тогда как Таиланд был и остается буддийской страной.
В-третьих, и это, очевидно, самое важное, в основе своей упомянутый финансовый кризис был связан не с характером взятой на вооружение модели, а с совершенно не относящимися к ее сущности политическими причинами, прежде всего — с переходом в 1997 г. Гонконга из–под юрисдикции Великобритании под власть правительства КНР. В связи с этим из бывшей колонии начался широкий отток капитала, во многом искусственно спровоцированный рядом транснациональных, но связанных своими интересами прежде всего с США, финансовых институций. А это привело по «принципу домино» к удару по финансовым рынкам и ослаблению валют ряда государств Юго–Восточной Азии, в меньшей степени — Северной Кореи и Тайваня, и уж совсем незначительно — Японии. Китай же, в сущности, не пострадал, поскольку две последние из названных стран — наиболее могущественные державы региона, чья экономика среди стран АТР наименьшим образом зависит от переменчивых процессов притока и оттока транснационального капитала. А эти государства, вместе с Кореей и Вьетнамом, как раз и составляют костяк основанного на конфуцианско–даосско–буддийском симбиозе (в сочетании с местными верованиями типа японского синтоизма) Китайско–Дальневосточного цивилизационного мира.
Экономические регуляторы, находящиеся под прямым воздействием цивилизационных факторов конфуцианства, не так чувствительны к сбоям рыночных саморегуляторов, как экономики стран Запада и, тем более, стран, чье развитие непосредственно связано с притоком или оттоком иностранных инвестиций. К тому же здесь «прорехи» в саморегулировании сильнее компенсируются и регулирующей силой государства, и связностью структур, и поведенческой этикой чиновничества.
И если представить, что дальнейшее обострение планетарной ситуации потребует ограничить саму экспансию рыночных саморегуляторов, то именно Дальнему Востоку с этим справиться намного легче — во многом из–за иного менталитета и иной системы ценностей.
Экономика — не единственный спектр планетарно–разрушительного западного влияния. Крайне отрицательным становится западное влияние на остальной мир и в системе ценностей. Истоки этого воздействия во многом коренятся в экономике, но не только в ней.
Прошли времена, когда генетическая ценностная ущербность Запада, источаемая ажиотажной коммерциализацией и утилитаризмом, была терпимой и компенсируемой. В прежние времена ее духовная деструктивность блокировалась влиянием церкви, сохранявшимися с феодальных времен понятиями о чести и благородстве, наконец — высоким (во многом перенятым от утрачивавшего свой былой авторитет духовенства) интеллектуальнонравственным авторитетом мыслителей, писателей и деятелей искусства. Ныне оборотная (теневая) сторона ценностей Запада разрослась до опасных и уже не балансируемых пределов, тем более что сфера творческой, в частности интеллектуально–художественной деятельности быстро коммерциализируется, а значит — выхолащивается. Особенно деструктивной является тенденция безудержного потребительства, заложенная в самих регуляторах Западной цивилизации, осмыслившей самое себя в послевоенные десятилетия в качестве «общества массового потребления».
Характер непрерывных перемен, присущий ныне западному потребительству, стал фактором разрушения не только экономики и окружающей среды, но и духовно–нравственных ценностей. И это естественно, ибо поведенческие стереотипы, а равно и психика, не могут приспособиться к мелькаю щим переменам в этой области. К тому же гонки за взаимно вытесняющими потребительскими увлечениями становятся всепоглощающими со стороны энергии людей и ресурса их времени. Особенно изнурительны они для нежелающего отставать от моды молодого поколения. Тут ценностные ориентации подвергаются неизбежной ломке и следующему за ней смысловому выхолащиванию.
Для многих, если не для большинства, непосильным, а то и, как им кажется, ненужным, становится само освоение духовно–нравственных ценностей. Ибо энергия, необходимая для этого, и отвлекается, и поглощается процессами освоения престижных потребительских благ и квазиценностей, навязчиво рекламируемых средствами массовой информации.
В итоге катастрофично расширяется пространство бездуховности; с арены сходят подлинные ценности — источники духовного и нравственного обогащения; их заменяют подделки и суррогаты. Деяния духа и гражданственности все чаще подменяются низменными инстинктами. Искусство вытесняется разного рода «квази-», рассчитанными на подкорку, на манипулирование психикой, на освоение «ценностей» опустошающей массовой культуры.
Эрозия западных ценностей все более углубляется и распространяется по планете и на почве тотальной западной коммерциализации. Известно, что коммерческая акцентуация Запада отнюдь не есть ценность «общечеловеческая»; она, будучи замешанной на особом неповторимом западном рационал–утилитаризме, есть враг морали и духовности. Уже одно лишь проникновение коммерции на телевидение способствовало нарастанию того духовного кризиса, который К. Поппер назвал смертельной угрозой для существования «открытого общества». С коммерцией и разгулом бездуховного потребительства и утилитаризма решающим образом связаны и такие заполнившие Западный мир пороки, как наркомания и культ насилия, разросшаяся криминогенность, другие выбросы подземного мира страстей.
Естественно, что изменение соотношения в западных ценностях баланса добра и зла все больше меняет характер восприятия западного образа жизни другими цивилизациями. Выплескивание накопленных на Западе квазиценностей и пороков заведомо губит одних, попавших в капкан бездуховного потребительства, и вызывает сопротивление и отторжение у других, способных опереться на собственные духовно–нравственные устои и прочные традиции, оберегающие от деградации.
В определенном смысле мощное духовное возрождение Индии конца XIX в. — первой половины XX в. (начиная с «Бенгальского возрождения», символом и наиболее многогранным выразителем которого стал Р. Тагор) было «спровоцировано» вызовом потребительских, утилитарных соблазнов капитализма. В не меньшей степени это относится и к российской культуре второй половины XIX в. — начала XX в., в значительной степени сметенной волной куда более резкого и грубого неприятия ценностей капитализма.
Понятно, что беспардонное, деструктивное воздействие коммерционализированно–потребительского менталитета Запада, в особенности в его североамериканских формах, осложняет как межстрановое, так и межцивилизационное взаимодействие. Положение усугубляется нарастающей претензией Запада (особенно США) на гегемонию, а также увязкой западной помощи с требованием немедленного переустройства жизни по стандартам Запада (что в принципе невозможно в силу и различного историко–цивилизационного опыта с соответствующими ему традиционными ценностями и установками, и отсутствия в этих странах подходящих для такой реорганизации условий в данный момент).
Последствия оказываются печальными. Это — или экономическая и ценностная катастрофа — как, например, у нас; или воспроизводство под этикетками «президентов», «парламентов», «республик» и пр. политических уродцев и чудовищ — как в Африке, где предпосылки прозападного переустройства явно не созрели (вспомним хотя бы И. Амина в Уганде или Ж. Б. Бокасса в Центральной Африке). При этом первое и второе, как правило, естественным образом сочетаемо. Не зря Ж. — Ж. Руссо оговаривался: демократия рассчитана на богов. Это преувеличение есть и предупреждение.
Как видим, доминанта Западной цивилизации — обоюдоострое оружие. Запад облагораживает, приобщая к благам и свободам, и разрушает — в том числе традиционные, подчас жизненно важные ценности. И при этом и то и другое воздействие весьма дифференцированны. Так, в тенета бездуховности и нравственных пороков, экспортируемых с Запада, чаще всего попадают экономические банкроты, опустившиеся во многом из–за следования рекомендациям того же Запада.
Внешне кажется противоположным реагирование на экспансию Запада стран, ощетинившихся в порыве отторжения западных ценностей. Но, как правило, и здесь подобная реакция — следствие неразвитости, экономической слабости и нищеты (как в Судане или на Кубе). Результат разрыва с Западом — частичная деградация, проявляющаяся в архаизации экономики и культуры, политических институтов и пр. Примеры тому находим даже в Юго–Восточной Азии: Мьянма (Бирма).
Парадоксально, что наиболее благоприятное влияние Запад оказывает на тех, кто впервые за последние четыреста с лишним лет дерзнул превзойти его в типе и модели экономического роста. Речь идет о странах «экономического чуда» Дальнего Востока и Юго–Восточной Азии, где успех хотя и достигнут на незападной системе ценностей, но при том и при восприятии лучшего от Запада.
Здесь, в этом особом регионе планеты, налицо успехи частичной вестернизации — экономической, политической и социальной, но без восприятия многого из того, что в местных условиях могло бы оказаться разрушительным. Индивидуум здесь — в отличие от ситуации индивидуалистического Запада — не является отчужденным и одиноким; его греет тепло патернализма и коллективизма, взаимного уважения поколений, почитания личных отношений и управленческой иерархии. Здесь пресекается чрезмерное потребительство, причем во многом — через реанимирование аскетического опыта прошлых лет. В целом же на конфуцианско–буддийском Востоке притормаживают и часто отклоняют именно то, что Запад усиленно навязывает другим мирам как обязательные рецепты вестернизации. И это обстоятельство, а равно и неординарный собственный опыт, дают эффект не только экономический.
Сегодня мы являемся свидетелями явного разнобоя и замешательства в выборе мировых цивилизационных ориентиров и соответствующих регуляций. От общепланетарного, и, как казалось — безальтернативного — стремления незападных цивилизаций в сторону Запада не осталось и следа.
Эпигонство и благоговейно–восторженное отношение к западным ценностям, как и к сугубо западным (или квазизападным) моделям, стало уделом лишь некоторой части незападных стран, растерявшихся от шока перемен, ошалевших от витринного эффекта, растерявших «по дороге», на «крутых поворотах истории», свой потенциал и способности к самостоятельным реформаторским действиям. Да еще значительного круга всесторонне зависимых от Запада примитивных полуплеменных сообществ, часто не дозревших до цивилизационных перемен (в основном — стран Африки).
Остальной же незападный мир то ли отторгает навязываемую вестернизацию как пагубную, то ли по–своему ее ассимилирует. При этом выхолащивается по ходу освоения в западных рекомендациях именно то, что для самого Запада является чуть ли не главным. Это касается не только отрицательных сторон экономических и социальных механизмов регулирования, но также «экспортируемых» вестернизованных ценностей, провоцирующих все то, что принципиально отвергалось традициями Востока, — погоня за наживой, успех любой ценой и т. д.
В целом же человечество хотя и медленно, но все более основательно тянется к тем цивилизациям, которые не только обеспечивают технологический прогресс, но и противостоят разрушению культурного пространства, эскалации вестернизированных пороков, обеспечивают социальное, духовнонравственное здоровье и стабильность. Все меньше стран хотят быть жалким подобием Запада. Это надо учесть и нам. Однако беда в том, что мы не осознаем, в какой степени не являемся «западными». Похоже, что мы становимся свидетелями первых заморозков Западной цивилизации — того «заката Запада», который столь патетически предсказывался О. Шпенглером, а до него предвещался русскими славянофилами и поздним А. И. Герценым, Н. Я. Данилевским и К. Н. Леонтьевым, а, в известном смысле, и отрицавшим буржуазные ценности (но не усматривавшим им альтернативы в других цивилизациях) К. Марксом.
Начинает сбываться и пророчество С. Хантингтона, писавшего, что по мере ослабления силы Запада будет уменьшаться и привлекательность западных ценностей и культуры, что Западу придется привыкать к тому, что он уже не в состоянии, как раньше, навязывать свои ценности незападным обществам. Но мы упрямо стремимся на Запад, как будто нас там кто–то ждет. И, похоже, еще долго будем идти туда, даже оглядываясь на Восток. Потому что мы все же более «западные», нежели представители других регионов планеты вне североатлантической ойкумены с ее австралийско–новозеландской филиацией. Важно только при этом быть самими собой, и не только в национальном, но и в цивилизационном смысле. Ибо величайшее, хотя и отвергаемое нашими полуобезумевшими реформаторами, откровение планетарных трансформаций последних лет заключается в том, что преуспевает тот, кто сам изобретает велосипед! Кто живет по–своему, а не просто «как все».
ГЛАВА 5: РАЗВИТИЕ МИР-СИСТЕМЫ ИЛИ НАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА (П. В. Кутуев)
Зарождение исследовательской программы модернизации
Исчезновение ленинизма не только как политического режима, но и как определенного типа общества, предлагавшего альтернативу модерным институтам либерально–демократического капитализма, и, соответственно, служившего моделью развития, которая должна была имитироваться странами «третьего мира», актуализировало перед исследователями задачи экспликации и осуществления критического анализа базовых предположений первой фазы исследовательской программы модернизации.
Под первой фазой в этом тексте понимается направление западной социологической мысли, хронологические рамки которой очерчиваются работами М. Леви (в особенности показательной была его «Семейная революция в современном Китае», увидевшая свет в 1949 г.) и работой С. Хантингтона «Политический порядок в изменяющихся обществах» (1968). Несмотря на разнообразие исследовательских интересов, которые демонстрировали сторонники первой фазы исследовательской программы модернизации, всех их объединяло принятие тезиса о том, что модерные общества владеют такими качествами, как высокая степень дифференциации и органическое разделение труда, специализация, урбанизация, образование, развитые масс–медиа и средства коммуникации, неизменно направленные в сторону прогресса, а традиционные сообщества должны двигаться и действительно двигаются в том же направлении.
Критиков первой фазы исследовательской программы модернизации объединяла атака на теоретические основы последней с попыткой ее делигитимации на основании очевидного влияния «либеральной идеологии» на мышление представителей этой школы. Достаточно сравнить ретроспективную, «апологетическую» оценку достижений первой фазы исследовательской программы модернизации Г. Алмондом312, который был одним из пионеров указанного направления, со скептической тональностью высказываний марксистски настроенного (в духе альтюсерианства) Дж. Тейлора313.
Следует также отметить, что жестокое идеологическое противостояние между ленинскими и либеральными режимами в мировом масштабе повлияло как на формирование дискурса первой фазы исследовательской программы модернизации, так и на ее интерпретацию в странах, которые зависели от «московского центра».
Отдельное исследование первой фазы в контексте общего дискурса социологического осмысления позволяет решить такие исследовательские проблемы: во–первых, идентифицировать ее интеллектуальные и идеологические истоки; во–вторых, эксплицировать базовые тезисы этого направления и оценить их релевантность; в-третьих, определить ее влияние на современное теоретизирование, в особенности на концептуализацию постленинских обществ.
Аргументом в пользу важности очерченного выше круга задач является тот факт, что, несмотря на то, что первая волна концепций модернизации, возникших в послевоенный период, очень часто страдала идеологической и интеллектуальной одномерностью, она до сих пор сохранила свое влияние — в большинстве случаев имплицитное — на современную социологическую мысль. Это привело к парадоксальной ситуации. Несмотря на очевидность парадигм, требующих признания многочисленных центров, путей и типов модерна (а постпозитивистская социология и методология науки ставят под сомнение эвристичность принципов линейности и прогрессизма в изучении развития обществ), исследователи продолжают оперировать категориями, которые, во–первых, связаны с первой фазой исследовательской программы модернизации своим происхождением, а во–вторых, интерпретируются, исходя из базовых предположений последней.
Критический анализ первой фазы исследовательской программы модернизации может привести к уточнению социологических понятий лишь при условии идентификации тех теоретико–методологических оснований этой традиции, которые являются адекватными задачам сегодняшнего социологического теоретизирования и синтеза последних с исследовательскими программами, склонными лишать тип «западного» социума ауры уникальности и ценностного преимущества. Разрушение безличных институтов ленинизма также не всегда приводит к возникновению рациональности, которое ассоциируется с западными образцами модерна.
Усиление неотрадиционалистских институтов и практик в постленинских обществах требует адекватного концептуального инструментария для своего постижения314. Более того, формальное копирование механизмов рыночной экономики и демократии как средств модернизации общества (причем такой стиль дискурса часто присущ как исследователям, так и политическим деятелям) склонно игнорировать особенности социокультурной среды, пропитанной «архаическими» («primordial», по выражению К. Гирца) ценностями. Именно здесь становятся актуальными методологические постулаты социологии модернизации, требующие изучения не столько формальных институтов, из–за их нестабильности и отдаленности от реалий стран «третьего», а теперь и бывшего «второго» мира, сколько внимания к «традиционной культуре, влияния на них (на общества. — Авт.) как Запада, так и других факторов, изучения их политической социализации и практик отбора кадров, их политической «инфраструктуры» — групп интересов, политических партий, средств коммуникаций»315.
Формирование первой фазы исследовательской программы модернизации именно в американской академической среде в послевоенный период не было случайностью. Во–первых, состоялась миграция социологического теоретизирования европейских классиков в США, а потом и его дальнейшая интернационализация. Репрессии нацистской Германии по отношению к оппозиционно настроенным мыслителям, в особенности «неарийского» происхождения, привели к вынужденному перемещению многих исследователей в Новый свет. Во–вторых, выдвинутая Т. Парсонсом теория социального действия обеспечила базис построения «нации без теории», как высказался о США Дж. Александер, с адекватной аналитической системой координат, и позволила инкорпорировать европейские идеи в новый социальный контекст. В-третьих, не разделяя всех предположений валлерстайновской парадигмы мир–системного анализа, можно согласиться с такой его идеей, как борьба за гегемонию в рамках ядра мир–системы, и считать корректным вывод, согласно которому 1945 г. ознаменовал победу США в этой конкуренции. Геополитический статус «сверхдержавы»316 и попытка противостоять ленинизму не только с помощью военно–политических и экономических мер, но и идеологии привели к тому, что популярный еще в междувоенный период в Америке изоляционизм уступил место политике активного вмешательства в мировые процессы.
С одной стороны, Новый курс (New Deal) Ф. Д. Рузвельта должен был дополняться международной составляющей (так называемым «справедливым соглашением» — «Fair Deal» Г. Трумэна). С другой, США должны были пребывать в авангарде защиты свободных институтов в глобальном масштабе, и, в соответствии с доктриной Г. Трумэна, «помогать свободным народам сохранять свои институты и свою целостность в противостоянии агрессивным движениям, исходящим от тоталитарных режимов»317.
Президенты США продолжали и продолжают использовать квазирелигиозную легитимацию политических действий. В этом отношении достаточно вспомнить высказывания Д. Эйзенхауэра («силы добра и зла сгруппированы и вооружены и противостоят одна другой как никогда в истории. Свобода сталкивается с рабством, свет с тьмой»318), Р. Рейгана (его генеалогия Советского Союза как империи зла усматривала корни коммунизма в первородном грехе) и Дж. Буша–младшего (идея о существовании «осей зла»).
Впрочем, следует, наверное, отделить миссионизм прослеживающийся в этих взглядах, от мессианизма, влияние которого очевидно в «манифесте судьбы» (Manifest Destiny) Дж. О’Саливана (1845 г.) и манифесте Остенде (1854 г.). Если эти идеологические документы в духе мессианизма декларировали Божественное право США на территориальную экспансию, то миссионизм склонен подчеркивать институционные преимущества либеральных ценностей, капиталистической экономической организации и демократических структур, которые могут и должны выступать в качестве образца социального порядка.
Кроме этой «политико–идеологической» составной, первая фаза исследовательской программы модернизации опиралась на продолжительную традицию социал–дарвинизма. Последняя позволяла осуществлять интерпретацию веберовской идеи рационализации с эволюционистских позиций. Социал–дарвинизм предоставил также псевдонаучное обоснование этнорасовых теорий, делавших акцент на ведущей роли белой расы в процессе социальных изменений. Еще в 1841 г. английский историк Томас Арнольд в своей инаугурационной речи в Оксфордском университете очертил историю человечества как историю творческих рас от античной Греции до современной ему Англии319. Даже либерально настроенный Джон Стюарт Милль оправдывал деспотизм по отношению к варварским народам при условии, что такая форма управления будет вести последних к цивилизации.
Не удивительно и то, что многие исследователи, использовавшие категорию модернизации для анализа развивающихся обществ, — такие, как У. Ростоу, Л. Пай, С. Хантингтон, активно участвовали в формировании политики по отношению к обществам третьего мира, стремясь поддержать проамериканские правящие круги этих стран (перечисленные ученые работали в таких учреждениях, как совет национальной безопасности и государственный департамент США; впрочем, далеко не все они были представителями именно первой фазы исследовательской программы модернизации с ее линейно–оптимистическим и телеологическим взглядом на перспективы третьего мира). Подобное внимание к развивающимся регионам было естественным: в период после завершения Второй мировой войны и до 1960 года на Земном шаре возникло свыше сорока новых государств, население которых равнялось 800 миллионам. Невозможность дальнейшего продвижения влияния ленинских режимов на Запад актуализировала борьбу за третий мир, и обещание Н. Хрущова, сделанное им в 1961 г., оказывать поддержку «священной» борьбе за национальное освобождение, которую вели колонизированные народы, отражало эту реальность.
В таком контексте становится понятной обеспокоенность, высказанная У. Ростоу в речи перед выпускниками центра специальных операций армии США в Форт Брегге (которые представляли вооруженные силы более чем двадцати стран), относительно нарушения границ перемирия, которые были установлены во время холодной войны со стороны коммунистических режимов и движений. При таких условиях США и их союзники были обязаны непосредственно вмешиваться в эти конфликты и поддерживать «творческий процесс модернизации»320.
Анализ идеологической составляющей дискурса первой фазы исследовательской программы модернизации ни в коем случае не приводит к ее автоматическому обесцениванию как аналитического инструмента (именно такой вывод вытекал бы из ортодоксально–марксистского понимания идеологии как рационально–просчитанного выражения партикулярных интересов). Модернизация и в ипостаси концептуальной системы координат, и в ипостаси идеологии не может редуцироваться к простому средству легитимации «долларовой» дипломатии, поддержке проамериканских элит, несмотря на их репрессивность и олигархичность, и навязыванию взаимоотношений «неравного обмена» развивающимся странам.
Более продуктивным является взгляд на первую фазу исследовательской программы модернизации как на идеологию в гирцевском смысле, то есть как на разновидность культурной системы, одну из тех «программ», которые «поставляют нам шаблоны и чертежи для организации социальных и психических процессов»321 и являются картами социальной реальности и матрицами коллективного сознания322.
Показателен тот факт, что Т. Парсонс, высказавший в «Структуре социального действия» скептицизм относительно ценности спенсеровских эволюционистских идей, в 60‑е гг. XX в. предлагает идею эволюционных универсалий, ставшую продолжением концептуализации им типичных переменных действий. Последние определялись Парсонсом и Шилзом как дихотомия, одну из сторон которой деятель должен выбирать соответственно тому, каким образом значение ситуации для него детерминовано. Набор из пяти переменных (эффективность — аффективная нейтральность; ориентация на себя — ориентация на коллектив; универсализм — партикуляризм; достижение — предписание; специфичность — диффузность) должен был описывать любые возможные ориентации действия и самое действие.
Парсоновские дихотомии предоставили возможность нового наполнения категорий традиция — модерность. Институты модерного американского общества должны были описываться при помощи таких терминов: «В сравнении с другими возможными способами организации разделения труда доминантные нормы, которые институционализированы в американском обществе и которые воплощают доминантную ценностную ориентацию культуры, оказывают содействие возникновению таких ожиданий: профессиональные роли будут рассматриваться их носителями и теми, кто связан с ними, с точки зрения универсализма и специфичности, а также с учетом уровня мастерства выполнения (то есть принципа достижения. — Авт.)»323. Эти категории, по мнению американских социологов, могли использоваться как для описания реального поведения, так и для нормативных ожиданий, а потому выглядели адекватным инструментарием сравнительного анализа.
Последователи Парсонса (а следует заметить, что много представителей первой фазы исследовательской программы модернизации прошли его подготовку или находились под значительным влиянием его идей) не всегда разделяли осторожность метра относительно возможности исторической и географической локализации модерна и традиции, часто склоняясь к взгляду на Запад как источник модерного порядка и рутинно усматривая в «Остальных» (the Rest) малоподвижные — с точки зрения социальной мобильности, политического участия и экономического роста — сообщества, нуждающиеся в инъекции западных достижений.
Парадигматическим примером этих идеологических и интеллектуальных недостатков первой фазы исследовательской программы модернизации могут служить работы Мариона Леви. Издав в 1949 г. свою диссертацию, подготовленную под руководством Т. Парсонса324, Леви сделал шаг в направлении применения Парсонсовских абстракций к изучению отдельных обществ и сосредоточился на исследовании родственных отношений в современном ему Китае. В этой работе Леви, анализируя традиционную китайскую семью как институт, который выполняет такие функции, как дифференциация ролей, распределение (allocation) солидарности, экономическое распределение, политическое распределение, распределение интеграции и экспрессии, подчеркнул, что индустриализация, с которой он был склонен идентифицировать модернизацию, приведет к распространению универсалистских критериев, а также к эрозии уважения к родителям, которое было доминантной ориентацией действия, а, соответственно, обусловит изменения в структуре семьи, чтобы последняя могла реализовать функции, востребованные обществом (а признаком модерного общества является распределение профессиональных ролей на основе специфических навыков индивида).
Индустриализация по западному образцу и развитие массовых коммуникаций неизбежно подрывают традиционные структуры общества, обеспечивавшие социальное равновесие, заменяя их структурами, позволяющими поддерживать постоянные изменения: «Одной из специфических черт относительно модернизованного общества является специфический набор структур революционных изменений»325. Логическим выводом применения такой теоретической системы координат было суждение о неотвратимой модернизации Китая.
Создание КНР в 1949 г. стало еще одним подтверждением эвристичности идеи многовариантности социального развития и невозможности априорного определения направления общественных трансформаций. Даже пример Тайваня, который оставался в орбите капиталистической системы и достиг весомых успехов в плане экономического развития, не вписывается в модель Леви, поскольку экономическая модернизация, инициированная авторитарным государством, содействующим развитию, не сопровождалась автоматически модернизацией социокультурной и политической. Все это позволяет говорить о многочисленных капитализмах, функционирующих в разнообразных культурных средах, а не о единой его модели. Таким образом, заметное присутствие этнических китайцев среди капиталистов Южно–Восточноазиатского региона является свидетельством не столько модерности экономической организации последнего, сколько подтверждает существование специфического по своей институциональной инфраструктуре, политической среде и культурной легитимации «эрзацкапитализма».
Следует также заметить, что первая фаза исследовательской программы модернизации была склонна к «оптимистическому» прочтению классической социологии. Пересмотр положений первой фазы исследовательской программы модернизации и стал возможным благодаря более адекватной интерпретации работ основателей западной социальной теории. Проблемы модерна и перехода к нему всегда находились в центре внимания последних. Впрочем, интеллектуальное наследие таких мыслителей, как К. Маркс, М. Вебер и Э. Дюркгейм, ни в коем случае не поддается одномерной и однозначной интерпретации. Так, М. Вебер, делая ударение на «преимуществах» Запада в плане последовательного воплощения принципа целерациональности, вовсе не был склонен игнорировать антиномичность динамики модерна. Веберовская трезвость и реалистичность по отношению к феномену модерна даже интерпретировалась — явно ошибочно — как признак его убежденного антимодернизма326. Позиция другого мыслителя, которому обычно приписывается высокая степень однозначности — К. Маркса, также была далекой от канонической последовательности.
Характерным примером осознания К. Марксом всей сложности констелляций «модерна» может служить его концептуализация влияния Запада на то, что позднее приобрело название «третьего мира». Оптимизм относительно проникновения «Запада», персонифицировавшегося Британской империей, на «периферию» (репрезентованную Индией) не был однозначным. Мыслитель отмечал, что Англия может воплотить двойную миссию в Индии: первой задачей является разрушение, второй — обновление: уничтожение старого азиатского общества и закладывание материальной основы западного общества в Азии327. Это суждение контрастирует с реальными последствиями британского господства: Англия разрушила всю структуру индийского общества, и в то же время незаметно никаких признаков его обновления328.
Вышеприведенная мысль Маркса уже включает в себя квинтэссенцию хантингтоновской ревизии основной идеи первой фазы исследовательской программы модернизации о необратимости положительных социальных изменений, которую этот исследователь выдвинул в своих работах середины 60‑х — начала 70‑х гг. XX в. Предложив концепцию «политического упадка» как дополнение к теории «политического развития» (последняя постулировала движение обществ в направления приближения к западным достижениям), Хантингтон сделал в политической социологии шаг, аналогичный дарендорфовской инициативе дополнить парсонсовскую «теорию порядка» теорией конфликта. Со справедливой иронией Хантингтон заметил, что априорное предположение о том, что социальные и политические изменения осуществляются исключительно в сторону структурной дифференциации при игнорировании возможности интеграции социальных и политических структур, ведет к взгляду на любые события в развивающемся мире — включая революционные войны, перевороты и этнические конфликты, как на часть «политического развития». Другими словами, преданность представителей идеи прогресса была «настолько сильной, что она полностью исключала политический упадок как возможную концепцию. Политический упадок, равно как и термоядерная война, стал немыслимым»329.
Итак, проведенное исследование первой фазы исследовательской программы модернизации позволило проследить траекторию теоретико–методологических — в спенсеровско–дарвинистском и веберовско–парсонсовском континууме — и идеологических ориентаций этой школы. Идеологические измерения первой фазы исследовательской программы модернизации более плодотворно интерпретировать с точки зрения миссианизма чем конвенциональных концепций мессианизма.
Проведенный анализ позволяет поставить под сомнение оптимистичный взгляд первой фазы исследовательской программы модернизации на универсальную функциональность конфликтов, неизбежно ведущих к модерному обществу, которое, в свою очередь, моделируется по образцу западного социума.
Критики первой фазы исследовательской программы модернизации справедливо ставят под сомнение теоретическую и методологическую ценность абсолютизирования механистической дихотомии «традиция — модерность». В то же время историцистская релятивизация этих категорий или их полное отрицание в духе постмодернизма делают невозможным типологический анализ социальных феноменов и уничтожают дистанцию между историей и социологией, задачей которой является продуцирование «типовых концепций и обобщенных правил эмпирических процессов»330. Соглашаясь с тем, что социологический анализ, как и любое научное обобщение, обедняет полноту конкретной исторической реальности, М. Вебер справедливо подчеркивал большую точность социологических понятий.
Критика практики сравнения идеального типа западного социума с реальностью функционирования социальных институтов «незападных» обществ может быть корректной на микроуровне, а также может служить инструментом деконструкции идеологически нагруженных концепций на манер «ориентализма». Вместе с тем она не в состоянии отрицать очевидный «социальный факт» неравномерного — в пользу Запада — распределения экономических ресурсов, политического влияния и даже культурной гегемонии. Решение вопроса о ценностном преимуществе того или иного способа социальной организации возможно лишь в рамках индивидуального выбора; но последнее утверждение не отрицает возможности использования обобщенно–идеализированного опыта «реальных» западных обществ в качестве социального идеала.
Концепция политической модернизации раннего С. Хантингтона
Как это часто случается в истории социологического и политического теоретизирования, С. Хантингтон стал жертвой собственной славы, которая, в свою очередь, явилась результатом чрезвычайной популярности его трактата «Столкновение цивилизаций». Последний никак не может считаться высшим интеллектуальным достижением американского ученого и получил свою репутацию эпохального исследования благодаря влиянию вненаучных факторов, главнейшими из которых были завершение холодной войны и прекращение идеологического противостояния между сверхмощными державами, как затем и новые изменения общественного развития в мировом масштабе, внешней кульминацией которых стали события 11 сентября 2001 г. в США.
Хантингтон обеспечил политических лидеров упрощенным концептуальным словарем, который, будучи публицистически–партийным в акцентировании уникальности и ценностном преимуществе Запада в сравнении с «Остальными» (the Rest), предоставлял обманчиво простые ответы на сложные вопросы и функционировал в форме квазиакадемического дискурса, призванного легитимизировать политические действия — глобальную войну с терроризмом, которую провозгласили лидеры США и Великобритании. События в мире после 11 сентября 2001 г. скорее концептуализируются в терминах столкновения фундаментализмов, а не цивилизаций. Свидетельством тому служат пропитанные лексикой религиозного пафоса речи Дж. Буша–младшего — «пусть Господь и в дальнейшем благословляет Америку» — и Усамы бен Ладена — «пусть мир и милость Господняя сойдет на вас»331, которые резко контрастируют с секулярной риторикой справедливой цели, к которой апеллировал Т. Блэр, обосновывая атаку на Афганистан.
Такая бестселлеризация работ С. Хантингтона последних лет привела к тому, что его намного более оригинальные, а главное, адекватные задачам постижения социального и политического развития труды минувших десятилетий оказались на втором плане. В то же время именно хантингтоновская попытка концептуализации противоречий, возникающих в процессе политической модернизации, а также введение понятия политического упадка в словарь общественных Наук. которые стали чрезвычайно продуктивным аналитическим инструментарием для изучения политической дегенерации Советского Союза З. Бжезинским332 остаются или без внимания (в особенности среди отечественных исследователей), или испытывают такие концептуальные деформации, что от оригинального содержания идей Хантингтона фактически ничего не остается (парадигматическим примером последней тенденции служит работа Г. Зеленько под претенциозным названием «Навздогінна модернізація»333).
Итак, интеллектуальная актуальность исследования хантингтоновского отрицания основ классической парадигмы модернизации состоит в том, что его предположение о политическом развитии и упадке, которое он сформулировал в 60‑е гг. XX в., недостаточно эксплицировано в отечественной социологической литературе, как и отсутствующая оценка релевантности хантингтоновских идей для постижения конфликтных императивов трансформации постленинских обществ.
В то же время следует подчеркнуть, что реконструкция взглядов Хантингтона ни в коем случае не означает элиминации критической дистанции по отношению к ним и не является аргументацией в пользу механистического применения хантингтоновских концепций к отечественному контексту. Учитывая то, что исследование модернизации также затрагивает эпистемологические и онтологические проблемы социологической теории, ключевыми среди которых являются дихотомии: традиция — модерн, оксиденциализм — ориентализм, социальный конфликт — социальный порядок, контингентность общественного развития — его телеологичность, то анализ позиции Хантингтона, который часто предлагал неортодоксальную интерпретацию этих феноменов, является необходимой составляющей конструирования социологической теории модерна и модернизации.
Г. Алмонд в своем ретроспективном анализе модернизационного подхода к анализу политического развития заметил, что это направление состояло из двух типов исследователей: «оптимистичных Кондорсе и скептических Вольтеров»334. Если для первых характерным был взгляд на модернизацию как на процесс беспрерывного прогресса, в котором гармонично объединялись силы науки, технологии и демократии, то для вторых — и Хантингтон стал одним из известнейших спикеров этого направления — модернизация содержала в себе угрозу нарушения равновесия, ломки социального порядка и политический упадок. Наверное, не будет преувеличением определить трактат Хантингтона «Политический порядок в изменяющихся обществах»335 как одну из наиболее влиятельных работ прошлого столетия в проблематике политической модернизации как по силе аргументации, так и по широте исследовательского диапазона.
Хантингтоновская критика классической парадигмы модернизации стала одним из факторов ее замены на менее «прогрессистски» настроенный подход к изучению модернизации. Это создало предпосылки для радикального пересмотра предположений в рамках парадигмы многочисленных модернов, которые не редуцируются исключительно к опыту Запада. Эту парадигму разрабатывают такие исследователи, как Б. Витрок, Ш. Ейзенштадт, Н. Моузелис и В. Шлюхтер.
Определяя свою позицию vis–a–vis классической парадигмы модернизации, Хантингтон противопоставляет утверждениям о необратимости и прогрессивности процесса модернизации (последний тезис сформулировал У. Ростоу с помощью концепции стадий роста) свое видение модернизации как циклического процесса, который имеет свои подъемы и спады, и где возрастание секулярних тенденций может заменяться стойкой тенденцией в сторону дезинтеграции и примитивизации336.
Социально–политические изменения в реальных обществах (исчезновение ленинизма и его проекта «развития» является в этом смысле ярким примером) неоднократно демонстрировали, каким образом происходит крах проектов модернизации, которым или не вовсе удавалось преодолеть порочный круг воспроизводства и углубления недоразвития, или чей успех был недолговременным.
С. Хантингтон определяет модерную политическую систему как характеризующуюся «рационализированной властью, дифференцированной структурой, массовым участием, а как следствие — способностью к реализации широкого круга целей (курсив мой. — Лет.)»337.
Анализируя возможные подходы к концептуализации модернизации, С. Хантингтон выделяет такие основные направления: системно–функциональное теоретизирование, парадигму социальных процессов и сравнительно–исторический подход. Тем не менее Хантингтоновская классификация имеет условный характер, в практике своих опытов он пользуется методологическими находками всех упомянутых подходов: он концептуализирует, как это свойственно представителям системно–функционального направления, выдвигая категории политической институционализации и политического участия; коррелирует, как это делают приверженцы акцента на социальных процессах (например, он связывает относительно высокий уровень образования населения с готовностью к принятию идей коммунизма); осуществляет сравнительно–исторические исследования, анализируя опыт политической модернизации США, Англии и континентальной Западной Европы.
Сам С. Хантингтон, идентифицируя себя с парадигмой социальных процессов в течение своей работы над «Политическим порядком в изменяющихся обществах» (последняя опиралась на концепцию социальной мобилизации К. Дойча, которую этот исследователь определял как «процесс, во время которого основные кластеры старых социально–экономических и психологических благосклонностей ослабляются и разрушаются, а индивиды становятся открытыми к новым образцам социализации»338), со временем поставил перед собою задачу разработки динамического подхода к изучению проблематики модернизации и рассматривал этот процесс с точки зрения политических изменений. Впрочем, С. Хантингтону так и не удалось реализовать свои методологические интенции в исследовательской практике.
Монументальный труд «Политический порядок в изменяющихся обществах» быстро признали одним из наиболее влиятельных исследований в сфере изучения политической модернизации, а опрос американских преподавателей показал, что именно эта книга цитировалась чаще, чем все другие издания на эту тему. Даже И. Валлерстайн, придерживающийся прямо противоположной теоретико–идеологической ориентации, оценил «Политический порядок в изменяющихся обществах» как работу, которую должны прочитать все, кто занимается проблемой социальных изменений в современном обществе.
Это и неудивительно: книга написана легким языком, Хантингтон оперирует многочисленными фактами политической истории западных и незападных обществ за последние 400 лет, цитирует авторов от Платона до Сталина и своих современников, а также обсуждает разнообразные политические системы от масштабных либеральных демократий (например, США) до маленьких постколониальных монархий типа Руанды.
Призывая к динамическому анализу политической жизни, Хантингтон в то же время придает достижению политической стабильности — политического порядка — фундаментальное значение. При этом он стремится соединить концепции социального порядка и социального конфликта и изменений, которые разрабатывались в отдельности Т. Парсонсом и Р. Дарендорфом, в рамках своей теоретической системы координат политической модернизации.
Исследователь рассматривает политическую модернизацию как продолжительный процесс, который начался в XVII в. Однако, хотя этот исторический период и был ключевым для возникновения модерного порядка, едва ли есть основания определять действия монархов того времени как модернизационные, поскольку концептуализация политической системы в качестве подразделения социальной системы, сосредоточивающейся на целедостижении, предусматривает определенное видение конечного состояния вещей, к которому инициаторы изменений стремятся. Сам С. Хантингтон полностью разделял последнее утверждение, провозглашая: «Фундаментальные изменения в обществе и политике вытекают из целенаправленных действий людей (курсив мой. — Авт.)»339
Более чем сомнительным выглядит предположение, что монархи того времени усматривали в качестве своего идеала модерное общество, которое еще должно было развиться вследствие взаимодействия капитализма, демократизации, возникновения публичной сферы и структурирования по классовому признаку в противоположность сословной дифференциации. Такое «осовременивание» прошлого (монарх XVII в. рассматривается Хантингтоном в качестве функционального эквивалента партии ленинского типа340) приводит к тому, что американский исследователь делает два некорректных вывода.
Во–первых, он заявляет, что «в 1600 году средневековый мир все еще был реальностью в континентальной Европе; в 1700 году на смену ему пришел модерный мир национальных государств (курсив мой. — Авт.)»341. Такое утверждение выглядит неадекватным эмпирической социальной реальности, «насыщенное описание» (К. Гирц) которой мы имеем в своем распоряжении благодаря исследованию формирования наций и национальных государств такими учеными, как Б. Андерсон, Э. Геллнер, Э. Хобсбаум и Р. Шпорлюк.
Во–вторых, С. Хантингтон относит СССР и США к одной аналитической категории, усматривая в политических системах этих стран наличие таких общих черт, как политическая стабильность, высокий уровень структурной дифференциации, массовое и институционализированное участие населения в политике, а также глубокое проникновение политических институтов в «организм» общества, отличающегося своей управляемостью.
Эти два тезиса связаны между собою своеобразной хантингтоновской интерпретацией понятия политического участия, которое он воспринимает не в терминах волюнтаристского действия (если воспользоваться концептуальным словарем Т. Парсонса), а с точки зрения способности политических институтов рационально контролировать коллективные действия: «Участие народных масс в политике необязательно означает их контроль над правительством»342. Именно такое недоверие к творческому потенциалу социального действия и является основой хантингтоновского восприятия возрастания эффективности применения власти в качестве модернизации, независимо от того, является ли агентом этого процесса абсолютистский монарх, безличные институты либеральных режимов или безлично–харизматическая ленинская партия.
С. Хантингтон проводит разграничительную линию между традиционными и модерными политическими системами, которые отличаются между собою степенью политического участия: низкая — высокая, с одной стороны, и недоразвитыми и развитыми политическими системами — с другой (последние дифференцируются в соответствии со своим уровнем политической институционализации). Политическая стабильность зависит от отношения институционализации к участию: «По мере того, как возрастает политическое участие, также может возрастать сложность, автономность, адаптивность и внутренняя упорядоченность политических институтов общества ради поддержки политической стабильности»343.
Применение формулы «политическая институционализация — политическое участие» позволяет С. Хантингтону предложить еще одну типологию политических систем: в тех обществах, где уровень участия превышает уровень институционализации, формируются преторианские системы (этот термин принадлежит американскому исследователю Д. Рапопорту). Если же институционализация превышает участие, возникают гражданские системы.
Употребление С. Хантингтоном эпитета «гражданский» часто является бессодержательным и скорее вводит читателя в заблуждение, поскольку он относит к этой категории и конституционно–демократические США, и СССР, который он сам определяет как коммунистическую диктатуру. Реальной основой хантингтоновской типологии становится абсолютизация им стабильности, которая делает политику гражданских систем предвиденной в противоположность хаотичности преторианских систем. Последние, по его мнению, не могут подлежать строгому концептуальному анализу из–за своей нестабильности (здесь С. Хантингтон склонен игнорировать наследие Вебера, которое предлагает адекватные категории, например «султанизм», для анализа именно таких политических режимов). Существеннейшим недостатком преторианских обществ является то, что они создают условия для мобилизации индивидов и групп к участию в политике, но не обеспечивают их социализации политическими институтами.
В своей статье, посвященной анализу политической ситуации во Вьетнаме конца 60‑х гг. XX в. и влиянию американского вооруженного участия на этот конфликт, С. Хантингтон делает несколько оригинальных наблюдений, которые подтвердились дальнейшим ходом событий и таким образом верифицировали отдельные положения его теории. Исследователь считал, что успех Национального фронта освобождения в Южном Вьетнаме (организации, которая поддерживалась северовьетнамской компартией) основывался не на экономической депривации населения, а на его политической депривации, то есть на «отсутствии эффективной структуры власти»344.
С. Хантингтон усомнился в реальной возможности свержения власти Национального фронта освобождения в сельской местности, но заметил, что непосредственное участие американских вооруженных сил в войне за три года (1965–1968) послужило причиной массовой миграции (приблизительно 3 млн человек) сельского населения в города, где новоприбывшие оказывались под эгидой сайгонского правительства.
Такая «урбанистическая революция» лишала Народный фронт освобождения возможности успешной реализации маоистской стратегии, которая предусматривала изоляцию городов с помощью сельского населения. По мнению С. Хантингтона, в конце 60‑х годов минувшего столетия ситуация во Вьетнаме зашла в тупик и ее нельзя было решить с помощью силы: Народный фронт освобождения был не в состоянии осуществить успешную революцию, которая охватила бы города, а сайгонский режим не мог распространить свой контроль за пределы городов. Отсюда вытекал логический вывод, который, впрочем, проигнорировали агрессивно настроенные представители американского «военно–политического комплекса»: единая возможность мирного решения конфликта во Вьетнаме состояла во включении Народного фронта освобождения в политический процесс с помощью его участия в выборах, сперва на местном, а позднее — и на национальном уровне. Возможная победа Народного фронта освобождения хотя и воспринималась С. Хантингтоном как нежелательный результат, но все же представлялась более привлекательной альтернативой, чем вакуум власти, создававший питательную почву для успешной революции в маоистском духе.
Парадоксально, но взгляды С. Хантингтона на антиреволюционную роль ленинских движений и режимов совпадают с валлерстайновской оценкой последних как инструмента ядра капиталистической мир–системы, служившей цели сдерживания революционных движений третьего мира.
Воспринимая феномен революции почти исключительно в политических терминах («революция — это быстрое, фундаментальное и насильственное внутреннее изменение в господствующих ценностях и мифах общества, в его полит, институтах, социальной структуре, лидерстве, деятельности и политике правительства»345), С. Хантингтон переоценивает роль насилия в политическом процессе. В то же время он склонен воспринимать реалистическо–реформаторские цели общественной трансформации (напр., достижение нац. суверенитета и прогресс) в качестве утопически–революционных.
Такое «подозрительное» отношение к демократии как к механизму контроля общественности за действиями политических институтов имеет своим логическим следствием абсолютизацию уникальности американского политического опыта, который концептуализируется в качестве модерного общества, сохранившего традиционные политические институты, присущие Англии эпохи Тюдоров. Поэтому, с точки зрения С. Хантингтона, «тактика Генриха VIII или Елизаветы I по отношению к их парламентам мало чем отличалась от… тактики Дж. Кеннеди или Л. Джонсона по отношению к их конгрессам»346.
С. Хантингтон отождествляет модерные политические сообщества, то есть объединения граждан, и монархии, стремившиеся создать абсолютистские режимы, которые еще А. де Токвиль метко обозначил как «старый порядок». Идентифицируя политическую модерность с жестко фиксированным набором институтов, оказывающих содействие усилению централизации, американский мыслитель обнаруживает реакционные тенденции даже в американской революции: добровольное колониальное ополчение, по его мнению, представляло традицию, в то время как постоянная армия Георга III, включавшая также и значительный контингент солдат из бывших крестьян–крепостных, которых продавали правители немецких княжеств британскому правительству, репрезентована модерность.
Используя концепцию государства–образца, предложенную британским историком Дж. Кларком, С. Хантингтон рассматривает абсолютистскую монархию Бурбонов XVII в. в качестве такого образца для других правителей; в XVIII–XIX столетиях соответствующий статус получил британский парламентаризм. В XX в. политическую формулу–образец «новым государствам», образовывавшимся на обломках колониальных империй, по убеждению С. Хантингтона, предлагал не Вашингтон, а Москва и Пекин, поскольку именно опыт ленинских режимов отвечал потребности создания, накопления и концентрации власти, которую ощущали страны третьего мира.
Проведенный анализ позволяет сделать такие выводы. Хотя часто хантингтоновские работы читаются как учебники по авторитарному управлению, они также содержат множество адекватных суждений о проблемах и вызовах, возникающих в процессе борьбы за политическую модернизацию обществ на разных стадиях их развития (или регресса). Обособление хантингтоновских дескрипций от его прескрипций позволяет утилизировать реалистичность его видения процесса политической модернизации, избегая вместе с тем неприемлемых рекомендаций решения проблем, продуцируемых модернизацией.
Концепция политического упадка, которую он предложил (упадком является тенденция, противоположная по своей направленности рационализации и демократизации политической системы, а также национальной интеграции), позволяет прибавить политическую составляющую к анализу в категориях «развития недоразвития» и избегнуть экономического детерминизма таких подходов, как школа зависимости или мир–системный анализ. Хантингтоновская версия политической модернизации не лишена существенных недостатков, которые, впрочем, вытекают не столько из использования дихотомии традиция — модерн, сколько из его интерпретации феномена модерна, которая недооценивает принципиальную роль автономии как индивида, так и сфер общества в развитии этой «формации».
Анализ этих теоретических концепций имеет важное практическое значение, поскольку постсоветская трансформация украинского общества приобрела черты «развития недоразвития», а потому задача модернизации является как никогда актуальной с точки зрения определения ориентира общественно–политических изменений украинского социума, чей институциональный дизайн объединяет элементы как традиционных, так и модерных политических систем. Перспективным представляется дальнейшее исследование этой проблематики с позиции ревитализации классической социологической теории, в особенности ее веберовско–парсоновской составляющей и синтетической реинтерпретации этого наследия.
А. Г. Франк: зависимость и «развитие недоразвития» третьего мира347
Практическая актуальность критического анализа взглядов Франка на зависимость и недоразвитие состоит и в том, что, по наблюдению таких исследователей, как М. Буравой и П. Нолан348, страны бывшего «второго мира» приобретают черты мира «третьего», а соответственно, на них распространяются отношения зависимости, которые оказывают содействие развитию недоразвития. А. Г. Франк является одним из ярчайших представителей леворадикальной критической социологии, и хотя он заявлял, что никогда не определял себя как марксиста (не возражая, однако, если такая ориентация приписывалась ему другими), мышление этого исследователя находилось и находится под существенным влиянием марксистской традиции. Учитывая популярность суррогатных идей западного (нео)либерализма в среде исследователей постленинских стран, важной представляется оценка исследовательской программы, которая поддавалась жесткой критике как со стороны западного — преимущественно американского — академического истеблишмента, так и советского марксизма–ленинизма.
Интеллектуальная актуальность очерченных выше задач усиливается тем фактом, что социально–политическое исчезновение ленинизма сопровождалось своеобразной «сменой вех» теоретико–методологических ориентиров, следствием которой стало перенесение ленинско–сталинских процедур прочтения К. Маркса на его «буржуазного» оппонента — М. Вебера. Место «Богоносца–пролетариата», который наделялся сакральными характеристиками и лишался любых «профанных» черт, связанных с его эмпирическим существованием, заслоняют другие социальные образования.
Например, в случае российского веберолога–веберианца Ю. Н. Давыдова такой общественной силой становятся низшие прослойки немецкого среднего класса, которые, благодаря своей роли в возникновении современного промышленного капитализма, получают «социологический» иммунитет и освобождаются от любой ответственности за патогенезис немецкого социума в направлении нацизма. «Как видим, — отмечает названный исследователь, — именно тот общественный слой, который, согласно М. Веберу, обеспечил своим неустанным трудом процветание Запада, третируется Э. Фроммом как изначально «фашизоидный»349.
Положительный вклад в экономическое развитие становится пожизненной индульгенцией, против чего, согласно закону иронии истории, выступали те же самые «аскетические буржуа», и оправдывает таким образом любые крушения (breakdowns) модернизации, вызванные иррациональными коллективными действиями тех или иных социальных сил. Поэтому без внимания Ю. Н. Давыдова остается такой неопровержимый социальный факт, как поддержка, которую получал нацистский режим со стороны опоэтизированных им средних слоев, составлявших более половины членов национал–социалистической рабочей партии Германии350 (хотя это, конечно, не превращает их в единого «виновника» победы нацизма).
Подобным образом российский исследователь склонен полностью игнорировать и роль колониальной экспансии в развитии капитализма. Он недооценивает неоднозначность веберовского отношения к модерну и капитализму в частности: никоим образом немецкий мыслитель не был настроен противопоставлять марксовскому апокалипсическому видению капитализма пеан в адрес этого типа социального устройства (еще меньше он был предрасположен идеализировать социальную / экономическую / политическую / культурную действительность Германии351).
Именно трезвость веберовских оценок положения современного ему общества и перспектив развития последнего выгодно отличает его от марксовского хилиастического ожидания «прыжка в царство свободы». Восприятие Вебера сквозь гегелевско–марксистскую призму и приписывание ему идеи линейного прогресса с точки зрения развертывания активистской картины мира не позволяет применять собственно веберовские социологические категории к анализу патологий модерна, оставляя эту проблематику на откуп левым радикалам, чья трактовка контраверсийных социальных феноменов, начиная с франкфуртцев, часто (хотя, разумеется, не всегда) страдает идеологической и политической однобокостью.
Такой экскурс в область социологии знания — необходимая составляющая реконструкции истории социологической теории и осознания роли как персоналий социологов–теоретиков, так и отсутствия их в социологическом дискурсе. Представленный выше анализ восприятия идей Вебера на постсоветском пространстве убедительно демонстрирует необходимость синтеза исследовательских программ, синтеза, позволяющего выйти за горизонт одной парадигмы и освободить социальный анализ и от апологетичности, и от безосновательного критицизма, что, в свою очередь, даст возможность избежать априоризма при определении исторической роли тех или иных социальных сил в развитии общества. Хотя Франк и не принадлежит к авторам, обделенным вниманием, исследование его идей с позиций синтеза предпринимается впервые, хотя именно такой подход (в духе гидденсового «за пределами правых и левых») способствует преодолению жестких теоретических, идеологических дихотомий, доставшихся в наследство от противостояния ленинских и либеральных режимов времен холодной войны.
Наверное, не будет преувеличением утверждать, что имя А. Г. Франка как социолога в первую очередь ассоциируется с его концепцией развития недоразвития. Предложенная в 60‑х годах минувшего столетия, эта теория революционизировала взгляды на факторы отсталости третьего мира и даже некоторое время служила в качестве «идеологии» левых интеллектуалов, которые старались объяснить истоки такого недоразвития и преодолеть его.
В работах периода разработки теории зависимости и развития недоразвития А. Г. Франк предлагает рассматривать отсталость третьего мира не как имманентный феномен, присущий обществам географического ареала за пределами Запада из–за их социокультурной отсталости (ориентация на предписание, например), доиндустриальной экономики и структурной недифференцированности, в особенности в политической сфере (то есть из–за их традиционности в терминах классической парадигмы модернизации или из–за нахождения на низшей, феодальной формационной ступени — с точки зрения исследователей–марксистов), а как результат влияния капиталистического Запада на прочий мир, влияния, которое приобрело форму колонизации.
Соответственно, А. Г. Франком отбрасывались рецепты преодоления этой отсталости, которые предлагались как первой фазой исследовательской программы модернизации (переход к модерному обществу с помощью копирования западных образцов), так и марксизмом (борьба за буржуазную революцию, которая приведет к формированию пролетариата, способного осуществить социалистическую революцию). По мнению А. Г. Франка, предложенные пути были ошибочными, поскольку они игнорировали факт высокого развития многих неевропейских цивилизаций, а также не принимали во внимание невозможность имитации западной траектории развития в радикально иных условиях, которые были созданы колониализмом.
Разрабатывая свою концепцию, А. Г. Франк надеялся, что теория зависимости и развития недоразвития станет голосом периферии и ее ответом — вызовом интеллектуально–идеологической гегемонии Запада. Другой пионер этой теории, бразильский социолог Теотонио Дос Сантос, находившийся под большим влиянием франковских идей, предложил такое определение феномена зависимости: «под зависимостью мы понимаем такую ситуацию, когда экономика определенной страны определяется развитием и экспансией другой экономики, при этом первая подчинена второй. Отношения взаимозависимости между двумя или большим количеством экономик приобретают форму зависимости в тех случаях, когда некоторые страны (господствующие) могут расширяться и быть самодовлеющими, в то время как другие страны (зависимые) могут делать это только способом, являющимся реакцией на экспансию первой группы стран, а это, в свою очередь, может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на их развитие»352.
А. Г. Франк формулировал положения своей теории на фоне глубокого кризиса политико–экономической парадигмы Экономической комиссии ООН по Латинской Америке, которая была основана в 1947 г. и пик влияния которой пришелся на 50‑е годы минувшего века. Предписания последней требовали от латиноамериканских правительств протекционистской экономической стратегии и индустриализации с целью импортзамещения (import substitution industrialization). Впрочем, ожидания, что следование этим рекомендациям обеспечит стабильное экономическое возрастание, благосостояние и демократизацию, не оправдались. Идеолог Экономической комиссии ООН по Латинской Америке Р. Пребиш настаивал на необходимости протекционистских тарифов на начальной стадии индустриализации, а также на важности импорта капитала.
Горячечная индустриализация очень часто приводила к пренебрежению традиционными добывающими областями, которые были сориентированы на экспорт, а это имело своим следствием отрицательный баланс платежей для большинства стран региона. Индустриализация с целью импортзамещения не устранила зависимости от импорта, изменилась лишь ее форма: на смену зависимости от импорта продуктов потребления пришла зависимость от импорта капитала. Более того, как заметил Дос Сантос, «Индустриализация с целью импортзамещения ставит промышленное возрастание в зависимость от прибылей в свободно конвертируемой валюте, полученных от экспорта»353. Ради увеличения валютных резервов латиноамериканские государства начали внедрять политику «конфискации» прибылей в свободно конвертируемой валюте, компенсируя их в национальной валюте и вынуждая землевладельцев и коммерческих экспортеров сырья и естественных ресурсов к инвестированию на внутреннем рынке.
Реформистски настроенная Экономическая комиссия ООН по Латинской Америке была связана с интересами латиноамериканской буржуазии, а последняя никоим образом не была предрасположена к конфликту с латифундистами и проведению политики земельной реформы, которая содействовала бы более равномерному распределению доходов сельского населения, а соответственно — и улучшению покупательной способности внутреннего рынка. Начало 60‑х годов ознаменовалось глубоким экономическим кризисом и возрастанием политической нестабильности, преодолеть которую пытались авторитарные военные режимы.
Как справедливо заметил Д. Широ, «американское поражение во Вьетнаме и взрыв серьезных радикальных проблем в середине 60‑х годов XX в., которые сопровождались хронической инфляцией и девальвацией доллара США, а также общая потеря Америкой уверенности в своих силах в начале 70‑х годов привели к исчезновению моральных убеждений, служивших базой модернизационной теории. Среди младших социологов приобрел популярность новый тип теории, которая пересмотрела все старые аксиомы. Америка стала моделью зла, а капитализм, который рассматривался в качестве фактора социального прогресса, приобрел черты зловещего эксплуататора и главного агента бедности почти во всем мире. Империализм, а не отсталость и отсутствие модерна — вот что стало новым врагом»354.
На фоне реформаторско–поступательной стратегии Экономической комиссии ООН по Латинской Америке и нежелания ленинских режимов активно поддерживать радикальные революционные движения, в особенности в случае сохранения последними собственной идентичности и автономии, начинает формироваться новая теоретическая парадигма, а именно — периферийная версия неомарксизма, которая стремилась анализировать не столько ситуацию внутри империалистических стран Запада, сколько их отрицательное влияние на остальной мир.
Отрицание необходимости буржуазной революции как предпосылки революции социалистической (такая двухстепенная модель опиралась на генерализацию событий начала XX в. в Российской империи) логически приводило к положению о готовности «новых государств» к революции, движущей силой которой должен был стать не урбанизованный пролетариат, а крестьянство, чьим эффективным средством достижения политического доминирования была партизанская война. Поэтому требование ортодоксального марксизма, состоявшее в «обязательности» буржуазной революции, которая должна была предшествовать социалистической, отбрасывалось как не выдержавшее проверки практикой в свете победоносных революций в Китае и на Кубе.
Опираясь как на наработки Экономической комиссии ООН по Латинской Америке, так и на опыты изучения колониального общества, аграрного вопроса и экономической истории региона латиноамериканскими учеными, А. Г. Франк начал разработку теории зависимости и развития недоразвития, которая преследовала две взаимосвязанные задачи: а) подвергнуть критике основы первой фазы исследовательской программы модернизации; б) предложить теоретическую альтернативу последней.
Критика А. Г. Франком теории модернизации получила статус классической, а ее результаты были инкорпорированы к дискурсу теми исследователями, которые отрицают методологическую корректность сравнения реалий третьего мира с идеальным типом Запада (ведь идеальный тип, по определению самого М. Вебера, есть не более, чем утопией)355. Его интеллектуальная атака выгодно отличается от полемизирования с идеологией первой фазы исследовательской программы модернизации ради самого полемизирования в стиле американского социолога Дж. Гасфелда356, который, оставаясь внутри ее теоретической системы координат, предложил неудачную реинтерпретацию ее ключевых категорий.
А. Г. Франк считает, что категории Парсонсовской социологии, представлявшие собой пресупозиции первой фазы исследовательской программы модернизации, в особенности типичные переменные действия, никоим образом не имеют географической «привязки», а потому не могут рассматриваться как эксклюзивное достояние лишь одного типа обществ (а таким образцом для Т. Парсонса выступал Запад вообще и США в частности). А. Г. Франк доказывал, что традиционалистская периферия в реальности проявляет способность к универсализму (одной из манифестаций которой становятся всеобщие стачки пролетариата), а западная доктрина либерализма является воплощением диффузности (хотя диффузность приписывается именно «традиционным» обществам) и ни в коем случае не может квалифицироваться как индикатор функциональной специфичности, а значит — и культурного преимущества Запада. Более того, экспорт доктрин экономического либерализма, по мнению А. Г. Франка, является отражением партикуляристских интересов метрополиса.
То же самое касается и такой уникально западной, с точки зрения идеологии первой фазы исследовательской программы модернизации, переменной, как ориентация на успех, которая противостоит традиционалистским предписаниям. А. Г. Франк считает, что оценка релевантности этой концепции требует ее аналитической дифференциации на такие субкатегории, как вознаграждение, отбор и мотивация. Действительно, в США вознаграждение за выполнение ролей существенно зависит от достижений их носителей. Тем не менее отбор для выполнения ролей хотя, наверное, и зависит от достижений, если это касается среднего класса, в подавляющем большинстве случаев основывается на предписании, причем это свойственно как высшим прослойкам, которые руководят бизнесом, так и неимущим массам, которые формируют так называемую «вторую Америку…»357.
В политической сфере западных обществ А. Г. Франк также фиксирует присутствие партикуляризма, предписания и диффузности. Ярким примером, по его мнению, служит то, что приобрело название «привилегированная позиция бизнеса» в принятии политических решений и эгоистично–персоналистский энтузиазм американских ученых относительно возможности участия в реализации политики сдерживания коммунизма.
Например, стэнфордский экономист Ю. Стенли разработал концепцию «стратегических поселений», в которые должны были перемещаться крестьяне Южного Вьетнама. Инициатива имела целью изоляцию Вьетконга в сельской местности, с одной стороны, и «модернизацию» крестьянства — с другой. Реальность «стратегических поселений» больше напоминала концентрационные лагеря. Если кредо американских военных во вьетнамской войне лаконично сформулировал генерал К. Лемей («Мы загоним их бомбардировками в каменный век»), то представители теории модернизации считали, что бомбардировки приведут к модернизации Вьетнама, пусть и насильственной.
Разрабатывая свою собственную теорию, А. Г. Франк опирался на политико–экономические идеи П. Берена, который отмечал, что западный капитализм «эффективно разрушил все то, что оставалось от «феодальной» целостности отсталых (курс. мой. — Авт.) обществ. Он (капитализм. — Авт.) заменил патерналистские отношения, которые сохранялись в течение столетий, рыночными контрактами. Он переориентировал частично или полностью самодовлеющие экономики сельскохозяйственных стран в направлении изготовления товаров для рынка. Он соединил их экономическую судьбу с арьергардом мирового рынка и связал ее с температурной кривой международного движения цен»358.
Пассаж П. Берена отражает амбивалентность позиции марксизма относительно капиталистического развития и роли Запада в этом процессе: делая ударение на разрушительных социально–экономических следствиях проникновения Запада в «остаток» мира, марксисты в то же время рассматривали глобальную (можно даже сказать — глобализирующую) экспансию капитализма как возможность стать на рельсы «прогресса». Поэтому пеан К. Маркса в адрес динамической роли капитализма в «Манифесте коммунистической партии» не так уже и отличается от картины британской гегемонии, обрисованной приблизительно в ту же самую эпоху (1865 г.) одним из творцов теории предельной полезности — У. Джевонсом: «Равнины Северной Америки и России являются нашими хлебными полями; Чикаго и Одесса являются нашими зернохранилищами; Канада и Прибалтика являются нашим лесом; Австралия имеет наши овечьи фермы, а в Аргентине и в западных прериях Северной Америки мы имеем наши стада рогатого скота; Перу присылает нам свое серебро, а золото Южной Африки и Австралии течет к Лондону; индийцы и китайцы выращивают для нас чай, а наши плантации кофе, сахара и пряностей разбросаны по всей Индии. Испания и Франция являются нашими виноградниками, Средиземноморье служит нам фруктовым садом; наши хлопчатобумажные плантации, которые продолжительное время находились в южных Соединенных Штатах, отныне распространяются по всем теплым регионам земли»359.
А. Г. Франк существенно коррелирует позицию П. Берена и отказывается от понятия отсталости. В соответствии с Франком, «отсталость» является бессодержательной концепцией вне исторического контекста: в XVIII в. Индия и Китай ни в коем случае не подпадали под категорию отсталых обществ (в 1800 году доля Китая в мировом промышленном производстве составляла 33,3%, в то время как Британии — 5,6%. За сто лет пропорция Британии выросла более чем в четыре раза, а Китая — уменьшилась более чем в пять раз360. А. Г. Франк также отрицает «прогрессивность» влияния западного капитализма на периферию (П. Верен в другом своем исследовании также продемонстрировал, как британское правление привело к упадку Индии361).
А. Г. Франк категорически отверг идею о наличии внутренних факторов недоразвития (как следствия доминирования принципа предписания за счет достижений и партикуляризма вместо универсализма в соответствии с моделью первой фазы исследовательской программы модернизации или как результата консервации феодальных отношений в соответствии с марксистским объяснением). Подавляющее большинство стран периферии отличается от Запада тем, что они испытали колониальное господство с его стороны, в то время как последний никогда не имел такого исторического опыта. Колониальная экспансия западного капитализма полностью реструктурировала общественные отношения стран, попадавших в его орбиту, и радикально изменила способ их развития, сперва затормозив, а потом развернув направление эволюции некогда вполне динамических обществ в сторону недоразвития.
Эти тезисы А. Г. Франка подтверждаются и другими исследователями. Так, индийский ученый А. Багчи отмечает, что «колониальный грабеж Индонезии чрезвычайно содействовал голландской индустриализации и возвращению Нидерландов в западноевропейский клуб зажиточных наций»362.
В своем программном эссе «Развитие недоразвития»363 Франк формулирует базовые предположения и гипотезы теории зависимости и развития недоразвития. Сосредоточиваясь на случае Латинской Америки, он утверждает, что этот регион страдает от колониального недоразвития, которое имеет своим следствием экономическую, политическую и культурную зависимость его обществ от внешней метрополии (следует заметить, что последнему элементу этой «триады» А. Г. Франк уделяет недостаточное внимание).
Ученый объясняет феномен постоянного воспроизведения недоразвития, которое он терминологически определяет как развитие недоразвития с помощью модели «метрополис–сателлиты». История последней ведет свое начало от завоевания «Нового мира» и учреждения конкистадорами городов с целью инкорпорирования коренного населения в экономическую систему, основанную завоевателями ради направления прибавочного продукта из колонии в метрополис. «Эти отношения типа «метрополис–сателлиты», — пишет А. Г. Франк, — не ограничиваются имперским или международным уровнями. Они проникают всюду и структурируют экономическую, политическую и социальную жизнь латиноамериканских колоний и стран. По мере того, как колониальная и национальная столица и их экспортный сектор становятся сателлитами иберийских (а позднее и других) метрополисов мировой экономической системы, этот сателлит становится колониальным, а затем и национальным метрополиям по отношению к производственным секторам и населению остатка страны. Больше того, столицы провинций, которые сами выступают сателлитами национального метрополиса, а через него и мирового метрополиса, являются, в свою очередь, провинциальными центрами, вокруг которых формируется орбита локальных сателлитов. Таким образом, целая цепь констелляций метрополисов и сателлитов соединяет все метрополии в Европе или США с самыми отдаленными форпостами в латиноамериканских поселках»364.
Следствием включения в мировое капиталистическое развитие становится недоразвитие. А. Г. Франк утверждает, что его исследование Чили убедительно продемонстрировало, что колонизация не только полностью инкорпорировала эту территорию в систему мирового капитализма (сперва меркантилистского, а потом промышленного), но и внедрила монополистическую структуру «метрополис–сателлит» и обеспечила «капитализацию» чилийской экономики и общества. Несмотря на отличия, существующие между разными эпохами в истории капитализма (колониализм, свободная торговля, империализм), Чили, по мнению А. Г. Франка, всегда характеризовалось структурой сателлитарного недоразвития, которое с течением времени лишь углублялось. Если же сателлитарное развитие и имело место, оно никогда не приобретало черт самовоспроизводства, а потому мгновенно возвращалось на траекторию недоразвития, как только метрополис терял интерес к эксплуатации тех или иных ресурсов сателлита. Даже индустриализация некоторых регионов Бразилии (например, Сан–Пауло в 30–40 гг. XX в.) не привела к прекращению цикла сателлитарного развития и недоразвития, поскольку всегда имела своим результатом превращение других регионов страны во внутренние колонии–сателлиты, лишала их капиталов и таким образом лишь углубляла недоразвитие.
Итак, причина недоразвития третьего мира состоит не в наличии структур двойного общества (отсталое, традиционное, феодальное versus прогрессивное, модерное, капиталистическое), а вытекает из того, что капиталистическая система носит мировой характер. Применение такой модели позволяет А. Г. Франку утверждать, что в рамках мировой капиталистической системы координат развиваться могут лишь метрополисы, в то время как сателлиты обречены на недоразвитие. Наиболее убедительным подтверждением этих суждений служит пример таких национальных регионов–метрополисов, как Буэнос–Айрес и Сан–Пауло, рост которых начался в XIX в. (то есть не был связан с влиянием колониального наследия), но так и не привел к преодолению порочного круга сателлитарного развития, зависимого от внешних метрополисов, сперва британских, а позднее — американских.
А. Г. Франк был глубоко убежден, что сателлиты достигают высочайшей степени своего экономического «развития» в те периоды, когда их связи с метрополисом являются наиболее слабыми. По его мнению, самое ощутимое развитие с точки зрения индустриализации состоялось в Латинской Америке во время двух мировых войн и великой депрессии, то есть тогда, когда вследствие кризиса мирового метрополиса (военно–политического и/или экономического) интенсивность экономических отношений с ним была наименьшей. Географическая отдаленность, содействовавшая изоляции, также рассматривается как «конкурентное преимущество»: такие регионы, например, как Сан–Пауло в XVII–XVIII вв., становились центрами мануфактурного производства и экспорта, но это развитие прекращалось с их инкорпорацией в колониальную, национальную и капиталистическую мировую систему.
Пример успешного развития Японии эпохи Мейдзи, считает А. Г. Франк, также подтверждает его гипотезу: индустриализация Японии удалась, поскольку отсутствие естественных ресурсов компенсировалось несателлитизированностью, в то время как развитие богатых природными ископаемыми стран Латинской Америки или России было структурно ограничено их сателлитарным статусом.
Восстановление потенциала метрополиса вследствие преодоления кризиса и реинкорпорации изолированных регионов в мировую капиталистическую систему приводит к остановке развития или его субординации внешним целям, что делает невозможным его стабильность и перспективность. Следствия инкорпорации регионов, которые перед тем не имели статуса сателлитов, были еще более трагическими. Подчинение Буэнос–Айреса Британии и внедрение режима свободной торговли, отвечавшего интересам обоих метрополисов, послужило причиной почти полного разрушения производственного сектора экономики Аргентины, а земельная собственность была сконцентрирована в латифундиях, сориентированных на экспорт. Попытка Парагвая сохранить свою экономическую автономию привела к агрессии против него Тройственного союза (Аргентины, Бразилии и Уругвая) в 1864–1870 гг., которую поддержал Лондон и вследствие которой население этой страны сократилось более чем вдвое.
Такая интерпретация влияния метрополиса на сателлитов делает понятной другой франковский тезис: «Регионы, которые сегодня являются наиболее недоразвитыми и выглядят как феодальные, имели теснейшие связи с метрополисом в прошлом»365. Участие этих регионов в развитии мировой капиталистической системы наложило на них типичные признаки структуры недоразвития капиталистической экспортной экономики (причем эта структура недоразвития закладывалась в моменты высочайшего развития сателлитов, связанного с интересами метрополиса). «Когда исчез рынок сбыта для сахара из регионов–сателлитов или богатство их шахт исчерпалось, — пишет А. Г. Франк, — метрополис бросил их на произвол судьбы, в то время как существующая экономическая, политическая и социальная структура этих регионов сделала невозможным автономное продуцирование экономического развития и не оставила им никакого выбора: они могли лишь замкнуться в себе и дегенерировать в сторону ультранедоразвития, которое мы имеем возможность наблюдать и сегодня»366. Развитие латифундий также происходило в ответ на императивы капиталистической системы, что служит еще одним аргументом против распространенного мнения об их полуфеодальном характере (И. Валлерстайн воспользовался этими франковскими тезисами ради построения собственной теории современной мир–системы).
А. Г. Франк считал, что дальнейшая разработка теории зависимости и развития недоразвития, методологическим ориентиром которой должны быть холистский, исторический и структурный подходы, отвечает политическим потребностям освобождения от пут развития недоразвития. Франковский акцент на политическом действии и социальной справедливости стал важным источником вдохновения для латиноамериканской «теологии освобождения».
Динамика кризиса мировой капиталистической системы по А. Г. Франку
В начале 70‑х гг. XX в. А. Г. Франк констатировал, что важность теории зависимости и развития недоразвития с точки зрения марксовского критерия — вклада не только к объяснению мира, но и его преобразованию — становится самоочевидной. Сам Франк никогда не скрывал политизованности своей теории, которая вдохновлялась опытом кубинской революции367. В то время как Экономическая комиссия ООН по Латинской Америке предлагала исключительно реформистские пути преодоления зависимости, а компартии лишь повторяли базовые положения советской «антиимпериалистической» пропаганды, теория зависимости и развития недоразвития «оказалась полезной, учитывая изменение мира, хотя она не революционизировала мир в противоположность ожиданиям своих приверженцев и опасениям оппонентов»368. Тем не менее, по мнению А. Г. Франка, пик достижений теории зависимости и развития недоразвития ознаменовал также и завершение цикла ее развития и существования.
Впрочем, это утверждение не означало конца отношений зависимости: исследователь призывал отказаться от теории, которая утратила свой потенциал в качестве основы политического действия. И хотя А. Г. Франк и провозгласил смерть теории зависимости и развития недоразвития, и перешел к исследованию мировой капиталистической системы в терминах ее кризиса, его мышление продолжало оставаться под существенным влиянием категорий, разработанных во время предшествующего периода, а потому эти работы можно считать логическим продолжением теории зависимости и развития недоразвития, которая, впрочем, испытала существенные модификации.
Анализируя процесс мировой аккумуляции, А. Г. Франк пришел к выводу, что 70‑е годы минувшего столетия стали временем кризиса перенакопления капитала на Западе. Кризис определяется им как «решающий поворотный момент, преисполненный опасности и разнервничавшейся неуверенности, которая потенциально может означать жизнь или смерть для больного, социальной системы или исторического процесса. Совсем необязательно результатом может стать смерть; кризис может породить новую жизнь, если — как это имеет место в нашем случае — экономическое, социальное и политическое тело окажется способным к адаптации и испытает регенеративную трансформацию в течение периода кризиса»369.
А. Г. Франк смягчает свои формулировки периода теории зависимости и развития недоразвития, когда он был склонен считать, что период кризиса центра/метрополиса выступает явлением временным, когда страны–сателлиты получают шанс на автономное развитие. Кризис стран первого мира, который, в соответствии с Франком, начался в 1970 году, инициировал кризис и в мире третьем. Еще одной особенностью 70‑х годов он считал дальнейшую активизацию участия социалистических стран в международном капиталистическом разделении труда и углубление их зависимости от ядра «мир–системы».
Если в начале 70‑х годов И. Валлерстайн был обязан А. Г. Франку своим интеллектуальным развитием — в программных эссе, которые очерчивали основные положения мир–системного анализа, первый неоднократно одобрительно ссылался на работы периода теории зависимости и развития недоразвития второго и использовал его аргументы как точку отсчета для собственного теоретизирования (например, общий для обоих ученых тезис о капиталистической природе современной мир–системы, которая возникает в XVI в.), то в конце 70‑х годов А. Г. Франк начинает активно использовать концептуальный словарь своего коллеги (трехуровневая структура мир–системы, понятие полупериферии). Такая интеллектуальная конвергенция реализовалась в сотрудничестве этих двух авторов, к которым на разных этапах подключались С. Амин, Дж. Арриги и прочие мыслители левого направления, при написании ряда коллективных монографий.
Краеугольным камнем франковского исследования кризиса является предположение, согласно которому существенные сдвиги в пространственном и секторном развитии происходят во время кризиса темпорально неравного развития, а следствием последней тенденции становится «дальнейшее деление мировой капиталистической экономики на старые и новые центры власти в метрополии, появляются дифференцированные экономики–посредники, колониальные и постколониальные экономики и государства–клиенты…»370. А. Г. Франк констатирует, что мировая капиталистическая экономика характеризовалась постоянным изменением ее центров–метрополий, возникновением новых экономик–посредников, а также существованием периферии и экономик за пределами мировой экономики (последний тезис противоречит валлерстайновской концептуализации мир–системы как образования, охватывающего весь мир, который приобретает форму капиталистической мировой экономики).
«Передача лидерства и власти, — пишет А. Г. Франк, — от старого центра к новому происходила, главным образом, во время периодов кризиса, если старый центр оказывался не в состоянии перестроиться»371. Сперва Британия, а затем США, воспользовавшись кризисом капиталистической системы, последовательно приобретали статус гегемона центра (термин, который использует А. Г. Франк для обозначения стран, доминирующих в рамках мировой капиталистической системы, эквивалент Валлерстайновского «ядра»).
Наследуя И. Валлерстайна, А. Г. Франк рассматривает полупериферию или субимпериалистические страны в качестве посредника между центром и периферией. В этом аспекте полупериферия в рамках мировой капиталистической системы выполняет функцию, аналогичную средним классам, которые связывают между собою капитал и труд в рамках отдельных обществ. Полупериферийные страны также помогают центру сокращать его затраты на поддержку своего военно–политического господства над периферией, выполняя таким образом охранительные функции по отношению к метрополии.
Кризис 70‑х годов стал закономерным следствием процессов, начало которым положил массированный приток иностранного капитала в страны третьего мира десятью годами ранее, что обусловило ускорение темпов роста ряда стран. Так, темпы роста ВВП Бразилии в 1968–1974 гг. равнялись 10%. Но на фоне этого роста происходила интенсификация импорта технологий странами третьего мира, причем темпами, которые превышали прибыли от экспорта, а потому должны были финансироваться с помощью внешних кредитов. Как результат — резко выросшая совокупная внешняя задолженность стран третьего мира. Бразилия, которая в то время рассматривалась как образец «экономического чуда» для других стран, ярко иллюстрирует такую тенденцию. Если экспорт этой страны между 1964 и 1975 годами вырос с 1,43 млрд долларов США до 8,2 млрд, то импорт за то же время вырос с 1,25 млрд до 12,2 млрд, а задолженность этой страны за десять лет (1968–1978) увеличилась в десять раз (от 4 млрд до 40 млрд долларов США).
Начало мировой рецессии мгновенно положило предел «бразильскому чуду», поскольку импорт страны катастрофически увеличился из–за повышения цен на нефтепродукты, мировую инфляцию, уменьшение инвестиций со стороны ТНК и общее снижение спроса на бразильский экспорт со стороны мировой экономики. Отказ от импортзамещающей индустриализации, призванной выравнивать доходы населения, которая также потенциально могла содействовать возникновению внутреннего рынка, сопровождался систематическими мероприятиями, имевшими целью уменьшение стоимости рабочей силы ради повышения прибыльности производства и стимуляции его конкурентоспособности. Как следствие, считает А. Г. Франк, возникла ситуация, когда «все развитие ограничивается 5–20% населения, в то время как остальные 80%, а может, даже и все 95%, не имеют доступа к его преимуществам и лишены какого–либо шанса на участие в нем из–за препятствий, которые создаются экономическими и политическими силами, а также военными»372.
Таким образом, на фоне бурного прогресса экономики интенсифицировались процессы перемещения центров принятия экономических решений за границы Бразилии в сторону международного капитала; постоянное увеличение потребности в импортных технологиях и капитале оказывало содействие возрастанию задолженности, а экономический рост, сориентированный на потребности зажиточных, лишь усиливал социальную поляризацию (следует отметить, что изложенная ситуация удивительно напоминает современную украинскую).
Ситуация, которая сложилась в экономике «центра» вследствие кризиса, совсем не содействовала проведению государствами, относившимися к нему, «альтруистичной» внешней политики. Продовольственная помощь срочно нуждающимся в ней странам, а также предоставление им кредитов начинает рассматриваться правительством США как важное и эффективное средство достижения своих политических целей в третьем мире. Более того, на смену помощи приходит поощрение американского экспорта сельскохозяйственной продукции. Доминирующий в среде американского политического сообщества взгляд на проблему сформулировал Дэн Элерман, сотрудник Совета национальной безопасности США: «Предоставлять продовольственную помощь странам только потому, что там умирают от голода, это слишком слабый аргумент»373.
Продовольствие начинает рассматриваться как власть и оружие, а жесткие условия фискальной дисциплины, которые МВФ навязывает странам–должникам, по словам одного остряка из кругов вашингтонского истеблишмента, привели к свержению большего количества правительств, чем это сделали Маркс и Ленин вместе взятые374. Один из основателей парадигмы постразвития — Артуро Эскобар, чьи взгляды формировались под влиянием теории зависимости и развития недоразвития375, эмоционально призывал: «если люди страдают от голода, разве предоставление им продовольствия не является логическим ответом?»376. Он обосновывал свою позицию тем, что падение производства продовольствия в странах третьего мира непосредственно зависело от их ориентации на рынки мира первого и таким образом является виной последнего.
Следствием интенсивного использования достояний технологического прогресса в сельском хозяйстве в течение 70‑х годов становится возникновение феномена «агробизнеса» (термин был предложен Р. Голдбергом из Гарвардской школы бизнеса). Впрочем, интеграция производителей сельскохозяйственной продукции третьего мира в мировую экономику и их ориентация на нужды метрополии лишь оказывали содействие ухудшению их социального положения и усиливали социальную поляризацию, поскольку переложили бремя и риск, связанные с инвестированием, именно на местных производителей, в то же время лишая их преимуществ прогресса из–за возрастания зависимости от конъюнктуры внешних рынков.
Агробизнес развивался транснациональными корпорациями, проводившими политику активной скупки земель в странах третьего мира: например, американские корпорации приобрели до 35 млн гектаров земли в Бразилии, что составляло 10% ее территорий, пригодных для ведения сельского хозяйства согласно цензу 1960 г. Транснациональный агробизнес начал проникать в сельское хозяйство третьего мира, превращая его в поставщика продукции как для местных прослоек с высоким уровнем доходов, так и для внешних рынков. Такая экспортная ориентация имела целый ряд отрицательных последствий, а именно: уменьшение площадей, которые отводились для культивации основных продуктов потребления для местного населения, падение импорта такой продукции и возрастание производства «нетрадиционной» сельскохозяйственной продукции для экспорта в страны центра. Как результат наблюдалось уменьшение потребления основных продуктов питания подавляющим большинством населения третьего мира, происходившее на фоне возрастания экспорта в метрополию.
Сахельская засуха, которая повторяется с цикличностью раз в сорок лет, очередной раз случилась в середине 70‑х годов XX в. Она послужила причиной голодной смерти свыше четверти миллиона жителей этого региона. Такое большое количество жертв «сахельского голодомора», как А. Эскобар назвал эту трагедию, произошла не в результате ухудшения естественных условий, а из–за «коммерционализации сельского хозяйства, потравы пастбищ, уничтожения лесов и использования воды ради выращивания сельхозпродуктов на продажу, преимущественно на экспорт. Такая деятельность в течение предшествующих десятилетий «развития» серьезно нарушила экологический баланс региона»377 Другими следствиями голодомора были массовая продажа земли и скота беднейшими прослойками сельского населения, а, соответственно, концентрация этих ресурсов в руках меньшинства и маргинализация большинства.
В этом контексте заслуживает внимания франковское объяснение недостатка продовольствия в Чили времен администрации С. Альенде. Если ортодоксальное объяснение, в особенности популярное в кругах критически настроенных практиков «реального социализма» — советских и постсоветских «интеллектуалов», склонно обвинять социалистически–распределительную политику, проводимую этим президентом, то А. Г. Франк обращает внимание на резкое возрастание доходов малообеспеченных слоев населения, приведшее, соответственно, к увеличению потребности в продуктах питания, которую сельское хозяйство страны не могло удовлетворить мгновенно378.
Изменение ориентации многих стран третьего мира с индустриализации, призванной удовлетворить потребности рынка в импорте с помощью собственной экономики, на индустриализацию, стимулируемую экспортом, также, по мнению А. Г. Франка, осуществлялось под воздействием внешних факторов. С точки зрения исследователя, «колониальные, а потом и неоколониальные, сателлитарные или клиенталистские государства периферии, которые сперва именовались «неразвитыми», потом «недоразвитыми», а теперь «развивающимися», продолжительное время принимали участие в международном разделении труда, главным образом, с помощью экспорта первичных продуктов и импорта индустриальных изделий»379. Стремление экономик Запада к снижению затрат на рабочую силу обусловило перемещение целых областей промышленности (в особенности легкой, электроники, а позднее — автомобилестроения) в страны третьего мира и даже «социалистического лагеря».
Поощрение экспорта как основы развития, по мнению А. Г. Франка, не оправдало ожиданий, которые возлагались на эту политику странами третьего мира, поскольку не улучшило баланс платежей и не оказало содействия технологическому прогрессу и снижению безработицы. Хотя промышленность третьего мира в период между 1960 и 1975 годами возрастала темпами, которые превышали аналогичные показатели индустриальных капиталистических и социалистических стран (годовые темпы возрастания составляли 7,4% и 6% соответственно), это развитие распределялось чрезвычайно неравномерно, поскольку концентрировалось в относительно небольшой группе стран: «В Бразилии (24%), Мексике (11%), Аргентине (9%), Южной Корее (8%), Индии (6%), Турции (5%), а также Иране, Индонезии, Гонконге и Таиланде (от 2% до 3% на каждую страну)»380.
В эпоху увлечения индустриализацией, стимулируемой экспортом, наступившей в 60‑х годах минувшего столетия, образцовыми примерами успешного воплощения такой политики становятся Южная Корея, Тайвань, а также города–государства Гонконг и Сингапур. Не последнюю роль в поддержке экономической жизнеспособности и политической стабильности этих преимущественно авторитарных режимов сыграла внешняя политическая поддержка, главным образом со стороны США, ведь первые три страны рассматривались в качестве важного союзника в борьбе с распространением ленинизма в Восточноазиатском регионе.
Импортзамещающая индустриализация быстро исчерпала свой потенциал и потерпела поражение, как и индустриализация, стимулируемая экспертом. Они столкнулись с аналогичными проблемами: потребность в импорте технологий ради создания индустриальной инфраструктуры уменьшает валютные резервы страны, преследующей такую политику, и приводит к отрицательному балансу платежей. А. Г. Франк доказывает, что существует прямая связь между продолжительностью и успешностью индустриализации, стимулируемой экспортом, и размером внешней задолженности страны. Уже в 70‑х годах задолженность таких стран, как Бразилия, достигла 50 млрд долларов США, Мексики — 50 млрд, Северной Кореи, по разным оценкам, — от 7 до 10 млрд, а суммарный внешний долг этих стран составлял, по свидетельству А. Г. Франка, «60% частной внешней задолженности приблизительно 130 стран третьего мира»381.
Сверхэксплуатация масс третьего мира требовала постоянного применения военно–политических репрессий ради поддержки экономической «дисциплины», недопущения организованного рабочего движения (которое могло бы защищать права пролетариата с помощью таких мероприятий, как забастовки и давление на работодателей во время заключения коллективных соглашений с ними) и политической «стабильности». Примером такого акцента на стабильность и дисциплину может служить Индия времен чрезвычайного положения, которое было введено правительством И. Ганди 25 июня 1975 г. А. Г. Франк указывает, что прогресс в сфере производственных отношений (industrial relations) достигался благодаря атмосфере страха, а работодатели с энтузиазмом приветствовали репрессии правительства против профсоюзов в случае сопротивления со стороны последних. Ученый приводит высказывание одного из индийских промышленников, который заявлял: «Теперь (то есть после внедрения чрезвычайного положения. — Авт.) ситуация просто замечательная. Раньше мы имели очень серьезные проблемы с профсоюзами. Отныне, если они создают нам какие–то проблемы, то правительство просто их подвергает аресту»382.
Экономическим объяснением сверхэксплуатации является, с точки зрения А. Г. Франка, стремление капитала из стран центра сохранить нормы прибыли, несмотря на кризис. Основой концепции сверхэксплуатации стало марксовское замечание о том, что мотивом, который двигает капиталистический процесс производства, и его определяющей целью является как можно большее самовозрастание капитала, то есть все большее производство прибавочной стоимости, и, соответственно, усиление эксплуатации рабочей силы капиталистом383. Ученый определяет сверхэксплуатацию как стремление капитала к снижению доходов рабочих, которые становятся меньше, чем это необходимо для воспроизведения рабочей силы, и, таким образом, превращают фонд необходимого потребления рабочего в фонд накопления капитала.
Хотя А. Г. Франк и прав в том, что оценка инвестиционного климата в странах периферии и полупериферии со стороны правительств и капитала центра очень часто изменялась к лучшему с приходом там к власти авторитарных режимов, его эксплицитное предположение о постоянной причастности правительств центра к таким политическим изменениям далеко не всегда отвечает историческим фактам. Например, переворот 1961 г. в Южной Корее под руководстводом генерала Пак Чан Хи не вызвал со стороны США никакого энтузиазма, и лишь полная пассивность «законного» правительства этой страны, не оказавшего сопротивления мятежникам, заставила американских лидеров признать новую хунту.
Кризис накопления послужил причиной политического кризиса, следствием которого, как правило, было установление авторитарных режимов. Среди радикальных теоретиков стало популярным применять концепцию фашизма по отношению к латиноамериканским военным хунтам. Дос Сантос, например, еше в середине 90‑х годов минувшего столетия продолжал утверждать, что фашизм является «режимом монополистического капитализма, который базируется на терроре. Именно это и произошло между 1964 и 1976 годами в Латинской Америке и других регионах третьего мира»384.
Позиции А. Г. Франка относительно этой проблемы присуща как логическая четкость, так и социологическая адекватность. По его мнению, хотя латиноамериканские диктатуры и были результатом «альянса интернационального капитала с ограниченными сегментами локальной (антиколониальной) монополистической буржуазии (там, где она существует), или с бюрократической и военной (мелкой) буржуазией, или с объединениями обоих»385, они принципиально отличались от фашистских режимов. В противоположность классическому фашизму, который был направлен на внешнюю экспансию и опирался на массовую мобилизацию, репрессивные режимы третьего мира зависели от внешних сил и сдерживали массовую мобилизацию.
Нельсон Рокфеллер, губернатор штата Нью–Йорк, посетив в 1969 г. ряд стран Латинской Америки с целью сбора информации, отметил эту тенденцию к установлению военных авторитарных режимов, но в своем докладе он рассматривал этот феномен как положительный сдвиг: «Новый тип военного приобретает вес и часто становится главной силой конструктивных социальных изменений в Американских Республиках. Этот новый тип военного мотивируется возрастающим отвращением к коррупции, неэффективности и застойности политического порядка, а потому готов приспособить свою авторитарную традицию к целям социального и экономического прогресса»386.
Такое положительное восприятие авторитаризма вписывалось в господствующий «модернизационный» дискурс, один из видных представителей которого С. Хантингтон рассматривал и ленинские, и либеральные режимы как базирующиеся на участии граждан в политическом процессе. Впрочем, его понимание «участия» опиралось не столько на принцип волюнтаристского действия, сколько на способность политических институтов этих режимов инкорпорировать, мобилизовывать и контролировать население. Но, наверное, важнейшей чертой таких режимов была ориентация на ту или иную форму социально–экономических изменений, а это отвечало господствующему Zeitgeist (духу времени) и позволяло некоторым исследователям и политикам воспринимать их как «модернизационные». Наконец, упомянутый выше С. Хантингтон считал, что различия между политическими системами СССР, с одной стороны, и Великобритании и США — с другой, являются меньшими по сравнению с той пропастью, которая отделяет эти три страны с институционализированными политическими системами от обществ третьего мира, которые «модернизируются» и имеют низкую степень «упорядоченности».
В противоположность И. Валлерстайну, считавшему, что периферийные государства всегда являются слабыми, А. Г. Франк справедливо указывал на потребность метрополии в относительно эффективных государствах, способных поддерживать порядок и выступать в роли посредника в треугольнике метрополис — местные интересы — неоколониальное государство.
Неортодоксальность и новаторство взглядов А. Г. Франка обнаруживаются и в том, что он не ограничился анализом проявлений мирового кризиса в третьем мире. Он обращает свой исследовательский взгляд и на мир второй, то есть «социалистический лагерь». Ученый считает, что левые и марксизм как политическое течение переживали глубокий кризис в 70‑х годах минувшего столетия, что, в свою очередь, было следствием политико–экономического кризиса ленинских режимов. Sub specie historia утверждение о кризисе ленинизма в тот исторический период звучит теперь как общее место, но не следует забывать, что в те времена для большинства специалистов Советский Союз выглядел могущественным Бегемотом, существованию которого ничто не угрожало. А. Г. Франк считал, что, будучи интегральной частью мировой капиталистической системы, «социалистические» страны также оказались под действием кризиса, ведь, как вынужден был признать Л. И. Брежнев, «поскольку существуют широкие экономические связи между капиталистическими и социалистическими странами, отрицательные последствия нынешнего кризиса на Западе влияют и на социалистический мир»387. А лидер «социалистической» Болгарии Т. Живков высказывался еще более радикально: «Мы надеемся, что кризис, который приносит такой вред Западу, быстро кончится, поскольку он влияет на экономику Болгарии и создает ситуацию неопределенности для нее, а экономика страны в определенной мере зависит от торговли с Западом»388.
Такие заявления, которые прошли мимо внимания большинства «советологов», отражали глубокие проблемы ленинизма на институционном и идеологическом уровнях. Ведь сознавая себя альтернативой либеральному капитализму, марксисты традиционно приветствовали кризисы капитализма, усматривая в них потенциал для оживления революционных движений, которые при таких условиях могли получить шанс прийти к власти и осуществить «переход от капитализма к социализму».
Вместе с тем активная экономическая интеграция ленинских режимов с Западом, которая часто приобретала форму импорта технологий, имела своим следствием возрастание их отрицательного баланса торговли с 7 млрд долларов США в 1971 г. до 60 млрд в конце 70‑х годов. Более того, «социалистические» страны компенсировали импорт технологий с Запада с помощью экспорта в страны центра, который на две трети состоял из нефти, газа и полезных ископаемых, и лишь треть экспорта приходилась на промышленные товары. В то же время структура торговли между СССР и третьим миром имела такие же пропорции, но роль экспортера технологий уже исполнял СССР, закупая естественные ресурсы в странах, которые «развивались».
Все это, по мнению А. Г. Франка, свидетельствовало о том, что «социалистическая» экономика заняла промежуточное место в международном разделении труда, выступая по отношению к третьему миру в роли эквивалентной функции Запада по отношению к «Московскому центру». Кризис капитализма повысил стоимость импорта для социалистических стран и ограничил возможности их экспорта. Такая реакция на кризис стала свидетельством того, что действие закона стоимости распространялось и на социалистические страны, перечеркивая таким образом реальность сформулированного И. Сталиным особого закона стоимости для социалистической экономики. Вообще для А. Г. Франка конфликт между Востоком и Западом (ленинизмом и либерализмом) был не более чем дымовой завесой конфликта между Севером и Югом (индустриализированными первым и вторым миром и зависимым и недоразвитым третьим).
Экономический кризис социализма сопровождался кризисом политическим и идеологическим. Произошла «национализация» ленинских режимов в соответствии с моделью сталинской «легитимации» русского национализма. Вьетнамские коммунисты в свете обострения конфликта с Китаем осуществили «чистку» партии и вооруженных сил от этнических китайцев. Как советская версия идеологии ленинизма, так и ее китайская интерпретация утратили свой трансформационный потенциал и не предлагали никакой социалистической альтернативы капитализму.
А. Г. Франк также заметил, что националистические, региональные и религиозные чувства стали чрезвычайно мощными мотиваторами оппозиции ленинским режимам и в перспективе могли спровоцировать военные конфликты между социалистическими странами, поскольку он считал, что эти движения очень часто находились под контролем реакционных общественных сил и идеологий. Гражданские и межнациональные конфликты и полномасштабные войны на пространствах бывшего Советского Союза и Югославии стали наглядным подтверждением пророческой проницательности франковского прогноза.
Итак, кризис капитализма стал еще большим испытанием для его ленинских оппонентов, которые так и не смогли преодолеть его последствий и в течение следующего десятилетия прекратили свое существование как специфическая политико–экономическая и социокультурная формация.
Масштабные как по предмету, так и по целям и методологии исследования А. Г. Франка занимают видное место в истории социологической теории. Они стали классическими в дискурсе современных исследователей и продолжают стимулировать дальнейшие дебаты относительно острейших социальных проблем нашего времени. Но такая значимость франковских идей никоим образом не должна вести к некритической инкорпорации его выводов, не говоря уже о механистическом их применении.
Актуальность исследований А. Г. Франка можно оценить сразу в нескольких плоскостях. Он является одним из немногих социологов, которым удавались корректные прогнозы относительно тенденций общественного развития, причем не только в Латинской Америке, но и за ее пределами, что является дополнительным аргументом в пользу пристального внимания к его теориям и их утилизации. Исследователи современной, посткардозовской Бразилии, например, демонстрируют, что механизмы зависимости продолжают функционировать, продуцируя недоразвитие.
В объективности существования такого явления, как «новый мир долга», если воспользоваться остроумным выражением С. Стрейндж, не смог бы усомниться даже наиболее последовательный дюркгеймианец. А. Г. Франк убедительно показал, что задолженность является инструментом неоколониализма, который «перекачивает» прибавочную стоимость из стран периферии в центр. По подсчетам А. Г. Франка, этот переток капитала с Юга на Север в 80–90‑х годах XX в. ежегодно составлял около 100 млрд долларов США. С точки зрения задолженности, происходит слияние бывшего второго мира с третьим: «Венгрия выплатила кредиторам сумму, которая втрое превышает ее долг, при этом ее задолженность выросла вдвое! Если руководствоваться «буржуазным» законодательством, в любой «нормальной» капиталистической стране такая ситуация, вне всякого сомнения, уже давно была бы разрешена ради «общего блага» с помощью банкротства или облегчения режима долга. Тем не менее, эти преимущества цивилизации «первого» мира не распространяются на «второй» или «третий» миры. В течение 80‑х годов XX в. годовое обслуживание долга странами третьего мира требовало приблизительно 6,5% их ВВП. Даже военные репатриации Германии в 20‑е годы равнялись 2% и выросли до 3,5% в 1929–1931 гг., что стало одним из факторов подъема Гитлера, прекратившего эти выплаты»389. Результатом таких тенденций становится не развитие, а недоразвитие. Поэтому менеджмент задолженности и кризисов заменяет «развитие как свободу» (А. Сен).
Франковский акцент на справедливости и на приоритете равных возможностей по сравнению с эффективностью является чрезвычайно релевантным для современного украинского общества, поскольку господствующий дискурс украинского истеблишмента озабочен вопросом о перспективах экономического роста, тогда как возможность перехода от политики и идеологии роста к политике и идеологии развития, которое бы стимулировалось государством, использующим творческий потенциал демократии и создающим условия для общего благосостояния, не формулируется в качестве проблемы социологического познания и социальной практики390.
Очевидным является кризис традиционного лидерства / гегемонии / легитимности / господства в глобальном масштабе. Обычные интерпретации, которые базируются на дихотомическом мышлении — капитализм против коммунизма; либерализм против религиозного фундаментализма; свободный рынок против государственного управления экономикой; государство против гражданского общества, себя исчерпали. Как предложения «выхода» (delinking) из системы глобального капитализма (идея С. Амина), так и призывы к ускорению темпов «глобализации» как адекватные теоретические и политические ответы на вызовы нашего времени выглядят неубедительно. Ответ лежит на пути синтеза, задачей которого является переформулирование пресупозиций «традиционной» социологической теории и развития концепций, которые бы объединяли теоретическую адекватность с чувствительностью к социальной справедливости. В таком контексте актуальными становятся взгляды А. Г. Франка с их ударением на гетерогенных путях к установлению социальной справедливости и нетолерантности гегемонии гомогенных предписаний (партикуляризма универсального, как назвал этот феномен ученый еще в 60‑е годы минувшего столетия).
Сказанное позволяет сделать вывод: концепция зависимости А. Г. Франка требует переформулирования в терминах, которые дают возможность инкорпорировать и адекватно оценивать роль социокультурних факторов в социальном (не только экономическом) производстве зависимости. Это позволяет нам определить ситуацию зависимости локального общества как способность внешних сил (индивидуальных национальных государств или ядра капиталистической мир–системы) контролировать и определять направление его институционализированных экономических и политических действий. При этом внешние силы имеют статус «референтной группы» или «значащего другого» по отношению к локальным правящим слоям, а иногда и по отношению к обществу в целом. Такое переформулирование категории зависимости делает ее адекватным аналитическим инструментарием для постижения не только динамики третьего мира, но и интерпретации общественной трансформации постленинизма.
Мир–системный анализ как исследовательская программа И. Валлерстайна391
Компилируя коллективную монографию, которая должна была стать итогом главных тенденций и перспектив развития западной социологической теории в конце 80‑х годов XX в.392, редакторы — влиятельные теоретики Джонатан Тернер и Энтони Гидценс, воплощающие своими работами позитивистское и антипозитивистское течения в современной социологии, должны были проявить большую избирательность относительно количества парадигм и традиций, которые могли быть включены в сборник из–за ограниченности его физического объема. Тем не менее, несмотря на наличие в сборнике двух разделов, в которых рассматривались традиции социологического теоретизирования, возникшие под влиянием марксизма, — ортодоксальную интерпретацию классового анализа Ральфа Милибенда393 и интерпретацию критической теории Франкфуртской школы394, Э. Гидденс и Д. Тернер предложили Иммануелю Валлерстайну изложить базовые положения мир–системного анализа — исследовательской программы, которая находится под существенным влиянием марксизма и основателем которой является названный мыслитель. Такой выбор Э. Гидденса и Д. Тернера отнюдь не может быть объяснен их субъективным марксистским «уклоном». Скорее, это было отражением влияния и репутации самой программы мир–системного анализа в западном социологическом сообществе.
Оригинальность методологической ориентации И. Валлерстайна состоит в категорическом отрицании существования предметных границ между такими науками, как социология, политология, экономика и антропология. Он призывает к разработке синтетической социальной науки, которая была бы исторической по своему характеру и могла бы защищать определенную политическую программу (параллель с марксистским принципом историзма и обоснованием «научной» идеологии тут более чем очевидна). Предметом такой науки должны быть не индивидуальные общества (национальные государства), а исторические системы.
Мир–системный анализ может также параллельно рассматриваться как теория среднего уровня, интерпретирующая процессы социального развития и модернизации отдельных обществ (хотя сам И. Валлерстайн категорически отрицает возможность национального развития как такого в рамках современной капиталистической мир–системы395), так и в качестве общей социологической теории, предлагающей собственный методологический инструментарий для анализа общественных явлений в глобальном масштабе. И. Валлерстайн, несмотря на мастерски культивируемый им образ радикала и критика истеблишмента, также является успешным организатором научных исследований. Он основал Центр исследований экономик, исторических систем и цивилизаций им. Фернана Броделя при Университете штата Нью–Йорк в городе Бингхемтон, издающий журнал Review.
И. Валлерстайн неоднократно подчеркивал свой интеллектуальный долг перед К. Марксом, которого он предлагает рассматривать в двух ипостасях — мыслителя и исследователя, ограниченного рамками своего времени и строившего свои обобщения на материале развития английского капитализма, а потому во многих своих выводах соглашавшегося с положениями классического либерализма XIX в., и гения, заложившего устои социальной теории, вдохновившей основателя мир–системного анализа на создание его собственной концепции. И. Валлерстайн соглашается с мнением Д. Лукача, что специфической чертой марксистского дискурса, отличающей его от «буржуазного» теоретизирования, является «не столько первичность экономических мотивов в объяснении истории…, но взгляд с точки зрения тотальности»396.
Такое почтительное отношение к К. Марксу контрастирует с критически–ироническими замечаниями в адрес М. Вебера и его последователей. Безусловно, далеко не все его критические замечания в адрес сторонников дихотомии «традиция — модерн» являются одинаково обоснованными, релевантными и справедливыми. Замена конфликтной парадигмы теоретизирования синтетической позволяет использовать концептуальный аппарат гетерогенных исследовательских программ для адекватной аналитической реконстукции социального мира. Синтетический дискурс также лишает ту или иную парадигму монополии на использование категорий, которые были разработаны ее сторонниками.
Такая перспектива дает возможность объединить категории мир–системного анализа с понятиями парадигмы, стимулирующей развитие397, неовеберовской социологией, концепциями зависимости и, наконец, многострадальной (переосмысленной) теорией модернизации, то есть соединить все теоретизирования о капитализме и модерности в рамках единой системы теоретических координат398.
Еще одним важным источником интеллектуального вдохновения для И. Валлерстайна стала рассмотренная выше концепция зависимости, или развития недоразвития А. Г. Франка399. Продемонстрировав на примере Латинской Америки тот факт, что отсталость стран этого региона была результатом не внутренней динамики сохранения феодализма, а внешнего влияния и роли, отведенной региону в глобальной капиталистической экономике, А. Г. Франк, таким образом, преодолел «изоляционизм», присущий некоторым представителям теории модернизации, и сделал шаг по направлению к валлерстайновскому постижению предмета социальной науки как исторической системы, а в контексте современности — единой капиталистической мир–системы.
Критический заряд франковского тезиса о «развитии недоразвития» как результат инкорпорации в капиталистическую систему также оказывал содействие отрицанию одномерной и вульгаризированной версии теории модернизации, чью позицию в 60‑е годы XX в. парадигматически сформулировала Ш. Ейзенштадт: «…исторически модернизация является процессом изменения по направлению к тем типам социальной, экономической и политической систем, которые развились в Западной Европе и Северной Америке с 16‑го века до 19‑го»400.
С точки зрения самого И. Валлерстайна, «мир–системный анализ не является теорией социального мира или его части. Он является протестом против способа, которым социально–научные исследования были структурированы с момента их возникновения в середине 19‑го столетия….Мир–системный анализ родился как моральный и, в широчайшем понимании этого термина, политический протест»401. Исследователь предпринимает попытку переосмыслить фундаментальные основы социологического теоретизирования относительно общественного развития, хотя он и отрицает такое словоупотребление и говорит о динамике мир–системы. В этом ему помогает творческое переосмысление достижений французской исторической школы «Анналов» в целом и исследований Фернана Броделя в частности (недаром исследовательский Центр, который основал И. Валлерстайн, носит имя этого ученого). Особое его внимание привлекает присущий этому течению интерес к взаимодействию экономики, социальной структуры и культуры в рамках продолжительных исторических периодов.
Серьезное влияние на Валлерстайна имели также работы французского историка Пьера Шоню, исследовавшего экономику испанской колониальной империи.
Тем не менее широкое использование исторических источников еще не делает мыслителя историком. В отличие от историков, в особенности тех, кто принадлежал к школе «Анналов», его документами являются вторичные источники, а сам он не столько творец, сколько пользователь находок исторической науки.
И. Валлерстайн убежден, что методология изучения общества, сочетающая подходы множества общественных дисциплин, является наследием либерализма XIX в. Последний постулировал существование аналитически самостоятельных сфер, таких как государство и рынок, на которые делится общество. Напоминая своей категоричностью К. Маркса и Ф. Энгельса периода написания «Немецкой идеологии», в которой они утверждали отсутствие самостоятельной истории у таких форм идеологии, как мораль, метафизика и религия, поскольку они являются простыми «испарениями» материального жизненного процесса, что можно установить эмпирически, и их связанность с материальными предпосылками402, И. Валлерстайн демонстрирует глубокое убеждение, что три «арены коллективного человеческого действия — экономика, политика и социокультурная плоскость — не являются автономными сферами социального действия. Они не имеют отдельной логики. Мы подчеркиваем, что существует единый «набор правил», или единый «набор ограничений», в рамках которых эти разнообразные структуры оперируют403. Более того, по мнению И. Валлерстайна, отличия между искусственно институционализированными дисциплинами очень часто менее значительны, чем отличия между разветвлениями каждой такой «дисциплины».
Методологические основы мир–системного анализа также принципиально отрицают традиционный водораздел (обозначенный еще неокантианством и творчески переосмысленный М. Вебером) между будто бы идеографическим характером истории, которая сосредоточивается на описании/постижении индивидуального в социокультурной реальности, и номотетической природой общественных Наук. которые будто бы призваны предлагать общие модели, могущие обеспечить историков концептуальными ориентирами и структурировать их эмпирические данные.
С точки зрения И. Валлерстайна, «оптимальным методом является осуществление анализа в систематических терминах, достаточно продолжительных во времени и достаточно больших в пространстве, чтобы включить руководящую «логику», «детерминирующую» наибольшую часть последовательных событий, которые случаются в реальности; в то же время необходимо осознавать то, что эти систематические конструкции имеют начало и конец, а потому не могут рассматриваться как «вечные» феномены. Это означает, что в каждом случае мы стараемся разыскать как систематические конструкции («циклические ритмы» системы), которые мы описываем концептуально, так и образцы внутренней трансформации («секулярные, т. е. рассматриваемые с исключительно длительной перспективы, тенденции» системы), которые в перспективе приведут к исчезновению системы, а именно это исчезновение мы описываем как последовательность событий. Историк и обществовед не существуют; реальностью является исторический обществовед, анализирующий общие законы конкретных систем и особый ход событий, являющихся характерными для этих систем…»404. Другими словами, теоретизирование не может рассматриваться как деятельность, являющаяся обособленной от анализа эмпирических данных.
И. Валлерстайн убежден, что именно такое событие, как Великая Французская революция, легитимизировало две новейшие концепции — идею, согласно которой социальные изменения являются естественными, и тезис о народе как источнике власти, таким образом дав толчок возникновению институционализированной деятельности и исследованию соответствующих изменений с помощью рационалистических общественных наук. Впервые с того времени мир–системный анализ подвергает сомнению традиционную единицу анализа общественных наук. С точки зрения И. Валлерстайна, общественная жизнь и изменения происходят в рамках исторических систем. Отказ от общества как единицы анализа в пользу понятия «историческая система» позволяет концептуализировать аномалии, которые с необходимостью накапливаются, если исследователь сосредоточивается на традиционном предмете — обществе, и помогает постигнуть те сферы человеческой деятельности, которые оставались без объяснения.
Исторические, или, как иногда называет их И. Валлерстайн, социальные системы характеризуются тем, что они являются преимущественно самодовлеющими и большей частью имеют внутреннюю динамику. Такая характеристика, как самодостаточность, обосновывается им с помощью теоретического эксперимента, который аргументирует от противоположного: «…если систему… отделить от всех внешних сил (что в реальности фактически не случается), это определение утверждает, что система продолжила бы функционировать существенно неизмененным способом»405.
Такая разновидность исторических систем, как мини–системы, осталась в далеком прошлом — они характеризовались небольшими размерами и недолгой продолжительностью существования, а также высокой культурнополитической гомогенностью. Экономически мини–системы базировались на элементарном, эквивалентном обмене.
Другой тип исторических систем — мировые империи (Рим, Египет, Византия) — «являются разветвленными политическими структурами… и охватывают широкий круг культурных образцов. Логикой такой системы является получение дани от локальных, самоуправляющихся в других аспектах производителей (главным образом, сельских). Дань потом сосредоточивается в центре, после чего перераспределяется среди тонкой, но важной сети чиновников»406.
И, наконец, мир–экономики «представляют собой разветвленные, неравные сети интегрированных структур производства, которые являются разъединенными из–за существования многочисленных политических структур. Основной логикой такой системы выступает неравномерное распределение прибавочного продукта в пользу тех, кто имеет возможность достигать временного монопольного статуса внутри рыночных сетей. Это является «капиталистической» логикой407.
И. Валлерстайн, в очередной раз демонстрируя уклон в сторону экономического детерминизма, считает, что мировые экономики являются более жизнеспособными, чем мировые империи, поскольку экономические деятели имеют больше возможностей для маневра и присвоения прибавочного продукта (так, дож Венеции Энрико Дандоло отказался от короны Латинской империи — государства крестоносцев, возникшего на обломках Византийской империи после Четвертого крестового похода, но тем не менее требовал и достиг монополии торговли с этим новым для Венеции политическим образованием408).
В то же время, демонстрируя определенную непоследовательность, И. Валлерстайн утверждает, что мир–экономики были слабыми образованиями, которые не могли существовать продолжительное время — они традиционно или дезинтегрировались, или трансформировались в мир–империи. Особенностью современной эпохи является то, что одна из мир–экономик была в состоянии избегнуть такой судьбы и, начиная с XVI в. (надо заметить, что ученый оперирует броделевским «длинным 16‑ым столетием», которое продолжалось приблизительно 200 лет — с 1450 до 1640 года), заложила устои современной мир–системы, которая имела время развиться именно как капиталистическая экономика, охватить весь земной шар и поглотить все существующие мини–системы и мир–империи. Таким образом, утверждает И. Валлерстайн, «в конце 19‑го столетия — впервые в истории — существовала лишь одна историческая система в мире. Мы находимся в этой ситуации и сегодня»409.
Рассматривая капитализм как систему, противостоящую свободному рынку (еще одно возражение против обычных «очевидностей» обществоведения), американский социолог подчеркивает, что «капитализм базируется на постоянном принятии политическими образованиями экономических потерь на себя, в то время как экономические достижения распределяются среди «частных» деятелей»410. Единственную альтернативу современной капиталистической мир–системе И. Валлерстайн усматривает в интеграции систем политического и экономического принятия решений с помощью создания мирового социалистического правительства.
Следует заметить, что, будучи марксистом троцкистского толка, И. Валлерстайн отрицал сталинскую теорию развития «социализма в отдельной стране» и соответственно подвергал сомнению «социалистичность» Советского Союза, высказывая более ортодоксальные взгляды на социалистическую революцию как глобальный процесс. С точки зрения политики мир–системы, СССР был лишь инструментом американской гегемонии в Восточной Европе и Азии.
И. Валлерстайн предлагает такое понимание капитализма, которое резко отличается от классических подходов А. Смита, К. Маркса и М. Вебера. Если традиционная интерпретация этого феномена делала акцент на таких чертах этой общественно–экономической организации, как конкуренция свободных товаропроизводителей, которые используют формально свободную рабочую силу, то И. Валлерстайн определяет капитализм как производство ради продажи на рынке, целью которого является максимальное увеличение прибыли. «В рамках такой системы, — пишет ученый, — производство постоянно расширяется до того времени, пока оно является прибыльным, а люди постоянно изобретают новые способы производства вещей, чтобы увеличить уровень прибыли»411.
Уточняя свою дефиницию, И. Валлерстайн подчеркивает, что капитализм является способом производства, сориентированным на прибыль, но он совсем не обязательно должен носить индустриальный характер. Европейская мир–экономика формируется именно на основе капиталистического сельского хозяйства. Таким образом, использование рабского труда или зависимого крестьянства не противоречит существованию капитализма, если только экономическая система ориентируется на мировой рынок. Это и отличает капитализм от феодализма, где такая ориентация не существовала. «Ситуация свободных рабочих, — пишет американский исследователь, — работающих за заработную плату на предприятиях, которые принадлежат свободным производителям, является редкой в современном мире»412.
Определение мир–системы как предмета социологии вовсе не противоречит традиционному сравнительному анализу национальных государств. Так, И. Валлерстайн во втором томе своей работы «Современная мир–система» уделяет большое внимание положению Пруссии в XVII в. Но этот анализ носит вспомогательный, а не самодовлеющий характер.
Мир–системный анализ ставит под сомнение присущее истории и общественным наукам повышенное внимание к отдельным событиям, даже таким, как Великая Французская революция и индустриальная революция. Валлерстайновскую критику вызовет генерализация этих двух конкретных моментов истории и преобразование их на формальные «идеальные типы», когда конкретное событие — индустриальная революция в Англии — становится моделью индустриальной революции для всех других стран, а Великая Французская революция получает статус методологического стандарта в анализе других «буржуазных революций», которые рассматриваются в качестве «нормального» (в дюркгеймовском смысле) социального развития.
И. Валлерстайн убежден, что такая страна, как Бразилия XX в., хотя и может анализироваться с точки зрения категорий индустриализации, роли национальной буржуазии или отношения средних классов к военным, но ключевые предположения, на которые опирается такой анализ, надо рассмотреть и, возможно, пересмотреть в свете принципиальных положений мир–системного анализа, единица которого — мир–система — развивается во временных рамках броделевских процессов413. Ученый, таким образом, не отвергает полностью категории «традиционной» социальной теории (именно такой призыв был присущ критической теории франкфуртцев), а призывает отказаться от их неадекватного использования и осуществить их детальный анализ, поскольку и современная историческая наука, и обществоведение являются продуктами логики данной исторической системы.
Родственность такого утверждения с марксовским убеждением в том, что «состояние Германии в конце XVIII в. полностью отображается в кантовской «Критике чистого разума», является самоочевидной. Так же напоминает классический марксистский дискурс и валлерстайновское определение мир–системного анализа, являющегося «призывом к созданию исторической социальной науки, которая комфортно ощущает себя в неопределенной ситуации перехода и, таким образом, может осуществить свой вклад в трансформацию мира с помощью освещения альтернатив, не обращаясь в то же время к такой опоре, как вера в неминуемый триумф блага»414.
Переосмысление категорий «традиционной» социальной науки приобретает у И. Валлерстайна радикальные формы. Так, ставя под сомнение формально–логическую ценность таких концепций, как индустриальная революция и революция социальная, которые длительное время оставались в центре внимания ученых обществоведов или в исследованиях исторического опыта отдельных стран (Англии и Франции соответственно), в качестве общей модели теоретизирования, которое снова–таки опирается на опыт национальных государств, исследователь подвергает сомнению содержание самих исторических событий, о которых идет речь.
Если школа ревизионистов (ярчайшим представителем которой был Ф. Фюре) нанесла сокрушительный удар социальной интерпретации Французской революции, то И. Валлерстайн, оперируя концепцией длительных процессов, отрицает значимость одного конкретного события для развития капиталистической мир–системы (именно к такой абсолютизации был склонен К. Маркс, который, собственно, и позаимствовал идею классовой борьбы у французских историков, занимавшихся преимущественно Французской революцией). «Очевидно, что Французская революция, — пишет американский ученый, — в самом деле имела место и была масштабным «событием» с точки зрения своих разнообразных и продолжительных последствий для Франции и мира. Но, без сомнения, она является также и мифом в смысле, который вкладывал в этот термин Ж. Сорель; и сегодня овладение и использование этого мифа остается политически важным для Франции и мира»415.
Таким образом, пример Великой Французской революции позволяет понять, как на самом деле происходит формирование и поляризация классов — с помощью продолжительных, извилистых и постоянных процессов реструктуризации. Революция сыграла определенную роль в этом процессе, но отнюдь не решающую, поскольку переход от феодализма к капитализму состоялся задолго до нее. Таким образом, «трансформация структур государства была лишь продолжением процесса, который длился в течение двух столетий. В этом отношении Токвиль прав (имеется в виду тезис Токвиля о неизбежности революции. — Авт.). Итак, Французская революция не знаменовала собою ни фундаментальную экономическую, ни фундаментальную политическую трансформацию. Скорее Французская революция была, с точки зрения капиталистической мир–экономики, моментом, когда идеологическая надстройка наконец догнала экономический базис. Она была следствием перехода, а не причиной или моментом, когда этот переход состоялся (курсив мой. — Авт.). Крупная буржуазия, заменитель аристократии в капиталистическом мире, верила в прибыль, а не в либеральную идеологию»416. Объяснение динамики мир–системы может избавиться от бремени теоретизирования в рамках национальных государств и отказаться от таких ошибочных концепций, как индустриальная и буржуазная революции.
Объясняя причины появления современной мир–системы, И. Валлерстайн избегает обращения к культуральным факторам (таким, как рациональная картина мира, активистская и универсальная религиозная этика, которая делает ударение на мирском аскетизме) как факторам динамичности Запада и обращается к структуральному подходу. Его толкования являются антиподом веберовским и постулируют, что «возникновение Европейской мир–экономики… стало возможным благодаря историческому стечению обстоятельств: длительные тенденции, которые были кульминацией того, что некоторые исследователи интерпретировали как «кризис феодализма», соединились с более краткосрочным циклическим кризисом, в дополнение произошли климатические изменения. Все это создало дилемму, которую можно было решить только с помощью географической экспансии разделения труда. Более того, баланс межсистемных сил был таким, что сделал возможным достижение такого решения.
Таким образом, географическая экспансия осуществлялась параллельно с демографической экспансией и ростом цен. Моментом, который заслуживает внимания, было не возникновение Европейской мир–системы, а то, что она пережила попытку Габсбургов трансформировать себя в мир–империю — цель, которую чрезвычайно активно преследовал Карл V»417. Европейская мир–экономика, таким образом, с самого начала включала не только сугубо европейские страны (заканчиваясь на востоке границами Речи Посполитой), но и колонии «нового света».
Структура мир–системы, по И. Валлерстайну, имеет три иерархических уровня — ядро, периферию и полупериферию. Если в странах ядра сосредоточивается высокоприбыльное, высокотехнологическое, диверсифицированое производство с высокими доходами, то периферия характеризуется концентрацией низкотехнологического, малоприбыльного, недиверсифицированного производства с низкими доходами. Ядро и периферия через неэквивалентность своего положения в структуре мир–системы включаются в неравный обмен (категория, которую внедрил такой исследователь, как А. Эмануель). Неравный обмен является результатом антиномии между мировым характером экономики и многочисленностью государств.
«Неравный обмен есть важнейшее следствие этой антиномии, — пишет И. Валлерстайн. — Неравный обмен возникает не на уровне начального присвоения прибавочной стоимости, но в момент перераспределения с периферии к ядру уже после ее создания»418. Поэтому внедрение капиталистического рынка на периферии принуждает крестьянство — часто с помощью внеэкономических методов (например, таких, как «второе издание крепостничества», которое в этом контексте рассматривается И. Валлерстайном не как возрождение феодализма, а как приспособление к требованиям капиталистической экономики) — работать на рынки мир–системы. Этот процесс также разрушает локальные города, снижает уровень жизни масс в сравнении с докапиталистическим периодом и оказывает содействие развитию паразитической политической элиты, которая руководит слабым государством (в то время как государствам ядра присуща такая характеристика, как сила).
Такая картина мира напоминает дистинкцию между метрополией и сателлитами А. Г. Франка. Но именно здесь И. Валлерстайн внедряет концепцию полупериферии, то есть тех стран, которые «попадают между первыми двумя категориями и играют отличную роль…. Частично они действуют как периферия по отношению к ядру и частично выступают в роли ядра по отношению к некоторым периферийным регионам. Как внутренняя политика, так и социальная структура полупериферийных стран своеобразны, и они являются более способными использовать себе во благо ситуацию гибкости, которая создается экономическим падением, чем страны ядра или периферии»419. Такая структура современной мир–экономики ориентировочно стабилизировалась в 1640‑м году (в конце длинного XVI в.).
Заимствуя из ленинской теории империализма идею о естественной конкуренции и вражде, существующей между странами ядра, И. Валлерстайн развивает свою концепцию гегемонии. Он интерпретирует гегемонию преимущественно в терминах экономической динамики: последняя «может определяться, — пишет исследователь, — как ситуация, в которой продукция определенного государства ядра вырабатывается настолько эффективно, что она является конкурентоспособной и в других государствах ядра и, таким образом, это государство получит первоочередную выгоду от максимально свободного мирового рынка. Очевидно, для того, чтобы воспользоваться таким преимуществом в производстве, государство должно быть достаточно сильным ради избежания или минимизации вероятности создания внутренних и внешних политических барьеров свободному потоку факторов производства; чтобы сохранить это приобретенное преимущество, господствующие экономические силы считают нужным авансировать определенные интеллектуальные и культурные тенденции, движения и идеологии (курсив мой. — Авт.). Проблема гегемонии состоит в том, что она является текучей. Только лишь государство становится настоящим гегемоном, оно начинает приходить в упадок; государство прекращает быть гегемонистским не потому, что оно теряет силу, а потому, что другие усиливаются»420.
Достижение статуса гегемонии внутри ядра означает также гегемонию в масштабах всей мир–экономики: XVII в. (до 1672 года) характеризовался гегемонией Голландии, которая опиралась на преимущество Объединенных провинций в агропромышленной сфере, коммерции и финансах; последняя четверть XVIII и большая часть XIX столетий были эпохой Британской гегемонии; а после интерлюдии борьбы за гегемонию (период двух мировых войн) внутри ядра определился новый победитель — США.
Несмотря на отрицание концепции национального развития, а соответственно и возможности такого развития в реальности, И. Валлерстайн соглашается с возможностью повышения статуса определенной страны внутри мир–системы. Так, если Россия на рубеже XIX–XX вв. была полупериферийной страной, установление ленинского режима позволило ей получить статус сильной полупериферии, которая предъявляет претензии на членство в ядре капиталистической мир–экономики. Ленинский режим, по мнению исследователя, создал систему государственного капитализма, которая существовала в интересах бюрократической буржуазии и вовсе не была авангардом мировых социалистических сил, «чья внутренняя трансформация могла бы служить несовершенной моделью будущего мира, будучи в то же время элементом перехода к нему»421.
Попытка И. Валлерстайна построить макротеорию социального мира предоставляет исследователю, который пользуется его категориями, возможность охватывать целостную динамику мир–системы в больших отрезках исторического времени. В то же время стремление к «монистическому взгляду на историю» приводит к игнорированию роли тех факторов, которые не получают объяснения с помощью мир–системной концепции. Так, он почти полностью упускает из виду роль западноевропейской науки в развитии капитализма и модерного социального порядка в целом (в противоположность внимательному отношению М. Вебера к этому феномену).
Синтез идей мир–системного анализа с парадигмой государства, стимулирующего развитие, позволяет формулировать и реализовать задачу общественного прогресса, приближая страны, которые берут на вооружение такую стратегию, к парадигме поздней модерности, и помогает избегнуть как идеализированного взгляда на саморегулирующуюся динамику капитализма, так и безапелляционных инвектив в его адрес.
Масштабный интеллектуальный проект И. Валлерстайна повлиял даже на его научных оппонентов — теоретиков–модернизаторов, так что теперь фокус теоретизирования современного Ейзенштадта носит не столько локальный, сколько «мир–системный» характер, поскольку модерность рассматривается в качестве глобального феномена, а применение идей И. Валлерстайна в контексте постленинской общественной трансформации в Украине продемонстрировало свою эвристичность422. Перед исследователями встает задача осуществить критическое переосмысление наработок американского ученого и его школы, а такое переосмысление включает отказ от идеологического и политического экстремизма, резко снижающего адекватность и реалистичность прогнозов и объяснений в рамках его теории (достаточно вспомнить Валлерстайновский прогноз о распаде НАТО, который должен был наступить в 90‑е годы XX в.) и достижение синтеза с традициями, ценность которых сам И. Валлерстайн склонен занижать.
Такая стратегия использования идей мир–системного анализа дает возможность построить более сбалансированную теорию социального развития и модернизации, которая сможет избегнуть односторонности как «большого отказа» критических теоретиков, так и конформистского увлечения глобализацией, демонстрируемого сторонниками неолиберального консенсуса.
Государство, содействующее развитию: интеллектуальные источники исследовательской программы и практический опыт «азиатских тигров»
Возникновение теории модернизации и достижение ею господствующего статуса в социологической науке 50–60‑х годов XX в. было связано с интеллектуальной гегемонией взглядов Т. Парсонса на социальные изменения в целом и на путь к модерному обществу в частности. Последователь Т. Парсонса и основатель неофункционализма Дж. Александер справедливо заметил, что социологические традиции (парадигмы, школы или исследовательские программы; выбор терминологии зависит от философско–методологической ориентации исследователя) основываются мыслителями, которые получают харизматический статус423.
Рутинизация парсонсовской теории действия и социальных систем превратила этот концептуальный инструментарий, разрабатывавшийся на основе методологических основ аналитического реализма («конкретное применение теории действия следует отличать от его аналитического значения»424 — таким был лапидарный вердикт Т. Парсонса еще в «Структуре социального действия»), в универсальную систему координат, которая механистически применялась сторонниками этого направления для интерпретации процессов социальных изменений и модернизации конкретных обществ. Аналогичную рутинизацию и вульгаризацию в свое время пережило учение К. Маркса, все разнообразие которого последователи на манер Поля Лафарга сводили к принципу экономического детерминизма, предоставив статус легитимности парсонсовской интерпретации марксизма как переформулирования утилитаризма классической политэкономии с позиции радикальной политики и игнорируя многомерный, синтетический характер социальной теории К. Маркса. Поэтому адекватной представляется критика Р. Дарендорфа в адрес ультраортодоксальных последователей Т. Парсонса, которые сосредоточивались на бесконфликтных, беспроблемных аспектах социального развития.
Более того, акцент на функционалистском подходе к обществу, то есть концептуализация его как социальной системы, которая дифференцируется на четыре подсистемы, каждая со своей функцией (экономика в этой схеме выполняет функцию адаптации, политика — целедостижения, социетальное сообщество — интеграции, социокультурная сфера — латентной поддержки образца), привела к растворению понятия государства как единицы анализа в концепциях политической системы и коллективного поведения. Государство фактически не рассматривалось в качестве автономного деятеля, способного ускорить или затормозить социальное развитие и существенно повлиять на констелляцию социальных сил в обществе. Исследователи, по словам американского социолога С. Краснера, «писали о правительстве, политическом развитии, группах защиты интересов, голосовании, законодательном поведении, лидерстве и бюрократической политике, то есть почти обо всем, что угодно, кроме “государства”»425.
Другим экстремом в дискурсе об общественном развитии и модернизации в западной социологии стало возникновение мир–системного анализа с его категоричными утверждениями об исторических системах, а не национальных государствах как единице анализа в социологии и принципиальной невозможности национального развития в рамках современной капиталистической мир–системы426.
На другом полюсе политико–идеологического и теоретико–методологического континуума находились исследователи, которые вдохновлялись взглядами Т. Парсонса на происхождение модерна и развитие. Эти Парсонсовские эпигоны очень часто склонялись к абсолютизации утверждения основателя теории социального действия и социальных систем о том, что «проблема объяснения происхождения образца культурной и социальной организации фундаментальным образом отличается от проблемы объяснения его распространения с помощью уже существующих примеров. что модерное индустриальное общество стало первичной моделью для мира в целом, едва ли может поддаваться сомнению (курсив мой. — Лет.)»427.
Последний тезис, в свою очередь, опирался на парсонсовскую интерпретацию веберовских идей об уникальном характере модерного социального порядка Запада: «Вебер рассматривал развитие современного западного мира, а в особенности той его части, которая находилась под влиянием аскетического протестантизма, как авангард (курсив мой. — Лет.) наиболее важной эволюционной тенденции…. Решающее значение в нестабильном современном мире экономического развития на уровне промышленности и более модерного уровня политической организации не может пониматься в отдельности от этого более широкого эволюционного контекста»428. Например, такие социологи, как А. Инкелес и Д. Смит, в своем исследовании перехода от традиционной социальной организации к модерному обществу рассматривают этот процесс как одно из измерений линейного, универсального процесса рационализации культуры, которая, в свою очередь, определяется рационализацией материальной жизни, то есть технологическими изменениями, вызываемыми индустриализацией429.
Именно против таких взглядов и были направлены теоретизирование и эмпирические исследования в границах исследовательской программы государства, стимулирующего развитие, которое, опираясь на успехи движения «возвращение государства назад» к социологическому анализу, старалось в то же время избегнуть односторонности как сторонников структурного функционализма, так и концепции центральности государства. К наиболее влиятельным представителям движения «возвращения государства назад» можно отнести таких авторов, как Ф. Скочпол, Ч. Тилли, П. Эванс, Д. Рюшемейер.
Наиболее полное формулирование концепция государства, стимулирующего развитие, приобрела в работах П. Эванса и Д. Рюшемейера. Будучи видными представителями движения «возвращение государства назад» (другое название — подход, делающий акцент на центральности государства), эти исследователи стараются избежать одномерного «структурного» уклона, который был присущ исследованиям интеллектуального лидера движения Феды Скочпол в конце 70‑х — начале 80‑х годов XX в. Такая позиция, с одной стороны, позволила выработать адекватные методологические подходы к концептуализации роли государства в общественных трансформациях и развитии, но в то же время вела к игнорированию роли идеологических структур и их влияния на трансформационный потенциал государства.
Ф. Скочпол утверждала в своей программной работе «Государства и социальные революции»: «Для объяснения социальных революций (как одной из разновидностей общественных трансформаций. — Авт.) необходимо проблематизировать, во–первых, возникновение (но не “создание”, например, идеологическим авангардом) революционной ситуации внутри самого режима. После этого исследователь должен по возможности идентифицировать объективно определенные и сложные переплетения разнообразных действий по–разному расположенных групп — переплетения, которые определяют форму революционного процесса и позволяют возникнуть новому режиму. Исследователь может постигнуть такую комплексность исключительно с помощью одновременного сосредоточения на институционально детерминованных ситуациях и отношениях внутри общества и на взаимоотношениях обществ в рамках международных структур, которые постоянно развиваются во всемирно–историческом контексте. Принятие такого безличного и несубъективного взгляда, делающего акцент на образцах отношений между группами и обществами, означает согласие с позицией, которая может обобщенно называться структурной перспективой на социокультурную реальность»430.
Принятие позиции Ф. Скочпол хотя и позволяло преодолеть ограничения, накладывавшиеся структурно–функционалистскими и плюралистическими теориями, в то же время имплицитно признавало фаталистическое недоверие к возможностям государства влиять на развитие и модернизацию общества.
При этом следует заметить, что теоретизирование представителей концепции государства, стимулирующего развитие, движется в рамках веберовской системы координат. Поэтому государство концептуализируется как совокупность организаций, которые легитимно формулируют решения, являющиеся обязательными для выполнения индивидами и другими организациями, находящимися на определенной территории, и в случае необходимости могут реализовывать свои решения с помощью силы.
Взгляд на государство как на институт, который при определенных социально–исторических условиях может выступать в качестве агента развития, резко контрастирует с чрезвычайно влиятельной позицией Адама Смита, который считал, что к функциям государства относятся такие задачи: «во–первых, обязанность защищать общество от насилия и завоевания другими независимыми обществами; во–вторых, обязанность защищать настолько, насколько это является возможным, каждого члена общества от несправедливости и угнетения со стороны всех других членов общества, то есть установление эффективной системы правосудия; в-третьих, обязанность создавать и поддерживать те общественные работы и те общественные институты, в создании и поддержке которых никак нельзя заинтересовать индивида или небольшую группу индивидов, поскольку прибыль никогда не сможет возместить затраты индивида или их небольшого количества; в то же время эти мероприятия очень часто приносят обществу в целом намного больше, чем простое возмещение затрат на них»431.
Исследование роли государства в трансформации и развитии приобретает особую актуальность для постленинских обществ, которые должны — в соответствии с требованиями неолиберального консенсуса — устранить влияние государства из общественно–экономической жизни, в то время как лишь государство может создать институционную систему координат, в рамках которой может функционировать рынок, происходить накопление капитала и создаваться сеть социальной защиты.
Именно эта особенность постленинского общества на ранней стадии его трансформации приводит к тому, что рынок в качестве элемента капитализма не возникает как эволюционная универсалия в процессе структурной дифференциации, а должен проектироваться. «Такой спроектированный капитализм, или капитализм без капиталистов как активной движущей силы своих классовых интересов, — утверждает немецкий социолог Клаус Оффе, — зависит в наименьших деталях от… решений, которые требуют обоснования, а его развитие не может опираться на стихийную эмерджентную эволюцию, которая в основном была господствующим образцом в истории западных капитализмов–первопроходцев. Новый класс предпринимателей (а соответственно, и новый класс нанимаемой рабочей силы, в которую превращаются вчерашние «рабочие–граждане») создается в соответствии с проектом, который разрабатывался политическими элитами»432.
Наиболее мощным импульсом для возникновения государства, стимулирующего развитие, стал опыт преодоления отсталости рядом стран Восточной Азии (так называемыми Азиатскими тиграми). Успех этих стран, которых на начальной стадии развития можно было отнести к периферии, с одной стороны, поставил под вопрос жестко–детерминированную бинарную дифференциацию мира, которая предлагалась теоретиками зависимости (А. Г. Франк, Ф. Кардозо), а с другой стороны — подтвердила тезис И. Валлерстайна о трехуровневой структуре мир–системы и о большей гибкости полупериферийных обществ по сравнению как с ядром, так и с периферией433.
Исследование генезиса капитализма с перспективы исторической социологий подтверждает ключевую роль, которую государство играло в становлении модерного экономического и социального порядка, развеивая, таким образом, миф о западноевропейской индустриальной революции как процессе, который инициировался исключительно частными интересами434. Сравнительно–исторические исследования свидетельствуют, что опора исключительно на силы саморегулирующегося рынка является утопией и вмешательство государства необходимо для стимулирования и дисциплинирования предпринимательского поведения капиталистического класса.
Государство играет важную роль как в условиях приближения к идеально–типичной модели рынка, коррелируя присущую ему атомизованную рациональность, так и в ситуации, в которой структуры рынка отклоняются от идеально–типичных стандартов, являющихся распространенными в странах периферии и полупериферии. Как отмечают П. Эванс и Д. Рюшемейер, в странах третьего мира (то есть периферии и полупериферии) реальностью является включение в «господствующий класс … тесно связанных между собою собственников олигополий, и вдобавок интересы некоторых из них являются не локальными, а транснациональными, а также не менее тесно связанную между собою аграрную элиту, чьи интересы являются патримониальними и сориентированными на прибыль одновременно»435.
Чрезвычайно важным достижением представителей теории государства, стимулирующего развитие, является отказ от редуцирования государства к бюрократии: ведь, как твердят П. Эванс и Д. Рюшемейер, «из–за того, что государство рассматривается как явление, которое одновременно выражает несколько противоположных тенденций, мы берем на вооружение дефиницию, которая не стремится определить заведомо способ, каким эти проблемы будут решаться в каждой исторической ситуации»436. Как отмечал авторитетный исследователь бюрократии и развития государства Д. Сейер, такие страны, как «Тайвань и Корея, едва ли могут рассматриваться в качестве образцов рационально–легальной администрации или буржуазной демократии, а наиболее впечатляющий успех капитализма в 20-ом веке был достигнут островным государством, которое характеризуется продолжительной политической стабильностью и патерналистским социальным этосом и в котором компания Мицубиси была основана с помощью государства»437.
Не отрицая тот факт, что любое государство является инструментом господства, сторонники государства, стимулирующего развитие, акцентируют свое исследовательское внимание на другом измерении существования государства — его роли корпоративного деятеля. Согласно точной формулировке Ф. Кардозо, мы не можем рассматривать государство «исключительно как выражение классовых интересов, не учитывая, что такое выражение требует организации, а поскольку последняя не может быть ничем другим, как социальной сетью индивидов, то она существует сама по себе и имеет собственные интересы»438.
Любое государство — за исключением разве что тоталитарных партий–государств — не является монолитным, а потому всегда существует угроза превращения его в арену социальных конфликтов между господствующими и подчиненными классами, которые могут стремиться превратить государство в средство достижения своих партикуляристских интересов. «Такие усилия, — замечают П. Эванс и Д. Рюшемейер, — в случае доведения до экстремума могут привести к фрагментации и параличу государства (классическим примером этих тенденций является веймаровская Германия. — Авт.) как корпоративного деятеля…»439.
Одним из ключевых измерений государства, способного стимулировать развитие, является его способность формулировать и защищать универсальные интересы общества, таким образом выходя за рамки того одномерного видения современного государства, которое в парадигматическом формулировании В. И. Ленина постулировало, что «любая бюрократия и по своему историческому происхождению, и по своему назначению представляет собой чисто и исключительно буржуазное учреждение…»440. В своем реальном функционировании государство реализует целый спектр противоположных по смыслу целей, будучи одновременно инструментом господства, защитником универсальных интересов гражданского общества, и в то же время стремится сохранить свою корпоративную идентичность, которая служит основой автономии государства vis–a–vis общества. Конкретно–историческая комбинация указанных характеристик государства не может определяться a priori в рамках эссенциалистской социальной теории и имеет контингентный характер, наиболее эвристической стратегией концептуализации которого является веберовское понятие «выборочной родственности»441.
Несмотря на то, что первичный толчок в направлении конструирования государства, стимулирующего развитие, был получен лидерами стран третьего мира из Советского Союза с его стратегией развития, делавшей акцент на централизированном всеохватывающем планировании, государственной собственности на средства производства и на массированных государственных инвестициях в поддержку индустриализации, самое объединение рынка с определенными формами государственного вмешательства имело эффективные результаты.
Одним из важнейших моментов в успешной реализации проекта развития является создание бюрократического аппарата (бюрократия в большинстве полупериферийных стран имела не рационально–легальный, а патримониальный характер442).
Задача развития бюрократического аппарата не сводится к созданию соответствующей материальной инфраструктуры, как и в любом процессе создания новых институтов, где необходимым является преодоление микрорациональностей (выражение Г. О’Доннела) и замена их ценностями, которые могут стать основанием для общей рациональности менеджеров государства. Другими словами, конструирование специфического этоса государственной службы является необходимостью443, но завершение этого процесса может требовать десятилетий, если не жизни целых поколений — роскошь, которую большинство государств как третьего, так и второго миров не могут себе позволить. Поэтому справедливым остается вывод П. Эванса и Д. Рюшемейера, что «существование адекватной бюрократической машины зависит от более тонких, продолжительных процессов развития институтов, что значительно уменьшает реальность появления бюрократии, которую государство требует, именно в тот момент, когда она наиболее нужна»444.
Повышение роли государства в экономической жизни общества и усиление его влияния на процессы экономического развития и модернизации становится возможным осуществлять с помощью использования стратегически расположенных предприятий, находящихся в государственной собственности. По мнению П. Эванса и Д. Рюшемейера, такая политика является «классической и оправдывает себя, если существует потребность устранить препятствия частным инвестициям, которые могут создаваться внешними факторами»445.
Вмешательство государства в определенные области экономики может также выполнять функцию сигнала частным лицам; оно также помогает определять приоритетные направления индустриальной трансформации. В условиях рынка, контролируемого олигополиями, государственные предприятия могут оказывать содействие восстановлению конкуренции. Как правило, государственные предприятия оперируют в тех секторах экономики, которые требуют больших капиталовложений и высокой технологической дисциплины (таких, например, как энергетика, переработка нефтепродуктов, добывающие области).
Тем не менее крах попыток активного вмешательства государства в сельское хозяйство демонстрирует пределы его действий, поскольку сельское хозяйство является распыленным по сравнению с промышленностью и, соответственно, непосредственный контроль за ним был проблематичным даже для стран социалистической ориентации (недаром реформы в Китае начались с уменьшения контроля над аграрным сектором) и является совсем недосягаемым для капиталистических стран полупериферии. В то же время государство может играть активную роль в маркетинге, в особенности на международном уровне, и влиять на структуру земельной собственности с помощью земельной реформы.
Следует заметить, что исследователи, придерживающиеся концепции государства, стимулирующего развитие, ставят под сомнение акцент на частной собственности как важнейшем элементе рыночной экономики, поскольку «конкуренция и регулирование являются более важными факторами, определяющими экономические показатели, чем собственность… На самом деле концентрация на вопросе о собственности может быть вредной, если она отвлекает внимание от более фундаментальных вопросов»446.
Успех вмешательства государства в социально–экономическую жизнь возможен в случае сохранения ее автономии при одновременной капиталистической ориентации; преобразование государства в инструмент достижения персональных целей его менеджеров приводит к формированию клептократичного государства, тормозящего развитие. Парадоксально, но уменьшение степени автономии такого государства может положительно повлиять на социально–экономическое развитие. Вопреки всей возможной автономии, государство, содействующее развитию, редко может полностью игнорировать интересы господствующих классов. Автономия государства может возрастать, если господствующие классы находятся в состоянии конфликта между собой (например, столкновение традиционных латиноамериканских элит, чье влияние базировалось на земельной собственности, с промышленниками) или в случае сопротивления со стороны эксплуатируемых классов. Например, перуанские военные, подавив крестьянские волнения, взяли государственный аппарат под свой контроль и использовали его против землевладельческой элиты.
Автономия государства может обнаруживаться не только в выборе определенных стратегий накопления капитала, но и в государственной политике распределения и перераспределения экономических ресурсов. По мнению П. Эванса и Д. Рюшемейера, Тайвань может служить примером достижения улучшения распределения доходов, которое было результатом не только земельной реформы 50‑х годов, но и поощрения тех областей промышленности, которые были направлены на повышение экспортных показателей. Результатом такой политики стало возрастание реальных заработков и улучшение распределения доходов447.
Для государства, стимулирующего развитие, важен отход от экономической ортодоксии, что требует определения «правильных цен» с помощью рыночных механизмов и сосредоточения на создании «правильных институтов», даже за счет временного искривления ценовой структуры рынка.
Оригинальным взносом в социологию развития и модернизации со стороны концепции государства, стимулирующего развитие, является переосмысление его представителями последствий взаимодействия между национальным государством и транснациональными корпорациями (ТНК). Если дискурс глобализации требует от всех национальных государств создания как можно более благоприятного климата для ТНК, угрожая в противном случае бегством капитала, а теоретики левого направления с подозрением относятся к деятельности ТНК, то сторонники государства, стимулирующего развитие, предлагают более аналитически–индуктивную методологию оценки такого взаимодействия.
Анализируя разные секторы экономики в полупериферийных странах (предметом анализа становятся добывающие области, промышленность и займы капитала), П. Эванс ставит под сомнение априорную оценку последствий проникновения ТНК в страны третьего мира лишь как использования естественных ресурсов заграничными компаниями, которые нанимают локальных рабочих исключительно в качестве неквалифицированной рабочей силы, эксплуатируют естественные ресурсы и экспортируют все добытое сырье за границы страны. При таких условиях локальное компрадорское государство получает лишь символические налоговые поступления и незначительную часть прибылей корпораций.
Адекватная политика государства, стимулирующего развитие, способна радикально изменить эту традиционную картину, поскольку после первичных инвестиций ТНК становятся более заинтересованными в продолжении своих операций, а со снижением расходов производства локальные компании становятся способными заменить ТНК; государство получает рычаги влияния на ТНК, которые позволяют ему увеличить поступления в бюджет с помощью повышения налогов и привлечения локальных компаний к производству. Это, в свою очередь, позволяет государству более активно развивать свою институционную инфраструктуру и использовать квалифицированных менеджеров, которые предоставляют государству возможность более существенного вмешательства в экономику с помощью таких инструментов, как инвестирование и национализация.
Таким образом, государство, которое на первых стадиях является слишком бедным для организации эксплуатации собственных естественных ресурсов, обогащается с помощью ТНК, разрабатывающих эти ресурсы, и получает возможность «шантажировать» ТНК, вложившие свой капитал в инвестиции и, таким образом, становящиеся чувствительными к прессингу со стороны государства. Конечно, угроза национализации не является абсолютным оружием в руках государства в борьбе с ТНК, поскольку последние могут перенести свою деятельность в другие страны и конкурировать с зоной своих первичных инвестиций. Кроме того, ТНК, как правило, имеют тесные контакты с локальной буржуазией, а потому менеджерам государства сложнее достичь большего контроля над ТНК, учитывая сопротивление локального капиталистического класса, который вполне обоснованно обеспокоен возможностью уменьшения собственной автономии в случае успеха государства по отношению к ТНК.
Тем не менее и в этой ситуации, при условии возрастания инфраструктурной власти государства (американский социолог британского происхождения Майкл Манн определяет последнюю как способность государства проникать и централизованно координировать деятельность общества с помощью собственной инфраструктуры, противопоставляя ее деспотической власти, опирающейся на чистое принуждение448), становится возможным достижение таких форм партнерства с ТНК, которые являются экономически выгодными как государству, так и местным производителям. Классическим примером может служить развитие взаимодействия между мексиканским государством и автомобилестроительными ТНК449.
Не отрицая очевидного факта, что займы капитала могут существенно ограничивать автономию государства–должника и сокращать выбор политических инструментов для осуществления влияния на ключевых экономических деятелей, которые находятся в ее распоряжении («новый мир долга», как охарактеризовала современный мировой порядок британская исследовательница Сьюзан Стрейндж450), представители государства, стимулирующего развитие, делают акцент на неоднозначных последствиях действия транснационального капитала, поскольку большинство кредитов предоставляются под гарантии государства и служат развитию инфраструктуры, а потому эффективное распоряжение ими может значительно усилить позицию государства как агента развития. Более того, по мнению П. Эванса, «заграничные займы существенно повышают власть государства vis–a–vis местной буржуазии, поскольку государство теперь не вынуждено полагаться на локальные элиты как единственный источник ресурсов. Это в особенности важно для режимов, чей трансформативный проект предусматривает устранение определенных сегментов традиционных элит»451.
Таким образом, если государству удается приобрести эффективные рычаги влияния на ТНК, лишая последние монопольного права определять решения государства, оно становится способным достичь более сбалансированного распределения силы и уступчивости и делает кооперацию взаимовыгодной. Такая политика отрицает безапелляционный вердикт критических социологов в адрес программ структурной перестройки экономики (а соответственно, и деятельности ТНК), которые пропагандируются международными финансовыми институтами, как закрывающий «короткий исторический период, когда политическая независимость прервала связь между зависимыми экономиками Африки и государствами–кредиторами ядра глобального капитализма…. Собственники международных денег и локальный политический истеблишмент были объединены и сконсолидированы в правительственных структурах стран–должников. Это, в свою очередь, усилило процесс увеличения власти для новых элит с международными связями, которые руководят большими африканскими компаниями, торговыми организациями, инвестиционными центрами, банками и министерствами национального государства. Наконец, доступ к международным деньгам становится фактором, влияющим на структуру общества, обеспечивая новые модели культурных ориентаций. Структурная перестройка увеличила власть банков, больших компаний и локальных элит — тех, кто может присоединиться и помочь концентрации транснациональных инвестиций…. Рынки были созданы, а доступ к ним определялся в соответствии с новой конфигурацией колониального образца зависимого развития»452.
Государство, стимулирующее развитие, должно обладать специфическими характеристиками. Аппарат такого государства должен не только быть способным независимо формулировать свои цели (иметь автономию), но и владеть ресурсами, необходимыми для их воплощения, несмотря на сопротивление влиятельных кругов. «Там, где государство является слабым, и/или находится под контролем партикулярных интересов, — пишут Д. Рюшемейер и Л. Путерман, — мы очень часто наблюдаем губительную политику, непосредственным результатом которой становится обогащение влиятельных деятелей и/или поддержка шаткой власти государства»453.
Менеджеры государства, стимулирующего развитие, должны быть заинтересованы в преследовании задач развития. Но в то же время «автономия государства и баланс власти, которая предоставляет государству шанс доминировать над партикуляристской оппозицией, должны дополняться тесной связью между теми, кто вырабатывает политику государства, и деловой элитой. Это тонкое объединение независимости и кооперации — или «укорененная автономия государства» (embedded state autonomy), как называет это явление П. Эванс, — обеспечивает поступление необходимой информации менеджерам государства и желание обеих сторон сотрудничать. Это радикально усиливает способность государства трансформировать социально–экономические отношения, которые принципиально отличаются от обретения государством исключительно принудительной, репрессивной власти»454.
Наверное, мы можем лишь согласиться с выводом известного британского исследователя советского «реального социализма» Алека Нове, который утверждает, что постленинские страны даже Восточной Европы (чье развитие для Украины — пока что недосягаемый образец) унаследовали от предшествующего режима искривленную структуру промышленности, которая является экологически опасной и характеризуется отсутствием средств коммуникации и инфраструктуры. Адекватность неолиберальной модели по рецептам рейганомики и тетчеризма условиям постленинизма является более чем сомнительной. Ведь даже в условиях западных государств ядра капиталистической мир–системы следствия политики «новых правых» были далекими от экономического успеха: «Рейгану удалось за восемь лет превратить Соединенные Штаты из наибольшего в мире кредитора в наибольшего в мире должника…»455.
Преданность постленинских элит антиплановой идеологии (очень часто конъюнктурно–позерская) заставляет их заимствовать модели развития из учебников по свободной рыночной экономике, но при условиях, когда существует острый недостаток именно частного капитала, игнорируя, таким образом, уроки Японии и Южной Кореи456.
Безусловно, не все мероприятия, осуществлявшиеся такими образцовыми с точки зрения развития государствами, как Южная Корея и Тайвань, заслуживают копирования. Государство в этих странах было вынуждено кооперироваться с капиталистическим классом (хотя и оказалось способным дисциплинировать отдельные его сегменты) и, как правило, жестко подавляло рабочее движение, используя политику репрессий и материальных поощрений одновременно (так, тайванскому правительству делом первоочередной важности представлялась именно стабильность цен, лишь бы избежать резкого ухудшения финансового состояния работников разветвленной бюджетной сферы). Не следует также забывать, что большое количество государств, которые выступали в качестве катализатора развития в странах третьего мира, были однопартийными авторитарными режимами.
Но автономия государства не может рассматриваться как эквивалент авторитарной диктатуры и бюрократической зарегулированности, как демонстрирует пример ирландского гибкого (в противоположность бюрократическому) государства, стимулирующего развитие. На одного успешного с точки зрения обеспечения развития Пиночета, который эффективно использовал идеи Вирджинской (а не одной лишь Чикагской, как утверждает расхожее мнение) школы политической экономии, приходятся десятки не менее жестоких диктаторов, чье правление оставило по себе экономическую руину, восстановление которой требует не одного десятилетия (блестящим примером может служить Аргентина). Поэтому ориентация на «украинского Пиночета», имплицитно присутствующая в работах такого автора, как Пол Кубичек, является ошибочной теоретически и опасной практически457.
Восприятие государства как автономного агента развития становится элементом дискурса политического истеблишмента Украины после декады ортодоксально–рыночной риторики458. Перед исследователями теперь встает задача зафиксировать условия, при которых станет возможным возникновение и успешное функционирование украинского государства, стимулирующего развитие. Но мы должны осознавать, что такая цель усложняется отсутствием исторической дистанции. Ведь недаром Мао Цзедун на вопрос, чем является, по его мнению, Великая Французская революция, ответил: «Еше рано говорить».
ГЛАВА 6: ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СИСТЕМ (А. И. Ковалева, Н. В. Фесенко)
Особенности функционирования и закономерности эволюции международных систем (Н. В. Фесенко)
Современный мир выступает как мир–система не только в социально–экономическом плане. Глобализированная международная политическая жизнь также обладает системными признаками. Анализ структуры международной политической системы играет основополагающую роль в познании законов функционирования и трансформации региональных и трансрегиональных систем. Он позволяет определить особенности и закономерности эволюции таких систем, а также понять и предвидеть поведение на мировой арене государств, имеющих неодинаковый вес. Международно–политическая структура определяется конфигурацией соотношения силы между могущественными государствами. Изменения в их соотношении могут менять структуру международной системы, но ее природа, определяемая ограниченным числом могущественных государств с несовпадающими интересами, останется неизменной.
Таким образом, именно структура международной системы является показателем устойчивости и изменений, стабильности и «революционности», сотрудничества и конфликтности системы; именно она отражает законы функционирования и трансформации системы.
Наиболее общим законом международной системы признана зависимость поведения игроков (или, как еще их образно называют, актеров) от структурных характеристик системы. Этот закон конкретизируется на уровне любой из таких характеристик (или измерений), хотя окончательного согласия относительно их количества и содержания до сих пор нет.
Р. Арон выделял, по крайней мере, три структурных измерения международных систем: конфигурацию соотношения сил; иерархию актеров; гомо- или гетерогенность состава. Главным измерением, в полном соответствии с традицией политического реализма, он признавал конфигурацию соотношения сил, которая отражает наличие «центров власти» в международной системе, сказывающееся на взаимодействии ее основных элементов — суверенных государств.
Конфигурация соотношения сил зависит от количества главных актеров и характера отношений между ними. Два основных типа такой конфигурации — би — и мультиполярность459. «Иерархия актеров отображает их фактическое неравенство с точки зрения военно–политических, экономических, ресурсных, социокультурных, идеологических и других возможностей влияния на международную систему»460.
Гомогенный или гетерогенный характер международной системы отражает степень единодушия актеров относительно тех или иных принципов (например, принципа политической легитимности) или ценностей (рыночной экономики, плюралистической демократии): чем больше такого единодушия, тем более гомогенной является система. В свою очередь, чем более она гомогенная, тем больше в ней уравновешенности и стабильности. В гомогенной системе государства могут быть неприятелями, но не политическими врагами. Напротив, гетерогенная система, разрываемая ценностными и идеологическими антагонизмами, является хаотичной, нестабильной, конфликтной.
Ж.-П. Дерриеник называет шесть структурных характеристик международных систем:
1. Число актеров;
2. Распределение силы между ними;
3. Соотношение между конфликтом и сотрудничеством. Система может быть более конфликтной, чем кооперативной, или наоборот — более кооперативной, чем конфликтной. Если второй тип институализируется, то система может трансформироваться в «организованную международную систему», и тем самым оправдается гипотеза Р. Арона о достижении «мира через закон». С другой стороны, тип «иерархической системы» М. Каплана, где могущественнейший актер устанавливает границы конфликтам, также может трансформироваться в организованную международную систему, оправдывая на этот раз гипотезу Р. Арона о возможностях достичь «мира через империю»;
4. Возможности использования тех или других средств (силы, обмана или убеждения), которые допускаются данной системой;
5. Степень внешней централизации актеров, т. е. влияние характера данной международной системы на их поведение;
6. Различие самих актеров.
В качестве еще одного наиболее общего закона называется закон равновесия международных систем, или закон баланса сил, который позволяет сохранять относительную стабильность международных систем. Он касается сравнительных преимуществ би- и мультиполярных систем. Так, Р. Арон считал, что «биполярная система содержит тенденцию к нестабильности, она основана на взаимном страхе и побуждает обе противостоящие стороны к жестокости по отношению одна к другой, основанной на противоположности их интересов».
Подобная точка зрения высказывалась и М. Капланом, по мнению которого, мультиполярная система содержит большие риски (например, риск распространения ядерного оружия, жесткого решения конфликтов между мелкими актерами или непредвиденность последствий, к которым могут привести изменения в союзах между крупными государствами). Однако они не идут в сравнение с опасностью биполярной системы. Биполярная система более опасна, так как характеризуется стремлением обеих сторон к мировой экспансии, предполагает постоянную борьбу между двумя блоками — то ли за сохранение своих позиций, то ли за перераспределение мира. Не ограничиваясь подобными замечаниями, М. Каплан рассматривает «правила» стабильности для би- и мультиполярных систем.
Основным законом трансформации международной системы считается закон корреляции между полярностью и стабильностью международной системы. М. Каплан, например, подчеркивает нестабильный характер гибкой биполярной системы. Если она основана на неиерархизированных блоках, то эволюционирует к мультиполярной системе. Если тяготеет к иерархии обоих блоков, то имеет тенденцию трансформироваться или в жесткую биполярную, или в иерархическую международную систему. В гибкой биполярной системе существует риск присоединения неприсоединившихся; риск подчинения одного блока другому; риск тотальной войны, которая ведет или к иерархической системе, или к анархии. Внутриблоковые дисфункции в ней приглушены, зато обостряются межблочные разногласия461. Главное условие стабильности биполярной системы, приходит к выводу М. Каплан, — это равновесомая могущества. Если же появляется третий блок, то это ведет к серьезной разбалансированности и риску разрушения системы.
Д. Сингер и К. Дойч, исследовав проблему корреляции между полярностью и стабильностью международных систем в формально–теоретическом плане, пришли к заключению, что, во–первых, как биполярная, так и мультиполярная системы имеют тенденцию к саморазрушению, а, во–вторых, нестабильность жестких биполярных систем все же больше нестабильности мультиполярных систем462.
Теперь рассмотрим особенности эволюции международных систем. Это позволит не только лучше осмыслить особенности их функционирования и трансформации, но и понять то, что каждая система живет и развивается и со временем умирает или трансформируется в другое состояние. Эта закономерность присуща всем системам.
Эволюция международных систем — это последовательное изменение количественных параметров участников международных отношений (например, силового, ресурсного, демографического потенциала), которое на определенном этапе приводит к значительным количественным преобразованиям прежде всего структуры систем, которые могут иметь скачкообразный характер. Изменяясь, международная система постоянно переходит от одного типа состояния к другому. Разрушение одной международной системы неминуемо приводит к возникновению другой, которая с течением времени также разрушается и дает начало формированию новой. Ситуацию, при которой международная система не существовала бы, можно вообразить лишь в том случае, если все государства существуют в условиях автаркии, что даже теоретически невозможно.
Эволюция международных систем является конкретной разновидностью эволюции человечества, его экономической, политической и культурной организации. Международные системы формируются в процессе продолжительного исторического развития, они никогда не возникают и не исчезают мгновенно463. С этой точки зрения эволюцию международных систем можно описать с помощью исторической логики Джамбатисто Вико. Он уподобил развитие общества возрастным стадиям развития человека (как биологического существа): молодостью, зрелостью, старостью. Его трехстепенная модель социокультурного развития, в основе своей воспроизводившаяся независимо от него и дорабатывавшаяся Н. Я. Данилевским и К. Н. Леонтьевым, О. Шпенглером и А. Дж. Тойнби, П. Сорокиным и Л. Н. Гумилевым, включает три стадии: возникновение, развитие, упадок.
Согласно концепции Дж. Вико, стадии, последовательно сменяя друг друга, движутся от возникновения к упадку и снова к возникновению, что является полным циклом общественного развития. Как и природе, развитию общества присущ постоянный кругооборот событий. Однако этот кругооборот спиралевидный, так как ни одна из известных истории международных систем не была точной копией своей предшественницы, а отличалась, как правило, большей сложностью, иной спецификой отношений между государствами и другими участниками международных отношений, расстановкой их сил и пр.
Процесс развития международной системы схематически может быть сведен к следующим фазам: возникновение, укрепление (рост), расцвет и упадок.
Возникновение международной системы связано с усилением одного из государств до уровня, который превышает могущество других. Причем такое превышение может быть довольно значительным, зачастую даже равным суммарному могуществу других государств. Благодаря этому формируется иерархия системы, создаются постоянные ориентации и взаимосвязи между участниками международных отношений.
Укрепление является следствием развития международной системы, при котором могущество «полюса» имеет тенденцию к возрастанию. В такой ситуации влияние «полюса» на низшие в иерархии государства возрастает, что делает их ориентированными на государство А (имеются в виду государства В, С, D, а также любые другие, являющиеся неравными А). В этой фазе упорядочиваются иерархические уровни и государства дифференцируются по ним соответственно своему могуществу, создаются связи взаимозависимости, субординации и т. п.
«Расцвет международной системы, т. е. достижение ею высочайших из возможных параметров могущества полюса, плотности связи и т. п., выступает как результат ее укрепления, когда она приобретает максимум логического совершенства»464. Могущество «полюса» становится максимально возможным, безапелляционным, а его влияние распространяется на все иерархические уровни системы. В этой фазе ориентации переходят в постоянные, а плотность взаимосвязей становится еще большей, что делает систему окончательно завершенной.
«Упадок и разрушение международных систем является довольно продолжительным и сложным. Это связано с дифференциацией сил, которая постепенно «сползает» от высших иерархических уровней системы к низшим»465. В целом здесь можно выделить три этапа:
• на первом из них наряду со снижением, или замедлением темпов возрастания уровня могущества «полюса», происходит рост силы одного из государств до мощности старого центра системы. Т. е. суммарное могущество государств достигает уровня высшего, чем его имеет сильнейшее государство. В границах международной системы возникает сильный подцентр, постепенно расширяющий влияние на более слабые государства, тем самым создавая автономную подсистему. Такая подсистема характеризуется тем, что сила влияния подцентра на входящие в нее государства является большей, чем влияние на них прежнего центра466;
• на втором этапе возрастание могущества нового центра происходит быстрее, а могущество старого «полюса» имеет тенденцию к уменьшению или остается постоянной. Формируется классическая биполярная система;
• третий этап характеризуется ослаблением старого центра, который опускается в иерархии к уровню второ- или даже третьесортности. Причем упадок старого центра и его международной системы сопровождается становлением новой системы, т. е. ее эволюция замыкается в той самой точке, из которой она началась. «Новая международная система, однако, не является копией старой, так как она характеризуется другой расстановкой сил, системой связей и ориентаций и на иные параметры могущества центров и их влияния на более слабые государства»467.
Эволюция международной системы в фазе упадка может происходить другим путем при условии, что наряду с центром В одинаковых, или приближенных силовых параметров она приобретает центр С (или и еще два–три центра) Это свидетельствует о переходе к мультиполярной системе, в которой начинается борьба между А, В и С за доминирование. При резком ослаблении А международная система снова становится биполярной и характеризуется жесткой конфронтацией между В и С, которая все же не происходит в чрезмерных формах. Если же этого не произойдет, то появляются все основания для общесистемного конфликта. Исходя из таких соображений, не вполне можно согласиться с мнением, согласно которому «изменение лидера» неизбежно сопровождается глобальной войной.
Глобальная (мировая) война возникает, скорее, при наличии нескольких центров, а не двух. В Первой мировой войне в борьбу за мировое господство вступили: Германия, Великобритания, Франция, Россия и США. Во Второй мировой основная борьба велась между Германией, Великобританией, США, СССР, Италией и Японией. В то же время конфликтные ситуации эпохи биполярной конфронтации разряжались рядом локальных и региональных конфликтов, но не мировой войной468.
Развитие системы от ее возникновения до упадка и появления новой системы можно считать циклом эволюции международной системы.
Дж. Моделски и П. Морган с конца XV в. выделяют пять циклов международной системы, определяя длину каждого из них в 107 лет. С их точки зрения, последовательно сменяли друг друга мировые «лидеры»: Португалия, Нидерланды, Великобритания (два цикла) и США (с 1914 г.).
Едва ли уместно выделять какую–то количественную длину цикла, хотя бы учитывая известные исторические факты. Так, древний Египет достиг вершины могущества около 1500 г. до н. э., а через тысячу лет перестал существовать как самостоятельное государство. Рим достиг пика могущества (т. е. утвердился как мощнейшее государство) после второй Пунической войны, а через 677 лет пал под ударами варваров. Свыше двух с половиной столетий длился «британский цикл». Если же попробовать проанализировать все известные истории циклы, то едва ли обнаружится хотя бы какая–то повторяемая их длина. Существование международной системы базируется на динамическом равновесии и дисбалансе могущества ее центров. Темпы изменения соотношения могущества «полюсов» системы не имеют тесной привязки к тем или другим равномерным временным периодам. Любое государство мира перманентно аккумулирует силу, но ввиду разной скорости этого процесса уровень могущества мощнейших из них неодинаков. Те государства, которые быстрее достигают значительно большего, чем прочие, могущества, выдвигаются на высшие уровни иерархии и доминируют над другими.
В процессе эволюции международная система последовательно переходит из состояния в состояние, т. е. в каждый конкретный отрезок времени она характеризуется тем или другим порядком взаимоотношений между государствами, ориентациями и сферами влияния и т. п. Среди всех состояний, присущих международной системе, можно выделить: статическое, трансформационное, турбулентное.
Статическое состояние, безусловно, понимается как относительное. Понятно, что параметры системы меняются постоянно, но в данном состоянии это происходит на протяжении продолжительных исторических периодов. Система в этом случае не проявляет заметных изменений, сохраняется внутренняя иерархия и субординация государств. Связи и ориентации также имеют постоянный системообразующий характер.
Трансформационное состояние характерно для периода преобразования системы из одного типа в другой. В системе происходят качественные изменения, сопровождающиеся нарушением упроченных взаимосвязей и ориентаций, порядка субординации государств. Система распадается на две или более подсистем, между которыми начинается борьба в разнообразнейших формах. Все это, как было показано, приводит к возникновению новой иерархии и создания качественно другой международной системы.
Турбулентное состояние встречается довольно редко. Оно наступает в случае одновременного упадка всех (или одного–единственного) центров. Иллюстрацией является падение Римской империи, которое привело к продолжительному «броуновскому движению» в европейско–средиземноморской политике. Аналогичным образом на политической жизни Восточной Азии сказалось падение китайской династии Хань на рубеже II–III вв. Состояние турбуленции характеризуется полной ликвидацией иерархии и субординации, потерей налаженных ориентаций, хаосом в отношениях между государствами, которые стараются на смену утраченным отыскать новые ориентации и сферы влияния.
Международные системы в процессе развития постепенно увеличивали пространственную сферу своего влияния. Системы Древнего мира имели преимущественно субрегиональный характер (хотя уже тогда периодически появлялись такие региональные гиганты, как Египет эпохи Нового царства и Новоассирийское государство, держава Александра Македонского и Римская империя, китайские империи династий Цинь и Хань, индийская империя Маурьев), Средних веков — региональный, Нового времени (при мировом доминировании Запада) — межрегиональный. В XXI в. международная система приобретает признаки планетарной благодаря глобализации мировых проблем (в частности безопасности), возрастающей взаимозависимости стран. На каждом новом цикле эволюции систем возрастали взаимозависимость государств, плотность связей между ними, сила влияния мировых центров и прочие параметры их функционирования469.
Сведение международных отношений к межгосударственным взаимодействиям неоправданно ограничивает понятие международной системы только теми государствами, между которыми существуют прямые регулярные отношения и взаимный учет военной силы. Но, как заметил Б. Ф. Поршнев, существует просторная область опосредствованных, порой неосознаваемых действующими лицами зависимостей, без которых, тем не менее, представление о системе остается неполным470.
Эволюция международных систем является закономерной, хотя каждой системе присущи определенные особенности. Каждая система сопоставима с другими системами ввиду того, что им присуща волновая динамика, характеризующаяся возникновением, расцветом, упадком, гибелью или трансформацией.
Процесс формирования новой политической структуры мира в условиях глобализации (Н. В. Фесенко)
Глобализация — одно из наиболее обсуждаемых и в то же время наименее четко определенных явлений современности. Сам термин в широкий научный обиход вошел в 90‑х гг. минувшего века и почти вытеснил понятие «постмодернизм», которое широко использовалось для описи сложности и разнообразия современного политического мира. Еще в конце 80‑х гг. слово «глобализация» почти не встречалось в научной лексике471. Сегодня для описания процессов, связанных с глобализацией, часто используют и другие понятия — постиндустриальная эпоха, век информационной революции, техноглобализм и т. п. Все они отражают те важнейшие изменения, которые сопутствуют данному явлению.
Существуют разные точки зрения относительно сути глобализации. В одних исследованиях внимание акцентируется на ее экономических аспектах, в других — на формировании единого информационного пространства, в третьих — на развитии общих стандартов472. Для большинства исследователей, которые придерживаются неолиберальной традиции, глобализация — это качественно новый этап развития политической структуры мира, а также человеческой цивилизации вообще.
Французский исследователь Б. Бади выделяет три измерения глобализации:
• постоянно подвижный исторический процесс;
• гомогенизация и универсализация мира;
• «размывание» национальных границ.
Если взять первое из указанных измерений, то можно заметить, что в истории развития человечества действительно наблюдается тенденция все большего расширения пространства, на котором происходит интенсивное взаимодействие: от отдельных селений, городов, княжеств к крупным государствам, регионам и, наконец, в эпоху Великих географических открытий, к миру в целом.
Второе измерение глобализации выделяется Б. Бади как универсализация и гомогенизация мира в предельном виде. В рамках этого подхода строились разнообразные предположения относительно создания глобального поселения (англ.: global village) — универсальной общности всех проживающих на Земле людей или всемирного правительства (англ.: global government), которое регулировало бы все взаимоотношения стран и народов. Другими словами, допускалось формирование некоторой всемирной конфедерации. «Универсализация и гомогенизация мира рассматривается иногда как его вестернизация. В этом случае имеется в виду, что все большего распространения получат характерные для западной цивилизации ценности и нормы поведения»473.
Тем не менее необходимо учитывать, что за внешней универсализацией скрываются более сложные процессы. Во–первых, каждая культура по–своему воспринимает и усваивает нормы других культур. Во–вторых, сама западная цивилизация неоднородна. И в-третьих, далеко не всегда распространяются именно западные культурные формы. Существует и обратный процесс, который обнаруживается в интересе Запада к восточным религиям, африканской культуре и т. п.
Последний из названных Б. Бади аспектов (или измерений) глобализации — «размывание» государственных границ, наверное, в наибольшей степени ее отражает. Это обнаруживается в интенсификации и увеличении объема различных обменов и взаимодействий за пределами государственных границ, причем во всех областях. Как следствие, один из наиболее важных результатов — формирование мирового рынка товаров и услуг, финансовой системы, мировой сети коммуникации. В связи с этим иногда употребляется понятие трансграничное взаимодействие, или трансграничные процессы.
Если говорить о сферах развития таких процессов, то сначала границы национальных государств оказались наиболее прозрачными в области экономики на европейском континенте, когда восстановление экономик различных государств, разрушенных Второй мировой войной, требовало тесного сотрудничества. Потом этот процесс перекинулся на социальные, политические, культурные и иные отношения, а также на другие регионы.
Прозрачность межгосударственных границ сделала мир взаимозависимым. Именно по этой причине некоторые ученые, особенно те, что работают в рамках неолиберализма, связывают глобализацию с взаимозависимостью, когда, как определил Дж. Най, участники этих событий в разных частях системы влияют друг на друга.
Прозрачность, или транспарентность межгосударственных границ, вызванная глобализацией, «перевернула» предшествующие представления о безопасности, конфликтах и их урегулировании, дипломатии и других базовых проблемах классических международных отношений. Но, главное, она повсюду стерла существовавшие ранее жесткие барьеры между внешней и внутренней политикой. Так, в области безопасности непосредственная угроза одной державы или группы держав относительно одного или других государств постоянно отходит на второй план, уступая место проблемам терроризма, сепаратизма, национализма и т. п. То же можно сказать и о конфликтах, которые из межгосударственных превратились во внутригосударственные. Новые конфликты требуют других подходов к их анализу и урегулированию.
Открыв межгосударственные границы, глобализация облегчила и деятельность новых, негосударственных актеров на мировой арене: ТНК, внутригосударственных регионов, неправительственных организаций, тем самым стимулируя их активность и количественный рост. Здесь проявляется и обратное влияние: сами негосударственные актеры стимулируют развитие глобализации и прозрачность границ.
Глобализация касается всех сфер жизни. Т. Фридман отмечает, что глобальная международная система в целом формирует как внутреннюю политику, так и международные отношения, охватывая рынки, национальные государства, технологии в невиданных ранее масштабах. В то же время глобализация не отрицает существование национальных государств. В связи с этим Э. Гидденс подчеркивает, что одним из выделенных им измерений глобализации является система национальных государств.
В общественных науках первыми о глобализации широко начали писать экономисты, обратившие внимание на формирование фактически единого мирового рынка. Согласно позиции МВФ, глобализация как раз и представляет собой возрастающую интеграцию рынка товаров и услуг, а также капитала.
Глобализация, как полагают представители неолиберализма, содействует развитию демократических процессов. Открывая границы, она предоставляет людям широкие возможности для выявления своих взглядов и непосредственного, при помощи электронных средств, общения, чем прямо или опосредованно влияет на политику. Глобальные проблемы (борьба с терроризмом, голодом и болезнями, экологический кризис и др.) обусловливают необходимость совместных усилий для их разрешения. В координации деятельности и поиске решений новых общих проблем также обнаруживается глобализация современного мира.
Политическое развитие мира так или иначе, но всегда было связано с научно–техническим прогрессом, который на протяжении всей своей истории не только обеспечивал экономический и социальный рост, но и фактически формировал политическую систему мира. Научно–техническое развитие конца XX в. резко изменило традиционную государственноцентристскую модель мира. Дж. Розенау не без пафоса указал, что именно высокие технологии «спустили с поводка» процессы глобализации.
Информационно–коммуникационные технологии открывают широкие возможности для взаимодействия отдельных людей, профессиональных групп, союзов, объединений. Резко увеличилась скорость передачи сообщений. В ежегодном выпуске Программы развития ООН — ПРООН (англ.: United Nations Development Programme — UNDP) за 1999 г. приводятся такие данные: документ прибывает из Мадагаскара к Кот-д’Ивуар по почте за 5 дней (стоимость $ 75), по факсу — за 30 минут (стоимость $ 45), по электронной почте — за 2 минуты (стоимость $ 0,2).
Интенсификация общения со все большей прозрачностью межгосударственных границ приводит к ограничению возможностей создания и функционирования авторитарных режимов, в целом способствуя демократизации, а также децентрализации мира, так как сеть не предполагает никакого единого управляющего центра. Одновременно усиливается взаимозависимость мира при доминировании одного из двух, существовавших в годы холодной войны, центров силы, — США. Вследствие этого частично утрачивается традиционный смысл такого ключевого понятия государственноцентристской модели мира, как территория и расстояние.
С одной стороны, территория распространяется за пределы национальных границ, открывая возможности быстрой связи и взаимодействия людей разных стран, с другой — суживается, охватывая через Интернет отдельные корпоративные или другие группы. Возникают новые общности и формы идентичности, которые далеко не всегда совпадают с национальными или географическими границами. Эти группы все активнее становятся участниками современных международных отношений, ставя под сомнение гипотезу С. Хантингтона о столкновении цивилизаций, которые при всем разнообразии выделенных им характеристик все–таки предполагают географическую территорию474.
Неоднозначность и неравномерность процессов глобализации обнаруживаются в том, что глобализация — довольно противоречивый процесс, который имеет разные последствия. В феномене современной глобализации наряду с положительными моментами обнаруживаются и отрицательные. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обращает внимание на то, что «выгоды глобализации явные: более быстрый экономический рост, более высокий уровень жизни, новые возможности. Тем не менее уже сейчас началась отрицательная реакция, поскольку эти выгоды распределяются весьма неравномерно»475.
Неравномерность глобализации и ее плохая управляемость вызывают наибольшее беспокойство. Первая в значительной степени связана с объективными процессами, которые происходят в мире, и наиболее знаменательным этапом мирового социально–экономического развития, переживаемым сегодня. Вторая определяется преимущественно субъективными факторами: от того, насколько человечество сможет взять под свой контроль глобализационные процессы, зависит его будущее.
Глобализация дает о себе знать далеко не во всех государствах и регионах одинаково и проявляется не во всех своих аспектах одновременно: в одних странах и на одних территориях она преимущественно охватывает экономическую сферу, в других — более быстрыми темпами проходит внедрение новых технологий476.
Неравномерность развития глобализации по географическому параметру приводит к усилению позиций ее антагонистов (антиглобалистов). Вследствие этого происходит нарастание регионалистских тенденций. Одни авторы определяют это как тенденцию, действующую наряду с глобализацией; другие склонны считать, что регионализация мира — тоже проявление глобализации.
Проблема управления процессами глобализации в более широком плане формулируется как регулирование современных международных отношений и мировых политических процессов. Здесь возникает, с одной стороны, вопрос о координации деятельности разных актеров, с другой — о создании действенных наднациональных институтов и механизмов управления477.
Глобализация, будучи ведущей тенденцией современного мирового развития, сопровождается интеграционными процессами. Однако интеграция — лишь часть глобализации, пусть одна из наиболее значительных. Прежде всего, говоря об интеграции, необходимо иметь в виду, что она предполагает сближение государств–участников.
Важным моментом при анализе интеграции является учет того, что этот процесс предполагает сотрудничество между государствами в различных сферах, областях и формах. Соответственно выделяют разные виды сотрудничества. П. А. Цыганков указывает на следующие основания для выделения видов интеграции:
• политические, экономические, научно–технические и т. п. (по предмету);
• глобальные, региональные, субрегиональные (по географическому принципу).
При этом, отмечает К. Воронов, сотрудничество и интеграция могут идти не только «вширь», вследствие увеличения количества участников процесса, но и «вглубь», путем интенсификации взаимодействия в различных сферах среди тех же участников.
Еще одним важным моментом, характеризующим интеграцию, является не просто сотрудничество, а образование механизмов межгосударственного взаимодействия, другими словами — институционализация сотрудничества.
Что побуждает государства к интеграции? Прежде всего — наличие общих проблем, решить которые легче, а в ряде случаев только и возможно совместными усилиями. Развитие мира в конце XX — начале XXI в. привело к усилению международных контактов, взаимозависимости мира, особенно в экономической области, что содействует интеграционным процессам и образованию различных межправительственных организаций. С этой взаимозависимостью тесно связан рост глобальных проблем, для решения которых нужны согласованные действия разных государств478.
Еще одной причиной, которая побуждает к интеграционным процессам, является заинтересованность «средних» и «малых» держав в увеличении своего международного влияния. Для этих стран объединенными усилиями воздействовать на международные процессы значительно легче, чем в одиночку.
Теоретическое осмысление интеграционных процессов начиналось с середины XX в. и связано главным образом с либеральной традицией, в рамках которой сложились две теоретических школы (подходы): функционализм/неофункционализм и федерализм479.
Девид Митрани, основатель функционализма, акцентирует внимание на развитии экономической, социальной, научно–технической интеграции, отодвигая политическую интеграцию на второй план. Школа функционализма рассматривает процесс экономической интеграции как прохождение ряда степеней:
1) создание зоны свободной торговли;
2) учреждение таможенного союза;
3) формирование общего (единого) рынка;
4) организация экономического и валютного союза;
5) переход к политической интеграции и создание единых политических институтов.
Тем не менее этот процесс далеко не обязательно реализуется в поступательном направлении — он может быть «приостановлен» на том или ином этапе, и экономическая интеграция не всегда приводит к политической. Именно политическая сфера оказывается наиболее сложной и мучительной в процессе интеграции, что видно на примере ЕС, где вопрос об общей внешней политике и политике безопасности был зафиксирован в документах Маахстрихтского соглашения в 1992 г. К настоящему времени эта область в ЕС остается наименее разработанной, хотя за последние годы произошли значительные сдвиги480.
Все эти моменты отмечают оппоненты функционализма. Поддается критике и тезис функционалистов о том, что политические отличия исчезнут по мере развития сотрудничества. На практике нередко обнаруживается обратное — не техническое и экономическое сотрудничество влияет на политику, а политические решения ведут к развитию или сокращению сотрудничества в той или иной области. Например, именно из политических соображений США в свое время покинули ЮНЕСКО.
Представители федерализма — школы, противоположной предшествующей, напротив, выдвинули на первый план политическую интеграцию, считая, что межгосударственные отношения должны изначально строиться на передаче части полномочий негосударственным образованиям. Это направление акцентирует внимание на создании политических институтов. Фактически, по мнению функционалистов, процесс интеграции идет «снизу кверху», а у федералистов наоборот — «сверху вниз».
В рамках федерализма активно развивались в свое время идеи «мирового правительства», которое должно было объединить людей в общее государство и тем самым снять, по мнению приверженцев этой школы, с повестки дня межгосударственные конфликты. Однако идея «мирового правительства» встретила жесткое сопротивление разных исследователей и политиков, которые подчеркивали необходимость сохранения национальной и государственной идентичности481.
Под влиянием федерализма функционализм получил дальнейшее развитие и ныне существует в виде неофункционализма. Это направление базируется на основных посылках функционализма, вобрав некоторые черты федерализма. В неофункционализме приоритетными являются практические проблемы в области здравоохранения, технологические изменения, правовые и прочие вопросы, имеющие значение для всего человечества. При этом подчеркивается важность политических решений. Именно они — по болезненным вопросам планетарного масштаба — оказывают содействие, соответственно этой точки зрения, интеграционным процессам и подталкивают участников к дальнейшему объединению в сфере экономики. Неофункционалисты обычно используют как модель для иллюстрации своих теоретических убеждений развитие Европейского Союза.
Интеграционные процессы проходят непросто. Национальные интересы одних государств сталкиваются с интересами других стран, объединений, регионов.
К тому следует добавить, что участники интеграции обычно находятся на разных стадиях экономического и социального развития. Поэтому, несмотря на взаимную выгоду от интеграции, вклад в той или иной сфере одних больший, чем других. Сказывается и неоднородность интересов разных групп внутри интегрирующих стран.
Существуют и другие издержки интеграции. Как в ситуации с глобализацией, интегрируются не только положительные достижения, которыми обладают страны, но и отрицательные. Так, в начале 90‑х годов Венесуэла обнаружила, что после открытия границы с Колумбией ее территория стала постоянно использоваться для провоза наркотиков482.
Для развития региональных интеграционных процессов необходимы следующие условия: географическая близость, стабильное экономическое развитие, поддержка общественным мнением интеграции, относительная однородность в области культуры, внутренняя политическая стабильность, близость исторического и социального развития, сопоставимость форм правления и экономических систем, близкий уровень военного развития и экономических ресурсов, осознание общности внешних угроз, сопоставимость структур государственного аппарата, наличие опыта сотрудничества.
Отношения между интеграционными и дезинтеграционными процессами следует, судя по всему, рассматривать аналогично отношениям между глобализацией и регионализацией. Мир после окончания холодной войны характеризуется перестройкой многих внутри — и межгосударственных отношений. Это проходит прежде всего путем интеграционных процессов, которые особенно четко видно на примере Европейского Союза, но это не исключает распада предшествующих связей и образований.
Европейский опыт интеграции интенсивно изучается с целью возможного его применения в других регионах. Тем не менее исследования и практика показывают, что, несмотря на наличие общих закономерностей, интеграционные процессы в каждом частном случае имеют свою специфику. Будут ли интеграционные процессы в мире развиваться по тем же принципам, как это происходило в рамках ЕС, покажет будущее.
Еще одной тенденцией развития современного мира большинство западных исследователей считают процесс демократизации. Под демократизацией мира понимается, во–первых, рост количества «свободных» держав; во–вторых, усиление и развитие демократических институтов и процедур в разных странах. Последнее имеет особое значение для государств, которые находятся в процессе перехода к построению демократического государства, т. е. в «демократическом транзите». Г. О’Доннел и Ф. Шмиттер в этом «транзите» выделяют следующие степени: либерализацию, демократизацию и консолидацию483.
Существуют разные представления, а также процедуры оценки того, какие страны считать демократическими. Нередко споры вызывают государства, находящиеся «в предельном состоянии», где ряд признаков демократического развития присутствуют, в то же время некоторые отсутствуют. Тем не менее в общем виде, согласно данным американского исследователя Д. Колдуелла, в 1941 г. можно было рассматривать в качестве демократических приблизительно 25% стран, а в 1996 г. их количество достигло уже 40%. Если же учитывать страны, которые находились в процессе демократического «транзита», то эта цифра, согласно американскому институту Freedom House, работающему над анализом развития демократий в мире, может достичь сегодня 75%. Американский исследователь и главный редактор журнала «Foreign Affairs» Фарид Захария пишет, что ныне 118 стран мира являются демократическими484. В любом случае, независимо от того, какие конкретные цифры будут взяты за основу, практически все авторы соглашаются с тем, что количество демократических стран увеличивается.
Чем обусловлены процессы демократизации? Разные авторы дают разнообразные ответы на вопрос относительно благоприятствующих ей причин. При этом в политологии рассматриваются обычно две группы факторов, или переменных:
• структурные (независимые переменные) — уровень экономического и социального развития, социально–классовые процессы, доминирующие в обществе ценности и т. п.;
• процедурные (зависимые переменные) — принимаемые решения, личностные особенности политических деятелей и т. д.
Конец XX в., совпавший с третьей «волной» демократизации, которая по количеству государств и по степени их вовлеченности в демократические процессы является, наверное, особенно масштабной, принес с собой и другие тенденции мирового развития — глобализацию и интеграцию мира Все эти процессы усиливают друг друга. Соблюдение демократических принципов и процедур все большим количеством участников служит некоторым положительным примером. Оставаться вне всемирного «демократического клуба» в современном глобализирующемся мире означает быть каким–то «изгоем» — вне системы, вне «современности». Это понуждает все новые и новые государства ориентироваться на демократические ценности485.
В этом контексте можно рассматривать процесс демократических преобразований в конце XX в. именно как тенденцию политического развития мира, в реализации которой все более важными оказываются не эндогенные (внутренние) факторы (уровень социально–экономического развития, политические процессы в обществе и т. п.), а экзогенные относительно данного государства, прежде всего воздействие международной среды. Именно она побуждает к демократическим преобразованиям или, по крайней мере, к декларированию ориентации на них.
В начале XX в. лишь относительно небольшое количество стран можно было рассматривать в качестве демократических, да и самые они далеко не всегда предусматривали всю полноту избирательного и других прав (в ряде стран были ограничены права женщин, национальных меньшинств, внедрен высокий имущественный ценз и т. п.), а к началу XXI в. эти проблемы оказались если не решенными, то решаемыми486.
Следует, тем не менее, указать, что демократизация не является каким–то однозначным поступательным процессом. Особенно выразительным это стало вследствие последней «волны» демократизации, когда появились нелиберальные демократии, гибридные режимы, имитирующие демократию. Их суть в том, что демократические институты и процедуры в ряде государств используются лишь как внешняя форма, служащая для прикрытия недемократических по сути механизмов реализации власти. Существуют государства, где проводятся формально свободные демократические выборы, результат которых предрешен заранее, как то видим во многих африканских, латиноамериканских и постсоветских государствах.
В других случаях на вполне демократических выборах побеждает кандидат, открыто исповедующий расистские, фашистские или сепаратистские взгляды, выступающий против мирного решения наболевших вопросов, как то в 90‑х гг. наблюдалось на территории распавшейся Югославии. Лидер добивался власти демократическим путем, тем не менее исповедует антидемократические взгляды и проводит соответствующую этому политику. Похоже, что количество разнообразных нелиберальных квазидемократий в мире в последние годы увеличивается. В 1990 г. их было 22% от всего количества формально демократических государств, а в 1997 — уже 35%487.
Региональная интеграция в современном мире (А. И. Ковалева)
Актуальность исследования региональной интеграции определяется противоречивостью современных интеграционных процессов в разных регионах мира на фоне глобальных изменений системного характера. Система международных отношений, процесс формирования которой продолжается, имеет признаки жесткой стратификации, проявляющейся в концентрации принятия решений ключевыми политическими и экономическими актерами при отстранении от этого процесса большинства государств мировой периферии, а отчасти — и полупериферии, среди которых многие страны Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки и Карибского бассейна, Северной и, особенно, Транссахарской Африки и т. п. Недостаточный потенциал автономного развития способствует их периферизации, что усугубляется опасностью культурного «растворения» и частичной утраты суверенитета в вопросах, обычно относящихся к исключительно внутренней компетенции.
В процессе «одномерной» унифицирующей глобализации, воспринимающейся как эквивалент американизации мирового пространства, региональная интеграция выступает одной из форм поддержания и защиты суверенитета национального государства. Данный процесс в силу общих тенденций развития мировой системы получил особенное значение и актуальность в последнее десятилетие и сейчас приобретает беспрецедентную масштабность, перерастая в императив интегрированных региональных пространств. Поэтому определение конкретных детерминант политической интеграции и прогнозирование возможных путей ее развития, в частности неизбежных проявлений кризисности, является актуальным как для развития теории международных отношений, так и для реализации внешней политики государств, которые не входят в так называемый золотой миллиард.
Понятие «интеграция» (от лат. «integratio» — возобновление, пополнение, и от «integer» — целый) характеризует состояние объединенности отдельных частей и функций системы или организма в целое, а также сам процесс объединения. Результат такого процесса — организацию, альянс — латиноамериканский исследователь А. Бансарт обозначает как «множащий механизм», поскольку его суммарная масштабность, разносторонность и действенность оказываются большими, чем у каждого отдельного его компонента488.
Современная интеграция — это прежде всего институционализованный процесс, принимающий форму конкретных организаций: 1) экономических — Европейское Экономическое Содружество, Североамериканская Зона Свободной Торговли (НАФТА), Обший рынок Южного Конуса (МЕРКОСУР), 2) политических — ООН, Организация Американских Государств (ОАГ) или 3) военно–политических — НАТО, Межамериканский Договор о Взаимопомощи489. Выделение институционального аспекта является принципиальным, поскольку как пример интеграции можно рассматривать и международное сотрудничество в целом, и отдельные блоки времен системы биполярности490.
Процесс регионализации является в определенном смысле более глубокой разновидностью интеграции. Это объединение на принципах «открытого регионализма» государств и целых регионов, имеющее целью улучшение позиций вовлеченной группы наций, связанных историческим прошлым, географическим положением, экономическими и политическими отношениями491, которое осуществляется путем создания, например, зон свободной торговли, таможенных союзов или обших рынков. Результатом продолжительного интеграционного процесса в мире стало формирование иерархической системы международных объединений: от межконтинентальных мегаблоков до небольших ассоциаций.
Политическую интеграцию можно определить как объединение, слияние общественных и/или государственных структур в рамках государства или более масштабного межгосударственного сообщества. Межгосударственная политическая интеграция осуществляется путем создания новых институтов власти с предоставлением им определенных суверенных прав национальных политических органов и развивается на базе интернационализации всей общественной жизни. Возникновение субрегионального или регионального интеграционного комплекса, связанное с появлением особых субрегиональных или региональных интересов, выделяющих данную группу стран в международном сообществе, осуществляется в рамках системы управления внутренними связями и внешними отношениями его участников. Такой целостный комплекс создается на уровне политических систем участников интеграции с политико–правовой и институциональной частями надстройки.
Участниками интеграционного комплекса становятся все организации, группы, которые имеют определенные политические функции и в той или иной форме связаны с осуществлением власти и управлением обществом, т. е. специально образованные транснациональные и национально–государственные институты (части государственных механизмов соответствующих стран, политические партии, профсоюзы и пр.). При этом имеет место слияние политических функций участников в сферах хозяйственно–, социально–, административно–, воєнно — и внешнеполитической деятельности.
Согласно классическому определению К. Дойча, интеграция — это процесс взаимодействия политических элит, государственных учреждений и институтов гражданского общества с целью установления между народами стабильных, динамических, многоуровневых связей, параллельных внутренней консолидации общества.
Современное концептуальное оформление интеграции в рамках системного и структуралистского подходов имеет своей основой традиционалистские концепции времен холодной войны и сциентистские концепции 60‑х гг. минувшего столетия. Среди традиционалистских концепций выделяются две группы подходов:
1) институционалистские подходы, в частности, концепция «мирового правительства» («благосостояние в мире достигается исключительно путем создания мирового правительства» — К. Уолтц, Г. Кларк, Л. Сон);
2) регионалистские подходы, в частности, географическая позиция («с региона начинается мир»); именно они стали базой интеграционистских концепций и были адаптированы и использованы системным подходом.
Среди сциентистских выделяется группа интеграционистских концепций, их ориентация на научную перспективу связана с теориями интеграции, для которых, благодаря мирному сосуществованию 1960‑х гг., мировая динамика сводилась к «ассоциативным», «функциональным» и «конвергентным» тенденциям. Эта группа включает:
1) федералистские концепции: благосостояние мира может быть достигнуто если не через «мировое правительство», то через «мировую федерацию»; т. е. главной целью является создание региональной федеративной сверхдержавы путем внедрения наднационального правительства для обеспечения выживания главного актера — отдельного государства; рассматривают политическую интеграцию как необходимое условие для экономической интеграции (В. Вильсон, К. Уолц; А. Макмагон, Ч. Мюре, Н. Левингстон, А. Этциони)492;
2) функционалистские и неофункционалистские концепции: благосостояние достигается путем постоянного развития и усиления всех видов механизмов и «организаций интеграции»: сначала экономической, потом, автоматически, — благодаря «эффекту спирали» — политической. Первые концепции делают акцент на необходимости создания условий для технологического прогресса и оптимизации механизмов власти и социальных механизмов путем постепенного формирования функционально необходимых институтов при деполитизации международной жизни. Они считают главными актерами государство и институты гражданского общества, в общей конструктивной деятельности которых зарождаются региональные институты; ставят политическую интеграцию в зависимость от экономической и возражают против «фронтального наступления» на суверенитет интегрированных государств (Э. Хасс, Д. Митрани, Л. Н. Линдберг, Ф. Шмиттер). Неофункционалисты предлагали использовать государственный бюрократический механизм как инструмент для постепенного «размывания» суверенитета стран–участниц (Э. Хаас, Л. Н. Линдберг, Р. Кеохейн, Д. Най и др.)493. В этой группе следует выделить коммуникационную концепцию, которая проводит идею создания «плюралистического сообщества безопасности» путем объединения наций на конфедеративной основе при их параллельном развитии с межгосударственными институтами и взаимодействии политических элит и обществ разных государств (К. Дойч, Д. Пьючелл);
3) концепции «конвергенции» — наиболее молодые среди интеграционистских концепций: современный мир благодаря научно–технологической революции, начатой транснациональными корпорациями, имеет тенденцию к «восхождению» — созданию единого общества, которое будет синтезом позитивных аспектов капитализма и социализма без их дефектов (А. Барбер).
Отдельно следует упомянуть концепции, также оказавшие значительное влияние на понимание интеграции:
• системные концепции: понимание мира как «целого» — «системы» — в постоянном взаимодействии с «частями» — «подсистемами» — и/или «актерами» (М. Каплан, П. Делаттр, Р. К. Мертон и прочие);
• глобалистские концепции: концепция «мирового общества» (Д. Бартон), геополитическо–экономическое видение (международной «асимметрии» или «бисегментации» Т. Смита и В. X. Вриггинза), концепция взаимозависимости и транснационализма (новая парадигма — не международные отношения, а «мировая политика» и «мировые отношения», взаимоотношения в рамках «сложной взаимозависимости», которые характеризуются большим количеством каналов связей между обществами (Р. Арон, Г. Кеохейн и Д. Най), изменением «природы власти» при ее «диффузии» через возникновение новых актеров и замещение «гегемонийного равновесия»), использование этого — в соответствии с логикой сепарации и правилами взаимодействия (взаимозависимость исключает «интеграцию»), а также в соответствии с логикой интеграции (динамика международной экономики — это динамика интеграции, примером является международное разделение труда — С. Хоффман).
Если подытожить сказанное, политическая интеграция — это сложный многоуровневый, многомерный процесс объединения общественных, государственных структур в пределах государства или межгосударственной общности; в терминах системной концепции мировых отношений — это «актерская» интеграция, которая имеет место, если два или больше актеров образовывают нового актера с «новым» увеличенным потенциалом.
Понятие «интеграция» имеет несколько аспектов: она может рассматриваться как процесс и как результат, как цель (самоцель) и инструмент выполнения определенных задач. Для комплексного определения выделим две группы основных составляющих этого явления:
1) по форме: интеграция как процесс и как результат;
2) по функции: интеграция как цель и самоцель и как инструмент.
Как процесс интеграция является совокупностью средств, стратегий и механизмов, направленных на формирование некоей новой институционализированной структуры. В условиях международных отношений это многопрофильный процесс, который охватывает экономическую, политическую, социальную и геополитическую сферы. В целом его можно охарактеризовать как объединение потенциалов. Стратегиями и механизмами могут быть: соглашение, альянс, «инициатива», общий проект, зона торговли, юридическая норма и пр.
Если интеграция рассматривается как результат, она понимается в качестве унифицированного институционализированного пространства, т. е. как определенная институциональная структура, которая может быть «формальной», представляя собою определенный тип объединения (зону свободной торговли, общий рынок или таможенный союз; политический блок, организацию), или «неформальной», существуя в виде отдельных соглашений или «инициатив».
Обязательным объективным условием для эффективности интеграции является достижение взаимной зависимости объединенных частей.
Определение интеграции как цели лучше объяснить в рамках системной концепции при понимании мировой системы как системы взаимодействия отдельных актеров — т. е. на примере «актерской» интеграции. Непосредственной целью интеграции всегда является повышение дееспособности интегрирующихся частей — актеров. Она проявляется через власть (в смысле способности к действию) или владение «инструментальными факторами». Речь идет о появлении «новой», возросшей возможности действий нового актера вследствие объединения потенциалов отдельных актеров, способности достигать цели и выполнять решения, не подпадая под давление актеров, внешних для интеграционной системы.
Понимание интеграции как самоцели проявляется в ее направленности исключительно на создание институционализированного пространства, или нового актера. Как самоцель интеграция рассматривается, главным образом, на этапе планирования и создания интеграционных объединений, но потом ее значение существенно расширяется. Если, к примеру, обратиться к латиноамериканским реалиям, то следует отметить, что специалисты указывают на реализацию интеграции как самоцели в тех случаях, когда имеет место ее сведение к простой коммерциализации, без учета и воплощения прочих аспектов данного явления. С другой стороны, региональная интеграция никогда (за исключением идеологических концепций периода войны за независимость) не рассматривалась как самоцель — перед нею всегда ставились конкретные политические и социально–экономические задачи.
Широчайший спектр значений интеграции раскрывается через аспект «интеграция–инструмент». Имеется в виду использование интеграции для достижения целей больших, чем непосредственно включенные в контекст создания институционализированных пространств, недостижимых или почти недостижимых для любого из интегрированных компонентов в отдельности. В данном случае набор этих «значений» отличается для стран с различными уровнями экономического, политического, технологического развития и, соответственно, влиянием и местом в системе международных отношений. То есть более «многозначной» будет интеграция с точки зрения развивающихся и наименее развитых стран, поскольку она будет определяться большим количеством и более глубоким содержанием их проблем, которые могут быть решены благодаря интеграции.
Определим группы целей, которые содержит «инструментальный аспект» интеграции для определенного региона:
1) общеэкономические:
• повышение уровня развития стран региона — экономического, социально–культурного, научно–технологического, достижение более высокого уровня жизни населения (в перспективе — среднемирового); преодоление периферийности; преодоление внешней задолженности; получение возможности самостоятельно пользоваться, распоряжаться собственными ресурсами;
2) политические, геополитические/геостратегические:
• усиление политико–экономических позиций региона; повышение его статуса и веса на мировом уровне; его непосредственное включение в систему международных отношений; преодоление внешней «уязвимости»; увеличение переговорной способности и получение возможности влиять на принятие решений, установление «правил игры» и соответствующего мирового порядка; обретение возможности осуществлять внешнюю политику как внешнеполитическую деятельность, а не как политику решения проблем, т. е. исключительного реагирования на внешние вызовы;
• «автономизация», т. е. преодоление зависимости, обретение возможности оказывать сопротивление давлению со стороны доминирующих государств и организаций и способности осуществлять автономную внешнеполитическую деятельность;
• поддержание и сохранение суверенитета и собственной идентичности в условиях глобализации и угрозы установления гегемонии США;
• конечная цель: формирование нового отдельного регионального «полюса» в новой, более сбалансированной мультиполярной мировой системе.
В соответствии с классификацией, предложенной Дж. Галтунг в 1969 г., интеграция как сложносоставной процесс (в рамках интеграции как самоцели) по своим аспектам может быть разделена на три типа, каждый из которых связан с двумя другими и имеет подклассы494.
А. Ценностная интеграция:
I. Модель равенства: актеры имеют сходные интересы. Нет существенного различия между ними, нет доминирования одного актера над другими. Наибольшие ценности — развитие, достижение независимости и т. д.;
II. Модель иерархичности: актеры стратифицированы, организованы, актер высшего ранга доминирует над актерами низшего ранга. Ценности актеров высшего ранга становятся наивысшими и должны приниматься всеми (пример идеологии государств–лидеров блоков времен биполярности, современная Североамериканская Зона Свободной Торговли (НАФТА), проект Американской ЗСТ, в которых актером высшего ранга являются США);
Б. Интеграция как актерская интеграция:
I. Модель подобия: интеграция как процесс между актерами, подобными по влиянию, демографическому составу, структуре экономики и ее проблемам, политической структуре и т. д. (например, Организация стран экспортеров нефти). Присущая им когерентность в целях, приводящая к когерентности в принципах, облегчает координацию принятия решений.
II. Модель взаимозависимости: актеры объединяются на уровне интересов, устанавливая культурную, экономическую, политическую и другие типы взаимозависимости (например, западный блок времен биполярности). Это не обязательно предполагает совпадение интересов. Модель взаимозависимости родственна с иерархической моделью.
В. Интеграция как взаимный обмен между частями и целым:
I. Модель лояльности: интеграционная система поддерживается частями, которые ее составляют (например, международные организации).
II. Модель ассигнования: целое существует и функционирует, если способно что–нибудь предложить частям: защиту, товары, услуги, информацию и пр. Таким образом, новый интегрированный актер должен содействовать решению проблем или достижению целей его составных частей.
Ни одна из описанных моделей не существует в чистом виде. Все они взаимосвязаны по принципу обратной связи — положительной или отрицательной. Случаю взаимозависимости в целом свойствен элемент стратификации и иерархичности; в случае подобия в отношениях между актерами преобладает идея лояльности на базе идеологии, способствующей достижению дипломатических компромиссов; и т. д.
Компоненты нового актера взаимодействуют между собою и вместе с внешними актерами определяют и создают для себя новую ситуацию как в рамках нового актера, так и в международной системе.
Этот новый интегрированный актер всегда имеет в качестве противоположности «анти–актера», представленного во внутренней среде или группами националистов, которые считают, что интеграционный процесс вредит суверенности, или лидерами с недостатком настойчивости и понимания ситуации, усложняющими интеграцию; тогда как во внешней среде — другими актерами, которые препятствуют интеграции, содействуя разделению или международной глобализации, в которую включен новый актер.
Таким образом, при анализе нового актера необходимо учитывать такие внешние параметры актерской интеграции, как способность актеров его создавать, а также его способность получать признание со стороны других членов мировой системы495:
1. Новый дееспособный актер, признанный международным сообществом: это пример завершенного процесса интеграции. Признание нового актера является не дипломатическим признанием, а функцией его потенциала и эффективного участия в международных отношениях. В мировой истории интеграции за последние 50 лет только Европейский Союз может быть отнесен к данной категории, поскольку за это время он сумел трансформироваться в «мировую силу» с возможностью самообеспечения в аграрном секторе (Зеленая Европа), развития собственных технологий (Проект Еврека), принимать участие в проектах аэронавтики (Конкорд и ЭйрБас) и космической техники (Проект Aruanne).
2. Новый дееспособный актер, не признанный международным сообществом: речь идет об интеграционной системе с определенным уровнем координации; тем не менее государства, которые составляют часть внешнего окружения этого актера, отказываются контактировать с ним как с интегрированной группой, отдавая предпочтение индивидуальным отношениям с его компонентами или частями. Примером может быть непризнание Бразилией Андского пакта как интеграционного целого на первом этапе его существования и взаимодействия с его членами в двухсторонней форме; подобная ситуация сложилась в отношениях между восточными странами, образующими определенные сообщества (например, Лигу арабских государств), и Европейским Союзом, между США и Центральноамериканским общим рынком и пр.
3. Новый недееспособный актер, признанный международным сообществом: это интеграционная система, которая не функционирует, но, тем не менее, пользуется всеобщим признанием в мировом сообществе. В этом случае окружение воспринимает нового актера как обладающего намного большим единством, чем в реальности, и способным достигать определенных целей, что неверно. К этой категории можно отнести большинство интеграционных процессов в Латинской Америке, прежде всего Латиноамериканскую ассоциацию свободной торговли, Латиноамериканскую ассоциацию по интеграции и даже МЕРКОСУР.
4. Новый недееспособный актер, не признанный международным сообществом: претензия на интеграцию при неэффективной деятельности и без необходимого признания международного сообщества. Андский пакт на последних этапах реформирования (бывших больше формальными, чем настоящими) не рассматривается мировым сообществом как реальное объединение.
Так, большинство латиноамериканских интеграционных систем оказались в определенной мере как дееспособными — в расширении межрегиональной торговли, так и недееспособными — в условиях региональных кризисов.
При оценке внутренних параметров актерской интеграции следует учитывать и такие характеристики, присущие новым актерам, как степень влияния (dominio) и радиус действия (alcance).
Внутренней степени влияния (это количество участников интеграционной системы) соответствует возможность нового актера абсорбировать определенное количество актеров.
Внешняя степень влияния характеризует количество актеров, которые признали нового актера. Например, Картахенское соглашение, касавшееся внешней задолженности, не было признано ни одним актером — ни внешними по отношению к ней, ни ее участниками; Контадорская группа и затем Группа восьми получили более широкое признание со стороны международного сообщества, чем стран региона.
Количество функций, которые должны выполняться интеграционной системой, определяет внутренний радиус действия, демонстрирующий степень внутренней интеграции, необходимой для поддержания существования системы. Фактически в латиноамериканском регионе взаимодействие между актерами, несмотря на заложенную в интеграционных соглашениях многопрофильносгь, сводится преимущественно к отношениям в сфере торговли.
Под внешним радиусом действия понимается степень взаимодействия интеграционной системы с внешними по отношению к ней актерами. В этом смысле латиноамериканские интеграции не сумели проявить себя как реальные представители региона в системе международных отношений. Поэтому внешние актеры — третьи страны и международные организации — взаимодействовали с регионом не через них, а с их членами в рамках двухсторонних соглашений. Можно сделать исключение только для МЕРКОСУР, который заключил соглашения со США, в первую очередь — «Розовый сад» и «Четыре плюс один», и с Европейским Союзом — Мадридское соглашение, и сейчас продолжает участвовать в переговорах с ними, а также с другими странами и объединениями как единый блок.
В соответствии со сферой действия интеграционных систем и с учетом кризисов, которые в них возникают, могут быть выделены следующие независимые взаимодополняющие и определяющие друг друга типы актерской интеграции.
А) Типы интеграции по сфере действия:
1. Территориальный тип (Т) характеризуется соседством или территориальной близостью актеров (Ла–Платский пакт, Амазонский пакт, разные проекты, выработанные для объединения бассейнов Ориноко, Амазонки и Ла–Плата). Территориальная интеграция решает проблемы коммуникаций, транспорта, инфраструктуры в целом, она способствует поддерживанию, росту и укреплению осознания государствами региональной идентичности благодаря установлению более близких отношений. Однако данный тип интеграции не решает проблемы производства и координации политики.
2. Организационный тип (О) включает два типа отношений: взаимозависимость и взаимодействие (примером может быть та же система международного разделения труда). Имеет место взаимный обмен между актерами, разделение труда, в результате которого возникают вертикальные отношения, что проявляет большую и меньшую дееспособность актеров. Основными чертами данного типа актерской интеграции являются: гетерогенность состава, иерархичность взаимоотношений, неравенство распределения прибыли и преимуществ, полученных в результате интеграции496. Примерами организационного типа интеграции могут служить НАФТА и МЕРКОСУР.
В пределах организационного типа выделяются актеры–производители, которые могут быть заменимыми и незаменимыми, и их обязанности или функции, которые они выполняют (статус), — в свою очередь, могут быть необходимыми или не необходимыми. В соответствии с данными характеристиками можно выделить следующие типы актеров.
1) Незаменимый и необходимый актер, выполняющий необходимую функцию, — это может быть страна–производитель некоего стратегического сырья, технологии или капитала.
2) Незаменимый, но имеющий статус не необходимого, — например, в случае членства в договоре о безопасности, когда актер не имеет достаточного вооружения для континентальной защиты: он является незаменимым, потому что принадлежит к зоне безопасности, но его статус не необходимого вытекает из недостаточности вооружений или их отсутствия.
3) Заменимый, но имеющий статус необходимого, — речь идет о стране–производителе нестратегического сырья: эта страна может быть заменена другой, располагающей таким же сырьем, ведь ее статус необходимой обусловливается только потребностью в данном сырье для производства.
4) Заменимый и не необходимый актер — это тот, который не имеет сырья и может быть «безболезненно» заменен другим в интеграционной системе.
Интеграция в рамках организационного типа нацелена на получение сравнительно наибольших преимуществ в конкурентной борьбе, например, на уход от поведения «реагирования» и приобретение доступа к возможностям, которые предоставляет международная среда в контексте современных тенденций (технологическая модернизация, образование новых блоков и пр.).
3. Ассоциационный тип (А) характеризуется направленностью не на производство продукции, а на разработку стратегий преодоления отрицательных эффектов неоднородности глобальных процессов и усиление позиций по отношению к странам, устанавливающим правила игры в международных отношениях. Это является результатом реализации модели подобия при сходстве проблем, ожиданий, интересов, целей и пр. В некоторых случаях ассоциационный тип превращается в «максимизирующий альянс» (по определению Г. Моргентау), который позволяет умножить усилия задействованных актеров и выполнить конкретные задачи, поставленные перед проектом интеграции. Особенностями данного типа являются: гомогенность актерского состава — сходство проблем и целей, которые ставят отдельные актеры перед интеграцией, благодаря чему взаимодействия между актерами происходят на горизонтальном уровне, т. е. не возникает иерархии отношений; равномерное распределение преимуществ и выгод от участия в интеграции и т. д.497. Примерами интеграционных организаций ассоциационного типа могут служить: Организации стран экспортеров нефти, Группа семидесяти семи, Движение неприсоединения, Трехсторонняя комиссия, Парижский клуб и пр. Что касается латиноамериканской интеграции, то для решения всех поставленных задач она в идеале должна соответствовать именно ассоциационному типу.
Ассоциационная интеграция, которая реализуется в рамках стратегии автономизации, всегда встречает противодействие со стороны третьих стран, особенно государств Севера, приобретающее вид «контрстратегий». Проблема заключается в том, что в основном «контрстратегии» оказываются более эффективными, чем стратегии автономизации (например, План Бейкер–Брейди по отношению к Картахенскому соглашению 1985 г. в сфере решения проблемы латиноамериканской задолженности или «Инициатива для Америк» в противоположность интеграционным процессам в Латинской Америке).
Б) Типы интеграции в соответствии с кризисами, возникающими в сферах интеграции498:
1. Первый тип — территориальная интеграция (Т) не производит продукции, предлагает только территорию, но не располагает сырьем, — это не предусматривается для данного типа. Также не продуцирует модели равенства, поскольку ее территории разнообразны и неоднородны — в отношении и размеров, и ресурсов. Что касается безопасности, независимо от различия ролей членов нового актера и их неоднородности, актер защищает их всех.
Соответственно, кризис данного первого уровня интеграции (Т) проявляется в динамике технического прогресса в сферах коммуникаций и транспорта. Подобный кризис не является поводом для отказа от интеграции. Для его преодоления и сохранения объединения актеры, уже взаимодействующие между собою, должны перейти к организационному типу интеграции.
Организационная интеграция (О), базируясь на разделении труда, вырабатывает продукцию, но является неоднородной и разнообразной, так как вырабатывает разные продукты или ресурсы, поэтому само по себе разделение труда приводит к иерархичности. В соответствии с этим кризис второго уровня (О) провоцируется дифференциацией в системе разделения труда, когда выдвижение требований слабыми актерами генерирует напряженность, трудно контролируемую в условиях объединения.
Ассоциационная интеграция (А) не производит продукции, но объединяет актеров–производителей важных и сходных типов ресурсов, используемых для собственной защиты, предлагая, таким образом, своим членам большую безопасность.
Кризис третьего уровня (А) может быть вызван недостаточной мощностью ассоциации, поляризацией сил в ее рамках; возникновением контрассоциаций, стратегической слабостью.
Организационный и ассоциационный уровни находятся в замкнутом цикле обратной связи между кризисами и контролем над ними.
Формы возможных типов ассоциаций могут быть разделены на шесть категорий.
К первой относится группа актеров низшего уровня (НУ‑1, НУ‑2), которые зависят от актера–гегемона и объединяются между собой, чтобы усилить способность реализации стратегии автономизации.
Ко второй категории относится альянс, сформированный актерами высшего уровня (ВУ‑1, ВУ‑2) — большими странами с высоким потенциалом — с целью управления на глобальном или региональном уровне (например, Трехсторонняя комиссия).
Третья категория представлена группами средних и малых актеров, которые объединяются, формируя новую группу, что приводит к образованию ассоциационного (А) и организационного (О) уровней (ВУ‑1 — НУ‑1 и ВУ‑2 — НУ‑2).
Четвертая категория содержит объединения стран–производителей в ассоциационной форме (НУ‑1 — НУ‑2, которые создают новое объединение).
К пятой категории относится объединение больших стран, образующих новую группу глобального или регионального уровня (ВУ‑1 — ВУ‑2).
Последняя — шестая — категория представляет собой международное объединение стран наподобие Организации Объединенных Наций (0–1–0–2).
Кризис на организационном уровне приводит к появлению ассоциаций на разных уровнях, которые, в свою очередь, будут иметь структуру ассоциационно–организационного типа, создавая новый порядок разделения труда499. Данная конфигурация отношений отражена в схеме 1.
Схема 1. Конфигурация отношений ассоциационно–организационного типов: 1 — актеры первого низшего уровня (НУ‑1, НУ‑2); 2 — актеры второго высшего уровня (ВУ‑1, ВУ‑2); 3 — объединение актеров первого и второго уровня; 4 — объединение актеров первого уровня; 5 — объединение актеров второго уровня; 6 — объединение международных актеров (0–1 и 0–2).
Более мощные актеры всегда будут стремиться контролировать более слабых, что может стать причиной новых кризисов. Поэтому для последних объединение следует начинать с первой категории (1), впоследствии осуществлять переход к четвертой (4). С другой стороны, по той же причине актеры второй категории будут ассоциироваться, чтобы сформировать пятую категорию (5), а актеры уровня 0–1 и 0–2 образовывать категорию (6), чтобы созданием контральянса противостоять действиям актеров новой группы (4). Другими словами, актеры первого уровня — менее дееспособные или малые (1) — только благодаря своему усилению путем объединения (4) получат возможность взаимодействовать с актерами второго уровня (2) и сформировать новую систему интеграции и разделения труда (3), в которой они достигают необходимого уровня и мощности, чтобы принимать участие в ее функционировании, а не просто подчиняться директивам и действиям больших и более дееспособных.
В заключение коротко охарактеризуем основные формы экономической интеграции. Термин «экономическая интеграция» отражает процесс либерализации таможенных тарифов между странами, которые составляют один субрегион, благодаря чему активизируется их взаимный торговый обмен и, в случае введения общих внешних тарифов (ОВТ), без лишнего субрегионального протекционизма (в неолиберальной терминологии это обозначается как «открытый регионализм») они получают возможность действовать как единый коммерческий блок. Однако все это становится реальным только при условии достижения согласованной в учредительных договорах параллельной отмены или снижения таможенных тарифов в соответствии со списком товаров, разработанном ВТО. Но эти необходимые условия в ряде регионов, например в Латинской Америке, не выполняются — здесь они не были реализованы ни одним из интеграционных объединений, что позволяет говорить о неэффективности интеграции.
Система форм экономической интеграции разработана ВТО. В табл.1 отражено, что на первом этапе вводится общая тарифная политика лишь в пределах зоны; на втором этапе становится единой тарифная политика по отношению к третьим странам500.
При образовании общего рынка полностью отменяются все ограничения для передвижения всех ресурсов производства между государствами–членами, координируется экономическая политика и т. п. Экономический союз возникает на этапе высокого экономического развития, в его границах осуществляется согласованная или даже единая экономическая политика и на ее основе ликвидируются все препятствия для взаимодействия между государствами, создаются неподотчетные государствам наднациональные органы (формируемые, однако, из представителей государственного руководства), решения которых имеют обязательный характер, приобретая значимость законов.
Для создания настоящего экономического союза всеми государствами–членами реализуются значительные внутренние изменения, учитывающие достижения предшествовавших уровней интеграции. Это делает невозможным формирование экономического союза без предварительного прохождения более простых стадий: зоны свободной торговли, таможенного союза и общего рынка. Одной из основных составляющих экономического союза является валютный союз, который часто рассматривается отдельно в качестве одной из форм экономической интеграции.
Таблица 1. Уровни экономической интеграции
Уровень интеграции Ликвидация таможенных тарифов Общие внешние тарифы Общие коммерческие политики Общие экономические политики Общая глобальная политика (оборона, внешняя политика, промышленность, общая валюта) Зона свободной торговли * Таможенный союз * * Общий рынок * * * Экономический союз * * * * Глобальная интеграция * * * * *Таблица 2. Уровни интеграции латиноамериканских объединений в соответствии с уровнями экономической интеграции, установленными в учредительных договорах
Уровень интеграции Ликвидация таможенных тарифов Общие внешние тарифы Общие коммерческие политики Общие экономические политики Общие глобальные политики (оборона, внешняя политика, промышленность, общая валюта) Зона свободной торговли ЛААСТ-ЛААИ КАСТ НАФТА ГЗ АЗСТ (еще не введена в действие) Таможенный союз Андский Пакт МЕРКОСУР Общий рынок ЦАСР КАРИКОМ Экономический союз Европейское Экономическое Сообщество Глобальная интеграция Европейский СоюзГлобальная экономическая интеграция объединяет все признаки менее сложных уровней интеграции, а также предполагает единую экономическую политику и унификацию законодательной базы (налоговой политики, трудового законодательства и пр.); именно на этом уровне государства–члены разрабатывают единую внешнюю не только экономическую, но и политическую стратегию и действуют на международной арене как единый актер. В табл.2 в качестве примера представлены основные субрегиональные и региональные интеграционные организации Латинской Америки, а также, для сравнения, ведущие объединения в Северной Америке и Европе, расположенные в соотвествии с провозглашенной их учредительными договорами конечной целью интеграции501.
Множественность участников на современной международной арене как фактор изменения политической структуры мира (Н. В. Фесенко)
В последней трети XX в. произошли кардинальные политические изменения на мировой арене. Бурное развитие экономики, в свою очередь, вовлекло в международные экономические отношения все страны и регионы мира. Широкое внедрение Интернета и разновидностей телекоммуникаций, наряду с экономическими факторами, сделало возможным более тесное общение и взаимодействие на уровне отдельных людей, групп и организаций. Вследствие этого межгосударственные границы практически во всех сферах стали прозрачнее. Все более отчетливыми становятся такие тенденции мирового развития, как глобальная интеграция и, в то же время, дифференциация мира. Все это существенно изменило и политическую структуру мира.
Структура современной системы международных отношений характеризуется тем, что по окончанию холодной войны эпоха биполярного мира канула в Лету. Дискуссии развернулись вокруг двух основных точек зрения на новую систему международных отношений:
• мир стал монополярным;
• мир стал многополярным502.
Вопрос «полярности» мировой системы в 1990‑е гг. интенсивно обсуждался как политическими деятелями, так и исследователями. Кроме того, после краха биполярного мира наибольший интерес вызвала проблема стабильности международных отношений. Насколько она стабильная в сопоставлении с прежней? Какая структура является наиболее стабильной? Какую систему или структуру следует строить или формировать в дальнейшем?
Во время войны в Персидском заливе тогдашний президент Соединенных Штатов Дж. Буш–старший заявил, что в связи с распадом Советского Союза исчез один из «полюсов». Эта идея была подхвачена мировой общественностью. З. Бжезинский отмечал, что вследствие краха противника Штаты стали единственным мировым государством503. Более того, констатировал он, даже если преимущество США начнет уменьшаться, маловероятно, что любое государство сможет достичь мирового преобладания, которое ныне имеют США504.
С одной стороны, эта точка зрения приобрела поддержку многих исследователей и практиков, главным образом в США, с теми или другими нюансами, предостережениями и объяснениями. Начали говорить о формировании Pax Americana — единственно полюсного мира во главе со США. По мнению С. Хантингтона, лидерство США оправданно тем, что эта страна является наиболее свободной и либеральной. Однополярность связывалась также с отсутствием серьезных угроз для США со стороны любого другого государства505. Ряд авторов также подчеркивает ответственность США за то, что происходит в мире, учитывая их мощь и положение лидерства.
Тем не менее, во многих работах осуществлялись попытки показать, что однополярность мира совсем не означает непременно полюс в виде США. Он может быть намного более сложным. Например, некоторые исследователи считают, что этот полюс складывался еще в период холодной войны и представляет собою какие–то согласованные действия по управлению миром группой из семи ведущих государств (G-7). Концепция многополярного мира становится довольно популярной в России в конце 90‑х годов, когда стало очевидным формирование новых мировых центров, или полюсов, в частности Китая и Западной Европы506. В академических кругах многих стран обсуждается вопрос и о возможных вариантах многополярности.
Во времена расцвета государственноцентристской модели мира экономический и военно–политический потенциалы государства, как известно, совпадали, а в конце XX в. экономический фактор стал самостоятельным. Это сказалось, например, во время энергетического кризиса 70‑х годов, когда страны Запада, обладавшие большими военно–политическими возможностями, оказались вынужденными вести переговоры со странами ОПЕК. Неслучайно и сегодня даже исследователи, склонные мыслить в рамках государственноцентристской модели мира с ее возможными полюсами, отмечают автономную роль экономического фактора, выделяя Японию как один из центров, несмотря на то, что эта страна не обладает мощным военно–политическим потенциалом.
Будет ли экономический фактор определять могущество «полюсов» XXI в., сказать трудно. Возможно, возрастет значение других показателей, в частности, уровня человеческого развития и использования новых технологий, а также образования, политической активности на мировой арене507.
Безусловно, в ближайшей перспективе государства останутся наиболее весомыми субъектами мирового развития. Поэтому исследователи, придерживающиеся неолиберальной традиции, говорят о нескольких уровнях полярности при рассмотрении междугосударственных отношений. Так, Дж. Най выделяет три таких уровня. Первый относится к силовой сфере, и здесь США доминируют. Второй — к экономической. На этом уровне существуют три основных центра: США, Западная Европа и Япония. Третий — уровень транснациональных отношений508. Другие авторы особое внимание уделяют этому последнему уровню, который бурно развивается и формирует «центры» в той или иной области (финансовой, научно–технической и т. п.) — транснациональные корпорации, финансовые институты, отдельные города (например Лондон) или регионы (в частности Южная Калифорния).
Принимая во внимание сложность и многоуровневость современного мира, наиболее корректным будет вести речь не о многополярности мира, где полюсами выступают государства, а о его полицентричности, где полюса являются качественно разными и находятся на разных уровнях. Американский исследователь Дж. Розенау пишет, что политическая структура мира XXI в. будет напоминать, скорее всего, сеть по типу Интернета, с многочисленными узлами и сплетениями — государственными, межгосударственными, негосударственными и смешанными509. Это до сих пор очень неопределенная структура, но уже сейчас, согласно Дж. Розенау, само понятие «международные отношения» теряет прежний смысл. Для описи нового феномена он предлагает использовать термин «постмеждународные отношения».
Существует много суждений относительно глобального политического перехода, или «транзита». Этот «глобальный транзит» описывается по–разному: как эпоха неопределенности, переломности. Дж. Розенау использует метафору из физики, называя это периодом турбулентности, и определяет как «точку бифуркации» (из которой последующее развитие может происходить в совершенно разных направлениях)510. В этот период закономерности перестают действовать с прежней очевидностью. В результате ситуация оказывается малопрогнозируемой, с разными последствиями. Возрастает напряжение, обычные отношения трансформируются, что часто приводит к параличу процессов принятия решений и т. п. В то же время сама политическая ситуация развивается весьма быстро.
Это тот период, когда происходит действительно качественная трансформация, изменяющая суть как внутриполитического, так и внешнеполитического устройства мира511. Противоречие даного периода обнаруживается втом, что, с одной стороны, продолжают действовать старые закономерности и нормы, а с другой — одновременно появляются новые. Мы наблюдаем изменения форм государственного суверенитета (потери одних и появление новых функций), роли неправительственных актеров, а также возрастающей взаимозависимости, которая позволяет государствам более активно реагировать на события, происходящие в других странах, особенно, если они приводят к региональным или межрегиональным конфликтам.
Одновременно вмешательство во внутренние дела (в этом отношении примечательна последняя, 2003 г., война в Ираке, инициированная США) принуждает другие государства, в том числе те, относительно которых не было применено насилие, разнообразными способами стремиться к сохранению своего суверенитета (здесь показательным является смена курса Ливией в начале 2004 г.). Это может принимать разнообразнейшие, в том числе весьма опасные формы. Например, побудить неядерные государства (Северная Корея, предположительно Иран) к развитию программ по разработке и производству собственного ядерного оружия. В более «дешевом» варианте они могут ориентироваться на использование химического оружия.
Согласно международному праву все государства обладают суверенитетом и равны между собой. Тем не менее, как нередко шутят политологи, перефразируя известное выражение Дж. Оруэла, все государства, безусловно, равны, но некоторые из них «равнее»512.
Действительно, государства отличаются многочисленными параметрами, в том числе степенью политического влияния, военного могущества, экономического потенциала, территорией, численностью населения и др. Очевидно, многие из этих параметров взаимосвязаны. В период холодной войны распространенным было выделение сверхдержав (СССР, США), весомых (Франция, Канада и др.) и малых (Чад, Фиджи и др.) государств. После окончания холодной войны подобная классификация в значительной мере утратила смысл. Все более значительным становится экономический фактор513. Благодаря ему значение промышленно развитых Южной Кореи или Сингапура в мире весьма велико, тогда как вес Аргентины или Нигерии явно не соответствует их территории, наличию ресурсов и численности населения.
Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития (англ.: World Bank; International Bank for Rekonstruction and Development, IBRD) выделяют три основных категории государств в зависимости от ВВП на душу населения в год:
• с низким уровнем прибылей (765 долл. США и ниже);
• средним (от 766 до 9 385 долл. США); эта группа разбивается часто на две подгруппы;
• высоким уровнем прибылей (выше 9 386 долл. США).
Приблизительно 40% государств с населением более 55% численности людей на Земле входят в первую категорию, а государства с высоким уровнем прибылей составляют приблизительно 15%514. Большинство стран с высоким уровнем прибылей является членами международной Организации экономического сотрудничества и развития — ОЭСР (англ.: Organisation for Economik Cooperation and Development — OECD), так называемого «клуба зажиточных».
Сегодня и государственноцентристская модель мира, и самое государство претерпевают серьезные изменения. Продолжается формирование новых государств. Многие исследователи обращают внимание на то, что современные государства не могут достаточно эффективно действовать в сфере охраны окружающей среды, обеспечения экономического роста и в других областях. Наряду с государственными институциями этими вопросами активно начинают заниматься межправительственные и неправительственные организации, разные союзы и т. п. Они играют все более важную роль на мировой арене, влияя на международную среду и суживая деятельность государств. В связи с этим все чаще говорится о потере государством ряда своих полномочий, ограничении его суверенитета и даже об исчезновении государства в том виде, в котором мы привыкли его видеть515.
Впрочем, имеются и возражения относительно слабости и угрозы «исчезновения» государства. Оно сохраняется: существуют же государственные границы; количество государств от десятилетия к десятилетию не уменьшается, а растет; расширяются их функции в экономической и социальной сферах; увеличиваются возможности влияния на своих граждан с помощью электронных средств; государства активно образовывают международные институты и режимы; наконец, нет такого актера, которому могут быть переданы властные полномочия государства, и т. п.
И все же в современном мире государство вынуждено все больше оглядываться, с одной стороны, на международные организации и институты (в результате происходит ограничение суверенитета «сверху»), с другой — на свои внутригосударственные регионы, которые активно выходят на международную арену, развивая торговые, культурные и прочие отношения (ограничение суверенитета «снизу»). Кроме того, государство вынуждено принимать во внимание и других участников международных политических процессов — ТНК, неправительственные организации и пр.516.
Вслед за эрозией государственного суверенитета оказываются размытыми нормы и принципы международного права — одного из компонентов, призванного стабилизировать мировое развитие. На практике эти нормы и принципы все более противоречат друг другу517. Например, права наций на самоопределение, с одной стороны, и сохранение целостности государства — с другой; принцип невмешательства во внутренние дела и предоставление гуманитарной помощи; соблюдение прав человека и силовое вмешательство в конфликт с целью сохранения мира (Устав ООН, гл. VII), а также проблема характера этого вмешательства (наличие санкций ООН, возможность использования ВВС, ВМС, таких действий, как «вытеснение» вооруженных группировок, «превентивная самозащита», обеспечение доставки гуманитарных грузов, «принуждение к миру» и т. п.). Один из ярчайших примеров этих и других противоречий — силовое вмешательство во внутренние конфликты в конце XX ст., прежде всего в Боснии и Косово, в Афганистане и Ираке.
Ослабление государственной идентичности сопровождается потерей самоидентификации. Возникшие в 1990‑х годах конфликты приобрели название конфликтов идентичности. В наиболее ярком виде этот конфликт, в контексте которого основанием для идентификации является принадлежность к той или другой цивилизации, описан в гипотетическом сценарии С. Хантингтона518. В будущем вовзможно постепенное распросгранение «общечеловеческой» самоидентификации. Однако сегодня такая космополитическая идентичность, т. е. ощущение принадлежности к миру, до сих пор еще далека от преобладания.
Наибольший процент людей, которые ощущают себя «гражданами Земли», по данным социологических опросов Л. Халмана и П. Эстера, в США составляет всего 15,4%519 Межправительственные организации (МПО) в современной политической системе мира также играют большую роль. Появившись в конце XIX в., в XX в. они достигли такого развития, что их начали часто называть негосударственными образованиями. МПО создаются государствами на основании международных соглашений для реализации общих целей и действуют согласно уставным документам. Одновременно они являются источником развития международного права путем создания правовых норм и процедур взаимодействия на мировой арене. МПО предполагают институционализацию и создание механизмов реализации своих целей. Их членами являются государства, которые входят в них на добровольной основе520.
Межправительственные организации играют важную роль на мировой арене. Их стремительное развитие во второй половине XX в. было обусловлено рядом причин. Основными можно считать следующие:
• вторая мировая война привела к осознанию угрозы конфликтов и необходимости создания системы, которая содействовала бы их предотвращению;
• мировое разделение труда, усиление и развитие контактов указывали на необходимость создания соответствующих межправительственных организаций на глобальном и региональном уровнях;
• возникновение глобальных проблем (особенно экологических, охватывающих целые, как Сахель, регионы голода, и др.), которые не могли и не могут быть решены в пределах одной страны или групп стран, поставило вопрос о координации усилий международного сообщества;
• для ряда государств, особенно созданных в результате краха колониальной системы, совместная деятельность в международных организациях позволила ставить и решать многие насущные вопросы, тем самым усиливая их влияние на ход мировых политических процессов.
В целом большинство МПО имеет специальные цели и ограниченное количество участников. По оценкам И. Кегли и Ю. Уитткопфа, численность таких организаций составляет 72% от всех МПО521. В табл.3 приводится классификация МПО в зависимости от целей и членства, а также примеры того и другого вида организаций.
Таблица 3. Классификация межправительственных организаций
Цели Членство универсальное Членство ограниченное Множественные Лига Наций, ООН ОАЕ, СНГ, G-7/8 Специальные МВФ, МОТ МЕРКОСУРСегодня международные организации сталкиваются с тем, что возникшие и возникающие в мире МПО требуют перемен и в самих организациях. Некоторые исследователи в весьма острой форме ставят вопрос о том, насколько МПО, созданные в период холодной войны и действующие на основании относящихся к тому периоду документов, могут адекватно реагировать на новые ситуации в мире522.
В дискуссиях о трансформации МПО в качестве существеннейших выделяют следующие аспекты.
• Окончание холодной войны, изменения на мировой арене заставляют многие государства думать о необходимости реорганизации многих международных организаций. В частности, экономическое усиление таких стран, как Германия и Япония, побуждает их ставить вопрос о реформировании ООН со сменой своего в ней статуса. В то же время с избранием, например, Германии и Японии постоянными членами Совета безопасности возникает проблема, связанная с укреплением Европейского Союза на международной арене. При этом страны Африки и Латинской Америки, где проживает большое количество населения, вообще не представлены в качестве постоянных членов Совета безопасности.
• Развитие МПО, как и любых других организаций, часто сопровождается излишним кадровым разбуханием и бюрократизацией их аппарата. Они оказываются несостоятельными решать стоящие перед ними задачи. Как следствие, МПО малоэффективны.
• По мере увеличения количества МПО и развития каждой такой организации все острее возникает проблема согласования деятельности огромного множества комитетов и комиссий, занятых фактически идентичными вопросами.
• Проблемы необходимости участия всех заинтересованных стран в решении вопросов, над которыми работает международная организация, может быть проиллюстрированы на примере Лиги Наций. Вопрос не решается (или решается плохо), если те или иные государства не вступают в организацию или выходят (исключаются) из нее.
• Неоднородность потенциала членов международной организации, когда одни государства владеют большими политическими или финансовыми возможностями, чем другие. Отчасти данная проблема решается созданием коалиций государств для согласования действий с целью укрепления своего влияния (о чем уже шла речь).
• Вопрос о выполнении решений МПО также решается неоднозначно, что вызывает дискуссии относительно эффективности МПО.
Неправительственные участники в современной политической системе мира, как актеры на мировой арене, являются особыми по отношению к МПО образованиями, с разными интересами, целями, иногда противоречивыми и даже несовместимыми, разной направленностью, численностью и т. п. В связи с этим их классификация весьма затруднена.
Среди неправительственных актеров, наиболее влияющих на мировую политику, обычно называют:
• международные неправительственные организации;
• транснациональные корпорации;
• внутригосударственные регионы.
Международные неправительственные организации — МНПО (англ.: international nongovernmental organizations, INGO’s) — или просто неправительственные организации — НПО (англ.: nongovernmental organizations, INGO’s) — весьма активны и влиятельны в современном мире. К ним относят организации, которые не основаны на базе межправительственных соглашений и действуют не только в рамках одного государства (поэтому их иногда называют транснациональными). Это могут быть профессиональные организации (например, Международная ассоциация политических Наук. Международная организация журналистов); спортивные (Международный Олимпийский комитет, Международная теннисная федерация); религиозные (Всемирный совет церквей); экологические (Гринпис); гуманитарные (Международный красный крест) и пр. Членами МНПО могут быть как национальные неправительственные организации или ассоциации, так и частные лица. Действуют эти организации на основании своих уставных документов, их деятельность не направлена на получение прибыли523.
Характерными для МНПО конца XX — начала XXI в. являются:
• резкое увеличение их количества и численности людей, привлеченных к соответствующей деятельности;
• расширение географии деятельности;
• усиление политического влияния;
• расширение спектра вопросов, над которыми они работают.
Вместе с тем вследствие крайней их разновидности деятельность НПО имеет иногда весьма противоречивый характер. Они нередко конкурируют как между собой, так и с государственными структурами.
Другие значимые участники международного взаимодействия — транснациональные корпорации (ТНК). ТНК представляют собой бизнес–структуры, деятельность которых в значительной мере распространяется на несколько стран. В отличие от международных организаций (правительственных и неправительственных) ТНК работают с целью получения прибыли. При этом деятельность даже тех, которые обладают национальной спецификой, может противоречить национальным интересам.
Количественный рост транснациональных корпораций, как и упомянутых других подобных участников международного процесса, также приходится на вторую половину XX в. и продолжает увеличиваться. По оценкам ООН, в конце минувшего века было свыше 53 000 транснациональных корпораций. Около 90% всех ТНК базируется в развитых странах северного полушария. Только на сотню передовых ТНК мира в середине 1990‑х годов работало более 12 млн человек. Согласно данным американских исследователей Дж. Т. Роурке и М. А. Бойера, одна из наибольших ТНК — «Дженерал Моторе» — в 1998 г. произвела продукции на 161,3 млрд долларов, что больше валового национального продукта многих стран (для сравнения: ВНП Греции составил 137,4, Израиля — 96,7, Ирландии — 59,9, Словении — 19,5, Никарагуа — 9,3 млрд долларов)524. Рост ТНК стимулируется развитием транснациональных банков — ТНБ (англ.: transnational bank, TNB), которые осуществляют финансовые операции во всем мире.
В современном мире экономические, финансовые и прочие вопросы тесно переплетаются с политическими. Как следствие, внутригосударственные регионы все активнее действуют и в политическом плане на международной арене, становясь самостоятельными актерами. Например, Шотландия заявила о своем стремлении войти в структуру ЕС525. Весьма автономно в пределах преимущественно протестантской Германии держится ее католическая Бавария.
В последнее время обращается внимание и на то, что деятельность внутригосударственных регионов на мировой арене может привести к парадоксальному, на первый взгляд, процессу — ослаблению демократии в стране. Дело в том, что регионы тех или других стран могут руководиться коррумпированными, авторитарными администрациями. Тогда их «выход» из–под контроля центральной власти ведет к усилению отрицательных процессов на местном уровне. И все же самостоятельность регионов во многих случаях содействует их динамическому развитию за счет привлечения иностранных инвестиций, созданию рабочих мест и т. п.526.
* * *
Вестфальская система мира исходила из того, что участниками международного взаимодействия являются только государства, выступающие самостоятельно или образовывающие коалиции для решения насущных задач. В конце XX в. становится очевидным, что на мировую арену выходят и другие, весьма влиятельные актеры527. Это и государства, и межправительственные и международные неправительственные организации, и транснациональные корпорации, и внутригосударственные регионы. Они имеют весьма разнообразные цели, одни — положительные, направленные на поддержание стабильного мирового развития; другие (например, террористические организации) усматривают свою задачу в дестабилизации существующего порядка. Некоторые актеры, такие как ТНК и ТНБ, ориентированы на прибыль, причем нередко рассматривают свое существование на мировой арене как весьма краткосрочное. Все это слишком усложняет анализ участников взаимодействия на мировой арене и возможных последствий.
В каждой категории современных участников этого взаимодействия, учитывая государства, наблюдается резкий количественный рост. Формирование новых участников и их диверсификация продолжаются. Так, фактором, влияющим на мировые политические процессы, является деятельность средств массовой информации (СМИ) в связи с их спецификой (влиянием на сознание людей, скоростью передачи информации по всему земному шару и т. п.), поэтому СМИ нередко считают самостоятельными участниками мировых политических процессов.
На мировой арене появляются актеры, которые определяются немецким исследователем К. Зегберсом как гибридные образования. Они представляют собой соединение государственных и негосударственных структур. Эти образования действуют в разных областях, прежде всего в бизнесе, когда транснациональные компании имеют смешанный (государственный и частный) капитал. Гибридные образования существуют и в СМИ528.
Сферы деятельности всех участников международного взаимодействия удивительным образом переплетаются. Парадоксально, но если раньше, например, внутригосударственные регионы старались влиять лишь на внутриполитические процессы своей страны, а международные организации — на вопросы, ограничивавшиеся внешнеполитической сферой (что казалось логичным), то сейчас МПО и институты все активнее вмешиваются в такие внутриполитические вопросы, как урегулирование внутригосударственных конфликтов (в частности НАТО, ОБСЕ, ООН), соблюдение прав человека, определение финансовой политики держав (МВФ) и т. п. А внутригосударственные регионы стремятся к внешней сфере деятельности иногда наравне с государством, что нередко вызывет озабоченность и растерянность центральной власти (Квебек в Канаде).
Изменение числа участников международного взаимодействия и характера их связей приводит к многим последствиям. Первое и, наверное, самое главное сформулировали американские исследователи Р. Кохен и Дж. Най. Суть его в том, что раньше международная сфера ограничивалась межгосударственными взаимодействиями. Сегодня же мир намного усложнился. И данное положение авторы довольно наглядно иллюстрируют графически (см. схемы 2 и 3). Если в эпоху классической, вестфальской модели мира численность участников международного взаимодействия и связей была довольно ограничена, то ныне взаимосвязи весьма сложны, а количество актеров стало огромным.
Схема 2. Взаимодействие в классической государственно–центристской системе мира.
Схема 3. Общественно–политическое взаимодействие в современном мире.
Изменения в количественных и качественных характеристиках связей участников международного взаимодействия имеют и другие следствия.
Во–первых, возникает острая проблема ответственности политической, правовой, экономической, моральной) международных актеров за их действия на мировой арене. Одни из них, действуя в свою пользу, иногда мало задумываются о возможных побочных последствиях (в частности экологических или социальных), особенно если изначально ставят перед собою краткосрочные цели, после чего сходят с международной арены. Так могут себя вести некоторые бизнес–структуры. В других случаях международные участники ставят перед собой даже деструктивные цели (например международные террористические организации). Некоторые исследователи, в частности И. И. Кузнецов, подчеркивают, что негосударственные актеры не всегда сознают ответственность в полной мере, выступая на мировой арене как участники с ограниченной ответственностью, и в этом смысле являются квазисубъектами.
Во–вторых, сложность взаимосвязей участников мировых политических процессов, которые трудно проследить и просчитать, вызывает неопределенность. В результате, как отмечал президент Чехии Вацлав Гавел, мы живем в мире, где все возможно и почти ничего не является конкретным. Эта неопределенность отражается на научных и политических прогнозах относительно будущего, на планировании, восприятии мира конкретным человеком.
В-третьих, множественность участников обусловила и так называемый парадокс участия, сформулированный М. Николсоном. Его суть сводится к тому, что чем меньше участников на мировой арене и чем более они однородны, тем более предусмотримы их действия и последствия этих действий. Данный факт непосредственно отражается на многих аспектах международной жизни, особенно на проблеме безопасности.
В-четвертых, сложность, запутанность, отсутствие согласованности и подчиненности действий даже у одного актера–государства является еще одним феноменом современного мира. Можно привести примеры, когда правительства не контролировали свои вооруженные подразделения. Известны, например, заявления руководства Сербии по поводу того, что сербские отряды, осаждавшие Сараево, находятся вне его контроля. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других случаях.
«Возрастающая множественность», по определению Дж. Грума, участников мирового взаимодействия, их пестрота, разнородность и разнообразие остается фактом, с которым соглашаются большинство аналитиков. Изменения в количественном, а главное — в качественном составе участников современных мировых политических процессов определяют фундаментальные изменения в мировой политической структуре.
Проблемы и перспективы глобального управления международной системой (Н. В. Фесенко)
Множественность актеров на современной мировой арене при смене политической структуры мира, с одной стороны, и наличие сложнейших мировых проблем — с другой — логически подводят к вопросу о том, как и кем должны решаться эти проблемы, а также каковыми должны быть правила взаимодействия участников.
В XX в. стало очевидным, что традиционные международные отношения, сформировавшиеся вследствие взаимодействия отдельных государств или их союзов на мировой арене, требуют упорядочения и четких правил поведения529 Толчком к этому послужили две мировых войны, кризисы и конфликты в конце минувшего века, появление на мировой арене негосударственных актеров. Впрочем, идеи совершенствования управления миром, создания некоего единого мирового союза высказывались и раньше, еще И. Кантом, который писал, что торговля не может сосуществовать с войной и рано или поздно дыхание торговли овладеет всеми людьми.
В начале XX в. основные надежды возлагались на более четкое правовое регулирование международных отношений, а также на создание межправительственных организаций. После Второй мировой войны, когда появились интеграционные процессы в Европе, встал вопрос о глобальном правительстве, или мировом правительстве, как о некоем едином органе во всемирном масштабе, который должен быть подобием государства530.
В конце XX в. возникло новое понятие — глобальное управление (англ.: global governance). В широкий обиход оно внедрено В. Брандтом и его коллегами из Комиссии ООН по глобальному управлению (Commission of Global Governance)531. Комиссию образовали для выяснения, как общими усилиями решить такие глобальные проблемы, как экология, борьба с бедностью, болезнями и т. п. Окончание холодной войны также содействовало постановке вопроса о новых правилах поведения на мировой арене. Как следствие, проблема глобального управления становится популярной в 1990‑е годы. Издаются журналы «Global Governance», «Global Society». Данная тематика оказывается центральной и во многих других изданиях.
Сегодня выделяется несколько подходов к пониманию того, что собой представляет глобальное управление. Немецкий исследователь Д. Месснер отмечает четыре основных подхода.
Первый подход фактически повторяет то, что провозглашалось задолго до окончания холодной войны, — идею формирования единого мирового правительства. Его представители, как и раньше, исходят из того, что оно должно создаваться «по образу и подобию» государства. Так, Л. Филькенштейн пишет, что мировое правительство должно работать над тем же, над чем работает «у себя дома» правительство отдельного государства. Проблема лишь в том, чтобы наделить первое соответствующими властными полномочиями532. Но эта точка зрения сейчас не находит особой поддержки ни в политических, ни в научных кругах. Главное возражение состоит в том, что при огромном разнообразии политических систем, традиций, уровней экономического развития и т. п. это выглядит просто нереально.
Суть второго подхода: провести реформирование международных организаций и прежде всего ООН, которая должна стать центральным звеном управления, а ее институты выполняли бы роль своеобразных «министерств» и «ведомств». Например, Совет Безопасности — функции правительства, Генеральная Ассамблея — парламента; МВФ превращается в центральный банк и т. д.533 Тем не менее относительно этого проекта также высказывается немало возражений. Отмечается, в частности, возможность весьма сильной централизации в рамках международной организации. Высказывают также предостережение, что ООН мало склонна к реформированию: ее структура отражает реалии минувшей эпохи, а наличие в Совете Безопасности в качестве сверхдержавы США сведет к нулю все усилия по организации демократического управления миром. В связи с последними соображениями Дж. Галтунг даже предложил проводить глобальное управление без участия больших государств.
Третий подход связан с идеями однополярности мира и управления им Соединенными Штатами как главным актером. Другими словами, речь идет о легитимации гегемонизма США. Данного подхода придерживаются авторы, ориентированные на концепцию «политического реализма». Одним из наиболее активных приверженцев однополярности мира во главе со США выступает Збигнев Бжезинский, выделяющий четыре основных области, в которых США являются ведущими: военно–политическую, экономическую, технологическую и массовой культуры534.
Интересно, что иногда приверженцы идеи «американского варианта» управления миром, как аргумент в свою поддержку, приводят теоретические построения своих противников — неолибералов. Например, они ссылаются на теорию гегемониальной стабильности (англ.: hegemonic stability flory), которая развивалась в 1970–1980 гг. такими авторами, как Р. Кожен, Ст. Краспер и др. В исследованиях, проведенных в русле международной политической экономии, изучалась взаимосвязь стабильности экономического режима с наличием некоего государства–лидера. Это позволило утверждать, что при существовании такого гегемона устанавливается стабильный экономический режим, так как лидер разрабатывает правила и нормы поведения, которые принимаются другими, и следит за их соблюдением.
Тем не менее необходимо иметь в виду, что «теория гегемониальной стабильности демонстрирует возможность лидерства лишь в одной из областей — экономической»535. Навязывание правил поведения в политической, экономической и культурной жизни вызывает, как правило, резкое неприятие их другими участниками международного взаимодействия. Как и предшествующие подходы, идея гегемонии США вызывает большое число критических откликов. Главный аргумент: в современном мире нельзя не учитывать цели, интересы и активность других актеров, таких мощных, к примеру, как Европейский Союз, Япония или Китай.
Наконец, четвертый подход состоит в том, что глобальное управление выводится из полицентричности мира и предполагает участие в управлении не только государств и межгосударственных образований, но и других актеров. Именно их приобщение к глобальному управлению составляет главное отличие данного подхода от предшествующих.
Сотрудничество может привести к политическим изменениям и, наконец, к созданию всемирного союза. По мере развития человечество создает не только единые материальные, но и социальные структуры, которые представляют собой весомый фактор дальнейшего развития. Связи и отношения разного уровня становятся важнейшей проблемой в исследованиях международных отношений.
В научной литературе 1990‑х годов появляется еще один термин — новая многосторонность (англ.: multilateralism). Она отличается от классического понимания многосторонности как сотрудничества нескольких государств. Новый термин, пишет немецкий автор Фр. Нушелер, более широк и вбирает в себя:
• усиление правовой базы и цивилизационного начала в международных отношениях;
• общее решение глобальных проблем путем использования регулирующих механизмов регионального и/или глобального масштаба;
• укрепление системы ООН как совещательного мирового форума, инстанции решения вопросов войны и мира, инициатора и организатора решения глобальных проблем;
• повышение взаимодействия государственных и негосударственных национальных глобальных сетей.
Таким образом, Фр. Нушелер фактически объединяет два подхода к глобальному управлению, которые обусловленны, с одной стороны, реформированием ООН, с другой — привлечением негосударственных актеров к совместной деятельности с государствами и межправительственными организациями для решения актуальных проблем.
Разные актеры не только взаимодействуют между собою на фоне других изменений (усовершенствование работы ООН и т. п.). Происходит перераспределение управленческих функций от государства к другим участникам международного взаимодействия. Довольно наглядно это демонстрирует Дж. Най, используя схему, где все участники распределены в зависимости от того, на каком уровне (наднациональном, национальном или внутринациональном) и в каком секторе — частном, публичном или третьем (общественных организаций) — они действуют.
Итак, государства, изменяя свои функции и частично передавая их другим актерам, тем самым отдают им отчасти и управление. Это, как не без пафоса пишет немецкий исследователь Т. Риссе, является концом межгосударственного мира, который мы знали раньше.
Как управленческие функции, в конце концов, могут быть перераспределены? Ответ на этот вопрос фактически дает представление о будущей политической структуре мира.
Первое, что выделяется при анализе современной структуры глобального управления, — большая ее пестрота. В отличие от Вестфальской системы, в которой равный правовой статус разных государств был закреплен международными нормами, новая система этого не предполагает. Управленческий ресурс современных участников мировой политической системы весьма разнообразен. Это может быть политический голос государства при принятии решений в ООН, финансовые возможности ТНК или доверие общественного мнения определенным неправительственным организациям. Ресурсы такого рода игроков трудно сопоставимы, а последствия их разнообразных взаимодействий слабо прогнозируемы. При этом государства сохраняют за собою монополию субъектов международного права.
Второй важный момент состоит в том, что соединенные глобальные управленческие связи в мире не являются иерархическими, каковыми они выступают внутри государства (хотя и там жесткая иерархия размывается). В то же время они и не анархические, как допускает классическая Вестфальская система536 Об этом пишут Дж. Розенау, Д. Месснер и многие др. авторы.
Схема 4. Перераспределение управленческих функций от государства к другим актерам в XX в.
Современная политика основана на выработке коллективных решений путем множества разнообразных согласований различного уровня. Для понимания единой системы глобального управления эвристическим может оказаться подход В. М. Сергеева, усматривающего в демократии и демократическом управлении согласование интересов разных групп путем переговоров537. На глобальном уровне это могут быть многосторонние межгосударственные формы, которые предоставляют возможности, как пишет В. Б. Луков, для «коллективного управления взаимозависимостью». Это могут быть и общие встречи представителей государств и негосударственных актеров. Одним из примеров последнего может выступать Конференция по устойчивому развитию, проходившая в Йоханнесбурге в августе 2002 г. Она продемонстрировала идеи партнерского взаимодействия правительств, бизнеса и неправительственных организаций при решении глобальных проблем.
Правда, серьезной проблемой остается не только поиск решения, но и возможностей его выполнения. Другими словами, если координацию действий разных актеров удается как–то наладить, то исполнительные функции до сих пор плохо реализуются даже тогда, когда путем общих усилий согласие все же достигается. Один из примеров — осложнения, связанные с выполнением Киотского протокола.
Третья особенность: в глобальном управлении уже используются (и, вероятно, эта тенденция будет усиливаться) разные формы и методы. Представители государств, неправительственных организаций, межправительственных актеров, ТНК встречаются на общих форумах, где и принимают решения (в частности, на упомянутой Конференции в Йоханнесбурге). В других случаях актеры действуют параллельно, имея в виду общую цель, например урегулирование конфликтов. Тогда функции разделяются. Государства, межправительственные организации могут вводить миротворческие силы для разъединения противоборствующих сторон, налаживать контакты на уровне элит участников конфликта и пр. А неправительственные организации могут работать на уровне населения, стремясь смягчить отрицательные стереотипы в отношении неприятеля, доставлять гуманитарную помощь и т. п.538.
Важным здесь является согласованность действий. Именно это часто не достигается по разным причинам, в том числе из–за весьма большого количества вовлеченных в процесс актеров. Тем не менее, несмотря на все осложнения, сейчас все–таки довольно выразительно обнаруживаются такие параметры глобального управления:
• участие разных актеров;
• отсутствие иерархичности между ними;
• множественность форм и методов взаимодействия;
• использование переговоров для согласований.
Одним из ключевых остается вопрос о направлениях дальнейшего распределения управленческих полномочий между актерами в общей политической структуре мира539.
Первое направление — хаотичный, плохо управляемый процесс, с «перетягиванием каната» между разными государствами, а также другими участниками международных отношений, возможным применением силы и т. п. Он состоит в том, что государства ведут себя реактивно и стараются ограничивать негосударственных актеров в реализации управленческих функций, заставляя их действовать под своим жестким контролем. В принципе, для этого у государства имеются довольно большие политические и правовые ресурсы, благодаря которым оно остается главным актером на мировой арене. Немного хуже дела с финансовыми и экономическими ресурсами, а также поддержкой на уровне общественного сознания540.
В рамках этого, плохо регулируемого направления возможен вариант, когда государства без особого сопротивления будут передавать управленческие функции другим актерам. В любом случае минусом при выборе данного направления является то, что система глобального управления слаживается в значительной мере стихийно. В крайнем случае такой подход может привести к неожиданному и поэтому мучительному распаду государственноцентристской системы мира. В каких конкретных формах такой распад может осуществляться, предусмотреть сложно. Очевидно только, что независимо от того, какими будут долгосрочные последствия такой резкой перестройки, сама она вызовет значительные социальные и психологические потрясения.
Второе направление состоит в том, что государства, используя имеющиеся ресурсы, совместно с другими актерами «выстраивают» новую архитектуру мира. Это — направление кризисного управления и формирования новых структур, создания нового миропорядка с учетом новых реалий и интересов разных участников — государств, межгосударственных организаций, неправительственных объединений, крупнейших финансовых и бизнес–структур и т. д.
Проблем здесь немало. Во–первых, сами государства должны действовать довольно скоординированно, что не просто, если принимать во внимание их разнообразие. Во–вторых, необходимы договоренности со многими, предельно «разношерстными», негосударственными актерами. Сложность и разнообразие интересов делают подобные договоренности маловероятными. В то же время известны примеры сложного согласования интересов: подобные задачи стояли перед участниками переговоров по установлению Вестфальского мира. Не менее сложные согласования, причем с учетом общественного мнения, позиций неправительственных организаций, бизнеса, внутригосударственных регионов, проводились на протяжении десятилетий в рамках Европейского Союза. Конечно, и в том и в другом случае согласования ограничивались лишь одним регионом мира.
Говоря о согласованности интересов государств с негосударственными актерами, надо иметь в виду, что последние часто ведут себя довольно агрессивно и совсем необязательно ориентированы на сотрудничество с государственными структурами. Кроме того, существует проблема, с какими именно неправительственными актерами сотрудничают эти государственные структуры. Так, за последнее время аналитики все чаше обращают внимание на опасность от возможного использования наркобизнесом и различными видами нелегальной коммерции государственных структур, в том числе дипломатических. Наконец, интересы государства относительно негосударственных актеров часто противоречивы. С одной стороны, государства заинтересованы в больших иностранных инвестициях, с другой — занимаются протекционизмом национального бизнеса541.
В связи с этим возникает вопрос, на который обращают внимание некоторые авторы, в частности О. Н. Барабанов: является ли опасностью то, что будущее глобальное управление окажется авторитарным?542 Основанием для таких опасений служит то, что ряд неправительственных организаций, транснациональные компании и многие государства построены далеко не на демократических принципах. Большинство исследователей все–таки дают отрицательный ответ на данный вопрос, аргументируя это тем, что возникновение авторитарного глобального управления противоречило бы одной из ведущих тенденций развития современного мира — его демократизации, которая обнаруживается в увеличении количества демократических государств в мире, в той возрастающей роли, которую играют неправительственные организации, общественное мнение, и главное — в новом типе взаимодействия, что формируется на мировой арене. И все же вопрос остается открытым.
В целом адаптация и ассимиляция государств к меняющейся действительности проходят сложно. С помощью разных методов государства сотрудничают с неправительственными актерами и одновременно стараются ограничить их стремления. Й. Фергюсон думает, что скорее всего перераспределение управленческих функций будет проходить методом проб и ошибок с большой вероятностью неожиданных действий. Вопрос лишь в том, будут ли государства, прежде всего ведущие, стараться организовать этот процесс, постоянно направляя его в определенное русло. Некоторые исследователи и политики усматривают в «подталкивании» передовыми странами мирового развития в желательном для человечества как такового направлении один из возможных путей организации глобального управления. В этом отношении следует, скорее, говорить (по крайней мере на первом этапе) не о глобальном управлении, а о глобальном регулировании, не забывая, что, участвуя в этом процессе, каждая страна стремится в первую очередь обеспечить собственные интересы и интересы своих политической и деловой элит.
ГЛАВА 7: ГЛОБАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И НООСФЕРА (О. Б. Шевчук)
Глобализация, становление ноосферы и формирование информационного общества как аспекты единого процесса
Глобализация и информатизация — две стороны единого процесса, происходящего в современном мире. Ныне человечество превращается в функционально единую экономически–информационную систему, которая в целом образовывает ноосферную оболочку планеты. Поскольку ограниченность ресурсов планеты давно является очевидной, то для выживания человечеству необходимо рационализировать и гуманизировать отношения как между своими частями, так и с планетой и ее ресурсами, разработать научно обоснованную, выверенную программу глобального экономического взаимодействия с окружающей средой и последовательно придерживаться ее в практической деятельности. А это требует разработки новой, информационно и экологически ориентированной экономической стратегии и экономического мировоззрения, принципиально отличных как от хищнического, потребительского отношения к ресурсам планеты, так и от наивно–натуралистического суживания глобальных экологических проблем, часто присущего «зеленым» в странах Запада.
Поскольку глобализация неизбежна и весь мир оказался опутанным густой сетью информационных связей, остро встал вопрос о необходимости философского обобщения места этих процессов в контексте истории человечества и, шире, — эволюции космоса. Это имеет непосредственное отношение и к современному развитию Украины, особенно к его информатизационному и экологическому аспектам543.
При выработке нового видения экономических взаимоотношений человечества и планеты стоит, по нашему мнению, обратиться к философии хозяйства С. Н. Булгакова. В ней, пусть порою и в религиозном контексте, едва ли не впервые в истории экономической мысли находим четкое осознание хозяйственного взаимодействия человечества как такового с планетой Земля и ее ресурсами. У С. Н. Булгакова видим целостное и органическое единство глубокой, высокодуховной философии и построенного на этом оснований экономического учения544.
Сущность хозяйства С. Н. Булгаков рассматривает в широчайшем плане защиты и утверждения жизни, прежде всего человеческой жизни. Хозяйство для него — это «борьба человечества со стихийными силами природы с целью защиты и расширения жизни, покорение и очеловечивание природы, превращение ее в потенцоиально человеческий организм»545. Целью хозяйственной деятельности становится «очеловечивание природы», именно оно осознается как форма борьбы со смертью и как средство самоутверждения жизни. Опираясь на философию Ф. В. Шеллинга, ученый утверждал, что с возникновением человечества природа, так сказать, перерастает себя: ее несознательное возрастание дополняется (а частично и заменяется) сознательным воспроизведением, стихийное и инстинктивное становится сознательным и трудовым, «естественное» заменяется выработанным «искусственным», т. е. хозяйственно–сознательным.
Природа, реализовав в человеке способность к самосознанию, социальному развитию и сознательному преобразованию окружающей среды, вступает в новую эпоху своего существования, а хозяйственная деятельность становится ее новой силой, новым, миротворящим космогоническим фактором. Поэтому, согласно С. Н. Булгакову, эпоха человеческого хозяйствования является определенным этапом в истории Земли, а затем и истории космоса, подобно тому, как позднее В. И. Вернадский и П. Тейяр де Шарден истолковали ноосферу. Поэтому эволюцию Вселенной можно, по мнению упомянутого русского экономиста–философа, разделить на два периода: инстинктивный, досознательный или дохозяйственный, т. е. до появления человека как такового, и сознательный, хозяйственный — после его возникновения546. Человек медленно и постепенно освобождается из–под власти вещей и обстоятельств, снимает окаменелый покров с природы и распознает ее творческие, жизнедательные силы.
Понятно, что хозяйство, хозяйственная деятельность являются процессом общественным, развивающимся в истории и последовательно приобретающим формы сначала натуральной, затем национальной и мировой экономик. Фактически хозяйство ведут ведь не разрозненные индивиды, а, как бы через индивидов и их общественные объединения, — историческое человечество. Поэтому (и здесь можно уловить влияние К. Маркса, на экономическую концепцию которого С. Н. Булгаков во многом опирался) настоящим и единым, целостным трансцендентальным субъектом хозяйствования является не отдельный человек, а человечество, которое в разных духовных традициях персонифицируется как Плерома, Душа мира, София — Премудрость Божия и т. п. Его целокупное знание выступает, так сказать, рациональной, интеллектуально–информационной подосновой общественно–хозяйственной деятельности. Само знание, утверждает С. Н. Булгаков, является проектирующей, моделирующей основой хозяйствования. Иначе говоря, «хозяйство является знанием в действии, а знание является хозяйством в идее»547.
Не обязательно разделять религиозно–философские убеждения С. Н. Булгакова и воспринимать его софиологию как учение о духовно–онтологическом единстве трансцендентального человечества, человечества как такового в его творческой, разумно–действенной сущности, продуцирующей идеальные праформы научной, художественной и любой другой жизнеутверждающей деятельности, прежде всего — хозяйствование. Но трудно отрицать тот факт, что с самого начала своей истории потенциально, а в наше время — реально, практически человечество с его знаниями и информационно–техническими возможностями выступает единым, целостным субъектом мирохозяйственной деятельности, как интегрированный контрагент природного мира и космоса. Это стало самоочевидным, особенно с возникновением всемирной электронно–информационной сети — своеобразного зримо–виртуального аналога того, что С. Н. Булгаков, В. С. Соловьев и П. А. Флоренский понимали под Софией.
Безусловно, «софийность» в аутентичном, религиозно–философском смысле никоим образом не сводится к информационной плоскости жизнедеятельности человечества как макросистемы. Однако сегодня первоочередное значение приобретают электронно–информационные основания мирохозяйственной деятельности, сердцевиной которой является научное продуцирование нового знания548. Иными словами, на уровне современной информационно–глобальной экономики человечество выступает как реальное мир–системное единство, основой слаженного функционирования которого служит глобальная электронно–информационная сеть всемирных коммуникаций. Это, по сути, соответствует метафорическому представлению С. Н. Булгаковым единой общечеловеческой хозяйственной жизни как «софийности» планетарной экономической деятельности человечества. В качестве субъекта мировой хозяйственной деятельности — Хозяина — для русского экономиста–философа выступает человечество как такое, причем не коллектив или соборное целое, а живое трансцендентальное единство духовных сил и потенций, к которому причастны все люди и которое на эмпирическом уровне репрезентует себя через огромное множество конкретных индивидов549 Такому интегральному отношению человечества к планетарной окружающей среде соответствует его выход на ноосферный уровень.
Для осознания глобально–информационной эпохи и нашего места в новом мире наиболее адекватной научно–философской основой выступает, кажется, ноосферная концепция. Она (термин «ноосфера» был предложен французским философом и математиком П. Леруа еще в 1927 г.) была, в двух разных аспектах, разработана выдающимися мыслителями первой половины — середины XX в. — В. И. Вернадским и П. Тейяром де Шарденом.
В. И. Вернадский и его последователи считали, что человечество уже вступило в состояние ноосферы, так что окончательное его становление займет относительно немного времени. При этом в понятие «ноосфера» вкладывалось не только рационально–научное, но и оценочное, аксиологическое содержание. Поскольку (это стало понятным к коцу XX в.) оптимистические ожидания предшествующих десятилетий относительно постепенной гармонизации глобальных, в том числе по линии «человечество — природа», отношений не оправдались, некоторые исследователи во главе с Н. Н. Моисеевым «отодвинули» образование ноосферы в отдаленное будущее и в 80‑х гг. минувшего столетия понятие «эпоха ноосферы» уточнили понятием «эпоха развития ноосферы». По убеждению Н. Н. Моисеева, взаимодействие человека и биосферы требует осмысления планетарной жизни как единого целого550, что невозможно без обработки огромных массивов информации электронными средствами.
Поскольку вместо глобальной гармонии были открыты и осознаны глобальные проблемы, стало понятным, что концепция ноосферы и теория глобальных проблем должны быть двумя сторонами одной теории. Можно утверждать, что ноосфера уже сложилась и реально существует, поскольку человеческая деятельность превратилась в планетарную силу. Однако сущностью этого состояния является не гармония, как полагал В. И. Вернадский, а совокупность глобальных проблем, которые вместе составляют так называемую «проблему человека»551.
В системе космической эволюции, согласно В. И. Вернадскому, человечество становится новой творческой силой, которая средствами научного ума и технических возможностей создает новые формы обмена вещества и энергии между обществом и природой. Homo sapiens, распространившийся по всей поверхности планеты, внес в нее такие значительные изменения, что их можно считать геологическим переворотом малого масштаба. Вследствие этого биосфера Земли приобретает принципиально новый вид — становится ноосферой, сферой разума. Это происходит благодаря взаимодействию «общества–культуры–разума» с природой Земного шара, а разумная человеческая деятельность становится главным, решающим фактором космической эволюции. Зародившись на нашей планете, ноосфера стремится к постоянному саморасширению, постепенно превращаясь в существеннейший компонент космической жизни.
Согласно В. И. Вернадскому, ноосфера стала новым геологическим явлением на нашей планете с того времени, когда человечество превратилось в определяющую геологическую силу. Человек разумный стремится преобразовать сферу своей жизнедеятельности по велению собственного разума и своим трудом для достижения гармонии между собой и окружающей средой. Мыслитель понимал под ноосферой такой этап развития биосферы, когда разумная деятельность человека приобретает планетарный масштаб и геологическое значение. Эта деятельность более не может осуществляться без учета его влияния на окружающую среду и «отклика» на нее со стороны природного «тела» Земного шара. Соответственно, человек должен осознать свое место в системе жизнедеятельности планеты Земля, что приведет к коренному изменению интеллектуально–, духовно–мировоззренческого состояния человечества и переустройству общественно–экономических, социокультурных и политических основ человеческого бытия.
Главными предпосылками перехода живого вещества планеты Земля в стадию ноосферы, согласно В. И. Вернадскому, являются:
1) возникновение человека современного типа — единственного биологического вида, имеющего разум, — и его распространение по всей планете;
2) развитие средств связи и обмена, что содействовало и, в значительной мере, определило региональную, а потом и глобальную интеграцию человечества в единое целое;
3) открытие новых источников энергии (в т. ч. атомной), использование которых ведет к геологическим преобразованиям;
4) массовая демократизация политической жизни и государственного устройства, способствующая привлечению к управлению обществом широких слоев населения;
5) взрыв научного творчества в XX в., последствия которого имеют планетарные масштабы552.
Решающую роль в становлении ноосферы ученый отводил научной мысли. Основной силой, формирующей ноосферу, является рост научного знания, тем более, что, по его убеждению, «только в истории научного знания существование прогресса в течении времени является доказанным»553 (здесь и далее курсив В. Вернадского). Со ссылкой на исследование Дж. Сартона, В. И. Вернадский констатирует, что, начиная с VII в. до н. э., если брать пятидесятилетний масштаб и иметь в виду все человечество, а не только западноевропейскую цивилизацию, возрастание научного знания является непрерывным554. Отработав в социальной среде в течение тысячелетий научную мысль, человек создает в биосфере новую геологическую силу, которой на планете раньше не было. «Биосфера перешла или, точнее, переходит в новое эволюционное состояние — в ноосферу, перерабатывается научной мыслью социального человечества»555.
В деле формирования ноосферы решающую роль мыслитель отводил именно XX в. В то время, по его убеждению, человечество вступило в новую фазу своей и планетарной истории. Впервые человек охватил своими жизнедеятельностью и культурой в целом всю биосферу, всю связанную с жизнью оболочку планеты. Жизнь человечества, при всем его разнообразии, стала нераздельным, единым целым. События, происходящие в любом уголке планеты, так или иначе имеют отклик в других местах, а благодаря этому — и на всей поверхности Земли.
«Этот процесс — полного заселения биосферы человеком — обусловлен ходом истории научной мысли, неразрывно связан со скоростью сношений, с успехами техники передвижения, с возможностью мгновенной передачи мысли, ее одновременного обсуждения всюду на планете». Более того, возникновение ноосферы «есть природное явление, более глубоким и мощным в своей основе, чем человеческая история»556. Оно требует появления человечества как единого целого; это его необходимая предпосылка, но космическое значение данного процесса, как считает В. И. Вернадский, выходит далеко за пределы человеческой истории.
По мнению В. И. Вернадского, то, что происходило в мировой науке в первой половине XX в., сопоставимо по своему всемирно–историческому значению лишь с теми интеллектуальными сдвигами, с которыми было связано формирование древнегреческой философии и науки в VI–V вв. до н. э. В XX в. впервые в истории человечества мы находимся в условиях единого исторического процесса, который охватил всю биосферу планеты, вследствие чего, наконец, человечество превратилось в единое, неразрывно связанное целое557.
Подобным образом, но в контексте своеобразного эволюционистски–мистического мировоззрения, на проблему формирования ноосферы смотрел и выдающийся французский натуралист П. Тейяр де Шарден. Эволюция Вселенной происходит, согласно его концепции, благодаря проявлению глубинных внутренних потенций бытия, которые имеют сакральную основу. Раскрытие этих сил проходит стадиально — через такие огромные периоды, как преджизнь, жизнь, мысль и будущая сверхжизнь, в рамках которых выделяются (соответственно данным космологии, геологии, палеонтологии, археологии, истории и т. п.) свои этапы. Таким образом, П. Тейяр де Шарден выступает как эволюционист, который, в отличие от позитивистов или марксистов, вводит в свою систему с целью объяснения механизма развития трансцендентные силы, которые определяют и направляют к определенной цели космическое движение. Но методология шарденовского моделирования всемирной эволюции принципиально отличная от традиционных эволюционистских схем. Чье бы развитие он не рассматривал, французский философ и натуралист повсюду видит поливариантность, полилинейность эволюции. Полилинейность развития, наличие пучков возможных направлений дальнейшего движения на любой из стадий развития живой и социально–разумной сфер — биосферы и ноосферы — выступает важнейшим, наряду со стадиально–эволюционным, принципом осмысления космической, планетарной и общечеловеческой истории558. Исторический путь человечества для него выступает поэтапной интеграцией в первобытности мало связанных друг с другом обшин. В условиях увеличения плотности население усиливаются контакты, обмен изделиями, сырьем и идеями, развивается коллективная память. Какой бы поначалу тонкой и зернистой ни была бы эта первая пленка ноосферы, она начала смыкаться и сомкнулась, покрыв Землю.
Земля не только покрывается мириадами капелек мысли, но и окутывается единой оболочкой, которая мыслит, образовывая целостную капельку мысли в космическом пространстве. Великое множество индивидуальных мышлений группируются и усиливаются в синергетическом акте совместного, взаимообогащающегося мышления. Народы и цивилизации достигают такого уровня интеграции, при котором в дальнейшем могут развиваться лишь вместе. Это готовит почву для будущего глобального, вселенского синтеза в «точке Омега». Для французского мыслителя человечество выступает своеобразным «свободным авангардом» саморазвития Вселенной. Как он констатирует, мы «начинаем открывать, что нечто развивается в мире через посредство нас, может быть, за наш счет. И что еще важнее, мы замечаем, что в этой великой игре мы одновременно игроки, карты и ставка. Никто не продолжит ее, если мы уйдем от стола. И ничто не может заставить нас оставаться за столом»559.
Подобно В. И. Вернадскому, П. Тейяр де Шарден решающую роль в деле общечеловеческого синтеза («мегасинтеза», как пишет он) отводит прогрессу науки, а затем интенсификации, возрастанию скорости обращения информации. Сегодня, когда мы наблюдаем утверждение информационного типа общества в ведущих в научно–техническом и экономическом отношениях регионах мира, вполне понятно, что конкретной формой воплощения этих явлений выступает разрастающаяся «всемирная паутина» обращения информации.
Таким образом, за много десятилетий до формирования современных концепций информатики и информационного общества, С. Н. Булгаков, тем более В. И. Вернадский и П. Тейяр де Шарден связывали развитие человечества с накоплением, увеличением объема, скорости распространения и обращения информации. Они подошли к осознанию роли информационных процессов в социокультурном развитии человечества и космоса в целом, определили, что в Новое время, особенно в XX в., человечество впервые реально объединяется, его ветви сближаются, происходит формирование его коллективного разума на основе, как сказали бы мы сегодня, становления и функционирования общечеловеческого поля информации.
Информатизация и развитие коммуникаций выступают неотъемлемой составляющей и, вместе с тем, предпосылкой и аспектом формирования ноосферы. Одновременно становление ноосферы содержит в качестве своего закономерного момента глобализацию, прежде всего в ее экономическом, научном и информационном измерениях. Таким образом, становление ноосферы, экономическую глобализацию и формирование постиндустриального, или информационного (информатизационного) общества в том понимании, в котором это понятие используют такие его ведущие теоретики, как Д. Бэлл и М. Кастельс, следует рассматривать системно, как ракурсы или аспекты единого процесса.
При этом анализировать проблему взаимосвязи экономической глобализации и формирования информационного общества следует с учетом осознания хозяйственной и научной деятельности человечества как такового (что находим у С. Н. Булгакова) и в контексте процесса становления ноосферы как космического явления (осмысленного В. И. Вернадским, П. Тейяром де Шарденом и Н. Н. Моисеевым). Ноосферно–глобализационный контекст становления и развития постиндустриального (по своему стадиальному определению) и информационного (по сущности) общества дает возможность постигнуть последнее с разных точек зрения как новую ступень человеческой и, шире, планетарно–космической эволюции. Его утверждение, согласно метафоре Э. и X. Тоффлеров, является «Третьей волной» (первые две — аграрная и индустриальная) кардинальных, системных сдвигов, пережитых человечеством в течение своей истории. По мере дальнейшей информатизации во всех сферах жизнедеятельности, от технологии и экономики до религии и семейных отношений, должны произойти качественные изменения, которые в своем системном единстве приведут к появлению принципиально нового типа цивилизации. Базовые показатели информационного общества будут диктовать новую реальность во всех сферах жизни560.
Однако (как стало понятно в конце XX в.) с обострением проблемы сохранения окружающей среды, разрушаемой деятельностью человека, ноосферная концепция приобрела выразительный экологический акцент. При этом Н. Н. Моисеев принципиально связал становление ноосферы, которое он (подобно В. И. Вернадскому и П. Тейяру де Шардену) понимал в качестве закономерного этапа развития Вселенной, с информатизацией. По его словам, взаимодействие Человека и биосферы требует осмысления биосферы как единого целого561, что невозможно без обработки огромных массивов информации электронными средствами.
Н. Н. Моисеев пишет о том, что на основе информационной техники сформируется «коллективный интеллект», который будет представлять собой информационную систему, включающую совокупность индивидуальных разумов, способных обмениваться информацией, формировать общее миропонимание, коллективную память, принимать общие решения. Он считает, что в XXI в. реальностью станет «интеллект планетарного сообщества», который будет опираться на искусственный интеллект как на свой технический инструментарий562. Такое гипотетическое развитие исследователь оценивает в плоскости реализации предусмотренного В. И. Вернадским процесса превращения биосферы в ноосферу — сферу разума, который в дальнейшем должен будет определять направление и движение планетарно–космического развития.
Этот вывод подтверждается также мыслью Н. Н. Моисеева о том, что человечество в своем деструктивном воздействии на окружающую среду зашло так далеко, что преодолеть неминуемый экологический кризис будет можно лишь путем создания планетарно–интегрированного интеллекта с целью, кроме прочего, достижения системной трансформации разрушенной окружающей среды. Со времен неолитической революции человечество стремилось подчинять природу, но теперь пришло время осознать необходимость установления с нею «партнерских взаимоотношений» и играть с ней «на равных». А для этого надо выработать новую цивилизационную парадигму, которая определяла бы рамки допустимой активности человека по отношению к природе и соответствующие моральные нормы. Решение этой проблемы ученый рассматривает как узловую проблему современного гуманизма563.
Формирование ноосферы является той критической точкой развития материи, начиная с которой дальнейшая эволюция живого уже невозможна без согласования факторов самоорганизации биосферы с человеческим разумом. Но если такое удастся, биосфера сможет актуализировать новые, разумные механизмы эволюции. Включение разума в систему природы, отмечает С. Б. Крымский, становится необходимым, так как он противостоит энтропии, высвобождает культурную биохимическую энергию (аграрное производство), раскрывает информационные основания эволюции, обеспечивает условия возрастания целостности биосферы и т. п. В этом отношении формирование ноосферы как системы включения ума в естество живой природы является своеобразным его ответом на «призыв» Вселенной. Из этого следует, продолжает философ, «что ноосфера является сферой разума не в обычном, отвлеченно–логическом смысле, а в специфическом отношении. При ноосферном рассмотрении разум — это не хозяин бытия, а его репрезентант, необходимая распорядительная по своей функции сила, которая действует не сама по себе, а в контексте общих космопланетарных закономерностей существующего»564.
Поэтому природа не может в дальнейшем рассматриваться как сугубо внешний источник ресурсов и предмет активной преобразующей деятельности человека. Общество и природа образовывают единую систему, а человек должен взять на себя ответственность за поддержание биосферы в состоянии, обеспечивающем развитие общества565. В таком случае информатизация и развитие электронных средств связи являются неотъемлемой составляющей, а также предпосылкой и аспектом формирования и функционирования ноосферы. Становление же ноосферы содержит в качестве своего закономерного момента глобализацию. Таким образом, возникновение ноосферы, глобализацию и становление постиндустриального, или информационного общества, следует рассматривать системно, как ракурсы, или аспекты единого процесса.
Итак, глобализация (экономической стороной которой являются предусмотренное К. Марксом обобществление производства производства и, по С. Н. Булгакову, утверждение человечества в качестве единого коллективного субъекта мирохозяйственной деятельности) и преобразование Земли в единую искусственную экосистему (духовную структурообразующую основу которой составляет ноосфера) выступают двумя сторонами одной медали. Однако сегодня человечество вносит в мир скорее деструктивный, чем конструктивный момент. На практике мы видим, что глобалистическая интеграция вовсе не ведет к общечеловеческой «соборности», как на то, развивая мысли В. С. Соловьева, надеялся С. Н. Булгаков. Скорее, она устанавливает жесточайшие формы подчинения и эксплуатации как в рамках самого человечества, между наиболее развитыми странами «золотого миллиарда» и прочими народами, так и между человечеством в целом и окружающей средой.
Поэтому булгаковская концепция софийности мирохозяйственной деятельности интегрированного человечества, как и ноосферные концепции В. И. Вернадского и П. Тейяра де Шардена, не должны отвлекать внимание от жестоких планетарных реалий настоящего. Глобализация экономики и создание всемирной информационно–коммуникационной системы Интернет сами по себе не являются ни благом, ни злом. Сегодня, при условиях обострения разногласий между бедным большинством и богатым меньшинством стран, они используются преимущественно на благо — для дальнейшего обогащения последних.
Но если человечество сможет конструктивно преодолеть указанное противоречие (как западные страны это осуществили у себя в течение XX в.), глобализация и всемирная информатизация повернутся к человечеству своей позитивной, плодотворной стороной, вследствие чего в полной мере раскроется «софийная» природа мирохозяйственной деятельности Человека, а жизнь, как космическое явление, посредством разумного человека перейдет на ноосферный уровень эволюции.
Концепция информационного общества и глобально–информациональной экономики
Впервые достаточно четко идея информационного общества сформулирована в 60‑х годах XX в. профессором Токийского технологического университета Ю. Хаяши, который предложил термин «информационное общество»566 Японское правительство уже тогда считало необходимым для страны, особенно для развития ее экономики, выяснить перспективы распространения компьютерных технологий. Тем не менее акцент на сугубо экономической стороне дела обусловил определенную ограниченность и прикладной характер работы японских ученых.
«Информационное общество» так бы и осталось локальной японской моделью перспективного экономического развития, если бы параллельно на соответствующий круг идей (но в более широком социокультурном контексте) не вышел ведущий американский социолог Д. Белл. Данный термин он впервые употребил уже в 1962 г., а в 1973 г. появилась его фундаментальная работа «Приход постиндустриального общества»567, благодаря которой это понятие получило научное признание. А очередную, изданную через 7 лет, работу исследователь назвал «Каркас информационного общества»568.
Окончательно идея постиндустриального общества утвердилась, когда стало понятно, что научно–технические знания и владеющий ими и увеличивающий их человек стали решающей силой развития материального производства. Понимание постиндустриального общества (приход которого Д. Белл связывал с трансформациями в системе западной цивилизации во второй половине XX в.) исследователь конкретизировал в пяти измерениях.
1. Экономический аспект: переход от товаропроизводящей к обслуживающей экономике, когда большинство рабочей силы занято уже не в сельском хозяйстве или промышленном производстве, а в области обслуживания, которая определяется им по «остаточному принципу» (как торговля, финансы, транспорт, здравоохранение, научно–исследовательская работа, образование, управление и отдых). Примером здесь оказались США, где в начале 70‑х гг. сектор обслуживания охватывал около 60% рабочей силы. Но развитие современной экономики стало возможным лишь благодаря использованию компьютеров, которые навели мост между теоретическим знанием и большими базами данных. На этом основании развились модели взаимозависимости разных областей производства, такие как матрицы «затраты — выпуск», разработанные В. Леонтьевым569, ставшие едва ли не основным средством планирования национальной экономики.
2. Разделение населения по роду занятий: перевес профессионально–технического класса, что стало прямым следствием перетока рабочей силы из сфер реального производства в сферу услуг. Так, в 1956 г. в США количество служащих впервые в истории индустриального общества превысило численность рабочих, а в 1970 г. их соотношение определялось как 5:4. Но более показательным является то, что в это время вдвое быстрее возрастает количество квалифицированных специалистов с соответствующим образованием.
3. Осевой принцип: ведущая общественная роль теоретического знания как источника нововведений и политических формулирований. Новое, постиндустриальное общество базируется на теоретическом знании, являющемся его определяющим принципом, источником информации и формирования политического курса. В экономике это приводит к тому, что по своему значению в жизни человечества производство товаров уступает первое место производству знаний и услуг. Соответственно на первый план выдвигается новый класс — интеллектуалов, который, используя новейшие информационные технологии, решающим образом влияет на все сферы жизни, прежде всего на экономическую, политическую и социальную.
4. Ориентация на будущее: контроль технологии и технологической оценки. Это реализуется через объединение науки, технологии и экономики, благодаря чему во второй половине XX в. развились основанные на науке области производства (электроника, производство полимеров, высокоточных оптических приборов, компьютеров и т. п.). Но дело не только в новейших наукоемких производственных технологиях. Новую фазу в истории мировой экономики делает возможным именно сознательный, планомерный, предвиденный технологический прогресс, ведущий к уменьшению неопределенности и рисков относительно экономического будущего.
5. Принятие решений: создание новой «интеллектуальной технологии», ориентированной на изобретательство и воплощение новаций. Экономика, как и общество в целом, по своей сущности становится инновационной. Это обусловливает увеличение сложности явлений и процессов. Поэтому на первый план выдвигается проблема управления крупномасштабными системами с большим числом взаимодействующих факторов, которые должны быть согласованы для достижения поставленных целей, в частности в сфере упорядочения массового общества.
Если индустриальное общество является системой согласования машин и людей для производства товаров, то постиндустриальное общество организуется вокруг знания с целью общественного контролирования и направления нововведений и изменений. При этом, подчеркивал исследователь, отличительной особенностью постиндустриального общества является центральное место именно теоретического знания, первенство теории над эмпирией и кодификация знания в абстрактную систему символов, которые могут использоваться для освещения многих и разнообразных аспектов опыта. Затем постиндустриальное общество становится обществом информационным, и этот новый этап человеческой цивилизации начинает преобладать в конце XX в.
Компьютеризация в этом отношении по всемирно–исторической значимости сопоставима с промышленной революцией конца XVIII — начала XIX вв. Существенное различие между ними в том, что следствием промышленной революции была передача машинам функции физического труда, а ныне на них перекладываются формализованные (и, в целом, принципиально поддающиеся формализации) функции умственной деятельности. Это открывает горизонт развитию новых, интеллектуальных видов производства.
Соединение науки, технологии и экономики обусловило возникновение во второй половине XX в. новых областей производства — электронных и оптических средств, компьютеров и т. п. Но основанные на науке области производства зависят прежде всего от теоретической работы, которая внедряется в производство. Поэтому успехи во всех сферах знаний (а затем и производства) становятся все больше зависимыми от приоритетов в теоретической работе, кодифицирующей знание и указывающей путь эмпирического подтверждения. По сути, теоретическое знание все в большей степени становится стратегическим ресурсом общества. А университеты и научные учреждения, где теоретическое знание кодифицируется и обогащается, превращаются в базовые структуры складывающегося на наших глазах информационного общества.
Согласно Д. Беллу главным источником структурных изменений в современном мире являются изменения в способе нововведений, в отношении науки к технологии, центральным звеном чего стали информационные системы. Это конкретизируется через экспотенциальное возрастание и разветвление науки, возникновение новых интеллектуальных технологий, проведение систематических исследований благодаря бюджетным организациям и кодификации теоретического знания570.
Концепция нового информационного общества быстро приобрела широкое признание, а американский футуролог Д. Несбит уже в начале 80‑х гг. минувшего столетия одной из мегатенденций своего времени признал переход от индустриального общества к информационному571. Переход воспринимался в те годы, а среди американских авторов — преимущественно и сегодня, как однозначное благо для человека, даже как «триумф личности» в конце XX в., поскольку человек встречает новое тысячелетие более могущественным, чем когда–либо. Исходными и решающими факторами этого перехода почти единодушно были признаны компьютерная революция, развитие информационных технологий и инфраструктуры до того уровня, когда зависимость развития общества от законов движения информации настоятельно дает о себе знать и осознается людьми572.
Подобным образом приоритетность научно–информационной сферы в современном информационном, или, как его называют еще, «электронно–цифровом» обществе подчеркивают и другие авторы, в частности авторитетный американский исследователь Д. Тапскотт. Среди выделенных им 12 признаков нового общества первым он называет ориентацию на знание. Новое общество для него — это общество знаний, общество, в котором интеллекту отдают предпочтение перед грубой силой, где центр деятельности сместился в сферу умственного труда. В новом обществе главные активы любого предприятия — интеллектуальные, а основная фигура — интеллектуал. На первый план выдвигаются знание и творческие, прежде всего интеллектуальные, способности работников573.
Экспотенциальное возрастание электронного бизнеса, при снижении стоимости информационных и компьютерных технологий и услуг, связано с быстрым расширением использования сети Интернет, развитием э-торговли и э-финансов как видов деятельности, на которые повышается спрос потребителя. Как по этому поводу отмечают современные американские исследователи Г. Миле и Д. Шнайдер, в 80–90‑е гг. минувшего столетия интеграция глобальных рынков капитала и ориентация компаний на создание глобальных маркетинговых и других стратегий сопровождались и стимулировались развитием Интернета. Одновременно это побудило совершенствование информационных технологий благодаря спросу на электронные средства, позволяющие управлять транснациональными корпорациями.
При наличии соответствующих электронно–информационных средств, в условиях быстрого исчезновения торговых барьеров и интеграции рынков капитала ТНК начали переходить к глобальной производственной модели: отдельные предприятия перестраиваются и начинают группироваться вокруг глобального производственного процесса с глобальными цепочками спроса, снабжения и потребления. Такой подход позволяет разработать более эффективную стратегию развития и улучшить связь поставщик–потребитель574.
Может создаться впечатление, что выдвинутые Д. Беллом идеи у следующего поколения североамериканских исследователей постиндустриально–информационного общества, таких как уже названные Д. Тапскотт, Г. Миле и Д. Шнайдер, приобрели логическую конкретизацию соответственно уровню развития электронных средств массовой коммуникации (прежде всего Интернета с его почти безграничными возможностями получения и трансляции информации) на рубеже XX–XXI вв. В значительной мере это так. Но, в отличие от Д. Белла, эти авторы выглядят слишком наивными и оптимистичными. Сформировавшись как интеллектуалы в период триумфа США над СССР, в условиях стремительного роста экономики и благосостояния Северной Америки 90‑х гг. минувшего века, они, в отличие от Д. Белла, забыли о некоторых существенных обстоятельствах.
Читая работы современных североамериканских теоретиков информационного общества, складывается впечатление, что они, словно забыв о существовании стран за пределами Запада и Японии с «дальневосточными тиграми», отождествляют человечество как таковое с данными процветающими регионами планеты. Вместе с тем эти ученые постоянно делают акцент на глобальном характере современной мир–системной экономики. Так, Д. Тапскотт определяет 12 признаков нового общества.
1. Ориентация на знание: новое общество является обществом знаний.
2. Цифровая форма представления объекта: новое общество — цифровое общество.
3. Виртуальная природа. Вследствие преобразования информации из аналоговой формы на цифровую объекты виртуальной природы приходят на смену физическим. Становится другим «обмен веществ» в обществе, виды учреждений и отношений, сама природа экономической деятельности.
4. Молекулярная структура. Структура нового общества подобна структуре молекул. Старые корпорации распадаются, вместо них появляются динамические молекулы и сосредоточение людей и учреждений — основа всякой хозяйственной деятельности. Учреждения не обязательно исчезают, но принципиально трансформируются. В экономической и общественной жизни понятие «массовый» повсеместно заменяется понятием «молекулярно–структурированный».
5. Интеграция. Межсетевое взаимодействие. Новое общество — общество с межсетевым взаимодействием, с помощью которого молекулы объединяются в кластеры, а кластеры — в сетевые структуры для создания материальных благ.
6. Устранение посредников. Посредники, которые служили передаточными цепочками между производителями и потребителями, с появлением компьютерных сетей становятся ненужными. Предприятия–производители, их функции, люди, которые выполняют эти функции, должны занять другую нишу в бизнесе и создавать новые ценности, иначе они будут устранены.
7. Конвергенция. В новом обществе основная область экономики формируется путем конвергенции трех сфер — коммуникаций, вычислительной техники и информационного накопления. Это, в свою очередь, обеспечивает инфраструктуру для создания материальных ценностей во всех других областях.
8. Инновационная природа: в новом обществе экономика базируется на инновациях.
9. Трансформация отношений производитель — потребитель. В новом обществе границы между производителем и потребителем устраняются и производство приспосабливается ко вкусам индивидуальных потребителей.
10. Динамизм. В информационном обществе динамизм становится основной движущей силой, новым параметром хозяйственной деятельности и делового успеха.
11. Глобальные масштабы: экономика нового общества охватывает всю планету.
12. Наличие противоречий. Появляются новые социальные проблемы, которые могут привести к массовым беспорядкам и смятению в умах.
Можно согласиться с тем, что приведенные признаки «нового общества» отвечают определенным тенденциям, проявившимся в последние два десятилетия XX в. в США и многих других странах Запада, а также в наиболее развитых государствах Азиатско–Тихоокеанского региона. Определенные основания для оптимизма относительно перспектив развития стран за пределами Западной цивилизации в последней четверти XX в. имели место. Некоторые страны Азии демонстрировали поразительно высокие темпы развития. Так, в Южной Корее объем производства на душу населения удвоился с 1966 г. по 1977 г., а в Китае — с 1977 г. по 1987 г.575 Но это вовсе не означало и не означает, что все человечество как таковое движется в определенном Д. Тапскоттом направлении.
Бросается в глаза разительное неравноправие компонентов, которые образовывают глобальную цивилизацию все возрастающая пропасть (по параметрам качества жизни преобладающей массы людей) между ее ведущим звеном — Западом, группой наиболее развитых стран, которые вышли на уровень информационного общества, и остальным человечеством, все более отстающим от мировых лидеров. В мире четче действуют глобальные закономерности и тенденции, характер которых определяется главным образом интересами и возможностями небольшого количества мощнейших государств и наднациональных корпораций. При таких условиях большинство стран второго и третьего эшелонов скорее подстраивается, приспосабливается к их требованиям, чем самостоятельно и активно действует в собственных интересах.
Уже в конце XX в. было понятно, что пропасть между экономическим, технологическим, информационным уровнями развития мировых лидеров и прочих стран стремительно увеличивается. Качество жизни большинства населения незападных стран в течение последнего десятилетия минувшего столетия не только не улучшилось (это касается преимущественно Латинской Америки и народов мусульманского мира), но во многих случаях деградировало, что особенно заметно в Тропической Африке и на просторах постсоветской Евразии576. Так, в странах Тропической Африки в 1993 г. реальный доход на душу населения существенно уменьшился по сравнению с 1973 г. В 1950 г. доход на душу населения в регионе составлял 11% от уровня индустриальных государств, а в середине 1990‑х гг. — лишь 5%.
Страны Латинской Америки также сделали шаг назад, особенно в 1980‑х гг.577 Последнее в течение 80–90‑х гг. имело место и в СССР и постсоветских странах, в частности в Украине, где, по данным международных финансовых организаций, падение реального ВВП (относительно показателя предыдущего года) составляло: 1990 г. — 3,4, 1991 г. — 11,6, 1992 г. — 13,7, 1993 г. — 14,2, 1994 г. — 23,0, 1995 г. — 12,2, 1996 г. — 10,0, 1997 г. — 3,2%, и лишь в 1998 г. впервые за десятилетие отмечено возрастание на 1%578.
В 1981 – 1990 гг. темпы экономического роста в развивающихся странах составляли в среднем 3% в год, а на душу населения — 1%, в 60–70‑х гг. эти показатели равнялись, соответственно, 5,5 и 3%. Если в 1960 г. (когда большинство стран Африки обрело независимость) наиболее обеспеченные 20% жителей планеты превышали по уровню благосостояния 20% беднейших в 30 раз, то через 30 лет этот разрыв возрос к соотношению 60:1, а сегодня приближается к 100:1. Богатые страны Запада, в которых проживает четверть человечества, используют 70% вырабатываемой энергии, 75‑металлов, 60 — продовольствия, 85% древесины. В целом же наиболее развитым странам достается 85% совокупного мирового дохода, а больше миллиарда людей находится в тяжелейшей нищете, и эта тенденция неизменно нарастает579.
Таким образом, уже в 90‑х гг., когда в США утверждалась присущая их современным исследователям парадигма понимания глобально–информационного мира, было вполне очевидным, что в планетарном масштабе имеем дело со взаимосвязанными, но разнонаправленными тенденциями. Развитые страны Запада во главе с США уверенно шли впереди других государств по темпам информационно–технологического развития, объему потребления и улучшению качества жизни. Параллельно быстрыми темпами, значительно опережая Запад, экономически развивались Китай и некоторые другие страны Азиатско–Тихоокеанского региона, пока по ним не ударил валютно–финансовый кризис 1997–1998 гг. (последствия которого, впрочем, были преодолены в считанные годы).
Но положение дел в большинстве других азиатских и латиноамериканских, тем более — постсоветских и африканских — стран никаких оснований для оптимизма относительно развития человечества в целом не давало. Более того, образовались зоны системной деградации, и не только в нестабильных и беднейших регионах Тропической Африки (Сомали, Руанда, Сьерра–Леоне, Либерия, юг республики Судан и др.), но и на пространствах Азии и даже Европы (Кампучия, Афганистан, Чечня, Босния, Косово). Поэтому уже десять лет тому назад можно было понять, что блага информационного общества, по крайней мере в наше время и в обозримой перспективе, получает не человечество как такое, а лишь его наиболее развитая и обеспеченная часть. Это, разумеется, не противоречит тому, что сеть электронных коммуникаций охватывает весь мир. Однако в большинстве стран Азии, Африки и Латинской Америки, как и на постсоветском пространстве, к ней имеет отношение лишь мизерная часть населения — представители наиболее богатого и высокообразованного слоя населения, приблизительно та его часть, которая еще при колониализме получила западное образование и была непосредственно связана с политической, экономической и культурной жизнью своих метрополий.
Здесь снова вспомним Д. Белла, который в начале 70‑х гг. прошлого столетия отмечал, что идея постиндустриально–информационного общества является прогнозом относительно изменений в общественном устройстве именно западного общества580. Более того, этот исследователь глубоко проанализировал, по крайней мере, одну — культурную — сторону противоречивости современного западного, прежде всего североамериканского, общества581. Она выражается в несовместимости протестантских в своей основе духовных ценностей, которые обеспечили утверждение капитализма в европейском и, в определенном смысле, планетарном масштабе, и ценностей массовой культуры общества массового потребления, которые грубо навязываются рекламными средствами массовой информации. Потребительско–гедонистическое отношение к жизни противоречит аскетически–трудовому духу раннего и классического капитализма, блокирует самовоспроизводство его идейно–ценностно–мотивационных оснований и всего, базирующегося на них, западного социокультурного типа.
При этом, как сегодня становится все больше понятным, по мере того как «плавильный тигель» США начинает давать сбои, англосаксонский буржуазно–протестантский социокультурный тип перестает выступать абсолютной самодовлеющей доминантой, сталкиваясь с ограничениями со стороны афро–, латиноамериканских, индейских и дальневосточных, японских и китайских стереотипов582.
На данном этапе мы видим непреодолимый антагонизм между специфическими духовными, идейно–ценностно–мотивационными основаниями великих традиционных цивилизаций и квазиценностями рекламно–коммерционализированной культуры «одномерного», по меткому выражению Г. Маркузе583, общества массового потребления. А об усилении межцивилизационных и геополитических противоречий на рубеже XX–XXI вв., в 90‑х гг. истекшего столетия, весьма убедительно писали такие ведущие американские политические мыслители, как С. Хантингтон и З. Бжезинский584.
Учитывая это, более взвешенной и глубокой, чем упомянутые подходы североамериканских ученых, представляется теория глобально–информатизированного общества, недавно предложенная М. Кастельсом. Его фундаментальное, трехтомное, в полной, англоязычной версии исследование «Информационная эпоха. Экономика, общество и культура» является, очевидно, наиболее удачной попыткой построения основательной теории информационного общества. Сам ученый также считает, что это общество более точно было бы определять как «информациональное».
Наличие и оборот информации присущи человечеству в течение всей его истории, поскольку процесс производства всегда базируется на определенном уровне знаний и обработки информации. Однако специфическим именно для «информационального способа развития» является решающая роль знаний в качестве источника производительности. Спецификой современности выступает определяющая роль производства и трансляции новой информации. Само общество нацелено на информатизацию. В нем источником производительности выступает технология генерирования знаний, обработка информации и символической коммуникации585. Поэтому современную форму капитализма он предлагает называть «информациональным капитализмом», что после ликвидации «этатизма» (как он называет социализм советского образца) как системы пышно расцвел во всем мире.
Процесс утверждения информационального способа экономического развития исследуется М. Кастельсом прежде всего под углом зрения развертывания мировой информационно–технологической революции. Стержнем этой революции он считает новейшие технологии обработки и трансляции информации. По его словам, современную технологическую революцию характеризует не просто центральная роль знаний и информации во всех сферах жизнедеятельности людей в развитых странах, а использование этих знаний и информации для генерирования новых знаний и технологий, которые обрабатывают информацию и обеспечивают коммуникацию586.
При таких условиях в мире в последнее время сложилась экономика нового типа, которая является одновременно информациональной и глобальной. Информациональной — поскольку производительность и конкурентоспособность ее агентов зависят в первую очередь от их способности генерировать, обрабатывать и эффективно использовать информацию, основанную на знаниях. Глобальной — ведь основные виды экономической деятельности, такие как производство, потребление и циркуляция товаров и услуг, а также их составляющие (капитал, труд, сырье, управление, информация, технология, рынок) организуются в планетарном масштабе — непосредственно или с использованием разветвленной сети, связывающей экономических агентов. Информациональной и глобальной — потому, что в новейших общественных условиях достижение определенного уровня производства и качества конкуренции возможно лишь посредством включения в глобальную сеть взаимосвязей, сложившихся в последней четверти XX в. как следствие развития сферы информационных технологий587.
В общем плане базовая идея М. Кастельса относительно того, что «технология определяет общество»588, не является оригинальной. Ее истоки уходят в XVI–XVII вв. и впервые отчетливо сформулированы в «Новой Атлантиде» Ф. Беконом589, который уже тогда был убежден, что человечество к лучшей жизни приведет прогресс научно–технических знаний. Подобные мысли углубляли и развивали французские просветители второй половины XVIII в., в частности А. Р. Тюрго и Ж. А. Кондорсе , а вслед за ними — О. Конт и прочие позитивисты, которые, начиная с Г. Спенсера, стояли на позициях эволюционизма. В этом их наследовали американские неоэволюционисты второй половины XX в. — Дж. Стюард, Л. Уайт590, а также такие известные исследователи истории экономического прогресса человечества, как У. Ростоу и К. Поланьи591.
Глобальную, связанную с информатизацией, реструктуризацию, которую в последнее время пережил капитализм, М. Кастельс наделяет следующими признаками: повышением гибкости в управлении, децентрализацией и появлением сетевых структур как на периферии отдельных фирм, так и в отношениях между самими фирмами; значительным укреплением позиций капитала в его отношениях с наемным трудом, что сопровождалось упадком рабочего движения; возрастанием индивидуализации и диверсификации трудовых отношений; массовым привлечением женщин в группу работающих, зачастую — при их дискриминации; вмешательством государства (с разной интенсивностью и в различных направлениях, соответственно природе политических сил и институтов в каждой стране) с целью селективной дерегуляции рынков и демонтажа «государства всеобщего благосостояния»; усилением глобальной экономической конкуренции в контексте возрастающей географической и культурной дифференциации условий накопления капитала и менеджерского опыта.
Вследствие такой генеральной и незавершенной реконструкции мировой капиталистической системы мы стали свидетелями глобальной интеграции финансовых рынков; стремительного подъема Азиатско–Тихоокеанского региона как нового доминантного производственного центра; энергичных усилий по экономическому объединению Западной Европы; усиления североамериканской региональной экономики; диверсификации, а потом и расщепления бывшего «третьего мира»; постепенной трансформации национальных экономик прежде зависимых от СССР держав Центральной Европы и постсоветских стран на рыночных основаниях; объединения важнейших секторов национальных экономик во взаимосвязанную систему, которая функционирует в режиме реального времени592.
Вместе с тем М. Кастельс принципиально выступает против тех, кто думает, что информационные технологии способны решить все возникающие перед человечеством проблемы593. По его мнению, определившиеся еще в прежние времена экономические, политические и культурные изменения были принципиально усилены включением чрезвычайно мощных информационных технологий, благодаря которым в последнюю четверть столетия мир как таковой качественно изменился. Но базовые признаки капитализма, в частности наемный труд и конкуренция в накоплении капитала, по его твердому убеждению, полностью сохраняются. Информационализм связан с экспансией и обновлением капитализма подобно тому, как индустриализм был связан с его становлением как способа производства.
Обусловленная утверждением в ведущих странах мира информационального капитализма реструктуризация, по убеждению М. Кастельса, осуществлялась на фоне политического поражения организованного труда. Связанные с нею процессы очень по–разному отразились на судьбах некоторых регионов планеты. Они в целом стимулировали экономическое развитие Северной Америки, Западной Европы и Японии, но погрузили почти все страны Тропической Африки и Латинской Америки в глубокий экономический кризис, к чему приложила руку и в целом осуждаемая им политика базирующегося в США Международного валютного фонда (МВФ). Последнее тем более относится к большинству (за исключением разве что прибалтийских) постсоветских государств.
Но в условиях глобального роста информационализма и соответствующей реструктуризации капитализма разные страны ведут себя не одинаково. Например, Китай (который, по словам исследователя, перешел к капитализму, управляемому государством, и интеграции в глобальные экономические сети) и даже Бразилия не собираются расплавляться в глобальном котле информационального капитализма. А из этого делается вывод, что теория информационального общества обязательно должна учитывать историко–культурную специфику отдельных стран594.
Благодаря отмеченным тенденциям глобальных преобразований, утверждает М. Кастельс, в мире наблюдается не только все более разительное обострение неравенства качества жизни и темпов развития между богатым Севером и бедным Югом, но также между динамичными секторами развития и территориями стран всего (включая Запад) мира и теми депрессивными секторами и территориями, которые рискуют утратить какое–либо значение. В современном мире параллельно происходят раскрытие гигантских продуктивных сил, пробужденных информациональной революцией, и увеличение в планетарном масштабе «черных дыр» человеческой бедности.
Происходит рост преступности, которая также приобретает признаки информационализации. Во многих регионах конфликтной сферой становятся и отношения между полами. Политические системы охватываются структурным кризисом легитимности, периодически сотрясаются громкими скандалами, существенным образом зависящими от освещения в средствах массовой информации личных качеств и связей их лидеров, становящихся все более изолированными от сограждан. Общественные движения демонстрируют тенденцию к фрагментации, локальности, узкой направленности и эфемерности.
Таким образом, подытоживает М. Кастельс, характеристиками нашего исторического периода выступают: наростание деструкции традиционных для индустриального общества организаций и делигитимизация его институтов, угасание больших социальных движений минувших двух столетий и эфемерность культурных проявлений. В мире, где происходят такие неконтролируемые процессы, усиливается беспорядок. Поэтому люди становятся предрасположенными к группировнию вокруг «первичных источников идентичности» — религиозных, этнонациональных, территориальных. В мире, пронизанном «глобальным потоком богатств, власти и образов, поиски идентичности — коллективной и индивидуальной, приписанной или сконструированной — становятся фундаментальным источником социальных значений».
Поэтому ныне «идентичность становится главным, а иногда и единственным источником смыслов. Люди все чаше организуют свои смыслы не вокруг того, что они делают, а на почве того, кем они являются, или своих представлений о том, кем они являются»595. При таких условиях религиозный, национальный, региональный фанатизмы становятся угрожающей силой, которая, вместе с тем, в определенной мере обеспечивает личную безопасность и узкоколлективную мобилизацию в наше бурное время. Информациональное общество является также обществом организаций типа «Аум Сенрикё», тем более, что постмодернизм празднует конец «Века Разума».
Однако в любом случае на уровне научного общения, работы валютнофинансовых бирж или деятельности террористических группировок коммуникации осуществляются через глобальную электронно–информационную сеть. Вследствие этого в условиях, когда физическое расстояние теряет для скорости общения какое–либо значение, люди все больше функционируют через Интернет. Сама жизнь огромного множества индивидов, прежде всего экономически, политически и культурно активных людей, структурируется вокруг мировой сети коммуникаций. Межличностные связи и отношения все более уступают место отчужденно–формализованным, электронным контактам, построенным по матрицам обмена информации. А это, в соответствии с нарастанием плотности информационных контактов в глобальном масштабе, ведет к усилению социальной фрагментации, заостряет экзистенциальные, смысложизненные проблемы атомаризированных индивидов.
Итак, рассмотренная концепция информационально–глобального сверхобщества, в отличие от большинства других, разрабатывающихся преимущественно североамериканскими авторами, не нацелена на убеждение читающей публики в безоблачности будущего. В этом отношении она корелируется с реалистическим видением проблем, встающих перед человечеством в XXI в., С. Хантингтоном, хотя и с позиций разных теоретико–методологических подходов. Ведь не только для человечества в целом, но и для наиболее развитых стран во главе со США утверждение глобально–информационного общества совсем не знаменует приближения к «светлому будущему». Об этом красноречиво свидетельствуют и кровавые конфликты последних лет (Афганистан, Ирак и др.), в т. ч. трагические события в Нью–Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 г.
Сама по себе информационализация (как раньше индустриализация, овладение атомной энергией, космонавтика и т. п.) не определяет ни благо, ни зло для человечества как такового. Осознавая огромные возможности, которые предоставляет человечеству глобальная сеть электронных коммуникаций, М. Кастельс понимает, что решающее значение для будущего имеет то — кто, с какой целью и как будет эти возможности использовать А пока что плодами новейших информационно–коммуникационных технологий, кроме различных ученых, инженеров, художников и администраторов, пользуются в первую очередь хозяева большого капитала, властьимущие и военные, а также (иногда — прежде всего) международные криминальные и экстремистские группировки.
Вместе с тем видение М. Кастельсом состояния глобализированного человечества как основы своей планетарной информационно–коммуникационной системы, работающей в режиме реального времени, в целом вписывается в общую научно–философскую концепцию ноосферы (без моральной оценки соответствующего процесса). Сам исследователь не касается ноосферного аспекта глобализационно–информационного процесса, но уделяет достаточное внимание предпосылкам, истокам, этапам реализации и месту информационно–технологической революции в истории человечества При синтезе его разработок с имеющимися концепциями развития цивилизации, мир–системных трансформаций последних столетий и решающей фазы глобализации нашего времени всемирно–историческое место и значение информационно–технологической революции станет более понятным.
Информационно–технологическая революция и ее роль в трансформации мировой экономики
В современном обществоведении, вопреки традиционному позитивистско–эволюционистскому подходу, преобладает взгляд на историю как на чередование относительно стабильных состояний и глубинных трансформаций. Последние определяют качественное состояние человечества на следующие продолжительные эпохи. Такой взгляд в определенной мере отвечает базовым идеям относительно всемирной истории гегелевской философии и марксистского подхода, но в значительно более близкой связи он находится с принятой современной наукой синергетической парадигмой.
Внедрение новых информационных технологий в повседневную жизнь значительного количества жителей нашей планеты во всех ее регионах произошло, по масштабам исторического времени, мгновенно — с середины 70‑х до середины 90‑х гг. XX в. Это привело к глобальным изменениям, которые вполне оправданно сравнивают с последствиями индустриальной революции, начавшейся в Англии в последней четверти XVIII ст. Обе революции оказали всеохватывающее влияние на жизнь планеты. Вызванные ими изменения стали той тканью, в которую оказалась вплетенной жизнедеятельность людей.
Основой индустриальной революции было масштабное овладение новыми видами энергии — сначала паровой, а потом — электрической. Поэтому сейчас в западной литературе, посвященной истории научно–технического прогресса, рассматривают две промышленные революции, связанные, соответственно, с овладением силой пара и электрической энергии (с третьей четверти XIX в.). Ядром же современных системных трансформаций в мире стали новые, электронные средства коммуникации и технологии обработки информации. Индустриальная революция на ее первой фазе была британским явлением, а информационно–технологическая — «американской с калифорнийским уклоном»596.
Для информационно–технологической революции электронные информационные технологии сыграли роль, подобную той, которую в ходе индустриальной революции отыграли новые источники энергии. Как производство и распределение энергии было ведущим фактором индустриального общества, так производство, трансляция и трансформация информации стали ядром современной технологической революции, определяемой прежде всего как информационная.
Обновление базы знаний было, как показал ведущий американский историк технологического развития человечества Дж. Мокир, неотъемлемой составляющей технологических изменений и связанных с ними экономических и социокультурных трансформаций и раньше. Так, первая индустриальная революция, хотя и не базировалась на науке, все же опиралась на широкое использование информации, используя и совершенствуя ее. А вторая индустриальная революция — после 1850 г. — уже непосредственно была связана с решающей ролью науки в инновационной модернизации производства, о чем, в частности, свидетельствует появление (впервые в мире) научных лабораторий в структуре немецкой химической промышленности в последнем десятилетии XIX в597.
Поэтому уже в 80‑х гг. минувшего столетия североамериканские и британские исследователи пришли к выводу, что признаком современной (информационной) технологической революции является не сама по себе центральная роль знаний и информации в жизни человечества (прежде всего в его экономическом прогрессе), а именно использование таких знаний (информации) для генерирования новых знаний и технологий. В первую очередь это касается создания и беспрерывного совершенствования средств обработки и трансляции информации, направленных на все более эффективное и продуктивное использования инноваций598. Наконец, компьютеры, их программное обеспечение и Интернет служат дальнейшей рационализации экономической и любой другой сферы жизни. Более того, современные ее формы уже невозможны без них.
Информационно–технологической революции последней четверти XX в. предшествовали отдельные важные научно–технические изобретения, прежде всего изобретение веком ранее телефона и радио, а также чуть позже — электронной лампы. Решающий прорыв в этом направлении пришелся на середину XX в., а именно — на время Второй мировой войны и послевоенные годы. Тогда был создан первый общецелевой компьютер (1946 г.) и изобретен транзистор (1947 г.), что сделало возможной обработку электронных импульсов с большой скоростью в двоичном режиме. В 1950 г. компьютер обработал данные переписи США, продемонстрировав перспективность его дальнейшего широкого использования.
Но собственно первые шаги информационно–технологической революции приходятся на рубеж 60–70‑х гг., когда в недрах Министерства обороны США была создана электронная коммуникационная сеть (1969 г.), из которой развился современный Интернет, был изобретен микропроцессор (1971 г.) и межсетевой протокол, который ввел «шлюзовую технологию». Последнее позволило связать сети разных типов599 Начало новой эпохи было отмечено созданием в 1975 г. микрокомпьютера, коммерческая модель которого появилась двумя годами позднее. С этой поры началось триумфальное шествие персональных компьютеров.
Здесь стоит подчеркнуть, что решающий прорыв в сфере информационно–вычислительных технологий не был непосредственно связан с какими–то сопоставимыми с ним по значению и масштабам позитивными сдвигами в мировой экономике. Скорее, наоборот: в экономическом отношении 1970‑е годы были ознаменованы застойными явлениями, обусловленными вызванным арабо–израильскими войнами 1967 г. и 1973 г. энергетическим кризисом, но не только им. Решающим, наверное, было то, что ресурс саморазвития общественно–экономической системы Запада, связанный с использованием кейнсианской модели, к этому времени был в целом исчерпан. Кризис кейнсианской парадигмы оттенялся нарастающим влиянием неолиберализма, в частности индивидуалистских, остро направленных против социализма идей Ф. А. фон Хайека600 и связанной с ним «Лондонской школы», монетаристской доктрины М. Фридмена601 и его «Чикагской школы». Этому соответствовало повышение интереса к неолиберальному пониманию общественных процессов в социальной философии К. Поппера, нацеленного не только против социалистического утопизма, но и историзма («историцизма», как он его презрительно называет) в целом602.
Необходимость существенных изменений экономических ориентиров была, таким образом, осознана. В 1980‑е годы мировой капитализм (сначала в лице больших корпораций и правительств стран «большой семерки») произвел значительную экономическую и организационную реструктуризацию, в которой новая информационная технология, по словам М. Кастельса, «играла фундаментальную роль и сама решающим образом формировалась этой ролью»603. Так, движение за дерегуляцию и либерализацию, развернутое англо–американскими предпринимательскими кругами в 1980‑х гг. (поддерживаемое правительствами М. Тетчер в Великобритании и Р. Рейгана в США), сыграло решающую роль в реорганизации и росте системы телекоммуникаций. В свою очередь, доступность новых телекоммуникационных сетей и информационных систем подготовила почву для глобальной интеграции финансовых рынков и сегментированой специализации производства и торговли во всемирном масштабе.
Таким образом, доступность новых технологий стала фундаментальной основой социально–экономической реструктуризации ведущих стран Запада в 1980‑х гг., что (на фоне краха СССР и всей «мировой системы социализма») определило изменение глобальной «мир–системы» в течение последнего десятилетия XX в. Два вполне автономных процесса, а именно: развитие информационных технологий и осознанная верхушкой предпринимательских и властных кругов ведущих в экономически–технологическом отношении стран, прежде всего США, необходимость обновления прежнего, индустриального общества — вступили в резонанс и, в соответствии с законами синергетики, дали новый мощный эффект — возникновение информационного (информатизационного, сетевого, технотронного, электронно–цифрового и т. п.) общества.
Такой переход на новую ступень общественно–экономического развития ведущих стран современного мира, решающим образом инициированный и осуществленный мощными ТНК, зависел от совпадения автономных относительно друг друга факторов научно–технологического, социально–экономического и военно–политического (как, скажем, начало разработки программы «Звездных войн» в США на последнем этапе их мирового противостояния с СССР) характера. Но именно во взаимодействии они дали коммулятивный эффект прорыва на следующий, глобально–информационный уровень социально–экономической самоорганизаци общества. При всем выразительном господстве в мировой экономике в последние десятилетия ТНК информатизация, особенно массовое распространение персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет, дали могущественный импульс активизации среднего и мелкого бизнеса, который приобрел, так сказать, «второе дыхание».
Мировой опыт убеждает, что во всех странах, где произошла или сейчас осуществляется информационно–технологическая революция, на начальном этапе решающую роль сыграли (и играют) государственные структуры. Это наблюдаем повсюду, где заметны успехи в развитии информационных технологий, от США и Японии до Южной Кореи и Тайваня, а в последние годы — Китая и Индии. Они создают благоприятный для развития информационных технологий инвестиционный климат и обеспечивают соответствующие фирмы государственными заказами, что хорошо изучено на примере становления информационного общества в Японии604. Особую роль здесь имеют военные заказы. Нужды оборонного ведомства США, как было сказано, определили разработку информационной системы, которая развилась в мировую сеть Интернет. Информационно–технологические основы Китая и Индии непосредственно связаны с военно–промышленными комплексами своих стран, их развитие направляется и финансируется государством.
Но, начиная с 1970‑х гг., в наиболее развитых странах, прежде всего в США (где военные заказы и инициативы Министерства обороны сыграли решающую роль на начальной стадии информационно–технологической революции), технологические инновации уже существенным образом стимулировались рынком605 «Именно благодаря этому взаимодействию между макроисследовательскими программами и большими рынками, созданными государством, с одной стороны, и децентрализованной инициативой, стимулируемой культурой технологического творчества и ролевыми моделями быстрого личного успеха, — с другой стороны, новые информационные технологии пришли к расцвету»606.
Информационно–технологическая революция определяет формирование сетевой структуры всех сфер жизнедеятельности, прежде всего экономической. Качественные изменения в организации производства, вызванные необходимостью его реструктуризации вследствие кризиса 1970‑х гг. и новыми возможностями, предоставленными новейшими компьютерно–информационными технологиями, обусловили существеннейшее увеличение гибкости менеджмента и маркетинга. Наиболее выразительно это проявилось в первой половине 1980‑х гг. — в начале перехода от массового к гибкому, ориентированному на принципе удовлетворения индивидуальных заказов, производству607. Гибкая специализация при предоставлении все более широкого ассортимента услуг повышала возможности быстрого реагирования на изменения конъюнктуры рынка и технологические инновации, тем самым повышая конкурентоспособность предприятий.
Вскоре подобные тенденции перехода, по выражению французского экономиста Б. Кориа, от «фордизма» к «постфордизму» приобрели форму динамической гибкости производства. Ее специфической чертой является соединение значительных объемов выпуска продукции, пользующейся повышенным спросом, с приспособлением к выполнению конкретных индивидуальных заказов производственными системами, которые легко перепрограммируются на выполнение новых задач608.
Средним и мелким фирмам при наличии информационных технологий подобное перепрофилирование осуществлять легче, чем большим, громоздким предприятиям. Поэтому под конец 1980‑х гг. британские экономисты зафиксировали кризисные тенденции в деятельности многих больших корпораций, которым тяжело было динамично перестраивать свою деятельность в соответствии с быстрыми изменениями рыночной конъюнктуры. Вместе с тем, по их наблюдениям, небольшие и средние фирмы демонстрировали высокую жизнеспособность, скорее вводили инновации и создавали новые рабочие места609.
Подобные сдвиги были впервые отмечены в Великобритании в значительной мере именно потому, что здесь в это время в соотношении большого и среднего с мелким бизнеса происходили некоторые сдвиги в пользу последних. Но проведенные в первой половине 1990‑х гг. Б. Харрисоном масштабные исследования структуры экономик США, Западной Европы и Японии продемонстрировали, что практически повсеместно большие корпорации продолжали концентрировать возрастающую роль капитала и рынков610.
Мелкие и средние предприятия демонстрируют лучшие формы адаптации к возможностям и вызовам информациональной экономики, но их финансовые мощности, возможности производства и реализации продукции в целом значительно уступают соответствующим показателям больших корпораций, в частности ТНК, которые сохраняют господствующее положение в глобальной экономике. Поэтому мелкие и средние фирмы остаются, преимущественно, под финансовым, коммерческим и технологическим контролем больших корпораций, а мелкие предприятия сравнительно с производителями–гигантами остаются технологически менее развитыми.
Подобное состояние вещей обусловливает взаимную заинтересованность больших корпораций и мелкого и среднего бизнеса в сотрудинчестве, при доминировании в соответствующем симбиозе более сильного — больших фирм во главе с ТНК. Соответствующая организация труда, менеджмента и маркетинга раньше и наиболее выразительно продемонстрировала свои высокие возможности в Японии. От названия автомобильной корпорации «Тойота» эта система с присущими ей специфическими чертами (как система снабжения «канбан» — «точно в определенный срок» и т. п.) подучила название «тойотизма». Она продемонстрировала свою эффективность не только в информационно развитых странах Дальнего Востока, но и в США и в Западной Европе, в частности на таких гигантах автомобильной индустрии, как немецкий «Фольксваген» и шведская «Вольво».
Следствием симбиоза огромного количества взаимосвязанных мелких и средних предприятий, интегрированных под эгидой мощной корпорации, которую они обслуживают, является создание гибких и масштабных, финансово мощных производственных структур. Конкретным примером функционирования производственной сети выступает итальянская трикотажная фирма так называемой модели Бенеттон. Это мультинациональное предприятие, которое выросло из мелкого семейного бизнеса в области Венето, имеет почти 5 000 магазинов во всем мире, которые осуществляют реализацию своей продукции под контролем центральной фирмы. Она, как и подобные ей структуры в аналогичных случаях, по линии обратной связи on–line мгновенно получает информацию о состоянии дел у подрядчиков, раздает заказы мелким фирмам, реагирует на изменения спроса и предложений611. Таким образом, благодаря информационно–технологической революции, на основе отношений «центр–периферия» во многих странах Азиатско–Тихоокеанского региона, Северной Америки и Западной Европы создаются и функционируют горизонтальные деловые сети, вертикально интегрированные через налаженную систему финансового контроля.
Сетевая глобально–информационадьная экономика
Понятия «сетевая экономика» и «сетевое общество» прочно вошли в категориальный аппарат современных информатики, экономической науки и социологии. Морфология сети наилучшим образом приспособлена к проблемам, вызванным возрастанием сложности взаимодействия неограниченного количества функционально зависимых между собой объектов и моделей, развитие которых принципиально не может быть предусмотренно. Парадигмой и научно–технического, и экономического мышления становится «сетевая логика», которая моделирует современные системы и совокупности отношений, базирующиеся на информационных технологиях. Динамическая сеть с ее поражающей воображение сложностью, которую можно охватить лишь с помощью мощной электроно–вычислительной техники, становится матрицей научно–технической парадигмы XXI в. Это происходит потому, что «сетевой рой весь состоит из краев, и потому является открытым к какому угодно пути». Кроме того, «сеть является наименее структурированной организацией, о которой можно сказать, что она имеет структуру вообще»612.
Итак, сеть является образом наиболее гибкого из структурно упорядоченных, динамических и принципиально открытых для разносторонних трансформаций множеств. А сетевая логика, благодаря новым информационным технологиям, может эффективно воплощаться во всех видах экономической деятельности. Именно она необходима для постоянного самообновления и самовоспроизводства гибкой современной мировой экономики.
Возникновение глобальной экономики связано с внедрением сетевой логики в мировое производство. Доминирующие сферы большинства экономических секторов (будь–то производство товаров или услуг) имеют в мировом масштабе собственные операционные процедуры, которые и образовывают глобальную сеть экономических отношений. Это вызвано тем, что современное производство содержит компоненты, изготовленные в разных местах мира множеством взаимосвязанных фирм, деятельность которых может коррелироваться лишь с помощью чрезвычайно разветвленной, прежде всего горизонтальной, системы информационных коммуникаций.
Для использования комплектующих, изготовленных в отдаленных уголках планеты, необходимо использовать компьютерные технологии, которые позволяют фирме изменять темпы производства и разнообразные характеристики продукта в зависимости от конкуренции и спроса. Кроме того, успех непосредственно зависит от налаженной системы поставщиков, которые, благодаря информационным технологиям, могут мгновенно коррелировать спрос и предложение613. Для эффективной работы при таких условиях фирмам нужна чрезвычайно гибкая система управления, основывающаяся как на гибкости ее самой, так и на доступе к необходимым информационным ресурсам, коммуникациям и производственным технологиям, взаимосвязанным в мировом масштабе.
При необходимости адаптация к условиям непредвиденности, обусловленным быстрыми темпами экономических и технологических сдвигов в годы информационной революции, многочисленные корпорации начали менять свою организационную модель. Чтобы маневрировать в новой, глобальной экономике, характеризующейся беспрерывным увеличением числа все новых и новых конкурентов, вооруженных новейшими электронно–информационными технологиями, деятельность фирм должна быть построена на основе гибкого сетевого принципа. Однако мало просто адаптироваться к глобальной сетевой сети и закрепить за собой в ней определенные позиции. Чтобы действовать в новых условиях, корпорация сама должна перестроиться по сетевому принципу — стать сетью, приобрести вид «горизонтальной корпорации».
Модель «горизонтальной корпорации», как это стало ясно на рубеже 80–90‑х гг. минувшего столетия, большей частью предусматривает децентрализацию ее структурных единиц и наделение каждой из них все большей автономией, позволяющей им (разумеется, в границах общей стратегии) даже конкурировать между собой614. То есть она является стратегически спланированной системой–сетью единиц–узлов, которые способны к динамическому самоперепрограммированию и самореорганизации при координации собственных изменений с соответствующими спонтанными модификациями в каждой единице–узле. Самообновление происходит постоянно и спонтанно, без жесткого контроля свыше, в каждой из взаимосвязанных разнообразными, в первую очередь информационными, связями звеньев, что вместе обусловливает гибкость и динамизм, а значит — эффективность и конкурентоспособность сети–системы как таковой.
В результате произошел принципиальный сдвиг от вертикально–бюрократического к горизонтально–сетевому типу управления. Построенная таким образом «горизонтальная корпорация» характеризуется 7 основными признаками:
• организацией, ориентированной на процесс, а не на задачу;
• горизонтальной иерархией;
• командным менеджментом;
• измерением результатов мерой удовлетворенности покупателей;
• вознаграждением, основанным на результатах работы команды;
• максимизацией контактов с покупателями и поставщиками;
• информированием, обучением и переподготовкой сотрудников на всех уровнях615.
При этом соответственно исходным условиям, социокультурной специфике цивилизационных регионов и творческой изобретательности руководства в разных центрах опережающего развития человечества (Северная Америка, Западная Европа, Япония) возникли разные формы перестройки деятельности больших, в основном транснациональных, корпораций. Это еще на рубеже 80–90‑х гг. позволило японскому исследователю Кеничи Имаи утверждать, что процесс интернационализации и глобализации деловой активности продвигается тремя разными стратегическими направлениями616:
1) ведение операций на определенном количестве национальных рынков, что характерно большей частью для компаний, которые инвестируют капиталы за границей из собственного национального плацдарма;
2) деятельность, направленная на мировой рынок, который на основе тщательно разработанной глобальной стратегии организует скоординированные усилия компаний в разных странах;
3) стратегия, основанная на пересекающих национальные границы сетях.
Последняя, широчайшим образом использовавшаяся в конце XX в.
именно японскими фирмами, наиболее отвечает требованиям глобального рынка и наиболее полно использует возможности наиновейших информационных технологий. При реализации этой стратегии многочисленные компании (а их количество теоретически может быть бесконечным), с одной стороны, органически связаны с разнообразием внутренних национальных рынков, а с другой — эти рынки мгновенно обмениваются между собой информацией, а затем и услугами, товарами и т. п., игнорируя государственные границы. Их успеху в глобальной конкуренции сильно помогает «информация с мест» — информация, которая своевременно поступает из конкретной точки планеты. При этом информационная технология позволяет децентрализовать привлечение такой информации и интегрировать ее при выработке общей для задействованных фирм гибкой стратегии.
Подобная структура, игнорирующая государственные и любые другие границы, дает возможность средним и мелким фирмам связываться и эффективно взаимодействовать с гигантскими корпорациями и формировать, с опорой на их возможности, региональные и местные сети, способные к постоянной реструктуризации и самообновлению на почве беспрерывного потока инноваций. Последнее обеспечивается беспрерывной циркуляцией информации, которая мгновенно обновляется, по электронным глобальным каналам. Информация циркулирует в сетях между компаниями и фирмами, в сетях в их собственных рамках, между персональными пользователями в мировом масштабе и т. п. При таких условиях необходимая и своевременная информация имеет решающее значение для результатов работы каждой из включенных в такую систему компаний и фирм.
Поэтому понятно, что до начала 90‑х гг. минувшего века создание глобально–информационной экономики было невозможным. Ведь она может функционировать лишь при наличии информационных технологий определенного уровня. Именно в указанное время последние и смогли утвердиться в мировом масштабе благодаря, как показали Ф. Бар и М. Боррус617, сближению трех тенденций:
1) введению цифровой технологии в телекоммуникационных сетях;
2) развитию широкополосной передачи сигналов;
3) резкому повышению результативности работы компьютеров, связанных сетью (последнее, в свою очередь, было обусловлено прорывами в микроэлектронике и программном обеспечении). Кроме того, компьютерные интерактивные системы, к тому времени преимущественно ограниченные локальными сетями, начали функционировать на глобальном уровне, а компьютерная парадигма сдвинулась от простой связи электронно–вычислительных машин к их общей, одновременной работе безотносительно к местонахождению интерактивных партнеров.
Эти и прочие достижения в информационной технологии позволили в последнем десятилетии XX в. сложиться и утвердиться в мировом масштабе полностью интерактивным, основанным на компьютерах, гибким и динамическим процессам управления, производства и распределения, что предусматривало одновременное (в режиме реального времени) сотрудничество разных фирм и подразделений таких фирм, в каком бы уголке планеты они ни находились. Резонанс между организационными требованиями и возможностями новых информационно–коммуникационных технологий обусловил тот кумулятивный эффект, который определил на рубеже XX и XXI в. контуры глобально–информатизационно–сетевой экономики.
Компьютерные технологии, позволяющие мгновенно создавать, превращать и транслировать информацию, способствуют интеграции финансовых рынков, благодаря чему представители наиболее развитых в экономическом и технологическом отношении богатейших стран мира научились приумножать богатства независимо от материального производства. Появился капитал, способный сам по себе, вне обслуживания движения товаров, услуг и информации, «делать» деньги. Как следствие — международная финансовая система превратилась в главный фактор мировых экономических кризисов.
Начало работы транснациональных корпораций по сетевому принципу определило, как показал американский исследователь Д. Эрнст, новые формы конкурентного преимущества флагманов мирового производства. Качественно повысив возможности тех, кто включился в сеть, последняя сделала практически невозможным самостоятельный выход на мировой рынок новых игроков и принципиально ограничила возможности даже больших, раньше вполне конкурентоспособных корпораций поспевать за новыми технологическими изменениями. Уже в первой половине 1990‑х гг. эти тенденции выразительно заявили о себе в областях автомобилестроения и электроники. Большая часть активности в ведущих областях мировой экономики (первыми тут были отмеченные две) оказалась организованной вокруг 5 разных типов сетей: 1) сети поставщиков; 2) сети производителей; 3) потребительской сети; 4) коалиции по стандартам; 5) сети технологической кооперации618.
Сегодня сетевой охват сфер производства и рынков в глобальном масштабе становится практически необъятным. При этом сети через огромное количество связей, прежде всего информационного плана, создают глобальную сеть сетей, бесчисленным количеством цепочек опутывающую человечество. В результате международная система сетей корпораций и фирм становится базовой организационной формой информационально–глобальной экономики. Она все большее напоминает определенную глобальную, построенную по сетевому принципу, над–корпорацию, в пределах которой на пространстве всего Земного шара происходит беспрерывное движение информации, капиталов, услуг, сырья и товаров, которые берутся из разнообразнейших источников по всему миру.
Поэтому можно согласиться с выводом М. Кастельса, согласно которому новыми и базовыми элементами информационально–глобальной экономики являются прежде всего деловые сети в их разнообразнейших формах и разных контекстах, производные от разных, хотя и перекрещивающихся, социокультурных основ619. Семейные сети в китайском обществе и на севере Италии; предпринимательские сети, которые вырастают в технологических питомниках в инновационной среде, как в Селиконовой долине в США; иерархические коммунальные сети типа японских «кейрецу»; организационные сети децентрализованных корпорационных единиц, производные от ранее вертикально интегрированных корпораций, вынужденных адаптироваться к новым условиям; сети, которые возникают вследствие стратегических альянсов между корпорациями.
Но эти деловые сети могут функционировать лишь при наличии соответствующего информационно–технологического инструментария, созданного, в целом, к началу 1990‑х гг. В него входят: новые телекоммуникационные сети; новые мощные настольные компьютеры; новое саморазвивающееся программное обеспечение; новые мобильные коммуникационные устройства, которые мгновенно осуществляют связь с любым местом на планете; в конце концов, — новое поколение работников, объединенных вокруг общих задач и способных общаться единым, цифровым языком.
Новая производственная система базируется на стратегических альянсах и сотрудничестве по долгосрочным проектам между ТНК и их автономными звеньями, средними и малыми предприятиями, функционально объединенными по сетевому принципу. Компоненты и узлы системы транснационального производства территориально присутствуют во всем мире и, благодаря системе Интернет, работают в режиме реального времени. Но геометрия системы постоянно изменяется на глобальном, региональном и местном уровнях.
Благодаря такой гибкости, при возможности мгновенного обзора процессов, происходящих во всем мире, с целью поиска наиболее удобных партнеров и заключения наивыгоднейших соглашений, глобальная экономическая структура самовоссоздается и расширяется на базе глобальной конкуренции. Последняя, разумеется, уравновешивается совершенствованием внерыночных форм регуляции экономической и любой другой жизнедеятельности (в том числе военно–политическими методами откровенного давления и прямого насилия).
Итак, современная глобально–сетевая экономика своей обратной стороной имеет новейшие электронно–информационные технологии. Без них она бы не смогла сложиться так же, как и они без нее не приобрели бы современного развития и размаха. Этот вывод служит основой понимания двуединой экономико–информационной природы глобализованного человечества на современном этапе. Благодаря стремительному развитию информационно–коммуникационных технологий впервые в истории базовой единицей экономической организации выступает не субъект, будь он индивидуальным (как предприниматель или предпринимательская семья) или корпоративным (как корпорация или государство), а именно сеть620.
Сеть, состоящая из разнообразного множества автономных, но бесконечным множеством цепочек связанных субъектов и организаций, беспрерывно видоизменяется, трансформируется и модифицируется соответственно изменению условий и собственных, спонтанных процессов, которые происходят в ее недрах. При этом не следует забывать, что такая экономически–информациональная сеть функционирует в социокультурной, шире — цивилизационной — среде. Другими словами, современной глобальной информационально–сетевой экономике должен соответствовать и новый, также в своей основе информационально–сетевой социокультурный тип определенной цивилизационной общности.
Сетевое глобально–информационное общество
Сетевой глобально–информациональной экономике должны соответствовать новые, связанные с ней общественные, политические и культурные формы. Но следует учитывать, что, в отличие от традиционного советско–марксистского взгляда относительно прямого соответствия «базиса» и «надстройки», современная наука признает не только обратную связь между всеми компонентами экономико–социокультурной системы, а и наличие широчайшего спектра общественных, политических и культурных форм, которые отвечают определенному, в частности глобально–информационально–сетевому, уровню экономического развития.
Соответствующие идеи, выдвинутые А. Вебером еще в довоенный период621, представляются важными для понимания соотношения, взаимосвязи и взаимозависимости глобально–информациональной экономики с разнообразными, присущими современному миру общественно–политическими и социокультурными формами. А. Вебер предложил различать три сущностные составляющие развития человечества: 1) цивилизационную (точнее — технологически–экономическую), 2) социальную (в широчайшем понимании, с общественно–политической сферой включительно), 3) культурную. Направленный и неуклонный прогресс во всемирной истории просматривается лишь в экономически–технологической плоскости, тогда как определенному уровню ее развития могут соответствовать разные типы социального устройства и государственной организации, не говоря уже о разнообразии культурных форм.
Понятно, что полной безотносительности общественно–политических и культурных форм к экономически–технологической основе жизни не может быть. Индустриальному обществу, скажем, не может соответствовать племенная организация. Но на индустриальной стадии могли параллельно развиваться общества и капиталистического, и социалистического типов, причем, как свидетельствует опыт Китая, оба они принципиально способны трансформироваться в современный тип сетевого общества глобализационно–информациональной эпохи. В нашу задачу не входит специальный анализ социальных, политических и культурных форм, которые отвечают современной глобально–информациональной экономике, но для лучшего понимания последней их следует очертить хотя бы в наиболее общих чертах.
Для этого рассмотрим два разных, но могущих быть синтезированными по принципу дополнительности, подхода к цивилизационно–глобализационным процессам в современном мире (абстрагируясь от посвященных этому заведомо заидеологизированных публикаций упорных апологетов глобализма и ее «заклятых» врагов).
Первый из них разрабатывается, начиная с Д. Белла, преимущественно западными учеными и сегодня наиболее полно представлен в обобщающем исследовании М. Кастельса. Его заслугой является последовательная разработка концепции сетевого общества и виртуальной культуры как коррелятов глобально–информатизационной сетевой экономики.
Второй подход присущ преимущественно ученым, которые работают за пределами группы наиболее развитых в информационно–экономическом отношении стран, в частности в Украине. По сравнению с западными и японскими аналитиками им присущ более критический взгляд на природу современного глобализированного общества с его противоречиями и стремительно возрастающим фактическим неравенством компонентов мирового сообщества.
Нельзя сказать, чтобы ведущие западные аналитики, в частности И. Валлерстайн, упомянутые Д. Белл и, тем более, М. Кастельс, равно как и крупнейшие политические мыслители масштаба З. Бжезинского или С. Хантингтона, не осознавали противоречий современного мира и угроз, возникающих перед ним. Но, по большому счету, эти противоречия выступают для них чем–то второстепенным. Наоборот, большинство российских ученых, как и специалистов, которые занимаются этими проблемами, подчеркивают угрожающий человечеству характер процессов, связанных с глобализацией. В яркой художественно–публицистической форме это выразил, в частности, известный философ и социальный мыслитель А. А. Зиновьев622. В этом же направлении, поднимая цивилизационное значение России как одного из мировых центров, противостоящих глобализационному преобразованию человечества в соответствии с интересами и планами Запада, выступают такие известные авторы, как Б. С. Ерасов и А. С. Панарин, не говоря о геополитиках–неоевразийцах во главе с А. Дугиным623.
В отличие от большинства их российских коллег, ученые Украины — специалисты в глобализационно–цивилизационной проблематике (О. Г. Белорус, О. В. Зернецкая, С. Б. Крымский, Ю. В. Павленко, Ю. Н. Пахомов, С. Л. Удовик, М. А. Шепелев)624, занимают более сдержанные позиции. Уделяя первоочередное внимание выяснению противоречий и угроз, которые несет человечеству глобализация, эти исследователи не отрицают ее объективного характера, хотя большей частью констатируют искусственную направленность современных мировых трансформаций в пользу мощнейших и сильнейших стран. Однако отечественная научная традиция еще не смотрела на глобализированное общество именно как на общество сетевое, имеющее при этом, бесспорно, свою иерархическую природу.
Согласно концепции М. Кастельса глобально–информатизационно–сетевому типу экономической жизни соответствуют сетевая структура современного, по его определению — информационного, общества (включительно с личностными отношениями) и виртуальная форма культуры. В таком обществе, благодаря новым технологическим условиям, которые возникли в конце XX в., генерирование, обработка и передача информации являются фундаментальными основами не только производства, но власти и межличностных отношений.
Одной из важнейших черт информационного общества является «сетевая логика его базовой структуры», что дает право определять его как «сетевое общество»625. Другие компоненты информационного общества, такие как общественные движения или государственные структуры, демонстрируют черты, которые выходят за пределы сетевой логики или вообще не вписываются в нее. Но эта логика, которая постепенно становится системообразующей в экономической жизни и социальных отношениях, все более глубоко воздействует на них и задает им параметры функционирования. Таким образом, определение в качестве сетевого, даже не исчерпывая всех значений информационного общества, в целом может быть приложенным и к нему.
В соответствии с традициями западной социологии М. Кастельс анализирует трансформации общества под углом зрения не отношений собственности и перераспределения общественного богатства, т. е. не с обычных для отечественной традиции социально–экономических позиций, а в плоскости изменений в системе занятости. Он подчеркивает, что в условиях информационализации массово появляются «сетевые работники», которые связаны не с каким–то одним рабочим местом, а, имея выход в глобальную сеть электронных коммуникаций, одновременно работают в нескольких структурах или сотрудничают с несколькими фирмами, которые часто базируются в разных странах. То есть работник перестает быть жестко зависимым от какого–либо определенного работодателя и вступает в систему разнонаправленных форм сотрудничества по сетевому принципу.
Такая тенденция соответствует общему увеличению удельного веса людей, в своей повседневной работе непосредственно связанных с использованием информационных технологий (менеджеров, технологов, вообще профессионалов во всех сферах). При этом в развитых странах не уменьшается, а кое–где даже возрастает процент людей, непосредственно не связанных с достижениями информационного общества и занятых в сфере малоквалифицированного обслуживания.
По данным по США и другим наиболее развитым и богатым странам мира, на рубеже XX–XXI вв. в структуре занятости наблюдаются такие изменения:
1) сокращаются рабочие места в сельском хозяйстве;
2) продолжает снижаться занятость в промышленности, хотя и не такими быстрыми темпами, как в сельскохозяйственной сфере; эта тенденция будет, как предусматривают, иметь место до того времени, пока потребности промышленности не будут удовлетворяться сугубо кадровым ядром высококвалифицированных рабочих и техников;
3) наблюдается быстрое возрастание занятости в сферах предоставления услуг производителям (куда перетекает большая часть прежней занятости в промышленности), здравоохранения и образования, приобретающих в жизни общества все большее значение;
4) категория людей, занятых в сферах малоквалифицированного труда, в новой экономике продолжает увеличиваться за счет торговли и разнообразных услуг, которые не предусматривают использования информационных технологий626.
Таким образом, в наиболее развитых и богатых странах наблюдается усиление поляризации в структуре занятости, хотя, как отмечают специалисты, возрастание численности и процента высококвалифицированных служащих проходит скорее, чем полуквалифицированных работников сферы услуг, на транспорте и в строительстве. Но во многих, если не в большинстве стран мира, наблюдаем и совершенно другую картину, о чем пойдет речь в следующих главах. Аналогичным образом в течение последней четверти XX в. в США и многих других высокоразвитых странах (не говоря уже об остальном мире) наблюдалась поляризация в распределении доходов, что было отмечено в западных научных изданиях627.
Итак, сетевая структура, даже в наиболее развитых и богатых странах, определяет жизнь ведущих ее работников и функционеров, но далеко не всех членов общества. Тем более это касается распределения доходов. А если мы будем держать в своем воображении глобализированный мир как целостность, то увидим эти противоречия в несоизмеримо большем масштабе.
Сеть информационных, бизнесовых, личных и любых других связей паутиной опутывает поверхность планеты. Но, вместе с тем, значительная часть людей и в наиболее развитых странах, не говоря уже об абсолютном большинстве людей во всем мире, не имеют к ней никакого непосредственного отношения. Иначе говоря, как в мировой экономике, так и в глобальном обществе видим, так сказать, два уровня: глобально–информационно–сетевой и традиционный, где жизнь плывет в соответствии со старыми нормами и обычаями, большей или меньшей мерой реагируя тем или иным образом на вмешательство со стороны всемирной паутины транснациональных связей и отношений.
Другая сторона противоречивой природы глобально–информационносетевого общества касается взаимоотношений между отдельными суверенными государствами и транснациональными экономическими структурами. В течение последней трети XX в. в мире впечатляюще выросла роль ТНК. Уже в первой половине 70‑х гг. американские исследователи констатировали, что последние — это новое явление, вызванное потребностями современной эпохи, тогда как национальное государство, которое крепко держится за старые представления, не соответствует условиям нового, сложного, интегрированного мира628. Как показало время, противоречие между ТНК и национальными государствами имеет тенденцию возрастать.
Сегодня годовой оборот ТНК, которые входят в число 500 мощнейших корпораций планеты (ныне они обеспечивают четверть мирового производства, а влияют на значительно большую его часть), превышает валовой национальный продукт многих обычных государств. Такие компании, используя разнообразные средства влияния, часто определяют политику отдельных государств, создают на их территориях собственные структуры безопасности, обеспечивают своим работникам социальную защиту и т. п. Другими словами, они частично принимают на себя функции, традиционно присущие государственным институтам629.
Ситуация обостряется в условиях утверждения глобально–сетевой системы мировой экономики. Границы контроля и влияния отдельных транснациональных сетей накладываются на политическую карту мира и решительно преодолевают государственные границы. Национальные государства не нужны транснациональным компаниям, тем более, если те структурируются по сетевому принципу. В лучшем случае, последние могут мириться с ними как с местными администрациями, которые выполняют необходимые функции жизнеобеспечения населения и поддержания порядка на подконтрольной им территориях.
Объективно такое состояние вещей противоречит наличию отдельных государств с их собственной национальной экономической политикой, таможенными барьерами и протекционизмом. Поэтому понятно, что мировой транснациональный капитал, используя военно–политическое могущество США, где он преимущественно базируется, стремится сломать экономическую автономию любой страны, представляющей для него какой–то интерес, — подобно тому, как ранний капитализм стремился к слому местных ограничений и регуляций феодальной поры на территории европейских держав, становившихся централизованными и приобретавшими признаки национальных.
Отдельные не достаточно развитые государства, за исключением разве что гигантов типа Китая или Индии, в определенной мере России, Бразилии или Индонезии, принципиально не способны противодействовать сетям ТНК. Поэтому они, чтобы защитить собственные интересы, стремятся к региональной интеграции. Но пока что реального успеха на этом пути достигли, по большому счету, лишь страны Европейского Союза, тогда как другие региональные объединения типа Лиги арабских стран или СНГ не могут похвастаться сколько–нибудь заметными достижениями. Похоже, что успехи ЕС по сравнению с СНГ, помимо всего прочего, связаны и с тем, что Евросоюз (по крайней мере, до включения в него новых членов) строится (строился?) именно по сетевому принципу, без жесткого доминирования какого–либо мощного центра (на что претендует Россия в рамках СНГ и что она имеет в структуре Евразийского Союза).
Как видим, формирование глобально–информационально–сетевой экономики далеко не автоматически ведет к реструктуризации на соответствующих основах мировых социальных и политических отношений. Скорее, оно порождает новые жесткие противоречия, на которых акцентируют внимание исследователи России и Украины.
Вот как, к примеру, противоречия глобализации характеризует известный российский политолог С. Г. Кара–Мурза. По его убеждению (и в этом его взгляды во многом пересекаются с мир–системной концепцией И. Валлерстайна), основная цель современной глобализации — создание капиталистической системы, построенной по принципу симбиоза «центр–периферия». Этот симбиоз является паразитическим со стороны «центра», поскольку основан на внеэкономическом принуждении «периферии» к неэквивалентному обмену. В первичной грубой форме такое принуждение было типично для времен колониализма (работорговля, захват и расширение колоний, в которых у местного населения отбирались лучшие земли, эксплуатация недр колониальных и зависимых стран и т. п.). В наше время это принуждение является не столь очевидным: осуществляется благодаря использованию финансовых, политических и культурных рычагов, не брезгуя, однако, и прямым, военным вмешательством.
Силы «нового мирового порядка» во главе с США провозгласили свое право владеть и распоряжаться ресурсами всей планеты. Идея построить мир как двойное общество «золотого миллиарда» и прочей массы, живущей за его барьером, является, по мнению названного исследователя, ни чем иным, как новой версией фашизма, только уже глобального. При этом С. Г. Кара–Мурза подчеркивает, что доктрина «золотого миллиарда», которую фактически воплощает в жизнь человечества Запад, радикально порывает с христианскими и даже просветительскими идеалами в пользу рабовладельческого сознания античности630.
Подобные взгляды еще раньше высказывались таким глубоким и ярким русским мыслителем, как уже цитированный нами А. А. Зиновьев631. Этот принципиальный критик в 70–80‑х гг. советского, а теперь — западного — типов общества подчеркивает, что информационная экономика — не прибавление к индустриальной, а новая «ткань» всей современной экономической жизни. Но социально–экономический тип общества от этого не изменяется. Больше того, он усиливается в своем системообразующем капиталистическом качестве. Так что ни о каком качественном изменении принципов распределения благ и удовлетворения потребностей, пока существует капитализм, речь идти не может.
Более того, внедрение информационной техники во все сферы общества дает конфликтующим силам дополнительное оружие для борьбы, а не для примирения. Изобретение огнестрельного оружия в свое время не отменило войн, а лишь придало им другой (добавим — более жестокий) характер. Так, констатирует философ, будет и в данном случае632. Правота его предвидений в первые годы наступившего столетия подтвердилась событиями 11 сентября 2001 г. в Нью–Йорке и Вашингтоне, как и войнами в Афганистане и Ираке, которые велись США с использованием наиболее современного, оснащенного новейшей информационной апаратурой, оружия.
Аналогичным образом от того, что мир оплетается паутиной информационных связей, А. А. Зиновьев для большинства человечества не ожидает ничего хорошего. Манипулирование информационными потоками лишь содействует утверждению господства Запада во главе со США над прочим человечеством, вкладывая в его руки высокоэффективное орудие обработки массового сознания в пределах всей планеты (включая сами западные страны). Наконец, через навязывание и усиление разнообразных форм финансовой, политической, информационной и т. п. зависимости подавляющего большинства стран от наиболее развитых государств (что, в сущности, является продолжением старой колониальной стратегии новыми средствами) Запад формирует вокруг себя прочее человечество как структурированное общественно–политическое целое с иерархией стран и народов. И в этой, как и в любой другой, иерархии неминуемыми являются отношения господства и подчинения, лидерства, управления, т. е. отношения социального, экономического и культурного неравенства. Так что стремление определенной, мощнейшей страны (сегодня — США) к мировому господству является одним из компонентов интеграции человечества, однако на основаниях ее гегемонии в мировом масштабе.
Между тем А. А. Зиновьев уже в первой половине 1990‑х гг. оценил новые тенденции к сетевой организации общества как определенную альтернативу иерархическим, вертикальным формам господства в современном мире. По его мнению, на вертикальное структурирование человечества накладывается другой процесс, а именно — образование новых социальных уровней в уже имеющихся структурах. Эти новые, вторичные объединения образуются большими массами людей, сферой жизнедеятельности которых является не отдельная страна, а несколько государств.
Уже тогда, как констатировал этот исследователь, существовали многие тысячи предприятий и некоммерческих организаций, зоны деятельности которых охватывали разные регионы планеты и разные группы народов, практически даже всю планету. «В совокупности они образовывают сложную и многомерную сеть. Эта сеть (подчеркиваю — именно сеть!) опутывает страны Запада и прочие, пронизывает их в разных срезах, использует их как арену своей деятельности»633.
Таким образом, горизонтально–сетевой и вертикально–иерархический принципы организации глобально–информационного общества противоречиво пересекаются. Но западные и японские исследователи, такие как Д. Эрнст, К. Имаи или М. Кастельс, делают акцент на сетевой природе современного общества (что является новым и потому, естественно, привлекает к себе первоочередное внимание), а большинство российских авторов, пишущих на темы глобалистики (А. А. Зиновьев, А. С. Панарин или С. Г. Кара–Мурза), акцентируют внимание именно на усилении неравенства между ведущими, наиболее развитыми в информационно–технологическом и экономическом отношении, странами «золотого миллиарда» и прочим человечеством, к которому принадлежат Россия и другие постсоветские государства.
Подобные оценки доминируют на многих научных конференциях, участники которых осознают непосредственную угрозу человечества со стороны глобалистических сил для всего человечества и, в частности, для России. Так, в итоговом документе представительной конференции «Западная глобализация — западный сценарий», состоявшейся в Санкт–Петербурге в 2001 г., читаем: «Глобализация ни к объективности, ни к экономике, ни к научно–техническому прогрессу никакого отношения не имеет… Ее задача — привести общество к единому американизированному образцу, к ликвидации суверенитетов национальных государств, разнообразия культуры традиционных ценностей, овладеть контролем над общемировой собственностью и финансами… Финансирование этого процесса осуществляют международные институты (МВФ, ВБ и пр.)»634.
Ради объективности укажем, что не все российские исследователи настроены настолько отрицательно к перспективам утверждения глобально–информационного общества. Так, авторский коллектив «Института человека» РАН утверждает, что информационное общество «ориентировано на человека», что в нем актуализируются его сущностные силы и что «оно создает предпосылки для его развития и самоопределения». Авторы соответствующего издания признают, что в современной научно–философской литературе существует и другая точка зрения, соответственно которой дальнейшее усовершенствование информационных технологий будет иметь для личности трагические последствия, что цивилизация неминуемо породит разные формы ее подавления. Но, продолжают исследователи, если подобные пессимистические прогнозы имеют под собой какие–либо основания, то противодействие возможности развития по такому сценарию становится общественной задачей635.
Однако в целом в российском научном сообществе преобладает пессимистически–критическое отношение к утверждению глобально–информационного, пан–западнистского по своему происхождению и природе общества. В этом отношении привлекает внимание концепция возможных сценариев будущего человечества, предложенная А. И. Неклессой636. Не касаясь его оригинальной, но не во всем убедительной периодизации истории человечества, отметим продуктивность использования им синергетической методологии исследования глобальных процессов и остановимся на его понимании Нового мира и разнонаправленных возможностей его трансформаций.
По мнению исследователя, будущее Нового, глобально–информационного мира базируется, главным образом, на огромном объеме накопленной цивилизацией ресурсов, на их перманентном, динамическом перераспределении. Это должно определять его устойчивость. Но угроза распада, деструкции является вполне реальной, тем более, что она неоднократно демонстрировала себя в прошлом. Сейчас человечество вошло в полосу вызванной глобальными мир–системными сдвигами нестабильности, из которой открываются 3 принципиально возможных выхода.
Во–первых, это проект Большого Модерна, что, по сути, является дальнейшей реализацией европоцентрического, точнее «западноцентрического», уже преимущественно американоцентрического переоформления глобальной Ойкумены. Именно он лежит в основе Западной, или Североатлантической цивилизации, которая сегодня властвует в мире. Ее историческая цель состоит в построении универсального общества, провозглашающего своими идеалами свободу личности, демократию, гуманизм, научный и культурный прогресс при повсеместном распространении частной собственности и рыночной модели экономики. Это предусматривает создание неких планетарных (при ведущей роли Запада) форм организации мирового порядка.
Во–вторых, может произойти «постмодернизационный синтез», что на новой основе соединит мировой Север с мировым Югом. Он заменит несостоявшееся социальное единение человечества его хозяйственной унификацией, где вместо «мирового правительства» будет властвовать анонимная экономическая власть. В основе такого варианта будущего лежит расхождение процессов модернизации и вестернизации во всемирном масштабе, при условиях неприятия западных социокультурных стандартов незападными странами, которые, вместе с тем, так или иначе будут осуществлять модернизацию.
В-третьих, не исключена и демодернизация отдельных частей человечества, которая создаст обратную историческую перспективу постглобализма — «подвижный и мерцающий контур новой мировой архаики». Процессы социальной деструкции и культурной энтропии исследователь констатирует для сегодняшнего состояния «мирового Севера». Тем более они разъедают посткоммунистическое пространство и «мировой Юг». Процесс демодернизации означает также «второе дыхание» враждебно настроенных к духу Модерна идейно–мировоззренческих течений, в частности таких как неоязычество и религиозный фундаментализм.
По убеждению А. И. Неклессы, сегодня в мире мы наблюдаем столкновение и противоборство этих противоречивых тенденций. Но победа любой из них может поставить человечество перед новыми трудными проблемами и вызовами. Оптимизма такой вывод не прибавляет.
Цивилизационно–глобалистический подход к осмыслению развития современной мировой экономики
Украинские исследователи637, подобно их российским коллегам, в своем большинстве настроены довольно критически к «новому мировому порядку», утверждающемуся в последние годы на планете благодаря энергичным усилиям США. Они акцентируют внимание на установлении иерархических, по сути властных (и не только в политическом, но и в экономическом и информационном отношениях) отношений между Западом и прочим человечеством (впрочем, обычно делая исключения для Китая, отчасти России и Индии).
Одной из отечественных попыток осмысления современного мирового развития посвящена монография коллектива авторов под руководством О. Г. Белоруса638. В ней большей частью развиваются мысли, выдвинутые этой группой исследователей несколькими годами ранее639. Подчеркивается, что процессы глобализации приобретают угрожающий вид. Констатируя объективный характер глобализации и подчеркивая, что она является «обшей судьбой человечества», О. Г. Белорус в начале книги предупреждает: «Если некоторые страны — мировые лидеры сделают попытку силой взять лишь себе все достижения глобализации и ее позитивы, а отрицательные результаты перекласть на плечи слабых стран, мировая катастрофа станет неминуемой, так как человечество столкнется с необратимым процессом глобальной деградации»640.
Глобализация как таковая, подчеркивают авторы монографии, — явление объективное и необратимое. Но то, какой вид она приобретает, зависит от ее проводников. Именно «глобальный эгоизм стран–лидеров — одна из наиболее современных угроз человечеству. Он приводит к глобальному неравенству стран и людей в мире через неравенство технологий и условий жизни «нового глобального человека — стран золотого миллиарда» и «старого человека отсталых стран». На протяжении весьма большого исторического периода… «передовые» страны мира, исходя из абсурдно понятых эгоистических интересов, все свои международные и глобальные стратегии строили на том, чтобы победить в конкурентной борьбе ослабленные страны. Они не понимали и еще не понимают, что победа над слабыми ослабляет «победителей» и ведет их к неминуемой деградации, которая будет иметь необратимый характер»641.
Запад как–будто не замечает, что сам собственными действиями порождает угрозу самому себе, что развитию глобального мира как единого гармонического целого прежде всего мешают западный менталитет эгоизма и желание сохранить «превосходство». Комплекс превосходства Запада в соединении с комплексом неполноценности прочих стран является главной причиной отсутствия глобальных стратегий развития не только для всего мира, но и для самих западных стран. Как следствие — возникает «угроза глобальной виртуализации оторванного от мира общества Запада. Его тотальное погружение в интересы сытого комфорта материального перенасыщения, в искусственно созданные системы, в иллюзорную систему восприятия мира, усилено неестественными направлениями развития, которые неминуемо станут злокачественными. Это влечет за собою угрозу движения мира и человеческого общества к глобальному технотронному рабству и апокалипсису через разрушение и технотронное закабаление человеческой личности, разрушение ее «божественного начала» и творческой способности к саморазвитию»642.
При этом глобальный корпоративизм хозяев современного мира порождает и даже провоцирует альтернативные ему тенденции глобальной дезинтеграции, разъединение мира, при усилении отчужденности и вражды между его частями, а также жителями депрессивных, обездоленных регионов и мировыми лидерами. Вывод о том, что глобальная технологическая цивилизация Запада сегодня вместе с прогрессом, благосостоянием и комфортом для стран «богоизбранного меньшинства» несет угрозу существованию всего человечества, проходит лейтмотивом теоретических разделов монографии. При этом отмечается, что Запад морально еще не готов к положительной, конструктивной глобализации и интеграции. Его интересует лишь интеграция и глобализация для себя, «золотого миллиарда». Это является его фатальной ошибкой, которая может поставить под угрозу само его существование в нынешнем статусе. «Новая глобальная цивилизация воистину должна стать цивилизацией самоограничения для богатых народов, цивилизацией нового, не материального, а духовного качества жизни…. Иначе мир погибнет в глобальном конфликте бедных стран с богатыми за выживание»643.
С таким выводом трудно не согласиться. Но в какой мере и при каких условиях Запад согласится на добровольное самоограничение? Возможно ли такое, если оно противоречит личным интересам ведущих экономических и политических сил, которые правят бал в современном мире? Вопрос остается открытым.
Соглашаясь в целом с приведенными в монографии методологическими принципами, обратим внимание на один из них, который звучит так: «В основу интегрированных системных парадигм глобалистики должна быть положена концепция ноосферы В. Вернадского»644. Сущностью глобализации является преобразование человека и человечества в движущую силу вселенской, космической эволюции. В рамках рационального отношения к миру глобализация может быть продуктивно осмысленной именно сквозь становление единой планетарной «сферы ума», ощутимые корреляты которой формируются на наших глазах в виде Интернета и подобных к нему общечеловеческих электронно–информационных явлений.
При наивно–оптимистичном взгляде на такие явления можно было бы, в плоскости христианского, особенно православного, мироощущения (соответственно традиции В. С. Соловьева, С. М. Булгакова и П. А. Флоренского, философии всеединства и восточнохристианского космизма) связывать эти процессы с наполнением человечества «софийными энергиями» трансцендентного Бога. Но не следует забывать, что очерченные нами тенденции в реальности обретают подчас угрожающие формы, представляя действительно глобальную угрозу. Поэтому сегодня вести речь о глобализации как о проекции ноосферного процесса можно либо не наполняя последний никаким этическим содержанием, либо признавая, что высокие «синергийные» идеалы ноосферного единства человечества и природы, Вселенной как таковой обретают в реальности крайне извращенный, подчас аморальный вид.
Соответственно сказанному С. В. Сиденко отмечает, что социально несбалансированная индустриально–рыночная модель развития исчерпала свои возможности и начала воссоздавать в расширенных масштабах экологические, экономические, социальные, политические, военно–технические и прочие препятствия и угрозы на пути развития мировой цивилизации. Поэтому, как и в своей отдельной монографии645, исследовательница делает акцент на том, что дальнейшая деградация социального обеспечения в масштабах планеты может стать «детонатором социальных катастроф». Особую роль здесь сыграет мировая бедность. А бедность ведет к усилению социального напряжения в мире. Бедность, безработица, экономическая и социальная нестабильность, нереализованность ожиданий, крах планов интенсивно раскручивают процесс маргинализации населения, что формирует и увеличивает социальное дно646.
Все это наблюдается сегодня не только на руинах СССР, но и в десятках стран Ближнего Востока и Латинской Америки, Тропической Африки и Юго–Восточной Азии, — повсюду, где миллионы, а в планетарном масштабе — и сотни миллионов — людей остаются социально незащищенными. Низкий уровень социальной безопасности свидетельствует не только о неблагополучии в обществе, но и об устойчивой тенденции к его деградации. В результате, продолжает С. В. Сиденко, по всем параметрам мирового развития наблюдается не только топтание на месте, а и заметный откат назад. В такой ситуации показатели экономического роста (например, производство валового продукта), а тем более финансовой сбалансированности (уровень инфляции и размер бюджетного дефицита) теряют свое главное значение647.
Как видим, современный мирохозяйственный процесс порождает во многих, если не в большинстве стран, нарастающие бедность, социальную нестабильность и агрессивность. Поэтому необходимо определить экономические условия, обусловливающие эти бедствия в глобальном масштабе. Ибо, подчеркивает Ю. Н. Пахомов, в наше время «не внутренняя жизнь сама по себе, а ее симбиоз с мирохозяйственными регуляторами определяет подъем или упадок экономики, масштабы бедности или благосостояния того или другого государства»648. Развивая это положение, упомянутый исследователь констатирует, что экономику какой–либо страны в современном мире невозможно рассматривать как что–то самодовлеющее. Любая из них находится в жесткой системе и под мощным воздействием всего сложного комплекса мирохозяйственных отношений.
Поэтому судьба большинства стран в течение десятилетий зависит от таких международных организаций, как МВФ, МБ, МБРР и т. п., тогда как в глобальной мирохозяйственной среде экономические отношения все больше опосредствуются межстрановыми мирохозяйственными отношениями, которые создают своеобразный глобальный макроэкономический комплекс. Механизмы, составляющие сущность последнего, «обслуживают тех, кто более сильный». Это и не удивительно, поскольку «сам глобальный мирохозяйственный комплекс на протяжении многих десятилетий формировался под решающим воздействием и на благо процветающих стран Запада»649.
При таких условиях в современном мире роль дееспособного, ориентированного на защиту национальных интересов государства в современном мире должна не уменьшаться, как провозглашают неолиберальные идеологи глобализма (о чем уже говорилось), а наоборот — усиливаться. Слабое государство, неспособное защитить собственного товаропроизводителя, граждан в целом, от давления со стороны ТНК и мировых финансовых организаций (действующих, в конечном счете, на пользу тех же компаний), бесконтрольно открывающее свое экономическое пространство, сразу становится опустошенным и занятым более сильным, чем собственный, иностранным капиталом. Даже если сюда приходят в значительном объеме иностранные инвестиции, капитал, получив сверхприбыли, спешит покинуть его пределы, а правительства этих стран не запрещают вывоз дохода.
Вместе с тем сильное государство, продолжает Ю. Н. Пахомов, своей стабильностью, развитой инфраструктурой, квалифицированной рабочей силой и технологиями не только привлекает иностранный капитал, но и побуждает его расщедриться в пользу его и его народа. Поэтому дееспособное государство является одним из решающих факторов обеспечения экономического успеха. Вторым фактором, обеспечивающим успех страны, является фактор научно–технического прогресса и внедрения новейших технологий. Япония, Китай, многие страны Азиатско–Тихоокеанского региона начинали свой взлет благодаря государственному обеспечению условий эффективного развития. Но настоящий прорыв определялся на следующем этапе, когда они выходили на передовые рубежи глобального научно–технического прогресса650.
При этом ясно, что дееспособное сильное государство и ускоренный научно–технический прогресс возможны лишь в условиях социальной стабильности и обеспечения достойных условий жизни, тем более перспектив их улучшения, для большинства граждан страны. Дееспособное государство предусматривает социальный консенсус, который исчезает в случае, если власть перестает действовать эффективно в пользу обычного человека. При этом, как следует из разработок Ю. Н. Пахомова, в современном мире, во–первых, природа и поведение государства органически связаны с его цивилизационной ориентацией и, во–вторых, сегодня противостоять деструкции со стороны новых, транснациональных сил глобализированного мира могут не столько те или другие страны, сколько отдельные цивилизационные системы651.
Таким образом, мы выходим на проблемное поле цивилизационных процессов, происходящих в современном глобальном мире, где вестернизация, действуя как эффект сближения, одновременно с нарастающим ускорением вызывает и дифференциацию, а с ней и эффект «непохожести» различных в культурно–цивилизационном отношении регионов планеты. «Поэтому напрашивается вывод о том, что сам всплеск дифференциации происходит на незападной цивилизационной основе, то есть на базе того цивилизационного своеобразия, которое выделяет миры Восточной и Юго–Восточной Азии, мир Среднего и Ближнего Востока и т. д.»652 Ни одна из стран, продолжает Ю. Н. Пахомов, которая слепо приняла вестернизацию, не вошла в последние годы, а то и десятилетия, в число достигших успеха. Неудачниками оказались в первую очередь те (в том числе Украина), кто не ставил своей целью трансформировать западный опыт с учетом собственной специфики. И в случаях механического перенесения западных принципов экономической жизни на инородную почву, при игнорировании традиций, результатом рыночных реформ повсеместно была лишь деградация.
Сегодня в мире, за исключением разве что таких держав–цивилизаций или держав–субцивилизаций, как Китай или США, эффективно свои интересы могут отстаивать лишь группы цивилизационно близких стран, причем успех непосредственно зависит от того, в какой мере согласованно они действуют на мировой арене, противостоя давлению ТНК и наднациональных финансовых учреждений. Именно последние направляют определенный предшествующей историей человечества процесс глобализации в русло, выгодное лишь странам «золотого миллиарда». Другим, в том числе постсоветским, государствам это несет бедность, потерю политической самостоятельности и деструкцию собственных культурно–цивилизационных устоев жизни.
Таким образом, вестернизация, лишенная опоры на собственные цивилизационные основания, дает разрушительный и деструктивный эффект, что видно на примере многих стран Тропической Африки и Латинской Америки. Более того, как это наблюдаем во многих мусульманских странах, «высокая активность и даже зрелость незападных цивилизационных механизмов не всегда (как в странах Юго–Восточной Азии) дает гарантию успеха рыночной вестернизации. Западный опыт рыночного реформирования на этом основании не всегда обеспечивает достижение успеха. В таких случаях происходит часто обратное — прямое непринятие западного опыта»653.
Из этого следует, что успех реформирования малоэффективных экономик незападных стран (в том числе, разумеется, и Украины) обязательно предусматривает достижение продуктивного синтеза и гармонического сбалансирования собственных цивилизационных основ и передового мирового (не обязательно только западного) опыта. Странам буддийско–конфуцианского мира, начиная с Японии, это удалось.
Ю. Н. Пахомов исходит из классического положения: в капитализме заложена агрессия в виде бесконечной потребности погони за меновой стоимостью, за деньгами как такими, за абстрактным богатством. Постоянно гнаться за меновой стоимостью надо не для того, чтобы лучше жить, а чтобы просто выживать в капиталистическом статусе. И этим своим неудержимым динамизмом капитализм разрушает все рутинное и архаическое во всем мире. Но сегодня он это делает не старыми, характерными для XIX в. методами, а преимущественно за счет использования новых механизмов экономического регулирования, порожденных отношениями, складывающимися между инновационной экономикой Запада и архаической, сырьевой экономикой отсталых стран.
Среди этих регуляторов особенно разрушительными для незападного мира являются прежде всего те, что обслуживают инновационные процессы авангардного западного капитала. Именно каскад новых продуктов и новых технологий, почти монопольно создающихся на Западе, является одним из главных источников неуклонного роста «ножниц цен» и получения высокоразвитыми странами сверхприбылей654.
Разрушительным для мирохозяйственных отношений выступает и гигантское избыточное потребление. Превращение функции максимизации прибылей в планетарную определило новые масштабы такого расточительства. Вследствие этого США, имея 5% населения планеты, потребляют около 40% ее невосполнимых ресурсов. Удручающим является то, что в рамках сложившейся на Западе экономической системы такая потребительская вакханалия принципиально не может быть преодолена, поскольку является оборотной стороной ее высокой эффективности. К тому же сама ментальность западного общества, его неудержимое стремление к максимизации богатства стимулируют планетарное расточительство ресурсов.
В качестве альтернативной модели Ю. Н. Пахомов рассматривает экономику наиболее развитых стран Дальнего Востока и Юго–Восточной Азии, которые, начиная с Японии, продемонстрировали способность к стремительному росту на основе адаптации западных достижений на собственном цивилизационном, в своей основе конфуцианско–буддийском, основании. Экономические регуляторы, находящиеся под непосредственным влиянием конфуцианской этики, не так страдают от рыночных неурядиц, как экономики стран Запада. И если вообразить, что дальнейшее обострение ситуации на планете потребует ограничения рыночной саморегуляции (а для выживания человечества необходимо именно это), то дальневосточным странам справиться с таким требованием будет легче благодаря специфике своего менталитета и системы ценностей.
Философское осмысление выхода человечества на рубежи информационной (информатизационной) эпохи находим у С. Б. Крымского. Опираясь на концепцию известного американского исследователя А. Тофлера655, он разрабатывает идею нынешнего стремительного ускорения исторического движения и вызванного этим «футурошока», сопровождающегося разрывом традиций, связывающих прошлое и будущее. Старшее поколение не успевает овладевать все новыми и новыми изобретениями информационной эпохи, а молодежь, органически адаптируясь к ним, не овладевает богатством культурных достижений прежних поколений.
Углубляется пропасть между людьми традиционной, книжной, и поклонниками наиболее современных видеокомпьютерных, виртуальных форм культуры. Это ведет к кризису традиционных ценностей, которые неполно и неадекватно воспринимаются поколениями, вступающими в сознательную жизнь и не имеющими этим старым достижениям никакой ценностной альтернативы. Поэтому современная культура перестает быть гарантом совершенствования мира. Она, наоборот, порождает возбужденность, мгновенность, неустойчивость состояний общественного духа, несоответствие духовно–этических норм и реализующихся в поведении людей программ.
Эти и прочие процессы, усиливающиеся по мере утверждения общества информационного типа, усугубляют антропологический кризис, нагнетавшийся в течение всего XX в. «Антропологическая катастрофа» на пороге III тыс. изображается как суммарный результат всех отрицательных последствий человеческой деятельности в сфере овладения природой и в плоскости социокультурного развития в целом. Утратилось благоговение перед бытием и уважение к нему. Научно–технический прогресс обернулся экологическим кризисом, последствия которого трудно предусмотреть. Античная любовь к истине уступила место цинизму знания, лишенного морального измерения. «Власть экономического рационализма сводит науку к утилитарному интересу материальной выгоды, а средства массовой информации редуцируют художественные идеалы искусства к идолам поп–арта. Под сигнатурой прагматического взгляда оказался и человек, постоянно фигурирующий как человеческий фактор или фактор производственного потенциала»656.
При этом утверждение информационного типа общества в ведущих в технологически–экономическом отношении странах соединяется с феноменом соприсутствия в современном мире «разных исторических эпох», т. е. сосуществования на планете, а кое–где — и в одной стране, форм жизни, присущих всей истории человечества, от ранней первобытности до наиболее современных электронных ее проявлений. Более того, «история становится объемной». Она все более органически связывает движение «вперед» с преобразованием действительности с учетом неиспользованных возможностей прошлого. Фактор прошлого становится важнейшим и в плане социально–экономической деятельности. В этом отношении принципиальное значение приобретают появление и бурный расцвет дальневосточного «конфуцианского капитализма».
С. Б. Крымский подчеркивает органическую взаимосвязь глобализационного и ноосферного процессов посредством раскрытия информационных основ геоэволюции человечества и планетарных феноменов жизни в целом. Развивая идеи В. И. Вернадского, он делает акцент на том, что развитие природы привело к необходимости вмешательства разума в геохимию и биосферу планеты, использования культурной энергии агротехники и искусственного отбора как альтернативы возрастанию энтропии, противодействия распылению полезных признаков в эволюции биологических видов. Эта тенденция начала реализовываться по мере распознания генетической информации и ее взаимодействия с социокультурной информацией. Этот продуктивный аспект человеческой деятельности и ее интеллектуальных стратегий приобрел общепланетарный масштаб, что позволяет С. Б. Крымскому рассматривать формирование ноосферы в качестве особого типа глобализации — в сфере «мудрости жизни»657.
В течение последней трети XX в. реализация глобализационного процесса происходила не просто как масштабное расширение человеческой деятельности на планете, что наблюдалось и раньше, а в виде универсальной структуризации ее механизмов и результатов. Это нашло свое выражение прежде всего в образовании общих для всего человечества информационных технологий и возникновении универсального пространства электронных коммуникаций, всемирной компьютерной сети Интернет, развертывании планетарных геоэкономических структур. Соответственно, происходила институционализация международных финансовых потоков, вследствие чего сложилась глобальная финансовая инфраструктура. Иначе говоря, была создана «общечеловеческая надстройка» над разнообразием региональных, цивилизационных и национальных хозяйственно–экономических и социокультурных форм благодаря глобализации технологических, экономических и информационных структур.
Украинский философ подчеркивает многоуровневость современного глобализационно–цивилизационно–информационного процесса. Собственно глобализация на почве распространения информационных технологий и создания планетарной экономической системы происходит в верхних пластах бытия человечества, тогда как на уровне отдельных цивилизаций и народов связанные с глобализацией сдвиги сопровождаются альтернативным тяготением к тоталитарной архаике, в сфере которой конкретный человек традиционного сознания ощущает себя комфортнее.
Выходит так, что глобализация в наше время составляет лишь верхний пласт общечеловеческих цивилизационных, в том числе мировых экономических, процессов, а эти процессы — многоуровневые. Такой подход позволяет определить сферы, наиболее пригодные для развертывания глобализации, и те, которым органически присуще сохранение базовых свойств определенных цивилизационных и этнонациональных сообществ658.
Итак, можно констатировать, что украинские специалисты, которые занимаются проблемами глобализации и цивилизационной теории, единодушно констатируют органическую связь становления планетарной системы глобализированной экономики, информационализации и ноосферных процессов. Они не идеализируют последствий соответствующих сдвигов для человечества и акцентируют внимание на противоречиях глобализации, главным из которых, как обосновал Ю. В. Павленко, является неуклонное возрастание пропасти между богатыми, наиболее развитыми в экономическо–технологическо–информационном отношении, и бедными, даже полупериферийными, странами659.
Более того, их взгляд на возможности положительного слома такой ситуации при условиях сохранения доминирующей общественно–экономической системы, обеспечиваемой финансово–экономическим, информационно–технологическим и военно–политическим преобладанием США, является довольно пессимистическим. По их мнению, при таких условиях, вытекающих из самой природы современного капитализма, противоречия должны лишь углубляться.
При этом в современном мире, на восточноазиатском конфуцианско–буддийском цивилизационном основании, уже сформировался второй, альтернативный Западу, центр опережающего развития. Это дает основания предполагать, что в обозримом будущем мир может качественно преобразиться. Он вовсе не обречен быть однополярным. Наряду с глобалистическими в наше время все более выразительно заявляют о себе связанные с ними, но альтернативные им регионалистические тенденции. Поэтому глобализация и регионализм должны рассматриваться как две стороны единого процесса мир–системных трансформаций, одним из важнейших аспектов которых является информатизация всех сфер жизни.
Мир–системное ядро и его информационализация
На рубеже столетий ведущие страны мир–системного ядра определяются понятием информационального общества. Понятие мир–системного ядра утвердилось в контексте школы мир–системного анализа. Ее основателем можно считать одного из ведущих представителей французской исторической школы «Анналов» Ф. Броделя660. Мир–системный глобализм, наиболее ярким представителем которого выступает И. Валлерстайн, заявил о себе на основе глобализационной парадигмы через синтез и комплексное осмысление данных экономики, социологии, истории, культурологии и многих других дисциплин. Предметом анализа был избран мир как целое.
И. Валлерстайном и его последователями было признано, что в современном мире мировая система является первичной относительно национальных государств. Следовательно мировая экономика, мировые политические институты и процессы имеют собственную логику развития и структурную динамику, так что могут быть моделированы на основе методологии структурно–функционального анализа. Поэтому характер функционирования социальных объектов как элементов мировой системы не может быть адекватно представлен в процессе их анализа в качестве независимых переменных. В мировой системе целостные глобальные структуры все больше определяют параметры ее частей. Человечество было осмыслено как целостная, динамическая структурно–функциональная социально–экономическая система, которая имеет многоуровневую иерархическую природу и состоит из многих взаимодействующих компонентов, имеющих неодинаковое значение в пределах глобальной системы как таковой.
Мировая система, соответственно, рассматривается как динамическое взаимодействие экономической, военно–политической и социокультурной подсистем, соотнесенных с демографическими и другими факторами. Со времени утверждения капитализма (и здесь следует вспомнить К. Маркса) именно экономическая подсистема признается ведущей и системотворящей, хотя она действует в режиме обратной связи с военно–политической и социокультурной подсистемами и демографическим фактором. Ведущая, движущая роль в процессе мировой интеграции в последние столетия признается за капиталистической мировой экономикой, базирующейся на непрерывном накоплении капитала. С ней связано усиление интеграционных, по принципу дополнительности и неэквивалентного обмена, тенденций в хозяйственной сфере разных стран и регионов661.
Для согласования позиций приверженцев мир–системного анализа и цивилизационного подхода следует определить те цивилизационные структуры, которые входят в разграничиваемые И. Валлерстайном мир–системное ядро, полупериферию и периферию. Мир–системное ядро охватывает Запад как таковой, в виде его двух основных субцивилизационных компонентов — Северной Америки и Западной Европы, а также Японию, которая принадлежит к Японско–Дальневосточной (Японской или Тихоокеанской, по С. Хантингтону) цивилизации Китайско–Дальневосточного цивилизационного мира662. Подобным образом можно соотнести определенные цивилизации и их части и конкретные страны с зонами полупериферии и периферии. И если мир–системное ядро соответствует информациональному типу общества, то полупериферия находится на индустриальном уровне, а периферия охватывает бедные аграрно–ресурсодобывающие страны, которые практически не имеют шансов улучшить свое положение. Как на большом фактическом материале доказала Б. Столлингз, другие регионы мира организуют свои экономики вокруг этого ядра в отношениях многоаспектной зависимости663. В то время, как основные сегменты экономики всех стран связаны в глобальную сеть, отдельные сферы и части стран и целых регионов не подключены к процессам изготовления, накопления, трансляции и трансформации информации в планетарном масштабе. И хотя информационализация мир–системного ядра влияет на всю планету, и в этом смысле ее можно считать глобальной, тем не менее огромное большинство людей на земле не работает в ее системе и не пользуется ее продуктами. Поэтому критерием размежевания стран мир–системного ядра, полупериферии и периферии может считаться мера привлечения к глобальному информационализму.
Регионализация экономической жизни планеты никак не противоречит утверждению глобальной мир–системной экономики. Можно говорить о существовании глобальной экономики потому, что мощные экономические агенты действуют на всей планете. Но эта экономика не отгорожена от политических систем. На нее влияют национальные правительства и региональные межгосударственные, а кое–где (как в Европейском Союзе) и надгосударственные органы. Вопреки планетарному эффекту от становления и функционирования глобальной экономики ее существование, как показали западные экономисты664, определяет лишь отдельные, пусть подчас и ведущие, экономические сферы определенных стран и регионов пропорционально конкретному положению страны и региона в международном разделении труда. Экономическая регионализация также является характерной особенностью глобальной экономики, системообразующим центром которой выступает определенное И. Валлерстайном мир–системное ядро.
Концепция мир–системного ядра, сети, которое К. Омае в свое время назвал «мощью триады»665 имеет конкретную экономическую определенность. Концентрация ресурсов в мир–системном ядре — странах «большой семерки» — еще более красноречивая. Так, в 1990 г. последние давали 90,5% мировой высокотехнологической продукции и владели 80,4% глобальной вычислительной мощности666. Различие человеческих ресурсов еще более выразительное. В 1985 г. среднемировой показатель научного и технического персонала составлял 23 442 человека на 1 млн населения. Но в странах, которые развиваются, на миллион населения их приходилось 8263 лица, в развитых странах — 70 452, в Соединенных Штатах — 126 200, т. е. более чем в 15 раз больше, чем в странах тогдашнего «третьего мира». Что же касается затрат на научно–исследовательские программы, то в 1990 г. затраты Северной Америки составляли 42,8% от мировых, а страны Латинской Америки и Африки, вместе взятые, расходовали на это меньше 1% той же общей суммы667.
В 1988 г. Соединенные Штаты, Европейский Союз и страны Азиатско–Тихоокеанского региона во главе с Японией, как главные экономические регионы мира, давали 72,8% мирового промышленного производства. На рубеже 80–90‑х гг. минувшего века международная торговля зыждилась преимущественно на обмене между США, Западной Европой и Азиатско–Тихоокеанским регионом: в 1992 г. экспорт товаров и услуг из Европейского Союза в Соединенные Штаты составлял 95 млрд долл., а импорт США в ЕС — 111 млрд долл. Экспорт товаров и услуг США в Азиатско–Тихоокеанский регион равнялся 128 млрд долл., а в обратном направлении — 215 млрд долл.668
Сегодня наблюдается дальнейшая реализация таких тенденций. Мир–системное экономическое ядро также состоит из Северной Америки (вместе с Канадой и Мексикой после подписания соглашения НАФТА в 1992 г. и его вступления в силу с 1 января 1994 г.), Европейского Союза (особенно после его расширения в 1995 г. за счет Австрии, Швеции и Финляндии и включения большинства стран Центральной Европы и Восточной Прибалтики в 2004 г.) и Азиатско–Тихоокеанского региона при (даже вопреки валютно–финансовому кризису 1997–1998 гг.) возрастающей роли Южной Кореи, Тайваня, Сингапура, Индонезии, Таиланда, Малайзии, но прежде всего — Китая (вместе с Гонконгом) с его мощной бизнес–диаспорой.
Распределение мира на ведущие информациональные страны мир–системного ядра и прочее человечество непосредственно определяется новейшим международным разделением труда. Глобальной экономике присущи взаимозависимость, асимметричность, регионализация и выборочная включенность в ее сеть стран и их экономических секторов. Проблеме международного разделения труда в конце XX в. посвящено значительное количество специальных исследований669. Из них следует, что признаком структуры современной мировой экономики является «соединение постоянной архитектуры с непостоянной геометрией»670. Архитектура глобальной экономики отражает асимметрично взаимозависимый мир, организованный вокруг трех ведущих регионов. Он все больше поляризуется по оси противостояния между преуспевающими, информациональными, богатыми и обездоленными, бедными регионами.
Вокруг мир–системного треугольника богатства, власти и технологии организуются другие регионы мира по иерархическому принципу в асимметрично взаимосвязанную сеть, конкурируя между собою за привлечение капиталов и новейших технологий. Как констатирует Б. Столлингз, объемы торговли и инвестиций одновременно возрастают внутри так называемой триады (США, Япония, Европейский Союз) и в любой из ее составляющих. Другие области постепенно маргинализируются. Вследствие этого внутри мир–системного ядра наблюдается экономическая взаимозависимость, лишенная элементов гегемонии. Разные типы капитализма, существующие в трех отмеченных регионах, составляют причину отличий в экономическом развитии, порождая конфликты и сотрудничество, различия и сходство671.
Среди трех доминирующих центров — Северной Америки, Объединенной Европы и Азиатско–Тихоокеанского региона — последний есть наиболее уязвимым, поскольку больше, чем два другие, зависит от краткосрочных инвестиций и открытости рынков других регионов. Это наглядно продемонстрировал восточноазиатский валютно–финансовый кризис 1997–1998 гг. Но переплетение экономических процессов, имеющее место в этой тройке, делает их судьбы практически нераздельными. Так, указанный кризис, содействуя оттоку капитала из Азиатско–Тихоокеанского региона в два других центра мир–системного ядра, преимущественно в США, что пошло последним на пользу, вместе с тем сузил его рынок, что отрицательно отразилось на экономике самых США.
Важно также отметить, что отдельные страны полупериферии и периферии включаются в глобальное экономическое разделение труда именно через интенсификацию своих связей с одним из трех доминирующих регионов и их лидеров, которые приналежат к «большой семерке»: со США и Канадой в Северной Америке; Германией, Великобританией, Францией и Италией в Европе; Японией в Азиатско–Тихоокеанском регионе. Северная Америка в такой роли выступает по отношению к странам Латинской Америки и, частично, Тихоокеанского бассейна; Европейский Союз — к странам Средиземноморья, находящимся за его пределами, Центрально–Восточной Европы (прежде всего к присоединившимся к нему в 2004 г.) и России; Япония — к странам Азиатско–Тихоокеанского региона и, все больше, Южной и Центральной Азии и востоку Российской Федерации. При этом отметим, что в 90‑х гг. наблюдался все возростающий экспорт капитала из Японии в Латинскую Америку, преимущественно в страны Тихоокеанского бассейна (Перу, Чили и др.). Вместе с тем группа стран юга Латинской Америки — Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай, объединенных в торговую ассоциацию МЕРКОСУР (которая может стать основанием южноамериканской зоны свободной торговли, при том, что ее ассоциированными членами уже являются Чили и Боливия), экспортировала свои товары больше всего в страны Европейского Союза.
В этом отношении показательным является опыт стран НАФТА, экономическая интеграция которых стала ответом региона глобальным вызовам современности. Среди этих вызовов выделяют, во–первых, качественные изменения глобальной среды, связанные с окончанием холодной войны и переориентацией отношений международной конкуренции и соперничества; во–вторых, регионализацию международных отношений, являющуюся обратной стороной глобализации; в-третьих, дезинтеграцию «третьего мира» как прежде группы сконсолидированных аутсайдеров мирового развития — на более успешных (большинство стран Юго–Восточной Азии) и практически бесперспективных (почти все страны Черной Африки) субъектов.
Но, наверное, еще большую роль в создании НАФТА сыграли внутренние факторы стран–участниц, а именно — интеграция и крепкая взаимосвязь их экономических систем (доинтеграционный уровень экономической взаимозависимости, т. е. часть региональной торговли во всей внешней торговле, достигал для Мексики и Канады 70, а для США — 25%) и миграция рабочей силы, особенно из Мексики в США. Масштабному развертыванию интеграционного процесса в Северной Америке способствовало и то, что все три страны имеют федеративное устройство. Это облегчает непосредственные связи между их штатами и абсорбирует отрицательные импульсы локального сепаратизма (Квебек), несколько предотвращая перерастание автономизма федеральных единиц в угрожающие для целостности стран формы путем продвижения данных единиц на международную арену на региональном уровне672.
Североамериканское соглашение о свободной торговле предоставляет странам–участницам больше возможностей в достижении национальных рубежей экономического развития и реформирования (случай Мексики). Цель вхождения в интеграционное объединение НАФТА для стран–участниц состояла, во–первых, в возрастании и развитии их экономического потенциала, прежде всего благодаря либерализации внешней торговли и международного инвестирования; во–вторых, в совершенствовании их отраслевой структуры и оптимизации использования ресурсно–производственных преимуществ стран с разным уровнем экономического развития при условиях ускорения научно–технического прогресса; в-третьих, в укреплении экономических позиций региона на мировом рынке при условиях возрастания международной конкуренции со стороны ЕС и Восточной Азии673.
Австралия и Новая Зеландия (между которыми с 1 июля 1990 г. упразднены торговые ограничения и барьеры) фактически интегрировали свои экономики. При этом они крепко завязаны на Японский и Североамериканский регионы, мало чем уступая им по уровню информационализации экономики. Ближний и Средний Восток, преимущественно благодаря добыче нефти и газа, существенным образом интегрован в глобальные финансовые и энергетические сети, но большинство стран этих регионов мало информационализированы и, к тому же, чрезвычайно уязвимы в экономическом и любом другом отношении ввиду геополитических амбиций США, ведущих стран Европейского Союза (в котором, как показала Иракская война 2003 г., позиции Британии, с одной стороны, Франции и Германии — с другой — принципиально отличаются). А Черная Африка, сохраняя свою экономическую зависимость от бывших колониальных государств, преимущественно Франции и Великобритании, все больше маргинализируется и деградирует. Тем не менее на этом континенте существуют некоторые одиночные исключения, в частности Южно–Африканская Республика, которая среди африканских стран является наиболее продвинутой в сторону информационализма. Поэтому не исключено, что со временем это государство, при условиях развития интеграционных процессов со своими соседями (Мозамбиком, Зимбабве, Ботсваной, Намибией, Анголой и др.), могло бы стать локомотивом, который вывел бы прочие страны южноафриканского региона из их отсталости и нищеты.
В границах мир–системного ядра социально–экономическое развитие и характер информационального общества имеют довольно отличные формы. Наиболее ярко это видно при сравнении Соединенных Штатов и Японии. США, где базируются основные ТНК и концентрируется большая часть мирового капитала, в конце XX в. целеустремленно развивали у себя новейшие информационные технологии, использование которых обеспечивало, кроме прочего, контроль над валютно–финансовыми потоками в масштабах планеты, а затем — и сверхприбыли. Вместе с тем традиционным областям промышленности (металлургия, машиностроение, текстильное производство) отводилось значительно меньше внимания, что и привело (при чрезвычайно высоком, сравнительно с большинством других стран, уровне оплаты труда) к определенному застою в этих областях и некоторой сдаче позиций конкурентам с Далекого Востока, Юго–Восточной Азии и Западной Европы.
В целом, подчеркивает М. Кастельс, в современном информациональном мире Япония и США представляют собой противоположные полюса674. Можно констатировать наличие общей тенденции возрастания во всех странах информациональной экономики удельного веса профессий, связанных с информационализацией (менеджеров, профессионалов во всех сферах деятельности, техники), а также работников торговли и конторских служащих. В США и Канаде эта категория лиц уже в начале 1990‑х гг. составляла почти треть рабочей силы. Во Франции и Германии занятые в этих сферах лица составляли четверть рабочей силы, а в Японии — около 15%.
Параллельно повышается удельный вес малоквалифицированного труда, главным образом благодаря развитию торговли. Однако это происходит не так быстро, как возростание занятости в высококвалифицированных, связанных с информационализацией, сферах. Так, в США полуквалифицированнные кадровые работники сферы услуг увеличили свою долю в профессиональной структуре занятости, но не так быстро, как группы менеджеров и профессионалов. В 1991 г. они составляли лишь 13% рабочей силы, а вместе с полуквалифицированными рабочими транспорта — 17,9%. В противоположность этому высшие категории менеджеров, профессионалов и техников в том же году составляли 29,7% занятого населения675.
Подобные тенденции наблюдаются и в Канаде, где к 1992 г. количество полуквалифицированных работников в сфере услуг достигло 13,7%, а количество менеджеров, профессионалов и техников возрастало еще быстрее и составило 30,6%. Сходная картина фиксируется и в ведущих странах Западной Европы. Соединенное Королевство к 1990 г. даже вышло на первое место среди стран «большой семерки» по проценту менеджеров, профессионалов и техников в общей структуре занятости (32,6 сравнительно с уже приведенными 29,7% в США и 30,6% в Канаде, 26,9% — в Германии и 25,9% — во Франции, не говоря уже о 14,9% в Японии). При этом в западноевропейских странах заметны несколько различные тенденции. Так, во Франции в высших профессиональных группах высок удельный вес техников (12,4 сравнительно с 8,7% в Германии), а в Германии подобный показатель касается высококвалифицированных профессионалов (13,9 сравнительно с 6% во Франции). В Японии объем занятости в сферах полуквалифицированного труда с 1955 по 1990 гг. возрос с 5,4 лишь до 8,6%, а количество менеджеров за этот же отрезок времени в Японии возросло на 46,2%, но составляло лишь 3,8% занятого населения (сравнительно с 12,8% — в США)676.
С такой динамикой параллельного возрастания количества занятых высококвалифицированным, связанным с информационными технологиями, и полуквалифицированным и малоквалифицированным трудом (при опережающих темпах в первой группе) связана отмеченная западными исследователями поляризация в распределении доходов в США и большинстве других наиболее развитых стран677. Меньше всего это присуще Японии.
Фундаментальными исследованиями последней четверти минувшего века в области истории экономики было доказано, что именно развитие технологий всегда, особенно в индустриальную эру, играло ведущую роль в процессе экономического роста678. Тем более это касается современной информационной эпохи.
Статистические данные относительно возрастания производительности свидетельствуют, казалось бы, о другом. Высочайшие показатели ее роста в наиболее развитых странах приходятся на период с 1950 по 1973 гг., когда новые технологии и инновации, которые появились во время Второй мировой войны, распространялись в производственной сфере и положительно влияли на экономические показатели в целом. В начале 1970‑х гг. производственный потенциал этих технологий исчерпался, а появление новых информационных технологий тогда еще не смогло сдержать замедления роста производительности в два следующих десятилетия679.
Тем не менее в 1990‑х гг. в большинстве наиболее развитых стран ситуация качественно изменилась, главным образом благодаря распространению электронно–информационной техники массового потребления (персональные компьютеры, мобильные телефоны и т. п.). Ибо, как известно из истории техники и экономики, между появлением новых технологий и их революционизирующим воздействием на экономическую систему как таковую должно пройти определенное время, в течение которого первые распространяются и адаптируются производством. Так, электрический двигатель появился в 1880 г., но его реальное влияние в сфере производства началось лишь с 1920‑х гг.680 Аналогичным образом информациональная технологическая парадигма, сформировавшаяся к середине 1970‑х гг., начала по–настоящему воплощаться во все ведущие и, что особенно важно, новейшие, в значительной мере ею же сформированные области экономики в последнем десятилетии XX в. И если в последней четверти истекшего века в области услуг, где информационные технологии мало или вообще практически не нужны, возрастание производительности почти не наблюдалось, то, скажем, в США в сфере телекоммуникаций, воздушных и железнодорожных перевозок, производительность в 1983 г. по сравнению с 1970 г. возростала от 4,5 до 6,8% в год681.
Еще более выразительным было возрастание производительности в новейших наукоемких сферах, связанных с производством электроники, в наиболее развитых в информационном отношении США и Японии. С 1973 по 1979 гг. в этих секторах производительность возрастала в США в среднем на 1% в год, но потом темпы прироста резко подскочили и с 1979 по 1987 гг. уже составляли приблизительно 11% в год. Япония демонстрировала подобную тенденцию, а Франция и Германия, страны Евросоюза в целом заметно отставали от них. Подобные тенденции в США имели место и в 1990‑х гг., но касались уже не только электронного производства, но и производственного сектора в целом. Так, в 1993–1994 гг. годовой прирост производительности достиг 5,4%, причем наукоемкие сферы, в первую очередь электроника, как и раньше, опережали традиционные области682. При этом в течение 1991–1994 гг. возрастание производительности во всей экономике, включая сферу услуг, составляло приблизительно 2% в год, что было вдвое выше показателя 1980‑х гг.683.
Итак, 70‑е гг. минувшего столетия в наиболее развитых странах мира, а затем, прямо или опосредствованно, и в глобальном масштабе действительно стали не только временем информационно–технологической революции, но и качественным рубежом в эволюции капитализма. Это совпало с определенными застойными явлениями в мировой экономике, вызванными исчерпанием продуктивных возможностей кейнсианства, ориентированного на внутреннее обустройство экономических систем отдельных стран, но не рассчитанного на формирование глобальной экономической мир–системы, энергетического кризиса и резкого роста цен на энергоносители, что было обусловлено главным образом арабо–израильскими войнами, как и возрастанием в развитых странах затрат на социальные программы, государственной задолженности, инфляции и т. п.
Во всех развитых странах фирмы отреагировали на такие угрожающие тенденции избранием новых стратегий экономического поведения, более адекватных условиям глобально–информациональной эпохи, в частности возрастанию объемов мировой межрегиональной торговли и объемов прямых иностранных инвестиций во всем мире. Последнее и стало движущей силой экономических трансформаций и роста в ведущих странах мира, частично и в его индустриальной полупериферии, при условиях утверждения глобально–информациональной системы684.
Вместе с тем внедрение новейших информационных технологий обусловило возможность качественного увеличения товаропотоков и ускорения движения капитала в мировом масштабе. Вдобавок, активную роль в преодолении кризисных тенденций, поддержке своих фирм и внедрении во все сферы жизни новейших информационных технологий играли правительства ведущих мировых держав. Поэтому, отметил Р. Нельсон, новейшая теория экономического роста должна базироваться на понимании взаимосвязи между технологическими новациями и возможностями фирм и национально–государственных институтов685 А это определяет необходимость рассмотреть процессы формирования информациональной экономики в разных странах «большой семерки», Китае, Индии и др., где, как известно, функции и отношения между фирмами, государственными институтами и социокультурными основами жизни общества и отдельных людей существенным образом отличаются.
Мегаполисы как явление глобально–информациональной эпохи
Индустриальному обществу были присущи бурная, прежде всего промышленная, урбанизация и связанные с нею экологические проблемы, противоречивые социально–экономические и социокультурные трансформации686. Эти тенденции, вопреки популярной некоторое время футурологической концепции деурбанизации, которая якобы должна происходить в условиях информационализации общества при появлении феномена «электронного коттеджа», продолжают реализовываться и в глобалистско–информациональную эпоху. Характерным ее признаком является создание и стремительное развитие мегаполисов как информациональных урбанистских агломераций с населением около или более 10 млн, как правило, вокруг больших городов — Токио, Нью–Йорка, Мехико, Шанхая и др.
Это происходит потому, что мегаполисы являются: во–первых, центрами экономического, технологического и глобального динамизма в своих странах и в глобальном масштабе, реальными двигателями развития, так что экономическая судьба стран, будь–то США или Китай, зависит от результатов работы мегаполисов; во–вторых, центрами культурных и политических инноваций; в-третьих, связующими звеньями всех видов глобальных сетей, в том числе системы Интернет, которые зависят от телекоммуникаций и «телекоммуникаторов», сосредоточенных в этих центрах. Вопреки всяческим сбоям и недоразумениям, вызываемым чрезмерным сосредоточением людей, и мероприятиям, которые осуществляются во многих странах с целью сдерживания чрезмерно быстрого увеличения численности населения в мегаполисах, на обозримое будущее прогнозируется тенденция к их увеличению687.
13 мегаполисов имели в 1992 г. население больше 10 млн. Это Токио, Сан–Паулу, Нью–Йорк, Мехико, Шанхай, Бомбей, Лос–Анджелес, Буэнос–Айрес, Сеул, Пекин, Рио–де–Жанейро, Калькутта, Осака. Симптоматически, что ни один не находится в Европе, 2 — в США, 4 — в Латинской Америке, а прочие — в странах Азии (1 — в Южной Корее и по 2 — в Японии, Китае и Индии). К этим гигантам вплотную приближаются Москва, Джакарта, Каир, Дели, Лондон, Париж, Лагос, Карачи, Тяньцзинь и некоторые другие города. 4 из наибольших мегаполисов мира (Токио, Сан–Паулу, Бомбей и Шанхай) превысят, по прогнозам, в 2010 г. 20‑миллионную пометку, при том что население Бомбея должно преодолеть отметку в 25 млн, а Токио — приблизиться к 30 млн. Кроме того, при условии дальнейшего бурного роста южнокитайского района Гонконг — Гунчжоу (население каждого из этих городов превышает 6 млн) здесь сформируется огромная городская агломерация с населением в 40–50 млн человек.
Огромные города были присущи азиатским странам, в частности Китаю, и в минувшие времена. Но определяющими, системообразующими свойствами современных мегаполисов является не сосредоточение многомиллионного населения, а то, что они выступают узлами глобальной экономики, концентрируют властные, производственные и менеджерские функции стран, регионов и планеты в целом, создают и распространяют информацию, контролируя ее оборот. Мегаполисы сосредоточивают и олицетворяют глобальную экономику, связывают между собою информационные сети и концентрируют власть в мире. Больше того, в них сосредоточиваются как наиболее активные, деятельные и обеспеченные люди, включенные в глобально–информациональные структуры, так и обездоленные, стекающиеся сюда в надежде на лучшую судьбу. В результате мегаполисы повсюду становятся воплощением полярности современного общества, что одинаково относится как к Нью–Йорку, так и к Мехико или Джакарте.
Мегаполисы являются узловыми пунктами и центрами власти информационной эпохи потому, что они контролируют и определяют конфигурацию потоков. Пространство потоков основывается на электронных сетях, которые имеют свои узлы и коммуникационные центры, организованы иерархически, соответственно своему удельному весу в этой сети. Современное информациональное общество развитых стран, как и все более глобально–информациональное общество, группируется вокруг потоков: капитала, информации, технологий, организационного взаимодействия, символов и т. п. Эти потоки циркулируют через соответствующие сети. Через сети реализуются доминирующие в обществе процессы. Именно сети связывают разные места (населенные пункты) и наделяют каждое из них ролью и весом в иерархии создания богатства, обработки информации и утверждения власти, которые, в конечном счете, обусловливают судьбу определенной местности, страны или региона688.
Первые мегаполисы информационального общества возникли в информационно наиболее развитых странах мира, США и Японии, вокруг Нью–Йорка, Лос–Анджелеса и Токио, а также в районе Осаки и залива Сан–Франциско, как и в других районах Соединенных Штатов с характерными для них сетями предместий — вокруг Чикаго, Детройта и т. п.
Вид современного североамериканского информационального мегаполиса, хорошо исследованного на примере Нью–Йорка689, определяется бурным ростом предместий, застроенных подключенными к электронно–информационным сетям семейными усадьбами и включенными в это пространство учреждениями, фирмами и предприятиями, при оттоке жителей в эти предместья из центров городов (сети), превращающихся в сугубо деловые центры. Связь в такой среде осуществляется не железными дорогами и линиями метро, а автомагистралями и электронными средствами коммуникаций. Новые урбанистические районы в США отмечены не пентхаузами старых городских богатеев или лачугами городской бедноты, а изолированными, окруженными газонами, домами на одну семью, что принадлежат представителям численно превосходящего среднего класса690. Это, разумеется, не ликвидирует разительных отличий между бедными, населенными преимущественно чернокожими (как в Нью–Йорке, Чикаго или Детройте), и богатыми, почти исключительно белыми предместьями, но заполняет пропасть между ними.
Несколько иную ситуацию в плоскости урбанистических процессов наблюдаем в мегаполисах Западной Европы конца XX в.691 Экономическим двигателем города, как и в США, остается центр, учреждения которого включены в сеть глобальной экономики. Он, имея развитую информационно–коммуникационную инфраструктуру, развивается благодаря обработке информации и выполнению контрольных функций. Таким образом, он функционирует не сам по себе, а как узел потоков информации, капиталов и т. п., связанный с аналогичными узлами на всех континентах. Тем не менее предместья европейских городов социально диверсифицированы значительно больше, чем в Соединенных Штатах. Здесь имеем традиционные рабочие предместья в виде жилых массивов многоквартирных домов, населенных преимущественно молодежью, которая принадлежит к среднему классу, непрестижные жилые массивы, где подавляющее большинство составляют эмигранты, и др.
Чем ниже положение города в информационной сети, тем прочнее он сохраняет традиционные черты и, соответственно, чем весомее его позиция в сети информационных и финансовых потоков, тем выше роль информационных услуг в его деловом центре и интенсивнее осуществляется реструктуризация городского пространства. Этот вывод, похоже, касается и большинства мегаполисов азиатских и латиноамериканских стран.
Вместе с тем на примере формирования мегаполисов вокруг залива Сан–Франциско (Сан–Франциско — Беркли — Окленд — Сан–Хосе — Силиконовая долина) и, тем более, в низовье р. Сицзян или Жемчужной речки (Гонконг — Макао — Цзяньминь — Чжаоцин — Фошань — Гуаньчжоу — Хойнчжоу) видим становление полицентрических мегаполисных агломераций. Внешне им во многом подобны городские агломерации стадии индустриального общества (Манчестер — Ливерпуль, Рурский бассейн, Донбасс и др.). Но на доинформациональной стадии развития такие агломерации возникали в районах, богатых естественными ресурсами (в особенности при наличии угля и железной руды), хорошо связанных с другими промышленными центрами традиционными системами сообщения (водный транспорт и железные дороги). В отличие от этого новейшие городские агломерации глобально–информационной стадии развиваются безотносительно к местонахождению полезных ископаемых.
Подъем информациональной городской агломерации вокруг залива Сан–Франциско был непосредственно связан с информационной революцией, символом которой стала расположенная в том районе Силиконовая долина — мировой центр создания новейших электронно–информациональных технологий и их программного обеспечения, над чем здесь работает четверть миллиона специалистов. Именно в Силиконовой долине были разработаны микропроцессор и микрокомпьютер, огромное множество других технологических изобретений, без которых современная информациональная экономика была бы невозможной.
История этого центра мировых информациональних новаций начинается с организации в Силиконовой долине (округ Санта Клара, 30 миль на юг от Сан–Франциско, между Стенфордом и Сан–Хосе) в 1951 г. Стенфордского индустриального парка с дальнейшим, когда он был заполнен, созданием электронных фирм вдоль шоссе по направлению к Сан–Хосе. Силиконовая долина, при щедром финансировании и наличии больших заказов со стороны Министерства обороны США, была сформирована именно как инновационная среда благодаря концентрации технологического знания, сосредоточения высококвалифицированных инженеров и больших, расположенных в городах этого района, университетов (институциональным лидером среди которых на начальных стадиях был Стенфордский университет)692.
В середине 50‑х гг. минувшего столетия Силиконовая долина с расположенными рядом университетами Стенфорда и Беркли еще не была ведущим центром американской электроники и уступала в этом отношении Массачусетскому технологическому институту. Но уже к началу 1970‑х гг. она стала ведущей ячейкой технологически–информационных знаний и заметно опередила аналогичные центры Новой Англии, в частности расположенные вдоль Бостонского шоссе № 128. Решающую роль в этом имела социальная и индустриальная организация компаний, а именно: негибкость массачусетских, что блокировало инициативу изобретателей и внедрение новаций; и способность к стимуляции и быстрому внедрению изобретений в Северной Калифорнии при условиях распространения знаний благодаря переходу работников с работы на работу, ответвлению дочерних фирм от более крупных и старых, постоянному неформальному общению специалистов разных фирм, приему на работу десятков тысяч специалистов со всего мира и т. п.693
Бурное развитие компьютерных технологий и программ с 1980‑х гг. стимулировалось быстро возрастающим рынком микрокомпьютеров. Но важную роль сыграли и военные заказы, связанные, в частности, с программой «звездных войн» Р. Рейгана. Вдобавок в предпоследнем десятилетии минувшего столетия экономика наиболее развитых стран, прежде всего членов «большой семерки», осуществляла системную реструктуризацию, в которой новая информационная технология играла фундаментальную роль и сама решающим образом формировалась этой своей ролью.
Информационно–технологическая революция содействовала формированию инновационной среды, требующей пространственной концентрации исследовательских центров, учреждений высшего образования, передовых в технологическом отношении компаний, разветвленной системы финансирования инновационных исследований, развитой инфраструктуры и т. п. Все это наилучшим образом объединялось в агломерации городов, расположенных вокруг залива Сан–Франциск — мегаполиса с населением около 6 млн человек. Культурная, финансовая и технологическая мощность мегаполиса (это касается и районов Лос–Анджелеса, и Токио или Сеула, и Парижа) делает его привлекательной средой для новейшей технологической революции и информациональных прорывов. Меньшие и более отдаленно расположенные города имеют меньше предпосылок для разработки и внедрения новейших технологий даже при подключенности к мировым информационным потокам.
Данная ситуация в последнее время сочетается с образованием вторичных высокотехнологических, часто в виде децентрализованных систем, инновационных ячеек, которые ответвляются от более старых и мощных. Такие новейшие ячейки особенно характерны для стран Восточной и Юго–Восточной Азии (Тайвань, Сингапур, Малайзия и т. п.) в ситуации американо–японской конкуренции, при условиях возрастания технологического потенциала в филиалах американских ТНК и стремлении японских электронных фирм в массовом порядке децентрализовать свое производство с целью глобализации экспорта694.
На примере развития Силиконовой долины хорошо видна важность теснейшей постоянной связи передовых научно–информационных центров с высокотехнологическими фирмами других регионов. Как показал Р. Гордон, в новом глобальном контексте локализованная агломерация не составляет альтернативы пространственному рассеянию, становясь главной базой для участия региональных экономик в глобальной сети. «Регионы и сети становятся взаимозависимыми полюсами в границах новой пространственной мозаики глобальных инноваций»695.
Другим, существенным образом отличным от северокалифорнийского, примером становления мегаполиса (даже над–мегаполиса) новейшего информационального типа является процесс, происходящий в течение двух последних десятилетий в Южном Китае вокруг оси Гонконг — Гуаньчжоу. Здесь мы не видим мирового лидера разработки и внедрения новейших информациональных технологий масштаба Силиконовой долины (хотя информационная инфраструктура и электронная промышленность Гонконга высоко развиты), но тем не менее наблюдаем огромную концентрацию человеческих масс, разнообразных фирм и технологий, которые питаются в значительной мере благодаря огромным иностранным инвестициям696.
На конец 1990‑х гг. эта супергородская агломерация охватывала площадь свыше 50 тыс. км2 с общим населением в 40–50 млн (в зависимости от того, как его территориально определять). В отличие от классических североамериканских мегаполисов она состоит не из совокупности взаимосвязанных, однако автономных, городских и пригородных единиц, быстро становится структурно единым в экономическом и функциональном отношении целым. Сегментированное разнообразие любого из ее районов зависит от функционирования этого надмегаполиса как целого. По мнению М. Кастельса, основой такого впечатляющего развития выступают следующие три взаимосвязанных явления697.
1. Экономическая трансформация Китая и его (в значительной мере через Гонконг) тесная связь с глобальной экономикой, при осуществлении огромных иностранных капиталовложений в этот район через Гонконг и преобразовании Гуаньчжоу в связующее звено между гонконгским бизнесом и экономикой провинции Гуандун, внутреннего Китая в целом.
2. Перестройка экономической базы Гонконга в течение 1990‑х гг. в сторону резкого, почти вдвое, сокращения ее традиционной производственной базы при бурном развитии занятости в сфере услуг и преобразовании города в глобальный деловой центр.
3. Инициированная и инвестиционно обеспеченная деловыми кругами Гонконга бушующая индустриализация, которая, используя местные семейные сети социально–экономических связей, в считанные годы охватила города и городки в дельте р. Сицзян, испытавшие огромный наплыв рабочей силы и в которых были созданы десятки тысяч преимущественно экспортоориентированных предприятий.
Параллельно еще более масштабный сверхмегаполис формируется в Японии, где функционально уже единый район Токио — Йокогама — Нагоя связывается с агломерацией Осака — Кобе — Киото, образуя наибольшую в истории человечества урбанистическую систему не только по численности населения, но и по своей экономической и технологической мощности. При наличии передовой научно–технологической и электронно–информациональной базы и наиболее современного в технологическом и организационном отношении производства, огромных капиталов и образованного, трудолюбивого и неприхотливого населения такой сверхмегаполис центральной части о. Хонсю может стать образцом объединения творческого потенциала и продуктивных производственных информационно–технологических инноваций XXI в.
ГЛАВА 8: ГЛОБАЛЬНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ПЛАНЕТАРНОЕ СОЗНАНИЕ (М. А. Шепелев)
Становление мир–системной парадигмы современного обществознания
11 сентября 2001 года, открыв историю XXI века, усилило чувство тревоги не только в массовом сознании, но и в особенности среди интеллектуалов. Стало понятно, что ожидания торжества разума, справедливости и прогресса оказались иллюзорными, и на глазах начали сбываться самые пессимистические пророчества об облике мира в наступившем столетии. Кумулятивный эффект происходящих революционных изменений чрезвычайно расширил сферу риска, рассогласованности и неконтролируемости как в природе, гак и в обществе. Ощущение эпохальности происходящего уже достаточно давно витало в воздухе. За масштабами происходящих событий нынешнее время стало сравниваться с эпохой становления человеческой цивилизации как таковой. В этой связи интересна мысль К. С. Гаджиева: «В последние полтора–два десятилетия мы оказались свидетелями уникального стечения и переплетения гигантских по масштабам явлений и процессов, каждый из которых в отдельности можно было бы назвать эпохальным событием с точки зрения его последствий для всего мирового сообщества. Но, взятые в совокупности, в комплексе, они создали такое гигантское поле вселенского напряжения, что переживаемое нами время с полным основанием можно назвать осевым временем (в том смысле, как это понимал К. Ясперс), временем смены самих цивилизованных основ жизнеустройства, периодом перехода от привычного для большей части XX века миропорядка к качественно новой инфраструктуре мироустройства»698.
Человек, находясь в состоянии глубокой растерянности, пытается найти объяснение происходящему, но убеждается в том, что традиционные пути поиска такого объяснения уже не достаточны. Как результат — взаимопроникновение исследовательских парадигм, методов, концептуальных построений различных социальных наук стало отличительным признаком развития науки в последние десятилетия. Оно стало следствием растущего осознания ограниченности теоретико–методологического инструментария отдельных наук в условиях происходящих трансформаций, получивших обозначение в виде такого до конца не ясного понятия, как «глобализация». Человек начинает воспринимать и оценивать происходящие с ним и вокруг него события как составляющие некой общечеловеческой судьбы.
Попытки осмысления происходящих трансформаций предпринимаются в разных измерениях. В геополитическом измерении привлекают к себе внимание глубокие изменения в характере отношений планетарного дуализма. Классическая западная философия от Гераклита до Гегеля и Маркса рассматривала раздвоенность, противоречие в качестве движущей силы развития. Рубеж второго и третьего тысячелетий мир встретил в беспрецедентной ситуации: впервые в истории предпринимается попытка изменить биполушарную структуру мира, состоящую из Суши и Моря, Востока и Запада, и объявить сами основы континентального существования незаконными и устаревшими. Высказываясь в терминологии классической геополитики, мы являемся свидетелями тотального наступления «морского пиратства» на континентальные цивилизации, и в этой борьбе главным призом является Евразия, как это и признал ведущий теоретик этого наступления З. Бжезинский. Речь идет не просто о материальном завоевании, но и о разрушении самого континентального этоса, выработанного тысячелетиями и ответственного за устойчивость континентального антропологического типа. Это происходит под вывеской глобализации и модернизации.
Особое внимание в этих условиях ученые уделяют выявлению тенденций, формирующих новую социально–политическую структуру мира. Среди них выделяются усиление взаимозависимости, изменение характера угроз миру, образование глобального геоэкономического универсума, интеграционные процессы и т. д. Однако большинство исследователей сходятся в том, что определяющими среди них являются: развитие процессов глобализации и универсализации мира, с одной стороны, и обособление различных частей и областей, увеличение количества действующих лиц на мировой арене и изменение их характера — с другой. Дж. Розенау даже предложил специальный термин, отражающий оба процесса, — «фрагмегративность» (fragmegrative) как одновременное действие фрагментации и интеграции.
Особенностью сегодняшнего дня является обострение противоречия между тенденциями глобализации и фрагментации мира, при доминировании фрагментации со свойственными ей неуправляемостью и конфликтностью. К. Бус полагает, что «взаимодействие между глобализацией и фрагментацией указывает на новый век, который, возможно, будет более похож на пестрое и беспокойное Средневековье, чем на статичный двадцатый век, но учтет уроки, извлеченные из того и другого»699.
Хотя обе тенденции взаимосвязаны и взаимообусловлены, они имеют собственную природу и действуют относительно самостоятельно. Ведущую роль при этом играет именно глобализация. Как признают сами исследователи, «глобализация, наверное, наиболее обсуждаемая и в то же время наименее понятная тенденция современного мира»700. Шокирующее воздействие возникающей под ее воздействием реальности имеет мощный политический эффект, поскольку требует определить отношение к изменяющей основы динамике глобализации и выработать стратегию поведения в соответствии с ее парадоксами и вызовами. Именно поэтому нельзя не согласиться с мыслью У. Бека: «веком глобальности не возвещается конец политики, а открывается ее новое начало»701.
В результате на стыке политологии и науки о международных отношениях возникло такое научное направление, как мировая политика. «Мировая политика представляет собой подходящее место для обсуждения решающих человеческих вопросов о будущем. Политическая наука и социология приобретают смысл только в контексте глобальности…. Кант был прав: политическая теория должна быть международной теорией», — указывает К. Бус702.
Исследования глобализации привели к выводу о том, что вселенная международных феноменов обладает не только самостоятельной логикой развития, но и очевидным приоритетом по отношению к образующим ее локальным сообществам, подчиняя их поведение своим закономерностям. С другой стороны, в ходе глобализации мы столкнулись с тем, что политическое вырвалось за рамки нации–государства, потребовав политического решения в тех областях социальной жизни, которые традиционно считались самостоятельными и неполитическими, и это принципиально меняет положение политической науки. Раньше политическая наука имела дело с национальным государством, теперь наряду с ним появились новые политические субъекты, такие как транснациональные корпорации, «мировые кланы» и т. д.
Из стадии «внутриутробного развития» глобалистика окончательно выходит в 80‑е годы XX в. Это происходит благодаря трудам культуролога Р. Робертсона, который дал развернутое понимание идеи глобальности. «Глобальность является в сущности неизбежной проблемой современного мира»703. Он развертывает понятие «глобальность» по таким параметрам, как процесс глобализации, его исторические стадии, его структура и состав глобальной общности, отношения внутри последней. Глобализация определяется Р. Робертсоном как становление мира в виде единого, или, может быть, общего пространства, а движение к такому миру — как процесс, начавшийся еще на ранних этапах истории и ныне ставший почти непреодолимым704 Реальный процесс глобализации, по Р. Робертсону, начался с XV века, развернулся очень активно с 1870 года до середины XX века и после окончания «холодной войны» находится на перепутье в силу обострения проблем выживания человечества, многоэтничности и многокультурности.
Глобализм как ощущение единства человечества, мирный симбиоз его и природы, как возникновение не признающего границ глобального информационного пространства, стал характерной чертой нового облика мира. Но глобализм нашей эпохи — это, с одной стороны, система мифов, ставших реальностью, а с другой — реальность, опрокидывающая эти мифы. Мир стал «иным», а это ставит задачу поиска новых базовых начал в его познании и осмыслении. Становится все более бесполезным анализировать отдельные общества как если бы они были преимущественно внутренне развивающимися структурами. В действительности они предстают как структуры, создаваемые глобальными процессами и являющиеся формой реакции на эти процессы.
Термин «глобализация» по своей значимости стал однопорядковым с такими понятиями, как «история», «культура», «цивилизация», «современность», «прогресс» и другими общегуманитарными понятиями. Глобализация мировой экономики, политики и культуры, во многом с подачи американских ученых, стала в конце 90‑х годов XX века доминирующей темой международных исследований, и такая ситуация, похоже, сохранится в ближайшие 10–20 лет. Работы в рамках этого направления выделены в отдельную категорию в классификации, установленной Международной ассоциацией политической науки (МАПН). Осенью 1999 года в Квебеке состоялся XVIII Всемирный конгресс МАПН, приуроченный к ее 50-летию. Его темой была: «Мировой капитализм, управление и община: идем ли мы к корпоративному тысячелетию?».
Смещая акцент с понятия «глобализация» на понятие «мировой капитализм» и особенно акцентируя на корпоративном аспекте изменений, Квебекский конгресс призван был выявить организационное и ценностно–ориентированное понятие процесса глобализации. Конгресс обратился к вопросам: как влияет «корпоративный поворот» на существующие формы государства и общины; как будет происходить переход от системы, основанной на национальном хозяйстве и конкуренции, ко все более растущей системе интеграции мирового капитализма и регионально–корпоративного, политически координируемых рынков; как это влияет на традиционные модели демократического правления и на личность граждан.
Аналогичные процессы, происходящие в философии истории и культуры, социальной культурологии, социологии, социальной экологии, международном праве, мировой экономике, свидетельствуют о том, что глобализация приобретает центральное значение в современных научных дискуссиях и исследованиях во всех социальных и гуманитарных науках. Происходит интенсивный процесс становления глобальных исследований, направленных на изучение глобального мира как динамично развивающейся целостности.
В 80–90‑е годы XX века глобальные исследования начинают оказывать существенное воздействие на политические решения, принимаемые как на уровне национальных государств, так и мирового сообщества в целом. Они отразились в нескольких десятках документов международного права: как в являющихся инструментами «мягкого права» — Всемирная хартия природы (1982), Декларация Рио (1992) и Повестка дня на XXI век (1992), так и в международных соглашениях — Конвенция ООН об изменении климата (1992), Конвенция о биологическом разнообразии (1992).
На рубеже тысячелетий появились и многочисленные глобальные документы, претендующие на определяющую роль в формировании стратегии мирового развития в XXI веке. Среди них — «Глобальная гражданская этика» (1995), «Всеобщая этика» (1997), «Универсальная декларация человеческой ответственности» (1997), «Декларация Культуры Мира» (1999). В течение 90‑х годов, сразу же после проведения Саммита Земли, под эгидой Совета Земли и Международного Зеленого Креста велась работа над Хартией Земли (Декларацией прав природы). Она представляет собой комплексный документ, интегрировавший многие глобалистские идеи последних десятилетий и исходящий из объективной предпосылки — существования глобальной мироцелостности как феномена современной действительности. Ее наличие проявляется как в универсальном характере глобальных процессов, так и в наличии специфической системы взаимосвязанных глобальных проблем, само существование которых, как и потребность в их разрешении, диктует необходимость формирования планетарного сознания человечества как единого субъекта мирового развития.
При зарождении глобальных исследований выявились три основных их направления. М. А. Чешков называет их «социологическим», «антропоэкологическим» и «культурологическим», а также выделяет «разработку глобальных проблем (и проблем мироцелостности вообще) в ключе информационных и семиотических теорий»705 В рамках социологического подхода интенсивно изучалась проблема глобализации мироэкономических связей и мирового политического порядка, антропоэкологический подход давал возможность рассматривать проблемы выживания человечества и эволюционно–экологических кризисов, тогда как культурологический подход акцентировал внимание на проблемах взаимодействия цивилизаций, становлении мировой цивилизации, глобализации культур и возможности рождения общей, глобальной культуры.
Показательно, что у истоков глобальных исследований лежит «антропоэкологический» подход, представленный философией глобальных проблем, развитие которой со временем вышло за рамки этого предметного поля и вылилось в отдельное направление — философскую глобалистику. Философия глобальных проблем сложилась как область философских исследований, в которой определяются предпосылки решения глобальных проблем современности, анализируются философские аспекты социального, демографического, экологического, экономического прогнозирования.
В основе философской глобалистики лежит положение о том, что в современных условиях резкая интенсификация связей и взаимодействий в мире обуславливает решающее значение его объективного единства. Глобальное единство человечества — это единство с природой Земли, единство хозяйственных связей, социальных процессов и исторических судеб разных стран, взаимозависимость политических решений и процессов, а также культуры, науки и техники. Все это в целом предопределяет общность будущего для всего человеческого рода. Первейшая задача мирового сообщества видится в создании равноправного социума на всех без исключения уровнях человеческой организации. Ее решение является необходимым условием достижения глобальной цели мировой цивилизации — человеческого развития.
Представители философской глобалистики, придавая определяющее значение общечеловеческим ценностям и культурно–историческому универсализму, апеллируют к планетарному сознанию как к решающему субъективному фактору будущего мирового развития. Планетарное сознание должно осуществить переход от националистических амбиций и геополитических притязаний государств к транснациональным и гуманистическим ценностям.
Западные ученые предприняли попытки при помощи естественнонаучных методов и компьютерной техники ответить на вопрос о путях решения глобальных проблем, что привело к появлению глобального моделирования. Его инициатором стал Римский клуб — международная неправительственная организация, созданная в 1968 году по инициативе группы западных ученых и промышленников с целью содействия исследованиям по глобальной проблематике. Основными исследовательскими принципами деятельности Римского клуба являются применения глобальных подходов к крупномасштабным комплексным мировым проблемам, отражающим растущую взаимосвязь всех стран в рамках единой планетарной системы.
В рамках Римского клуба развернулась работа по разработке концепций и моделей мирового порядка. Исходной посылкой стала гипотеза о дисфункциональности мировой системы, путь преодоления которой виделся на началах реализации глобальной программы «нового гуманизма». В частности, был сделан вывод о необходимости достижения качественно нового уровня организации мирового сообщества на началах конвергенции двух социальных систем. Новое планетарное человеческое сообщество должно быть способным к коллективным усилиям по планированию и управлению ради общего будущего человечества. Должен быть создан эффективный международный механизм принятия и реализации решений по глобальным проблемам, призванный обеспечить безопасное развитие мировой системы. Создание такого механизма связывается с трансформацией целей развития человечества, этической революцией, пересмотром социальных и политических идей, доминирующих в обществе.
В целом в рамках традиции, заложенной Римским клубом, российский системолог С. В. Дубовский выделяет пять основных направлений глобальных исследований:
• анализ механизма общесистемного кризиса с помощью моделей системной динамики, когда мир описывается в целом без разделения на страны и регионы и используется сравнительно небольшое число переменных;
• анализ эволюции глобальных проблем с помощью многомодельного описания многорегионального мира, причем каждый регион описывается своей системой моделей, региональные системы объединяются с помощью моделей мирового рынка и миграции населения, используются десятки тысяч переменных;
• анализ отдельных фрагментов мирового развития с помощью статистических рядов и простых автономных макромоделей, которые можно исследовать аналитически (изучаются рост населения с насыщением, циклы Кондратьева, конкуренция и замещение технологий и природных ресурсов, проблемы разоружения и безопасности);
• анализ проблем биосферы с помощью «физических» моделей климата и глобальных биогеохимических циклов, которые позволяют учесть влияние таких последствий человеческой активности, как парниковый эффект и ядерная катастрофа;
• разработка теоретических концепций и парадигм развития мировой системы в новых условиях приближения к глобальным ограничениям706.
В рамках представленного выше понимания глобалистики новаторские сдвиги были во многом связаны с возникновением школы универсального эволюционизма или школы глобальной экологии под руководством Н. Н. Моисеева, в основе которой лежала ноосферная концепция В. И. Вернадского. Представители этой школы подвергли критике позицию Римского клуба из–за представлений о пассивной роли природы и такой же пассивной реакции на результаты деятельности человека, призвав учитывать обратную реакцию биосферы на процессы мирового развития. Они отстаивают идею конструктивной коэволюции глобального человеческого общества и биосферы, что приведет к формированию ноосфер и ноосферной цивилизации.
Тем самым произошел переход от противопоставления общества и «окружающей среды» к идее исторического взаимодействия элементов мироцелостности, включающей географические, биологические, социальные и интеллектуальные структуры. С этих позиций глобалистика связана с представлениями о едином взаимосвязанном мире — земной ноосферной цивилизации, и предметом ее изучения становится единство Земли (биогеоценоза), человечества и общества. В центр исследований ставятся проблемы самоорганизации, а также экологические и эволюционные кризисы, причем глобалистика предстает как обобщенная наука о современном мире, подчиненная идее сохранения земной цивилизации.
В основных концепциях глобалистики мир состоит из двух элементов — биосферы и человечества, причем эта наука развивается в направлении конструирования модели управляемого взаимодействия в рамках системы Человек — Глобальное общество — Природа — Космос. Как отмечает А. П. Федотов, «в интегральном элементе — человечестве скрыты особенности возмущения биосферы отдельной страной мира», чем объясняется невозможность разработки на их основе моделей управляемого мира. Он полагает, что «модель управляемого мира с системой обобщенных количественных параметров мира впервые позволяет видеть и понимать в динамике целостную общенаучную картину мира в единстве и взаимодействии трех глобальных сфер человеческой деятельности — экологической, социальной и экономической. Она открывает невиданные ранее возможности по конструированию управляемого мироустройства»707.
Таким образом, наряду с узким пониманием предметного поля глобалистики, ограничивающим его анализом глобальных проблем, формируется другой подход, ориентированный на изучение глобальной целостности миробытия. Он связан также с традициями мир–системного анализа и культурологическим поворотом в науке в 80‑е годы XX века. В 90‑е годы рамки экономо — и культуроцентризма становятся узкими и получают распространение теории, отражающие полифундаментальность планетарного универсума. Так, М. А. Чешков обосновывает интегральный антропосоциогенетический подход, базовым понятием которого является человечество — основной предмет теоретической рефлексии. Человечество описывается как совокупность, глобальная общность, образованная взаимодействием трех начал — природного, социального и духовного (субъектно–деятельностного). В виде общечеловеческого универсума оно предстает неизменным со времен начала социогенеза, а его историческое бытие характеризуется отчленением социальной ипостаси от природной и духовной. Однако, как отмечает И. А. Василенко, «этот подход страдает априорным конструктивизмом, поскольку даже сам процесс формирования единого человечества, к сожалению, до сих пор представляет собой открытую проблему»708.
Возникновение глобальных проблем в процессе исчерпания социальной доминанты М. А. Чешков рассматривает как предпосылку для становления нового субъекта — человечества в целом, проявляющего себя в активности различных неформальных движений, подъеме религиозно–духовных исканий, разработке различных проектов мироустройства, деятельности мировых институтов. Все эти явления Чешков рассматривает и как тенденцию к «становлению индивида, стремящегося к самореализации через обретение «всечеловечности» и реализующего тем самым свое «постоянное присутствие в истории»709. Эта тенденция является ныне проявлением обострения основного противоречия «человечество — индивид» и выражается во взрыве исторического полиморфизма, то есть возрождением подавленных, устраненных или деформированных исторических форм.
Глобалистика исходит из сформулированной А. П. Федотовым аксиомы «о гибели космических цивилизаций»: «Любая космическая цивилизация, Земная или внеземная, оставленная на стихийное, неуправляемое развитие, растрачивает свою творческую энергию на бессмысленную борьбу внутри “общества” за планетное господство и материальное богатство, выходит за “антропогенные” пределы своей планеты и погибает на ранней стадии своего развития»710. Понятно, что такого рода постулаты, принимаемые в качестве исходных аксиом науки, открывают возможности для далеко идущих выводов и по остановке экономического роста, и по остановке роста мировой энергетики, и по «стабилизации» численности населения планеты.
В этом смысле представляется, что претензии глобалистики на роль количественной науки, призванной решать задачи по конструированию и управлению будущим человечества, оказываются сродни миропреобразовательным притязаниям марксистской философии. Такого рода претензии на ведущую роль в непосредственной разработке концептуальных механизмов глобального управления могут оказаться весьма опасными. Они будут означать абсолютное торжество количества над качеством, когда модель управляемого мира с системой его обобщенных количественных параметров (таких, как индекс антропогенной нагрузки, индекс устойчивости развития, индекс социально–экономической дисгармонии общества и т. д.) станет методологическим инструментом в создании «научно и духовно организованной» земной ноосферной цивилизации.
Важно учитывать наличие двух объективных процессов, определяющих становление единства мировой системы, — взаимосвязанных, но отличающихся по своей природе. Речь идет о процессах глобализации и мондиализации. Если в понимании первого мы не можем не акцентировать внимание на коэволюцию человеческого общества и природы, то второй подразумевает формирование целостной системы в масштабах собственно человеческого общества. Изучая процессы глобализации, глобалистика становится, по выражению А. П. Федотова, «наукой о запредельном мире, т. е. о мире, вышедшем за антропогенные пределы Земли»711. Мондиализация, будучи составной частью или уровнем глобализации, обладает своей собственной внутренней логикой «в пределах» нашего мира, диктующей необходимость ее концептуального осмысления на основе специфических теоретико–методологических подходов и принципов.
Уже в 80‑е годы XX века П. Тэйлор сконструировал глобальную картину геополитического процесса, в основе которой лежал тезис о том, что мир имеет жесткую иерархическую структуру, которая сохраняется в течение длительного исторического периода. В ней доминируют страны мирового «ядра», а среди них — главная держава. Периоды относительной геополитической стабильности связаны у П. Тэйлора с кондратьевскими длинными волнами экономической конъюнктуры. П. Тэйлор называет их «мировыми геополитическими порядками». Переход от одного порядка к другому происходит в течение коротких драматических переходных периодов, связанных с разного рода катастрофическими событиями (мировыми войнами, революциями и т. п.)712.
П. Тэйлор ожидает, что часть государственного суверенитета отойдет на внутрирегиональный, макрорегиональный и глобальный уровни. Вся глобальная система станет более гибкой, множество стран будут одновременно входить в разные организации, созданные по разным признакам. Увеличится значение сотрудничества между отдельными частями соседних государств. Тэйлор выражает обеспокоенность наступающей волной национализма и этносепаратизма, считает идею нации–государства главным дестабилизирующим наследием ушедшего периода европоцентризма в мировой политике.
Значительное влияние на формирование современного целостного мироведения оказала геоэкономическая наука, формирующаяся в последние два десятилетия на стыке геополитики и экономической науки, испытывая существенное воздействие со стороны социальной философии. «Геоэкономику необходимо рассматривать как многоуровневую систему экономических отношений в международном пространстве. Она есть вид экономического взаимодействия, определяемый территориальными интересами экономических субъектов и нацеленный на использование условий, возможностей, ресурсов пространства. В свою очередь, геоэкономическая наука есть отрасль экономической науки, изучающая процесс и результат воздействия экономических субъектов, национальных и глобальной экономик на международное пространство с целью его использования в своих экономических интересах. В неразрывной связи с геополитикой, геоэкологией и геокультурологией, геоэкономика формирует новую систему геосоциальных наук»713. К этим отраслям научного знания можно также добавить геоюриспруденцию, геодемографию и геометодологию. Больше того, сложились необходимые предпосылки, чтобы говорить о том, что речь идет о формировании новой науки — мироведения.
Основными источниками геоэкономики как науки являются: цивилизационный подход к мировому историческому процессу как полифоничному диалогу культур в пространстве и во времени; геополитика как наука, направленная на раскрытие и изучение возможностей использования политикой факторов физической среды и влияния на нее, то есть рассматривающая пространство с точки зрения интересов государства; фундаментальный кризис социокультурной системы Нового времени, приведший к смене традиционной архитектоники социума и стимулировавший поиск новых концептуальных моделей для описания актуальной экономической действительности.
Основной предмет исследования геоэкономики — 1) географически и исторически обусловленная диверсификация способов производства на планете, их взаимодействие и развитие; 2) пространственно–экономические детерминанты и механизмы процесса трансформации всей системы международных отношений; 3) феномен глобальной экономики, который становится повсеместным императивом, новой властной системой координат.
Центральное методологическое значение в геоэкономике приобретает категория «геоэкономическое пространство», представляющая пространство в виде сферы, в которой разворачиваются закономерности функционирования экономических систем, проявляющиеся в реалиях воспроизводственного процесса. Среди последних выделяется тот фактор, что интернационализация все более спрессовывает мирохозяйственную жизнь, закладывает основу технологического единства мирового хозяйства.
Стратегическое оперирование в геоэкономическом пространстве связано с формированием глобальных интернационализированных воспроизводственных циклов (ИВЦ), проходящих через различные национальные экономики, «вырывая» их отдельные структуры (анклавы) для участия в этих циклах. Эти циклы носят «блуждающий» характер, они беспрерывно перекраивают экономические границы государств в погоне за мировым доходом. Тем самым успех и выживание целых национальных анклавов определяются не конъюнктурой мировых рынков, а стратегией в геоэкономическом пространстве. Поиск своего места в глобальной экономике связан с выбором: либо «встраиваться» в чужой ИВЦ, либо создавать самостоятельную интернационализированную национальную экономическую систему, втягивая в национальную экономику отдельные мировые структуры и самостоятельно формируя «собственные» ИВЦ.
В геоэкономическом подходе процессы интеграции и дезинтеграции выступают как действенный инструмент государства, создающего фон для вызревания ИВЦ, как плацдарм для прорыва к мировому доходу. При включении национальной экономики, особенно ее составной части, в интеграционный процесс первостепенное значение имеют умение маневрировать интеграционными формами союзов, возможность быстрого создания новых союзов и альянсов. Это открывает стратегический простор для субъекта мирохозяйственного взаимодействия, возможность своевременной перегруппировки сил. Для национальной экономики необходимо различать подходы к формированию и реализации национальных стратегических интересов в рамках локального интеграционного процесса (ближнего зарубежья) и в отношении мирохозяйственной системы в целом (дальнего зарубежья). Нередко интеграционные союзы ближнего зарубежья играют ведущую роль в реализации экономических и военно–политических интересов.
Новое геоэкономическое мироустройство заставляет все более считаться с собой при стратегическом анализе и планировании развития. В условиях бурной трансформации классической экономики между собой интенсивно конкурируют различные геоэкономические концепты, как–то: неолиберальная метафизика, развивающая идеи «невидимой руки рынка», стратегия «золотого миллиарда», программы структурной перестройки и финансовой стабилизации, концепции неопротекционизма, устойчивого развития, форсированного сверхразвития, активного регулирования рынка, автаркии и мобилизационных схем управления, наконец — антисоциальная концептуалистика демодернизации.
В качестве новейшей методологии изучения глобального мира Э. Г. Кочетов предлагает «геогенезис» — пространственно–философскую методологию осознания, восприятия и отображения глобального мира, членение мира на «частные» пространства (геоэкономическое, геополитическое, военно–стратегическое, информационное, правовое и т. д.) с выявлением главенствующего подпространства и последующим «сращиванием» подпространств в форме единой универсальной синкретической модели — геоэкономического атласа мира. По мнению российского экономиста, переход от линейно–плоскостного восприятия мира к пространственному (объемному) его восприятию открывает путь к «каркасному» видению мира через объемные интерпретации, закладывает основы образного мышления и дает возможность разработать компьютерную версию геоэкономического атласа мира в целях оперирования в глобальной системе.
В центре внимания теории международных отношений (ТМО) — проблемы ускорения процессов транснационализации, усиления взаимозависимости стран, изменения международного порядка и формирования мирового порядка. С начала 60‑х годов XX века ТМО идет от анализа межгосударственных (преимущественно военно–политических) отношений одновременно и «вглубь» государства, и в сторону существенного расширения круга изучаемых явлений и процессов международной сферы. Признается бесспорным, что невозможно понять международные отношения, не имея концепции мирового развития, но выстроить последнюю можно, лишь заложив в нее в качестве одной из центральных опор какую–то макрогипотезу международных отношений.
В результате Н. А. Косолапов пришел к утверждению о том, что «теория МО все заметнее смещается к более широкому ее истолкованию, как науки о трансформации ограниченных по территории, пределам и возможностям деятельности политических форм, духовного мира социальных общностей и социально–территориальных систем в социумы и системы качественно и социально более высокого порядка: объединения родов в племя, племен — в народ и далее в современную многонациональную страну и в мировое сообщество»714. По сути, данный подход обозначает наличие предметного поля науки о мировом развитии, или, как выразился бы Л. П. Карсавин, «устроении к единству».
Представители школы неореализма рассматривают формирование глобальной международной системы как результат усиления взаимозависимости в современном мире. Они исходят из того, что в международной жизни за внешне хаотическим нагромождением событий и несогласованных поведений скрываются управляющие ими детерминанты и закономерности. Последние в их понимании подобны рыночным механизмам. Конкуренция уничтожает государства, действующие с низким КПД, а международная система подготавливает оставшиеся государства к тому, чтобы они вели себя определенным образом.
С их позиций, истинная теория международных отношений должна исходить не из частностей, а из целостности мира, делая своим исходным пунктом существование мировой системы, а не государств, являющихся ее элементами. Структура этой системы навязывает всем странам такую линию поведения, которая может противоречить их интересам, но она же позволяет понять и предсказать поведение международных актеров на мировой арене.
Если представители неореализма сохраняют решающую роль в мировой системе за государствами, более того — за великими державами, то представители школы транснационализма считают, что в наши дни межгосударственные отношения уже не являются основой мировой политики. На наших глазах возникло беспрецедентное многообразие числа и разновидностей участников международного взаимодействия, для которых не существует национальных границ. В результате возникает глобальный мир, в котором разделение политики на внутреннюю и внешнюю теряет всякое значение.
Сторонники такого подхода исходят из того, что в современном мире люди связаны друг с другом общими нитями мировой экономики, сопоставимыми идеалами и ценностями, а главное — международными институтами и организациями, совместно созданными ими в целях управления взаимозависимостью и регулирования отношений друг с другом. Субъекты международных отношений сталкиваются в своих действиях со все большими ограничениями, что связано с правилами игры, на установление которых они вынуждены идти под давлением необходимости. Формируются международные режимы, понимаемые как совокупность писаных и неписаных принципов, норм, процедур и соглашений, регулирующих международные отношения. Результатом является определенная «интернационализация» политического авторитета.
Международное общество предполагает взаимную ответственность его членов–государств, наличие конвенционально соблюдаемых правил, определенную тенденцию к возрастанию в его рамках гуманизации и сотрудничества. Мировое общество рассматривается как клиент международного общества (в рамках последнего речь идет о равных правах всех людей независимо от их государственной принадлежности), ибо права личности являются продуктом государства и могут, как минимум, им же и быть изменены.
К концепциям мирового общества тяготеют построения Н. Гудвин, в рамках которых глобальность предстает как образование, опирающееся на природные и институциональные ресурсы, обладающее своими интересами, ценностями и особой идентичностью, но не замещающее иных идентичностей — индивидуальных, этнических, локальных, а совмещающееся с ними715.
Важным источником становления современного глобального мироведения стала теория постмеждународной политики Дж. Розенау и Р. Гилпина. Первый как раз и связывает глобализацию с окончанием эры международной политики, когда на международной арене доминировали национальные государства, и переходом к постмеждународной политике, в которой нации–государства участвуют уже не монопольно, а наряду с международными организациями и транснациональными структурами. Новая — полицентричная — мировая политика характеризуется параллельным действием таких транснациональных организаций, как Всемирный банк, Римско–католическая церковь, «Макдональдс», «Фольксваген», наркокартели и «Аль–Каида». Политическую повестку дня в ней определяют транснациональные проблемы, как–то: финансовые кризисы, изменение климата или распространение ядерного оружия. Транснациональные события, как–то: чемпионаты мира по футболу, благодаря глобальной системе коммуникаций, становятся детонаторами политической и социальной активности. Полицентричная мировая политика характеризуется хаотичностью, непредсказуемостью, искажением идентичностей.
Напротив, Р. Гилпин придерживается более традиционного подхода, акцентируя на зависимости глобализации от национально–государстве иного авторитета, а точнее, от гегемониальной власти и интернационального политического режима. Он отмечает, что глобализация возникает при определенных условиях, когда устанавливается такой порядок межгосударственных отношений, который позволяет создавать, развивать и поддерживать сеть взаимосвязей и взаимозависимостей за рамками национально–государственных авторитетов и между этими авторитетами. Необходимым его условием он считает молчаливое разрешение со стороны национально–государственной власти.
В становлении современного целостного мироведения особо следует отметить возникновение на стыке социологии, истории и политэкономии школы мир–системного анализа (MCA). Ее основоположником является один из лидеров французской исторической школы «Анналов» Ф. Бродель. Исследованиями, посвященными глобальному анализу динамики мировой системы и ее структурно–функциональных изменений, занимались И. Валлерстайн, А. Г. Франк, С. Амин, А. Эммануэль, А. Бергесен, В. Борншир и др. Мир–системный глобализм заявил о себе как о новом этапе эволюции обществознания, пришедшем на смену «социологии», опиравшейся на работы К. Маркса, М. Вебера, Э. Дюркгейма и в свое время заменившей утилитаризм классической школы в лице Т. Гоббса, Дж. Локка, А. Смита, Д. Рикардо и Дж. Ст. Милля. Принципиальным его тезисом стало утверждение анахроничности дисциплинарного членения в ситуации, когда предметом познания выступает мир как целостное образование. Поэтому теряют основания соответствующие отдельные дисциплины, на смену которым в исследовании мировой «бесшовной целостности» приходит единая социально–историческая наука.
Для MCA стал характерным анализ капитализма как мирового явления, отказ от определения капитализма в соответствии с той моделью, которая сформировалась в ядре, в пользу «исторического капитализма». Ее лидер И. Валлерстайн пришел к выводу о несостоятельности идеи разделения общества на экономику, политику и культуру. Единицей анализа был избран мир как целое, хотя сам И. Валлерстайн не всегда последовательно придерживался провозглашенного им холизма. MCA стал отрицанием дисциплинарного разделения науки на политэкономию, социологию и политическую науку, противопоставления история — социология. Его представители акцентировали метод исследования «от абстрактного к конкретному». Значение этого сдвига было столь важно, что представляется возможным говорить о выработке в общественных науках новой, глобалистской парадигмы, пришедшей на смену индивидуалистической и социетальной парадигмам европейской социальной науки.
Согласно теоретикам MCA, мировая система первична по отношению к национальным государствам, то есть мировая экономика, мировые политические институты и процессы обладают собственной логикой развития, структурной динамикой, которые могут быть моделированы, исходя из методологического принципа структурализма. В соответствии с последним характер функционирования социальных объектов — элементов мировой системы — не может быть адекватно представлен в процессе анализа их как независимых переменных и, более того, сложившиеся в мировой системе целые структуры определяют параметры ее частей. В рамках MCA были предприняты попытки определить такие понятия, как «глобальный способ производства», «глобальный процесс образования классов».
Основой MCA является рассмотрение мира как исторически складывающейся и развивающейся системы взаимодействия. Мировая система рассматривается как динамическое взаимодействие экономической, военнополитической и социокультурной подсистем. Взаимодействие международных политических, военных, экономических, научно–технических, ресурсных факторов мирового развития влияет на состояние мирового сообщества, на соотношение сил и внутреннее положение отдельных государств. Длительное время военно–политическая подсистема доминировала над экономической, однако по мере институционализации капиталистических хозяйственных структур экономическая подсистема приобретает решающее значение, хотя эластическая комбинация военно–политических и социокультурных элементов продолжает играть важную роль в ее функционировании.
Движущей силой развития современной мир–системы, в основе которой лежит капиталистический мир–экономика (КМЭ), является непрерывное, самоподдерживающееся накопление капитала. Игнорирование территориальных границ со стороны КМЭ придает ей ярко выраженное универсализирующее свойство, способное поддерживать взаимодействие в хозяйственной сфере разных стран, регионов, континентов.
Описание КМЭ И. Валлерстайн суммировал в следующих 12 пунктах:
«1) непрерывное накопление капитала как движущая сила мир–экономики;
2) осевое разделение труда, где отношение ядро — периферия основывается на некоторых формах неэквивалентного обмена, имеющего пространственный характер;
3) структурное существование полупериферийной зоны;
4) важное и постоянно сохраняющееся значение ненаемного труда наряду с наемным;
5) совпадение границ КМЭ с границами межгосударственной системы, состоящей из суверенных государств;
6) приурочение возникновения КМЭ ко времени до XIX века, скорее всего даже к XVI веку;
7) взгляд, согласно которому КМЭ возникла вначале в одной части мира, в основном в Европе, и в дальнейшем распространилась по всему миру путем успешного «включения» новых территорий;
8) существование в мир–системе государств–гегемонов, периоды неоспоримой гегемонии которых были относительно кратки;
9) неизначальный характер государств, этнических групп, хозяйств, которые постоянно создавались и воссоздавались;
10) фундаментальная важность расизма и сексизма как организующих принципов системы;
11) появление антисистемных движений, которые и подрывают, и усиливают систему;
12) модель циклических ритмов и вековых тенденций, которые воплощают внутренние противоречия системы и приводят к системным кризисам»716.
Ключевое значение в мир–системной парадигме приобретают центропериферийные отношения. «Осевое» разделение труда между центром и периферией создает напряжение между ними, которое стимулирует развитие мир–системы в целом. Оно усиливается неэквивалентным обменом и неравноправным характером отношений между ними. Несмотря на это, уже к концу XIX века, по мнению И. Валлерстайна, не осталось зон, находящихся за пределами КМЭ. В его структуре периферии отводится в целом пассивная роль, ее развитие всецело зависит от центра. Динамику КМЭ призвано выразить понятие «полупериферии». Именно полупериферия сосредоточивает в себе классовые противоречия и конфликты, выступает способом перераспределения мировой прибавочной стоимости, она же служит источником новых форм и способов производства. Таким образом, мировая политика предстает как постоянная борьба между центром и периферией современной мировой системы, выступая следствием асимметричной взаимозависимости государств и народов.
Как отмечает В. А. Зарин, «модели, разрабатываемые авторами теории “мировых систем”, безусловно, способствовали лучшему пониманию истории формирования мирового рынка и хозяйства, механизма современных типов зависимости, их взаимодействия и привлекли внимание к проблеме обратного влияния мировых хозяйственных и военно–политических структур на состояние отдельных стран и регионов»717.
Тем не менее уже к середине 80‑х годов стала особенно заметной критика MCA со стороны представителей ставшего доминирующим культурологического подхода в связи с дискуссиями о мондиализации культуры или о глобальной культуре. Позиция школы MCA рассматривалась как экономоцентристская, материалистическая и редукционистская. В противовес подчеркивалось, что глобализация и мондиализация культур определяют ведущую роль не экономических, а культурных связей внутри мироцелостности. Возникла глобальная культурология, или культурная глобалистика, которая испытала ощутимое влияние постмодернизма, устами Ж. — Ф. Лиотара заявившего о «конце целостности».
Ее представители подчеркивают децентрализованный характер миросистемности, признавая гетерогенность и гибридность естественным состоянием культурной карты мира. При этом был воспринят ряд методологических позиций MCA, в частности представление мира как системной целостности, в которой не части составляют целое, а сама целостность конституирует свои части. Представители этого направления, как правило, не делали вывод о становлении глобальной культуры, видя в этом пережиток идей о культурной гомогенности мира. Ныне исследования в сфере глобальной культурологии все более перекликаются с цивилизационной теорией и социальной антропологией, увязываясь с отслеживанием процессов модернизации в отдельных регионах мира и тенденций к национализму в локальных культурах, с особым акцентом на изучении альтернатив глобализации.
Выдвижение на передний край науки цивилизационного подхода обозначило новые аспекты критики MCA, развивавшие мотивы его культурологической критики. Она определялась общей установкой цивилизационщиков на разделенность, самобытность масштабных культурно–исторических систем — цивилизаций. Критики MCA указывали на материалистическую основу данного подхода, ведущую к экономическому детерминизму и редуцированию познавательной и ценностной проблематики тех человеческих общностей, которые не вытекают непосредственно из потребностей организации производства, обмена товарами и защиты ресурсов. Этнос, нация и цивилизация, предстающие как формы разделения труда и организации отношений обмена, сводятся в рамках такого подхода к функциям миросистемных отношений.
Обращается внимание и на представление об однолинейной эволюции, игнорирующее возможности эндогенного развития и не дающее возможности ответить на вопрос о способностях незападных цивилизаций освоить и трансформировать западные технологии. Мир–системный подход отводит центральное место экономическим и политическим аспектам и не уделяет должного места культуре. Такая одномерность и редукционизм, действительно, подрывают эвристические возможности мир–системной парадигмы и ее претензии на общее объяснение мировых процессов. Как недостаток мир–системной парадигмы рассматривается и акцент на взаимодействии между обществами в ущерб их внутренней специфике, хотя сама цивилизационная парадигма развивается именно в направлении исследования взаимодействий между цивилизациями.
Вместе с тем в самой цивилизационной парадигме заложены основания для сближения с мир–системной парадигмой. Такие теоретики цивилизаций, как А. Тойнби и К. Ясперс, говорили о становлении общемировой цивилизации, и этот тезис лег в основу рождения мир–системной парадигмы. Ныне для цивилизационшиков становится все более проблематичным вопрос о самобытности отдельных цивилизаций, поскольку практически не осталось цивилизаций, не затронутых процессом взаимодействия и трансформации. Сдвиг в сторону исследования взаимодействий между цивилизациями и развития единой мировой цивилизации показывает, что цивилизационная парадигма существенно трансформируется.
Дискуссия представителей мир–системной и цивилизационной парадигм показала, таким образом, что различные подходы к мировым общественным процессам не исключают, а дополняют друг друга, отражая различные стороны этих процессов. Так, концепция «центральной цивилизации» Д. Уилкинсона, основанная на сохраняющей определенные позиции линейной схеме цивилизационного процесса и сводящая историю к прогрессивному поглощению периферийных цивилизаций ближневосточным, средиземноморским, западноевропейским и евроатлантическим мирами, была реинтерпретирована в духе исследований исторически сменявших друг друга сетей «мировых городов», составляющих основу мир–систем718.
Глобалистика и цивилизационный подход
Всякая отрасль научного знания, если подходить к ней с позиций норм науковедения, конституируется при наличии объекта, единого предмета, его включенности в общую картину мира, определенных философских оснований и единого метода. Разумеется, что с таких позиций науки о глобальном мире едва ли могут претендовать на статус «нормальных». В нынешнем состоянии они предстают как междисциплинарная область, которая, по мнению М. А. Мешкова, «по характеру ближе к такой разновидности научного знания, которая складывается исторически, не обладая системной целостностью», подобно эволюции биологии по С. В. Мейсону719.
В русле теоретической культурологии Р. Робертсон предложил понимать под объектом глобалистики некое «глобальное условие человеческого существования» (Global Human Condition), которое видится им в виде некой структуры, не сводимой ни к социальным, ни к этническим, ни к политическим или каким–либо другим отношениям, но рассматривавшейся как в плане бытия, так и в плане сознания. Он акцентировал на роли осознания человечеством процессов глобализации, начало которых выносилось далеко за пределы XX ст.
Глобализация в своем наиболее общем — рамочном — виде предстает как растущая системная взаимосвязанность человечества, выражающаяся в компрессии времени и пространства. Это процесс, формирующий человечество в его всеобщих качествах через связи всех видов и порядков720. Можно сказать, что объектом глобалистики является планетарная реальность общечеловеческого мира — целостность, а предметом — процесс становления целостности миробытия человека и структура этого миробытия.
Мироцелостность, по Р. Робертсону, выступает как некое «глобальное обстоятельство», или как «условие существования человечества», и одновременно — как «важнейшая структура» современности, обладающая некоей базовой формой, причем именно эта форма и определяет то, как идет глобализация, или то, как мир становится единым. Сохраняя валлерстайновское представление о глобальном мире как системе, он полагает, что этот уровень организации еще не достигнут и глобализация лишь ведет к системности.
Он различает развертывание процесса глобализации (мондиализации) и становление структуры глобальности, что позволяет рассматривать различные исторические траектории становления глобальности и разные конфигурации, которые обретает глобальность–структура. Последняя включает самые различные единицы, в том числе государства, общества, межгосударственные системы, цивилизации, индивиды и человечество в целом. Особенно важны признание индивида непосредственной составной частью глобальной структуры и характеристика национальной государственности как возникающей в ходе мондиализации, как момент исторического развертывания этого процесса. Тем самым преодолеваются одновременно и взгляд на нацию–государство как на производную от мировой системы, и противоположный тезис о его первичности по отношению к ней.
Можно определить мироцелостность как органическую совокупность взаимосвязанных и взаимообуславливающих форм социального бытия человека (социальных и биосоциальных групп, наций–государств, мир–империй, мир–экономик, цивилизаций и человечества в целом). Скорее всего мироцелостность не является простым порождением XX века, а должна была периодически заявлять о себе и ранее. Как отмечает Н. А. Косолапов, «единый и целостный мир — качество не только мира, но и наличествующих в нем цивилизаций, признак их духовной и/или материальной экстравертности»721. Он является результатом процессов интернационализации, который может проявляться в различные исторические эпохи.
Мироцелостность исследуется в мироведении как социальная реальность. В истолковании строения реальности в философии сложилось два подхода — монизм (Парменид, Спиноза) и плюрализм (Лейбниц). Монизм представляет реальность как сплошное, слитное целое, а ее многообразие оказывается в его рамках обманчивой видимостью, но даже такой взгляд означает невозможность категорического отрицания множественности культурноцивилизационных форм. Напротив, плюрализм раздробляет реальность на бесконечное множество самостоятельных, обособленных, замкнутых носителей («монад»). Замкнутая в себе «монада» (цивилизация, государство, этнос и т. п.), однако, не может знать ничего, кроме себя самой, поэтому, как показал С. Л. Франк, «должна была бы отождествлять себя со вселенским бытием, то есть мыслить последнее как безусловное единство»722. Отсюда неизбежность идеи «предустановленной гармонии» монад, которая по сути означает признание некоего всеобъемлющего и всенаправляюшего единства многого. Вне единства мира оказывается тем самым невозможным существование многообразия культур. Оно немыслимо хотя бы потому, что оно есть многообразие самобытных культурных единиц, которые конституирует именно начало единства.
Противоречия между двумя подходами преодолеваются на основе анализа мироцелосгности как социальной реальности, которая, следуя пониманию реальности С. Л. Франком, есть «антиномистическое единство противоположного или, по другой формулировке, всегда есть нечто большее, чем она сама»723. Российский философ полагал, что «единство реальности, объемля все, возвышается и над противоположностью между единством и многообразием; оно есть единство единства и многообразия»724. Важное методологическое значение имеет в этой связи вывод С. Л. Франка о том, что объективная действительность (отличаемая им от реальности) есть «реальность, отчужденная от нас в качестве объекта мысли», «рационализированная, то есть логически кристаллизированная часть реальности»725. Познание реальности объемлет и пронизывает поэтому как бытие субъекта, так и бытие объекта. То, что мы понимаем под социальной реальностью, С. Л. Франк рассматривает как мир общения, противоположный миру природы как «объективной действительности» мир истории, представляющий собой сверхиндивидуальный аспект духовной жизни каждого человека. Социальная реальность предстает таким образом как пространство–время диалога цивилизаций, культур, других субъектов исторического бытия–сотворчества, в основе которого лежит нерасторжимое единство «этого» и «иного».
В конце 80‑х — начале 90‑х годов в атмосфере «деидеологизации» возникли ожидания того, что экономика сможет играть ту роль, которую на протяжении столетия играла в жизни мирового сообщества политика. Однако последнее десятилетие показало, что речь идет об обратных процессах. Сегодня экономика меняет свое внутреннее содержание, начиная проявлять себя не только как способ хозяйствования, но и как доминирующая система управления обществом, становясь политикой и даже идеологией эпохи, новой властной системой координат. Мировой рыночный тоталитаризм, согласно которому люди не действуют, а осуществляют законы мирового рынка (вынуждающие, в частности, минимизировать социальное государство и демократию), выдавая себя за неполитический, действует в высшей степени политически.
В этом смысле «экономизация политики» (по ставшему модным выражению Э. Шеварднадзе) на деле означает политизацию экономики. Более того, в условиях прогнозируемых продовольственных (около 2030 года) и экологических кризисов, перенаселения и обнищания огромных масс населения Юга, усиления демографического давления с Юга на Север, роста безработицы и бедности в западных странах, усиление влияния политики на экономику сохранится. В свою очередь, традиционная геополитика все более наполняется геоэкономическим содержанием, а геоэкономика тем самым трансформируется в способ геостратегического оперирования. Можно прямо утверждать: возрастание роли экономики связано с тем, что экономика становится политикой. Более того, экономика становится стратегией. Экономика превращается в постсовременную форму войны. Грань между экономикой и войной как «продолжением политики иными средствами» в постсовременном мире исчезает.
«Секретом полишинеля» являются масштабные операции против национальных валют, целых государств и региональных экономических пространств, начиная от спланированной атаки группы Дж. Сороса на фунт стерлингов до планов геоэкономической агрессии против СССР путем целенаправленного понижения цен на нефтяном рынке, разрабатывавшихся администрацией Р. Рейгана. Наиболее масштабные геоэкономические стратегии зачастую вообще остаются вне поля зрения. К ним относятся основные режимы функционирования мировой экономики, ее финансово–правовой контекст. Применение же собственно силы все чаще приобретает избирательный характер. Эффективность геоэкономических технологий была продемонстрирована миру в 80–90‑е годы в форме искусно организованного сырьевого бума, вызванного форсированным, едва ли не демпинговым экспортом природных ресурсов, возросшим, в частности, в результате реализации программ структурной адаптации национальных экономик стран Юга к глобальному североцентричному организму. Драматичное снижение цен на сырье, расширение диапазона «ножниц цен», по сути, отменило императив технологического скачка, что привело к свертыванию ряда инновационных проектов, например, в области ресурсосберегающих технологий.
Политика выходит на передний план всегда, когда появляются вызовы принятым, предустановленным правилам и когда подвергается сомнению сам характер связей, образующих сообщество. Она предполагает выявление смысла существования сообщества, определение интересов его участников, установление правил их взаимодействия и обеспечение их взаимопонимания.
Возрастание значения политики, политизация социальных и экономических отношений определяется, с одной стороны, растущей ограниченностью используемых человечеством ресурсов, что создает глобальную проблему обеспечения возможностей функционирования и развития социумов, и с другой — тем, что политика, будучи особым типом творческой активности по созданию нематериальных связей, становится основой социальной интеграции глобального мира в условиях его постэкономической трансформации.
Политосфера включает в себя не только собственно политические отношения, связанные с приобретением, удержанием и использованием власти, но и объекты политического воздействия — экономические, социальные, духовные интересы. По К. Шмитту, политическое «может черпать свою силу в самых разных областях человеческой жизни, в ее религиозных, экономических, моральных и иных противоречиях; оно характеризует не какую–то собственную предметную сферу, а лишь степень объединения либо разъединения людей»726. Из такого понимания политического вытекает, что противоречия и конфликты в человеческом обществе нельзя раз и навсегда разграничивать на политические и неполитические. В процессе политизации их прежде неполитические разновидности обретают политическую окраску и наоборот. Этот вывод имеет первостепенное значение для конституирования мироведения как науки. Сложившись в пространстве междисциплинарной сферы глобалистских исследований, мироведение с необходимостью должно приобрести черты политической науки.
Может возникнуть представление, что за пределами данного определения политического остаются его институциональные аспекты. Это представляется не вполне оправданным, так как политизация неизбежно приобретает характер институционализации, поскольку предполагает процесс формирования устойчивых типов и форм политической практики — политических институтов, посредством которых организуется политическая жизнь, обеспечивается устойчивость политических связей и отношений в рамках политической организации общества.
Политическое является сущностью такого социального института, как государство, выступающего в качестве политического общества. Но политическое не ограничено исключительно государством: возможна и имеет место политизация негосударственных институтов, что проявляется прежде всего в их противопоставлении себя государству в качестве противника, врага. Однако, если учитывать, что государство является политическим институтом лишь за счет требования к гражданам о передаче государственной власти безусловного права на различение друга и врага, то кризис лояльности граждан государству не может не отразиться на способности государственной власти реализовывать решения по поводу объявления дружбы и вражды. Тем самым возникают предпосылки для деполитизации социальных отношений, а значит — для растворения начал организованного порядка в глобальном мире.
Всякое конкретное противостояние является политическим в той степени, в какой оно приближается к разграничению по принципу «друг — враг». Как отмечает Г. Фигал, «политическое, в понимании К. Шмитта, это не нацеленность на силовое противоборство само по себе, равно как и не стремление его избежать. Скорее оно характеризует их тесную взаимосвязь, порождающую некое единство. “Политическое” — не состояние общего мира либо гражданской или международной войны. Скорее это мир в состоянии ясного осознания всех угрожающих ему опасностей — это в такой же степени сохранение мира, как и борьба за него»727. Такая интерпретация политического дает основания говорить о том, что мироцелостность как объект мироведения есть политический феномен. В пользу ее определения как политического сообщества свидетельствует и то, что мироцелостность предполагает наличие общих интересов и механизмов решения общих проблем. Кроме того, формирование политического сообщества является результатом интеграционного процесса. Утрата политической природы мироцелостности угрожает не просто нарушением ее интеграционного качества, но и глобальной социальной катастрофой.
«Употребление слова “политика” не просто констатирует факт. В огромной степени оно его создает», — отмечает Ж. — М. Денкэн728. По его словам, «факт считается политическим, когда для воздействия на него имеется поле маневра. В этом случае противоположные мнения и различные интересы могут проявляться и вызывать дебаты или политический конфликт»729. Специфическое употребление термина «политика» подразумевает тем самым все явления, в отношении которых существует альтернатива действия и возможность выбора. Центральная проблема политики — это проблема выбора, и в контексте предметного поля мироведения она предстает как проблема свободного выбора для субъектов мирового развития, как проблема альтернативности, в конечном счете — как вопрос о том, будет мироцелостность плюриверсумом или универсумом. В этом смысле мироведение является не только аналитической, но и прогностической наукой.
Политологическое измерение мироведения обращает внимание на формирование нового глобального механизма принятия решений, с принципиально более сложным потоком информации, новым составом участников и совершенно новым раскладом обязанностей и ответственности. В этом заключается сущность процесса мондиализации, формирующего облик мироцелостности как социальной реальности.
Сегодня решения, принимаемые мировым коллективным инвестором, имеют определяющее значение для экономической и социально–политической ситуации во многих странах. Вместе с тем процедура принятия решений не обеспечивает равного участия субъектов мировой политики, она лишена прозрачности, открытости, а экспоненциальный рост объема перерабатываемой информации приводит к неизбежному превращению избыточной информации в сложную иерархическую структуру. Тем самым под вопросом оказываются привычные представления о национальной государственности, народном суверенитете, представительстве интересов и демократической процедуре. Эти политологические проблемы оказываются в центре внимания мироведения.
Тезис К. Шмитта о том, что «политический мир есть плюриверсум, а не универсум», обретает праксеологическое значение в ситуации, когда глобализация превращается в инструмент униполяризации мироцелостности, нивелирующий ее плюралистическую, а значит — политическую — природу. Тем самым мироведение как политическая наука призвано выполнить важную аксеологическую функцию — предотвратить тотальную войну, сохранить политосферу как пространство мира. В этом смысле мироведение является не только теоретической, но и прикладной наукой, призванной предложить стратегические альтернативы для свободного выбора, то есть для политического действия.
Мироцелостность обладает собственной логикой, структурными и деятельностными принципами и поэтому несводима ни к экономике, ни к культуре, ни к международным отношениям или мировой политике. Наряду с онтологическим уровнем она выступает одновременно и на уровне сознания. Погруженность в сознание является отличительным признаком любой социальной системы, в том числе мировой. Сознание не только воздействует на практику, но и благодаря механизму интерпретации реальности является посредником в том влиянии, которое оказывают среда и социальные структуры. Раскрываясь онтологически в процессе глобализации и в структуре мироцелостности, на уровне сознания оно реализуется в форме глобального, или планетарного, сознания, причем оно вовсе не означает выработку единого образа мира. Это представление может служить основой для раскрытия предмета мироведения как новой интегральной социально–политической науки. Он раскрывается в трех измерениях: политический «срез» планетарного сознания как формы общественного сознания; процесс становления и развития мироцелостности, раскрывающийся в сопряженных процессах глобализации и мондиализации; политическое бытие мироцелостности, реализующееся в мироустройстве и миропорядке.
Такое понимание выводит нас на интерпретацию мирового развития как «сложной, раскручивающейся во времени, физическом и социальном пространстве спирали, «рога изобилия», нижний конец которого жестко фиксирован в прошлом, верхний же открыт и совершает вместе со всей спиралью широкие колебательные движения в рамках реально доступных человеку и видимых им альтернатив»730. Такая система, предложенная Н. А. Косолаповым, включает сложные подсистемы — государства, регионы, иные образования, меняющиеся в процессе и под влиянием мирового развития. Процессы таких перемен обладают отчетливо выраженным циклическим характером. Следствием их является становление пульсирующего, живого, все более целостного мирового сообщества, с развитием которого индивидуальность составляющих его частей не только не утрачивается, но и становится все более выраженной.
Этот подход к осмыслению мирового развития способствует пониманию характера взаимодействия в его ходе между отдельными частями и измерениями, в частности социокультурным и политическим. Любые существующие модели взаимодействия расположены во времени, но время никогда не бывает нейтральной количественной шкалой для измерения человеческого опыта. Во взаимодействии обществ, культур нет единого для всех пространства–времени, и это рождает один из драматических парадоксов хронополитики: чем более медленную временную ритмику имеет общество, тем выше вероятность того, что его традиционное политическое пространство станет сокращаться под влиянием вторжения более динамичных культур. Социокультурное время отражает ритмы коллективных действий в каждом обществе, политическое время — ритмы политической жизни.
Точки отсчета для измерения социокультурного и политического времени в каждом обществе выбираются среди событий, социальная значимость которых зависит от национальных традиций и обычаев. Если вектор социокультурного времени складывается из суммы социокультурных ориентаций всех слоев и групп общества, то вектор политического времени зависит преимущественно от поколения, господствующего на политической сцене. Следовательно, направление политического времени может достаточно часто меняться, не совпадая с социокультурной традицией, и такая ситуация часто возникает в модернизирующихся странах. Общество в целом может иметь ретроспективную направленность, отдавая предпочтение повторяемости, сходству и порядку, а вектор политического времени — перспективную, ориентируя на изменения, новизну и прогресс.
В результате наступает ситуация драматического напряжения, намечается болезненный разрыв, способный спровоцировать гражданскую войну. Поэтому политический класс должен чутко прислушиваться к ритмам национальной культуры, чтобы не нарушить тонкой гармонии социума. Искусство политики как раз и состоит в том, чтобы заставить социокультурные традиции служить политическим целям. В культуре существуют парадоксы, когда на крутом повороте развития неожиданно самое архаичное оказывается самым перспективным. Арабская пословица гласит: на крутом повороте хромой верблюд оказывается первым.
В таком контексте первостепенное значение приобретает ответ на те острые вопросы, которые приносит мондиализация: означает ли мондиализация усиление однородности или разнородности мироцелостности, является ли она альтернативной или безальтернативной, имеет она исторические прецеденты или является беспрецедентной, наконец, каков смысл нынешней, кризисной фазы мондиализации? Парадигмальный кризис выразился в неспособности геополитики ответить на следующие принципиальные вызовы:
• победа Запада в холодной войне открыла эру глобальной экспансии западной модели демократии (т. н. «третья волна демократизации»), обернувшейся неототалитарным реваншем. Геополитика не смогла предложить адекватных рецептов от этой планетарной болезни;
• неототалитарное наступление шло «вслед» всплеску этнических национализмов и сопровождалось разрушением «больших пространств» — крупных полиэтнических государств имперского типа, которые всегда выступали главными субъектами геополитики, формировали геополитическую структуру современного мира. Геополитика так и не смогла по сути объяснить «парад суверенитетов», передачу США части морской акватории в Беринговом проливе, невнятную политическую позицию в отношении японских притязаний на Курилы и в отношении расширения НАТО на Восток;
• неототалитарный вызов актуализировал проблему сочетания универсальной (глобальной), региональной (цивилизационной) и государственной (национальной) безопасности. Если «национально–государственный уровень достаточно ясно связан с реальными национальными интересами государства как геополитического субъекта»731, то подход к глобальной безопасности с позиций национальных интересов оказался далеко не адекватен, что показала практика реализации концепций «устойчивого развития» и «глобального американского лидерства». К осмыслению проблем глобальной безопасности с позиций интересов человечества как ее субъекта геополитика оказалась не подготовленной. Она не смогла и определить место цивилизационной безопасности по отношению к глобальной и национальной.
Доминирующим в процессе становления методологии современного целостного мироведения стал цивилизационный подход, представляющий возможность моделировать мир как живую динамическую систему взаимодействия самодостаточных и саморазвивающихся социокультурных систем — цивилизаций. Цивилизация есть система детерминации общественной жизнедеятельности через духовное производство, то есть культуру в ее социально значимых функциях. Статус цивилизации определяется степенью универсализации утвердившихся в обществе духовных принципов бытия. Единство мировой истории предстает как сосуществование цивилизаций в пространстве и во времени, в их взаимосвязи и взаимодействии. С позиций цивилизационного подхода, как указывает Ю. В. Павленко, «на первый план выдвигается проблема осмысления движения человечества к дискретному (прежде всего в цивилизационном, но также и других — этническом, государственно–политическом и пр. отношениях) единству, к формированию глобальной, всемирной макроцивилизационной системы»732.
В условиях кризиса прежних теоретико–методологических моделей приверженцы цивилизационного подхода в большей степени ориентировались на компаративные исследования, предполагающие сопоставление конкретного материала в разных социокультурных системах. Хотя ориентация на получение сравнительной дисциплинарной картины и дала возможность в той или иной степени преодолеть западоцентристский редукционизм, все же ограниченность такого подхода заключается в том, что он представляет возможность дать лишь описание специфики отдельных компонентов социокультурных образований и не дает возможности выявить их системную целостность. Компаративистика во многом лишается своего значения, если она не опирается на общую теорию мировой цивилизационной системы и процесса ее развития.
В рамках цивилизационного подхода цивилизация предстает как народ или группа народов, в своей истории переживающих или уже переживших фазу империи, которая воспринимает себя на правах воплощения всеблагого Мирового Града и в силу этого готова диктовать свои стандарты всей ойкумене. Цивилизация не охватывает в равной степени различные слои общества или территории, существует деление на более или менее цивилизованные слои, на центр и периферию, а некоторые образования имеют тенденцию к выпадению из цивилизационных рамок. Кроме того, если раньше принадлежность к определенной цивилизации была лишь вопросом отличия, родового пятна, то ныне это уже вопрос сути, центральное звено мировоззрения. Вместе с тем в современных условиях происходит не только взаимодействие цивилизаций, но и ослабление и размывание сложившихся цивилизационных структур без адекватной замены их новыми.
В этой ситуации задачи новой науки оказываются гораздо шире тех возможностей, которыми обладает цивилизационный подход. Они связаны не просто с осмыслением логики мирового развития как цивилизационного процесса, но и с отысканием политических закономерностей и тенденций развития мироцелостности. Это вызвано, с одной стороны, нарастанием управляемости и контролируемости цивилизационного процесса, а с другой — превращением цивилизационных факторов, проявляющихся лишь через ряд опосредующих звеньев, в политические детерминанты мирового развития, которые проявляются непосредственно.
Политика всегда имеет в качестве определяющих характеристик конфликт и консенсус, поэтому в условиях «столкновения цивилизаций» и интенсивного поиска альтернатив такому развитию мирового цивилизационного процесса потребность в модификации цивилизационного подхода определяется необходимостью отыскания функционального оптимума в структуре и процессе развития мироцелостности, формируемой взаимодействием цивилизаций.
Назревшее совершенствование теоретико–методологического инструментария представляется возможным посредством выработки нового, политико–цивилизационного подхода, дающего возможность учитывать всю совокупность факторов, определяющих мировое развитие, раскрывать его сущностные черты на том или ином конкретном этапе и одновременно быть инструментом выработки практических политических решений. Этот подход предполагает рассмотрение тенденций и перспектив мирового развития не просто сквозь призму его цивилизационного измерения, но и в контексте открывающихся политических альтернатив. Его выдвижение связано с растущей политизацией как доминантой современного мирового развития, и соответственно — с поиском ответов на вопросы о политическом смысле происходящих изменений и о политических технологиях управления цивилизационными процессами.
В его основе должно лежать общефилософское представление о специфике общественной формы движения, которая является единством объективного содержания и субъективной деятельности людей. «Самое важное — выработать свой взгляд на мир, сформулировать свои собственные мегатенденции, которые помогут вам в вашей деятельности, в претворении в жизнь ваших идеалов, вашим взаимоотношениям с людьми и вкладу в общее дело»733.
Политико–цивилизационный подход основывается на признании многовариантности и плюралистичности мирового развития, вплоть до диаметрально противоположной направленности. Он исходит из противопоказанности современному научному сознанию линеарного видения общественного развития. Этот подход связан с возведением проблемы выбора на принципиально новую ступень. Важность данного подхода определяется повышением вероятности стратегических неожиданностей в условиях многовариантности мирового развития.
Суть политико–цивилизационного подхода заключается в том, что каждый элемент мироустройства, каждое конкретное состояние мирового развития необходимо рассматривать как фрагмент мироцелостности, в которой процессы взаимозависимости определяют воздействие изменений каждого ее сегмента на характер цивилизационного процесса как в мире в целом, так и в рамках отдельных сообществ, что делает необходимым выявление политического смысла цивилизационных изменений в мире. Он акцентирует внимание на поиске угроз цивилизационной безопасности человеческих сообществ в глобальном мире, на необходимости выявления цивилизационных интересов и создании стратегии и политических механизмов их реализации.
Потребность в таком подходе все более остро ощущается. Все большее внимание уделяется осмыслению противоречий, патологических явлений и побочных эффектов мирового развития. Т. Лоуи, например, считает, что «тщательное исследование патологических, антидемократических стратегии и тактики растущего капитализма может внести значительный вклад в политическую науку». Американский ученый имеет в виду необходимость «изучать то, как корпорации реализуют свое право на участие в институтах демократии, в т. ч. использование этого права для подрыва демократических институтов — главным образом за счет применения стратегии и тактики дискредитации политики»734. Обращают на себя внимание и процессы распада в условиях кризиса цивилизации Модерна вековых политических и цивилизационных структур и образование новых. Конфликты между ними становятся неизбежными.
С позиций политико–цивилизационного подхода процесс мирового развития является саморазвертыванием потенциала формирующейся мировой цивилизации, содержащей в себе альтернативные, вплоть до взаимоисключающих, векторы развития человечества. Конкретные состояния этого процесса определяются не только закономерностями исторической динамики мирового цивилизационного процесса, не только изменениями в конфигурации соотношения сил между субъектами цивилизационного развития, но и соотношением их этических парадигм, задающих параметры политического выбора.
Основными методологическими принципами политико–цивилизационного подхода являются:
1) принцип целостности — целое больше суммы его частей, а их поведение и содержание создаются и формируются структурами, встроенными в саму систему; каждое целое является частью еще большего целого и равным образом содержит в себе меньшие целые, на деятельность которых оно оказывает структурные, ритмические влияния. Каждое целое имеет своим основанием самость как экзистенциальное выражение принципа целостности (на планетарном уровне эта самость воплощается в планетарном общественном сознании).
Принцип целостности предполагает обращение к новому, космоцентричному методу восприятия, понимания глобального мира, способному стать новым планетарным антиэнтропийным фактором и уберечь человечество от экологической и нравственной катастроф;
2) принцип плюральности — целостность мира, человечества не сводится к некой единой «сушноста» или к сумме многих «сущностей», а выступает как совокупность взаимосоотносимых сущностей, и именно в этом смысле глобальность плюральна;
3) принцип симфоничности мирового развития — обнаружение индивидуальности личности и персоналистского характера мирового развития как следствия специфического проявления в ней сверхиндивидуальной целостности. Здесь обращаемся к «философии Всеединства»: «Если уничтожить это высшее, индивидууму нечего будет по–особому выражать и не в чем себя осуществлять, т. е. его совсем не будет. Напротив, чем богаче по содержанию это «высшее», тем богаче и полнее индивидуальное существование. Однако вне «индивидуальных» своих проявлений, вне свободных индивидуумов и иначе как вне свободного их единства, высшего нет; и оно может осуществляться только через индивидуумов и в индивидуумах. Поэтому нельзя его понимать как отвлеченное от индивидуумов нечто, которое бы стесняло их свободу и предопределяло их действия; и потому же можно сказать, что «высшее» само себя осуществляет в свободных актах каждого индивидуума»735;
4) принцип глокализации — глобальный мир как целостность есть единство всего индивидуального, составляющего и выражающего мировое единство, и одновременно множество индивидуальных форм проявления глобальной мироцелостности. Поэтому для его существования и развития необходимо как выражение его множества, то есть сферы локальных, индивидуальных форм бытия, так и выражение его единства, то есть их взаимной связанности, согласованности, [локализация, таким образом, есть, пользуясь выражением Л. П. Карсавина, «единство, необходимо выражающееся во множестве»736 и одновременно множество локальных форм, выступающих как единство, части которого есть специфические выражения целостности; глокализация представляет собой также процесс адаптации глобальной экономики и культуры к локальным условиям и местаым традициям;
5) принцип системносте мирового развития, дающий возможность моделировать структуры интерпретируемой сущности, иерархии политических, экономических, информационных, культурных связей в рамках мировой целостности. В соответствии с ним мировое сообщество представляет собой единую систему со своими особыми системообразующими характеристиками, структурными составляющими и функциями, устойчивыми связями, зависимостями и отношениями;
6) принцип предельности прогресса — обнаружение и обозначение глобальных «пределов роста», требующее смены самой парадигмы развития современной технической цивилизации и форм ее отношений с природой. В частности, речь идет о том, что в конце XX века объемы потребления человеком многих жизненно важных ресурсов и уровень загрязнения окружающей среды уже превысили физически допустимые нормы, темпы амортизации капитала начинают превышать темпы роста капиталовложений, основные фонды пополняются с запозданием, особенно в долговременных инфраструктурах, процентное соотношение всех видов долга к ежегодному реальному объему производства растет, обостряются конфликты вокруг источников инвестиций и способов уничтожения отходов, социальная солидарность идет на убыль, процветает накопительство, усиливаются имущественное расслоение и поляризация общества;
7) формирование новой научной картины мира, определяемой через такие понятия, как нелинейность, неопределенность, бифуркация, стохастичность, дискретность пространства–времени. Нелинейность — это порог, за которым поведение системы резко меняется. Наличие «порогов» усугубляет последствия запаздывания обратной связи в формирующейся глобальной системе «население — экономика — среда», что делает глобальные процессы малоуправляемыми, неопределенными, стохастичными.
Бифуркация — это раздвоение течения тех или иных процессов, достигших определенной критической величины, после которой однозначная зависимость между прошлым и будущим состояниями системы теряется. Принцип дискретности пространства–времени означает, что в точках бифуркации образуются предпосылки для качественно новых состояний, дающих качественно иное будущее. Это предполагает, что механические экстраполяции имеющихся тенденций некорректны и не могут служить основанием для долгосрочного прогноза.
Так, например, новые формы коммуникаций чаще всего являются инструментами контроля и гомогенизации, однако их характер, децентрализация сетей СМИ делают их пригодными к использованию для достижения совершенно разных целей. Базирующаяся на системе Интернет «электронная демократия», допустим, может использоваться для привлечения самых широких слоев населения к процессу принятия решений;
8) принцип Ле Шателье, согласно которому внешнее воздействие, выводящее систему из положения равновесия, вызывает в ней такие процессы, которые стремятся ослабить результат воздействия и вернуть систему в состояние равновесия. В определенных условиях эти побочные явления могут иметь определяющее значение. Принцип Ле Шателье особенно полезен при анализе быстрых изменений в обществе, когда он дает возможность с единой точки зрения охватить определенную совокупность процессов;
9) принцип учета немарковских процессов (процессов с памятью), предусматривающий, что любое общество развивается на основе памяти о прошлом, непосредственно влияющей на выбор пути развития, что обуславливает неидентичность путей развития каждой цивилизации. Разрыв с памятью, традициями постепенно ведет к неустойчивости и деградации системы. Если марковские процессы локальны во времени и это дает возможность, зная состояние системы в какой–либо момент времени, в принципе определить вероятностную картину поведения системы в будущем, которая не меняется от добавочных сведений о предшествующих событиях, то немарковские процессы учитывают эти добавочные сведения и по своей природе нелокальны во времени. Нелокальность означает, что немарковская система живет одновременно в прошлом, настоящем и будущем. Немарковские процессы описывают изменения структур, в частности возникновение структурных ритмов, обусловленных характером изменения систем, определяемым зависимостью от прошлого;
10) отказ от инструментальной рациональности, ориентированной на жесткие преобразовательно–наступательные технологии, и развитие «мягких», детализированных и тонких технологий интерпретации в глобальном диалоге культур. Речь идет о том, чтобы научиться глубоко понимать и тонко интерпретировать сложный полифонический контекст политического диалога, участники которого придерживаются разных культурных традиций. Искусство политики в глобальном диалоге цивилизаций — это искусство прорыва в ценностное измерение «другой» культуры, где политику необходима особая понимающая методология — методология интерпретации, главным кредо которой является постулат первичности политической культуры по отношению ко всем детерминациям мира политики (институтам, системам и процессам).
Именно политическая культура как совокупность норм, традиций, убеждений, идеалов задает определенную ценностную программу развития политических процессов и институтов, определяет их основные векторы развития. Для человека политического понимать партнера другой культуры — значит переноситься в другое социокультурное измерение, а для этого необходимо преодолеть искушение аристотелевской логики, основанной на законе исключенного третьего: истина или ложь, добро или зло. В традициях незападных политических культур не принято ставить партнера перед подобным жестким однозначным выбором.
Президент Ирана аятолла М. Хаттами характеризует современное положение как «хаос культурно–цивилизационных образов и форм», единственным выходом из этого состояния он считает «диалог, обмен мнениями и опытом и взаимопонимание в различных областях культуры и цивилизации». Он представляет его в двух формах: в форме воздействия аргументов различных культур и цивилизаций друг на друга в процессе истории (оно в основном зависит от социально–географических условий и исторических событий), а также в форме диалога между такими представителями культур и цивилизаций, как ученые, деятели искусств и философы (диалог тем самым становится «деятельностью, основанной на познании и решении, которая не зависит от исторических и географических факторов»). Фундамент для диалога, по мнению иранского президента, а также видного философа и богослова, следует искать в политических и общественных сферах737.
Важность политического диалога цивилизаций определяется тем, что на протяжении последних трех столетий происходило не взаимодействие, а нарастающее «взламывание» их социокультурных систем регуляции механизмами финансового, торгового, хозяйственного воздействия, а ныне — и технотронными средствами, с целью «приватизации» накопленного достояния в пользу «новых господ».
Диалог не может быть простым. Еще сложнее подготовиться к тому, чтобы слушать другого и воспринимать его. А. Вендт считает, что «основным определяющим фактором общественной жизни является то, как один актор определяет свою сущность по отношению к “другому”». По его словам, подчас характеристика «другого» является единственной изменяемой актерами переменной738.
Возникает вопрос: как преодолеть искушение поспешно интерпретировать другой политический мир в рамках своей картины мира? Ф. Шлейермахер различает в качестве причин неправильного понимания «другого» пристрастность и поспешность. Он обращает внимание на предрассудки, основанные на пристрастности, и мгновенные ошибочные суждения, вызванные поспешностью. Чтобы избежать этого, политик с самого начала должен поставить перед собой вопрос: как выйти из сферы собственных предмнений? Тот, кто стремится понять другую политическую традицию, должен быть готов к открытости, стремиться осознать иное, то есть помнить о своей собственной предвзятости.
Согласно определению А. Ничифоро, «цивилизация — это совокупность способов бытия и способов деятельности группы людей, выражающихся в: 1) материальной жизни; 2) интеллектуальной жизни; 3) моральной жизни; 4) политической и социальной организации рассматриваемой группы»739.
Цивилизация в определенном смысле представляет собой качественную специфику крупномасштабного общества, с присущим ему своеобразием социальной и духовной жизни, его базовыми ценностями и регулирующими принципами жизнестроения, то есть самобытностью, формируемой опытом исторического развития и становящейся основой его самосознания и установления отличий от других обществ. Самобытность, выражая нечто общее, сущностное для данного общества при внутренних различиях, означает выражение единства личности и коллектива, стремления к устойчивости, интеграции и гармонизации.
Обладая этими чертами, цивилизация привносит плюрализм в мировой исторический процесс, отчасти совпадая с мировыми религиями как целостными системами социокультурной регуляции. Собственно, именно в самобытности как жизненном ядре культуры сегодня усматривается один из движущих принципов истории, благодаря которому осуществляется самостоятельное развитие обществ. В основе цивилизации как завершенной попытки наднациональной культуры лежат универсальные ценности, выраженные в мировых религиях, системах морали, права, искусства, которые сочетаются с комплексом практических и духовных знаний и разработанными символическими системами, способствующими преодолению локальной замкнутости.
Цивилизация является интегрированной социокультурной общностью, хотя степень интеграции составных частей цивилизации может быть различной, изменяясь с течением времени. Основой цивилизации является система верований, вырастающая из традиции и нацеленная на устроение общества. Именно в духовных принципах проявляется сущность цивилизации, а посредством распространения духовных достижений осуществляется ее распространение в пространстве и во времени. Глубинный механизм цивилизации заключается в признании и постоянном поддержании устоявшихся ценностей. Любые изменения должны быть приведены в соответствие с устоявшимися традициями; те же нововведения, которые эти традиции игнорируют, вероятнее всего будут отвергнуты.
Цивилизацию пронизывает общий стиль, оказывая воздействие на составляющие ее разнородные элементы. Включая множество культур и языков, цивилизация всегда сохраняет определенные рамки, в которых можно выявить ее собственное содержание, отличное от содержания других цивилизаций. Составные части цивилизации взаимодействуют друг с другом, при этом в случае наличия в ней нескольких государств они в большей степени связаны между собой, чем с государствами других цивилизаций.
Огромный адаптивно–ассимиляционный потенциал цивилизаций, их влияние на обширные, дифференцированные в этнокультурном отношении территории, собственная культурная пластичность в сочетании с устойчивостью к внешним воздействиям дают возможность рассматривать их как «становой хребет» и одновременно — как эффективный механизм пространственно–временного социокультурного взаимодействия. Поэтому для противодействия цивилизационному контрнаступлению Запада традиционным цивилизациям Востока нужна, по словам Ю. В. Яковца, «объединяющая цивилизационная идея», а также «более последовательное осознание и отстаивание социокультурной самобытности»740.
Политическая культура каждой цивилизации — это космос символических форм, для интерпретации которых требуется определенный стиль исследования. Здесь требуется совершенно другая аналитика — понимающая. Понять поступок партнера — значит увидеть его в горизонте возможного выбора — непредопределенным, адресующимся к свободе человека как к единственному источнику. После того, как мы оценили многовариантность поведения в данных обстоятельствах, нам предстоит оценить выбор партнера, понять внутренние мотивы его свободного предпочтения.
Целое следует понимать, исходя из частного, а частное — исходя из целого: отдельные явления и процессы политического мира можно интерпретировать лишь в общем контексте политической картины цивилизации. По словам X. Гадамера, «соответствие всех частей целому суть критерий правильности понимания»741. Здесь мы сталкиваемся с проблемой герменевтического круга, который в политике может быть представлен в виде дихотомии политические интересы — политические ценности: прагматичный политик, концентрирующийся на переговорах исключительно на интересах и забывающий о ценностях и традициях другой цивилизации, вскоре после подписания договора с изумлением узнает, что его партнеры интерпретируют подписанный договор совсем в другом смысле, о котором он и не подозревал. Если политический диалог остается на уровне интересов, он бесплоден: это грубый торг, который не сближает, а разъединяет.
Ценности всегда скрыты в процессе диалога, в то время как переговоры ориентируют на решение проблем, которые нуждаются в обсуждении. Ценности воспроизводятся через непрямую коммуникацию. Очевидно, что столкновение ценностей блокирует процесс коммуникации культур, так как против ценностей чужой культуры возразить нечего, их можно либо добровольно признать, либо проигнорировать. Конфликт ценностей двух культур в определенном смысле есть конфликт разных способов мышления, разных картин мира, разных логик. Поэтому вначале общение цивилизаций происходит через пропасть непонимания. О. Наддер предлагает модель разрешения конфликта ценностей с позиций разрабатываемого им эпистемологического подхода и метод диалога метафор, который способствует расширению рациональности в ее классическом смысле. Метафора — это прием сравнения, когда слово или выражение употребляются по аналогии, по сходству, по ассоциации. Ценностный конфликт двух цивилизаций может быть выражен посредством соперничающих метафор, но через диалог метафор они могут достичь взаимного обогащения, устранить многие заградительные барьеры, препятствующие коммуникации.
В контексте диалога культур данная проблема перерастает в актуальность самореализации каждой политической культуры в едином политическом пространстве современного мира. «Тот, чья идентичность поставлена под вопрос, должен осознать, что инаковость — это зеркало его уверенности в себе», — пишет Дж. Рюзен742. В политическом диалоге «другой» становится посредником в процессе самореализации. Обращаясь к «другому», мы видим себя через него, мы видим себя его глазами, сквозь призму другой политической практики и другого опыта.
Каждая из цивилизаций должна реабилитировать опыт других культур не только как равноправный, но и как расширяющий горизонт собственного бытия. Диалог культур является важным, если не единственным средством познания себя, своей собственной культурно–цивилизационной основы. Как говорит М. Хаттами, «нам нужно как бы отойти на несколько шагов от себя самих, заглянуть за горизонт, а потом с позиций отстранения от своей земли, своей родины, своей души глубже понять свою культуру»743.
Гуманистический диалогизм обогащает партнеров, поскольку он утверждает другого не для обозначения границ своих возможностей, а для их расширения. Такая презумпция позволяет каждой цивилизации преодолеть свой социокультурный эгоцентризм. Другая цивилизация становится интересной и ценной именно благодаря своим особенностям и отличиям, через них она обращается к нам и говорит с нами. Об этом герменевтическом парадоксе писал X. Гадамер: «Если мы хотим понять, мы пытаемся даже усилить его аргументы»744.
«Одним из сложнейших горных перевалов на пути диалога между культурами и цивилизациями» М. Хаттами назвал попытку диалога между двумя сторонами, одна из которых использует полностью секуляризованный язык, отрицающий все метафизическое, любой умозрительный религиозный опыт и веру в неизведанное, а другая применяет язык, «верный священным и духовным основам жизни человека». В этом смысле понятна фраза Усаммы бен Ладена о том, что разворачивающийся конфликт — это не конфликт Востока и Запада, ислама и христианства, а конфликт верующих и неверных. Такой конфликт приобретает глобальный и одновременно эсхатологический смысл, принципиально затрудняющий саму возможность диалога между двумя сторонами. Однако М. Хаттами все же не считает такой диалог невозможным, так как «человек больше и шире своего языка»745.
По мнению профессора Тегеранского университета Д. Шайегана, в прошлом имел место плодотворный диалог между цивилизациями, в результате которого происходило создание великих культур Запада и Востока. Однако вызов Нового времени принципиально отличается от взаимодействия культур в прошлом, так как речь идет о тотальном противостоянии исходных принципов организации социального и индивидуального бытия. Утверждение западной цивилизации в качестве универсальной лишает остальные культуры какой–либо этической или эстетической ценности, сводя их к «местному колориту». В такой ситуации синтез культур невозможен, так как привносимые ценности диаметрально противоположны местным, они нацелены не на гармонизацию отношений в обществе или отношений человека с природой, а на голый практицизм, ведут к безжалостной эксплуатации и подрыву условий человеческого существования. Этот процесс означает разрыв с накопленным наследием, отказ от самих себя и как следствие — культурно–историческую амнезию746.
Характер глобальных процессов современности в контексте диалога цивилизаций диктует необходимость концептуального переосмысления и переформулирования парадигм исследования безопасности, однако здесь по–прежнему доминируют «силовые» подходы, недооценивается негативная роль транснациональных и субнациональных факторов как источников конфликтности.
Очевидно, что условия для диалога как эффективного пути поиска ответа могут быть созданы лишь при условии осмысления всей масштабности вызова. Поэтому именно с позиций политико–цивилизационного подхода становится очевидной противоположность процессов глобализации и мондиализации, раскрывается сущность процесса мондиализации как антицивилизационного, инволюционного процесса, превращающегося в основную политическую проблему современного мирового развития.
Планетарное сознание
Планетарное сознание определяет нормы и принципы миродеятельности человечества, оно есть осознание общественного бытия как бытия общепланетарного. Планетарное сознание обязано своим возникновением установлению тесных контактов между отдельными расами и этническими группами человечества. Кроме того, важным фактором становления и развития планетарного сознания стала эволюция географической картины мира в сознании человека, в особенности коперниканская и колумбова революции.
«Сознание — это целостность в действии. Это наиболее фундаментальное выражение соотнесенности. Сознание существующих целых — это соотнесенность, направленная на любую сравнительно устойчивую и организованную систему взаимозависимых целостностей. Оно возрастает в сложности, интенсивности и качестве в процессе эволюции таких деятельных целых»747.
Д. Радьяр определяет его как «ауру целостности». Поскольку целостность подразумевает соотнесенность во всех формах и на всех уровнях экзистенциальной деятельности, она также, по ею мнению, подразумевает сознание748.
Планетарное сознание является исходной предпосылкой возможности как глобалистики, так и мироведения, поскольку оно определяет присущие этим наукам специфические научные парадигмы. Планетарное сознание следует рассматривать как форму общественного сознания наряду с моральным, политическим, правовым, эстетическим, религиозным, философским. Оно является диалектической противоположностью выделенной И. М. Варзарем формы общественного сознания — этнической (этники), которую он понимает как «феномен отражения в интеллекте, политической культуре и политико–правовом поведении людей собственно этнополитических реалий»749.
Г. Моргентау, формулируя знаменитые шесть принципов политического реализма, отмечал: «Политический реализм основывается на плюралистическом понимании природы человека. Реальный человек состоит из «экономического человека», «политического человека», «этического человека», «религиозного человека» и т. д.»750. Следуя за И. М. Варзарем, в этот ряд следует включить «человека этнического» и его дополняющего «дуала» — «планетарного человека».
Предпосылками формирования этнического и планетарного сознания являются: наличие устойчивых общностей, характеризующихся биологическим самовоспроизводством (этнические группы и род Homo sapiens), общность базовых культурных ценностей (этнических и общечеловеческих), формирование единых полей коммуникаций и взаимодействий. Их конституирующие отличия связаны с тем, что если этнические группы характеризуются членством, обеспечивающим идентификацию для членов группы и признание их другими группами, то человечество (мировое сообщество) как общность формируется в результате устойчивых аутгрупповых связей и отношений. Если этническая идентичность предполагает осознание собственного отличия индивидом по некоторым существенным параметрам от членов других этнических групп, то глобальная идентичность предполагает осознание общности с другими людьми независимо от их групповой принадлежности.
Истоки планетарного сознания восходят к фантастическим мифологическим и религиозным образам единого братства землян, которые возникают одновременно с формированием этносов. «Осознание себя национальной общностью сопровождалось у многих народов возникновением элементов планетарного сознания». Отметившие это М. И. Колесникова и В. Ф. Борзунов констатируют, что этому способствовали интенсивные контакты между народами, обмен культурными достижениями друг друга, которые обуславливали наличие у разных народов общих черт и давали возможность смотреть на землян как на единое человечество в многообразии этносов751.
Развитие религиозного сознания способствовало осознанию духовной целостности мира. У всех примитивных народов существовали легенды о сотворении мира и рождении этого народа как едином акте творения. С возникновением мировых религий эти представления приобрели социально устойчивые формы. Предельно мироцелостной религией является христианство, утверждающее связь человека с Богом и миром.
Вообще всякое представление о глобальности непременно включает и глобальное, или планетарное сознание. Р. Робертсон рассматривает его как дискурс относительно целостности мира и его частей. Структура глобального дискурса выглядит как взаимосвязь различных дискурсов и идентичностей, как процесс оценки и переоценки отдельных идентичностей в глобальном сознании. Отдельная идентичность рассматривается здесь лишь в особом, глобальном измерении, в качестве составной части глобального сознания.
«Сознание идентичности» является основой планетарного сознания, на формирование которой большое влияние оказывает психологическое состояние различных социальных слоев и групп, причем особенно в этом плане велика роль обыденного сознания, которое как бы формирует чувственную составляющую «сознания идентичности», тогда как теоретическое сознание формирует собственно сознание идентичности.
Согласно определению Э. Эриксона, о чувстве идентичности свидетельствуют следующие признаки:
• ощущение внутренней тождественности и интегрированности во времени: действия в прошлом и надежды на будущее переживаются как связанные с самостью сегодняшней;
• ощущение внутренней тождественности и интегрированности в пространстве: человек воспринимает себя всюду и везде как целостность, а все свои действия и решения рассматривает не как случайные или кем–либо навязанные, а как внутренне обусловленные;
• идентичность переживается среди значимых других: взаимоотношения и роли помогают поддержанию и развитию чувства интегрированной, продолжающейся во времени идентичности752.
Этническая и глобальная идентичность характеризуются общими структурными параметрами:
• само–категоризацией как члена определенной группы;
• чувством принадлежности к определенной группе и тесной связи с ней;
• отношением (позитивным или негативным) к данной группе;
• чувством разделения антиподов, ценностей, стандартов поведения.
«Этническая идентичность, — согласно определению П. И. Гнатенко и В. Н. Павленко, — это результат процесса эмоционально–когнитивного самоотождествления субъекта со своей этнической группой, выражающийся в чувстве общности с членами этой группы и восприятии как ценности ее основных характеристик»753.
Существенная часть людей всегда глубоко ощущает свою связь с человечеством, свою причастность к происходящему в мире и «потому, что все мы люди», и «потому, что живем на одной планете», и «потому, что волнуют войны в разных частях мира», и «потому, что существуют незыблемые общечеловеческие ценности», и т. п. Корни «планетарного человека» можно обнаружить в сущностной субстанции, названной Д. Радьяром «общечеловеческой человечностью». По его словам, «с 1870 года делалось много попыток обнаружить всемирно–значимое в мифах и народных сказках всех континентов, подчеркнуть сходное и подобное в различных Священных Писаниях и в большинстве религий»754. Правда, есть и огромное количество людей, у которых общепланетарная сопричастность на уровне ощущений и переживаний отсутствует.
Становление глобальной идентичности происходит в процессе формирования планетарного пояса локальных цивилизаций на базе прежде разрозненных локальных очагов. По мере развития цивилизаций Древнего мира разрыв между отдельными, прежде изолированными цивилизациями сокращался, усиливался обмен между ними, все более отчетливо стал проступать единый ритм истории человечества как целого. Важнейшую роль в этом процессе играли создаваемые насильственным путем мировые империи. В целом в истории человечества подъем глобальной идентичности всегда связан с возникновением, возвышением мировых империй, тогда как их упадок и гибель сопровождаются кризисом глобальной идентичности и всплеском партикуляризма. Это связано с тем, что жизнь в сверхдержаве, обладавшей вселенской мощью и ролью, создавала у ее подданных ощущение себя человеком мира.
Сознание идентичности как уровень планетарного сознания является базовым для формирования другого уровня — деятельностного сознания Оно находит проявление, в частности, в таком феномене, как мессианизм. В последнем проявляется диалектическое единство планетарного и этнического (национального) сознания. Дело в том, что сердцевиной национального сознания является национальная идея, понимаемая как относительно отстраненный аспект более широкого самоощущения исторического предназначения народа.
Воплощаясь в мессианизме, национальная идея выходит за рамки этнического (национального) сознания и приобретает функцию компонента сознания планетарного. Мессианизм оказывается средством преодоления этнической ограниченности и национальной замкнутости, но одновременно он есть способ развертывания национальной идеи в идею глобальную. Мессианизм является практически–преобразующим мир сознанием, и в этом смысле он не есть сознание идентичности, но деятельностное сознание.
Планетарное сознание принципиально отличается от глобалистских разновидностей религиозного, политического, этического и прочих форм общественного сознания. Если последние приходят к идеям глобальной религиозной, политической или моральной общности людей как к выводу, то для планетарного сознания тезис «мир есть единая целостность, а человечество — единый субъект мировой истории» является исходной посылкой дальнейших рассуждений в сфере политики, религии или нравственности. Классическим примером планетарного сознания может служить сформулированный В. С. Соловьевым подход к пониманию смысла национальных форм бытия как производных от смысла бытия общечеловеческого.
Отметим, что специфическим субъектом планетарного сознания является человечество, которое стало осознавать себя единым субъектом мировой истории лишь в XX веке. «Каждое существующее целое, достаточно интегрированное, чтобы обладать индивидуальным ритмом существования, структурирующим постоянное взаимодействие «функциональных» деятельностей, сознательно», — писал Д. Радьяр755. Человечество как целостность обладает специфической формой сознания — планетарным сознанием. В то же время планетарное сознание присуще и отдельному индивиду, который обладал им и до формирования человечества как единого субъекта истории.
Специфическим объектом отражения планетарного сознания является планетарное бытие человеческого общества, поэтому наивысшее развитие этой формы общественного сознания происходит лишь в процессе становления глобального общества со второй половины XX века.
Исторически сложились четыре парадигмы планетарного сознания — цивилизационно–плюралистическая, мессианская, космополитическая и транскультурная. Парадигма рассматривается здесь в интерпретации А. В. Решетниченко, как такая система представлений о мире и своем месте в нем, которая одновременно выполняет роли:
• образца, идеала, эталона, веры, истины и других высших социальных и духовных ценностей;
• механизма формирования нормативных, этических, когнитивных и мотивационных мировоззренческих ориентаций»756.
Каждая из них находит свои проявления в трех измерениях, или срезах: геософском, хронософском и антропософском. Их выделение основано на том, что пространство, время и человеческая самость являются базовыми факторами существования социальной реальности.
Пространство, согласно с принципом соотнесенности, связано с тем фактом, что ни один существующий субъект не существует в одиночестве, а постоянно находится в контакте с другими субъектами, и эти отношения «создают» движение и пространственную протяженность. Время как всемирный принцип также является фактором существования в том смысле, что процесс существования проходит множество фаз, собранных в группы, и эти группы определяют время — структуру процесса развития целого от начала до конца. Время определяет не сами экзистенциальные события, а структуру процесса, содержанием которого являются эти события.
Исходной точкой анализа антропософского измерения планетарного общественного сознания является принцип самости как интегрирующей силы социальной реальности. Очевидно, что как время и пространство необходимы для любой формы социальной активности, для любой формы существования необходимы человеческая самость и соотнесенность с миром. Самость Д. Радьяр рассматривает как «постоянный фактор, составляющий основной ритм и структурирующую силу в корне существующих целых», а соотнесенность входит в фактор непрекращающихся изменений, которые также являются одним из первичных фактов человеческого опыта757.
Возникновение планетарного сознания происходит в процессе культурной эволюции человека и человечества, будучи результатом определенной культурной селекции, мерой которой является «вероятность принятия культурных последствий»758. Планетарное сознание формируется лишь в условиях становления целостного глобального мира, хотя, разумеется, его архаичные формы существовали со времен зарождения общественного сознания как такового. В частности, можно говорить о планетарном сознании киников — космополитизме.
Цивилизационно–плюралистическая парадигма планетарного сознания
Учитывая характер предпосылок, условий зарождения планетарного сознания, необходимо признать, что исторически первой его парадигмой была цивилизационно–плюралистическая. Возникновение космополитической парадигмы связано с кризисными явлениями античного полисного мира, автаркичный характер которого вошел в противоречие с космоцентристским универсализмом эллинской культуры.
Ее сторонников объединяют следующие положения:
• единство человечества возможно лишь при условии плюрализма культурно–цивилизационных форм его существования и развития («единство в многообразии»);
• политическая самостоятельность является необходимой гарантией культурной самобытности цивилизации, поэтому система государств является органической формой культурной самоорганизации человечества;
• мировая культура представляет собой «единство множества» культур отдельных локальных цивилизаций.
Цивилизационно–плюралистическая парадигма сложилась в эпоху древнейших цивилизаций, которые в существенной степени были ориентированы на отношения диалога между собой, равно как и на территориальную и культурную экспансию. Она неотделима от первичных форм этнического сознания, в основе которых лежат первичные, родоплеменные формы этнической общности.
Планетарное интеграционное поле дифференцировалось в расово–этнические общности, каждая из которых представляет собой генетически действующий тип структуры, в соответствии с которым интеграционные импульсы действуют и взаимодействуют во множестве организмов. В таком состоянии человечество также может рассматриваться как структурная форма, с которой связываются основные типы дифференцированных энергий. Благодаря этому единство человечества оказывается планетарным фактом, определяющим содержание и форму планетарного сознания.
Теософская направленность планетарного сознания особенно присуща его цивилизационно–плюралистической парадигме. Дело в том, что формирование каждой цивилизации определяется тремя сакральными символами — верой, почвой и кровью. Вера может оскудеть, кровь — пролиться, но почва — именно она связывает веру и кровь через столетия, передавая от поколения к поколению незримые токи культуры. Именно с переходом от бесформенной водной стихии к суше связывается превращение Хаоса в Космос:
«Прежде всего во Вселенной Хаос зародился, а следом
Широкогрудая Гея, всеобщий приют безопасный,
Сумрачный Тартар, в земных залегающий недрах глубоких,
И, между вечными всеми богами прекраснейший, — Эрос»759.
Пространство–время воспринимается здесь в виде сферы. Сфера есть прежде всего первичная и самая универсальная форма, некоторым образом содержащая все остальные формы, которые исходят из нее посредством дифференциации по частным направлениям. Сферическая форма «Глаза Мира» или «Мирового Яйца» существует во всех традициях — это то, что представляет собою «глобальный» ансамбль в его первичном и «эмбриональном» состоянии всех тех возможностей, которые будут развертываться в ходе цикла проявления. Микроскопическим аналогом того, чем «Глаз Мира» является в макроскопическом порядке, является индивидуальный эмбрион.
Восприятие пространства в системе цивилизационного плюрализма топоцентрично, оно отталкивается от родовой территории, которая наделяется сакральным статусом и воспринимается как центр мира. Оно может рассматриваться как моноцентричнеє, хотя в рамках цивилизационного плюрализма пространство не представлялось чем–то однородным, безразличным в отношении того, что его наполняет. Пространство существует только как его отдельные куски, оно прерывно. За различные качества областей пространства, по верованиям древних народов, были ответственны сверхъестественные силы.
За относительно упорядоченным благодаря соблюдению определенных правил и запретов пространством племенной территории располагалось внешнее пространство, наделенное отрицательными качествами, где человек оказывался во власти «текучей множественности». Последняя также постепенно приобретает упорядоченный вид и выступает как различные зловредные области и уровни мира. По мере расширения и увеличения числа оазисов упорядоченного бытия происходит вытеснение Хаоса как источника зла на далекую периферию.
Для данной парадигмы планетарного сознания характерна выраженная топофилия, определяющая и соответствующее поведение человека в мире цивилизационного плюрализма. Родовое пространство оказывается для человека сакрально уникальным, на этой территории захоронены предки и запечатлены соответствующие мифы. «Привязанность» к своей территории постепенно переходит в экспансионизм, но даже на завоеванных территориях завоеватели первоначально поклонялись в каждой стране местным богам. В условиях господства представлений о неразрывной сопричастности бога и соответствующего пространства прибегали к изъятию восставшего народа из сакрального пространства.
Абстрагирование богов от духов предков вело к представлению о мире как множестве локальных и конечных пространств, находящихся в ведении соответствующих богов. С пересмотром идеи сопричастности бога и пространства прибегают к десакрализации самого пространства, переселяя самого бога в наказание за восстания против завоевателей. Десакрализированное пространство заново сакрализируется, но уже с помощью бога завоевателей. В результате формировался политеизм: каждый народ продолжал поклоняться своим старым богам, но их объединяло поклонение богу их новой земли. В столице империй устанавливался, как правило, пантеон богов, отражавший сакральную неоднородность имперского пространства. Укрепление его однородности непременно требовало перехода от политеизма к монотеизму путем выделения главного божества.
Как писал А. Ф. Лосев, «античная аполлоновская душа всегда жила малым, обозримым»760. У греков отсутствовало наше чувство ландшафта, горизонтов, дали, а также понятие отечества, распространяющееся на большое пространство. Все, что лежало за пределами полиса, было далеким и враждебным. Почвеннический характер представлений о мировом пространстве с присущим ему топоцентризмом проявлялся также и в том, что мир представлялся как продолжение родового пространства. Как отмечал Дж. Вико, «части Мира были названы именами частей маленького мира Греции по сходству местоположения с точки зрения Греков»761. Так возникли понятия «Азия», «Европа» или «Гесперия», «Фракия» или «Скифия» и «Ливия» или «Мавритания».
В соответствии с представлениями о пространстве развивались и представления о времени. Главная река мифологического мира греков — Океан — является круговой и замкнутой, она опоясывает Землю. Подобно ему, колесо времени двигалось из канонизированного прошлого, захватывало завоевания настоящего и через будущее уносило их в прошлое. В циклической модели время не всегда текло по одному замкнутому кругу, на определенном этапе развития темпоральных представлений возникают концентрические круги времени, содержащие идею развития (смены циклов), которая получает четкое выражение при «наведении мостов» между различными концентрическими кругами времени, но это уже спиральная модель762.
Циклическому восприятию времени соответствует знаменитый тезис Гераклита: «этот космос, один и тот же для всего существующего, не создан никем из богов и никем из людей, но всегда он был, есть и будет вечно живым огнем, разгорающимся согласно мере и угасающим согласно мере». Всеобщая изменчивость сочетается у Гераклита с идеей круговращения. Возникновение циклических представлений стало следствием открытия того, что в звездных перемещениях существует согласованность, что гармоническая «музыка сфер», которую выполняет этот небесный хор, образует замкнутый круг, а ее аккорды замыкаются в грандиозный цикл.
Метафора колеса представляет иллюстрацию повторяемости, которая все же совместима с поступательным движением, поскольку вращение колеса является способом передвижения воза, частью которого является колесо, и именно воз является для колеса «смыслом существования». Воз может двигаться лишь при условии непрерывного вращения колеса вокруг своей оси, но это не означает, что сам воз должен катиться по замкнутому кругу. Масштабное, необратимое движение и более мелкое, повторяемое движение образуют гармонию, которая называется ритмом. Тем самым повторяемая «музыка сфер» оказывается лишь вспомогательным аккомпанементом в необозримом космическом универсуме. Такие представления ведут к тому, что цикл жизни отдельной цивилизации оказывается частью универсального ритма мировой и космической жизни.
Личность, живущая в мире цивилизационного плюрализма, не переживает историю, судьбу и время с полной сознательностью. Поэтому она не может думать о мировой истории, и поэтому она так и не создала ее. В такой ситуации отсутствует трагическая напряженность исторических кризисов. Те же греки и индусы были лишены чувства дали, для них существовал только передний план бытия, следовательно свое существование они могли понимать только как ряд случайностей.
Однако цивилизационно–плюралистическая парадигма присуща не только планетарному сознанию древних обществ. В Новое время она представлена во внешнеполитической мысли, в частности Иоганном–Готтлибом Фихте, который в работе «Замкнутое торговое государство» (1800), имевшей подзаголовок «Философский проект, служащий дополнением к науке о праве и попыткой построения будущей политики», изложил свое видение мирового устройства.
Фихте считал, что отдельные государства христианской Европы являются случайно возникшими отдельными частями первоначальной целостности. Если вся Европа с ее колониями и торговыми факториями в других частях мира все еще одно целое, то и торговля всех частей между собою может быть свободной. Если же она разделена на множество отдельных государств, то она должна быть разделена на множество безусловно замкнутых торговых государств. Правовое государство он рассматривает как замкнутую совокупность людей, подчиненных одним и тем же законам и одной и той же высшей принудительной власти, и его природа предопределяет, по мнению Фихте, что государство может прежде всего замкнуться от иностранной торговли и образовать такой же отдельный торговый организм, какой оно уже образовало в юридическом и политическом отношении.
Относительно тогдашнего состояния европейских отношений Фихте отмечает, что «государства, которые должны бы, собственно, представлять одно целое и совсем или частично лежат в пределах одних и тех же естественных границ, находятся между собою в состоянии естественной войны. Государства, но не народы»763 Главной причиной этих войн являются искусственные государственные границы. Расширение или сужение территории государства к его естественным границам есть поэтому главное условие создания замкнутого торгового государства, которое в свою очередь приведет к уничтожению войн, поскольку они всегда связаны с конкурирующими торговыми интересами. По мнению Фихте, замыкание территории и торговых отношений взаимно предусматривают и требуют друг друга. Государство, которое придерживается обычной торговой системы, сохраняет постоянную заинтересованность в увеличении территории даже за пределами естественных границ, чтобы расширить свою торговлю и увеличить богатство, которое снова используется для новых завоеваний.
В России одним из первых представителей цивилизационно–плюралистической парадигмы в науке был Н. Я. Данилевский. Он выдвинул натуралистическое обоснование исторического предназначения России. Данилевский установил культурно–исторические типы, подобно биологическим типам в животном царстве, и наиболее перспективным из них он считал славянский. Враждебность Европы по отношению к России для Данилевского является очевидной, она коренится в самых основных их интересах. Он допускал возможность того, что в будущем враждебность Европы к независимому самобытному славянству прекратится, но это состоится не раньше, чем она убедится в непреодолимости новой миродержавной силы на Востоке — Всеславянского Союза, создание которого он считал необходимой гарантией сохранения всемирного равновесия.
Раньше большинства других своих современников Данилевский понял, что ради сохранения в человечестве «культурородной силы» необходимо противостоять власти одного культурно–исторического типа, необходимо «сменить направление» культурного развития. «Всемирная ли монархия, всемирная ли республика, всемирное ли господство одной системы государств, одного культурно–исторического типа — одинаково враждебны и опасны для прогрессивного хода истории», — отмечал Н. Я. Данилевский в работе «Россия и Европа»764.
Нынешние сторонники цивилизационного плюрализма полагают, что наш мир еще достаточно молод и не исчерпал творческую энергию для создания новых цивилизационных общностей, более того, он реально вступает в эпоху дивергенции. Идеи цивилизационного плюрализма активно развивают европейские консерваторы, представляющие, в частности, течение «новых правых»765. А. С. Панарин, отмечая политическую жесткость и агрессивный характер неоконсервативного сознания, вместе с тем подчеркивал: «Но то, что неоконсерваторы осознали остроту современного кризиса, небывалый по масштабам вызов человеческой цивилизации, придает их мышлению проблемный, недремлющий, а следовательно, поисковый характер»766. Эта оценка вполне относится к большинству приверженцев цивилизационно–плюралистической парадигмы в современном мире, для которых в целом характерны большая готовность и способность к межцивилизационному диалогу, нежели для представителей других парадигм планетарного сознания.
Многообразие культур «новые правые» понимают как многообразие специфических способов существования человека в мире, складывающихся исторически, путем приспособления народов к особенностям среды обитания. Народ, почему–либо усомнившийся в состоятельности своего специфического способа существования, невольно создает предпосылки для инфильтрации в свою среду чужих культур и тем самым сужает ареал своей культуры в пользу других народов. Раньше народы, цивилизации жили замкнуто, а с приходом их в движение ослабление культуры одного типа немедленно влечет за собой активизацию других типов культур. Поэтому на современном этапе соприкосновение культур, цивилизаций ставит со всей остротой вопрос о возможностях их самозащиты.
Современный мир представлен несколькими основными, равными перед лицом истории, региональными цивилизационными организмами, каждый из которых имеет соответствующее ядро духовной культуры. В рамках данной парадигмы С. Хантингтон, а до него — К. А. Чхеидзе (в доктрине цивилизационно мотивированных «государств–материков») и К. Хаусхофер (в рамках «геополитики панидей») — предложили концепцию столкновения цивилизаций.
В статье «Столкновение цивилизаций», которая появилась как резюме большого геополитического проекта «Изменения в глобальной безопасности и американские национальные интересы», и следующих публикациях С. Хантингтон, директор Института стратегических исследований им. Джона Олина при Гарвардском университете, сформулировал соответствующую концепцию, которая развивает философско–исторические построения А. Дж. Тойнби и переносит их в сугубо геополитический контекст.
По его мнению, в XX ст. отношения между цивилизациями продвинулись от фазы, когда преобладало однонаправленное влияние одной — западной — цивилизации на все остальные, к фазе устойчивого взаимодействия всех цивилизаций. Международная система расширилась за пределы Запада и превратилась в мультицивилизационную. Одновременно угасли конфликты между западными государствами, которые столетиями оказывали преобладающее воздействие на ее развитие. В конце XX ст. Запад начал движение от фазы «воюющих государств» к другой фазе — «универсального государства». Если универсальными государствами предшествующих цивилизаций были империи, то, поскольку политической формой западной цивилизации является демократия, ее универсальное государство скорее всего будет соединением международных организаций, федерацией или конфедерацией. Будущее человечества будет в этих условиях определяться взаимодействиями 7–8 основных цивилизаций: западной, конфуцианской, японской, исламской, индуистской, славяно–православной, латиноамериканской и, возможно, африканской.
Характер межцивилизационных отношений, которые формируются сегодня, будет определяться, по мнению Хантингтона, колебанием от сдержанности к применению силы, но в большинстве случаев равновесие установится где–то в середине. Он отмечает, что большинство государств любой цивилизации при формировании своих отношений с государствами других цивилизаций, как правило, следуют примеру сердцевинных государств, но не всегда. Общие интересы (обычно — наличие общего противника в третьей цивилизации) могут порождать сотрудничество и между государствами разных цивилизаций.
Сегодня межцивилизационные конфликты принимают две формы: на локальном уровне — конфликты на линиях разломов (между соседними государствами, которые принадлежат к разным цивилизациям, между разноцивилизационными группами внутри государства или между группами, которые стараются создать новые государства на обломках старых), а на глобальном уровне — конфликты между сердцевинными государствами разных цивилизаций.
Первым необходимым условием для поддержания мира в многоцивилизационном мире является удержание сердцевинных государств от вмешательства в конфликты внутри других цивилизаций. Вторым условием является необходимость ведения переговоров между сердцевинными государствами о сдерживании и прекращении войн на линиях разломов между государствами или группами, которые принадлежат к их цивилизациям. Хантингтон подчеркивает, что Россия как сердцевинное государство православной цивилизации несет особую ответственность за поддержание порядка и стабильности среди православных государств и народов.
В контексте цивилизационных столкновений С. Хантингтон подчеркивает ошибочность, аморальность и опасность западной веры в универсальность западной культуры. Он сделал акцент на непосредственной связи между универсализмом и империализмом и экспансией. С. Хантингтон предостерегает, что западный универсализм может привести к межцивилизационной войне между сердцевинными государствами, в которой Запад может потерпеть поражение. Он предлагает США тщательно избегать крайностей, при этом сделав главный акцент на атлантистскую политику углубления сотрудничества с Европой для защиты интересов и ценностей уникальной западной цивилизации.
Концепция С. Хантингтона вызвала широкие научные дискуссии по вопросу о роли цивилизационного фактора в мировом развитии и международных отношениях767. Вместе с тем характер дискуссии, критические замечания в адрес этой концепции показали, что отношения между цивилизациями не могут быть сведены к столкновениям, конфликтам, а являются также и отношениями сотрудничества, диалога.
Русский ученый О. Кузнецов создал новую модель традиционных цивилизаций, которая стала ответом на концепцию С. Хантингтона. В противоположность религии как определяющему критерию классификации цивилизаций, что есть характерным для концепции Хантингтона, О. Кузнецов выдвигает критерий письменности. По его мнению, в условиях ликвидации неграмотности системы письменности становятся более репрезентативными дескрипторами цивилизаций, чем религиозные системы, возможности которых значительно ослабли в процессе секуляризации общества768. Больше того, в отличие от религий, у существующих письменностей не прерывались их культурные функции. И вдобавок они имеют более глубокую историю, а потому — более глубокое влияние на формирование базовых черт и развитие цивилизаций. Сопоставление концепций С. Хантингтона и О. Кузнецова свидетельствует о том, что в основном они накладываются друг на друга, но подход О. Кузнецова дает возможность углубить представления о «созвездии» немногочисленных цивилизаций, в которых следует искать корень человеческой цивилизации вообще.
Цивилизационно–плюралистическая парадигма оказала существенное влияние и на становление такой новой науки, как геоэкономика. Так, Э. Г. Кочетов показывает, что из восприятия мировой системы как гетерогенной глобальной целостности вытекает проблема трансграничности: как бы мы ни интерпретировали различные сферы, они выступают в своей определенной конечности, иными словами, любая составляющая из сложнейшей мировой мозаики имеет свои границы. Предложенная им экономическая классификация границ закладывает лимологический подход к изучению геоэкономики и геофинансов, представляя возможность через классификационные критерии и признаки охватить глобальный мир в его единстве и разнообразии. Как видно, будучи исторически первичной парадигмой планетарного сознания, цивилизационный плюрализм и сегодня сохраняет достаточно прочные позиции в общественном, в том числе научном, сознании.
Мессианская парадигма планетарного сознания
Мессианская парадигма сложилась вследствие развития цивилизационно–плюралистической. В ее основе лежит новое осмысление идеи судьбы. По словам О. Шпенглера, «в идее судьбы открывается мировая тоска души, ее взыскание света, взлета, завершения и осуществления своего назначения»769. Собственно, идея судьбы получает особое развитие как раз тогда и там, где и когда возникают имперские системы, а они являются продуктами развития локальных цивилизаций. Судьба определяется тем, что еще не установилось, тем, чего не хватает для ее осуществления. Постепенно утверждается и развивается идея Провидения, Промысла Божьего. Наиболее яркую и последовательную трактовку провиденциализма дало христианство, выдвинувшее Царство Божие как цель, образец и одновременно меру всей земной жизни.
Универсальную основу целедостижения «планетарного человека» в рамках мессианской парадигмы Аврелий Августин концептуализирует с помощью образа Небесного Града, находящегося в земном странствовании. Здесь путь — паломничество — и его цель, храм и дорога к нему слиты и неразрывны, как слиты и неразрывны время и вечность. Христианство, как показал М. В. Ильин, создает предпосылки для выработки концепции исторической миссии, отталкиваясь от ветхозаветной фигуры Мессии и латинского слова «миссия», взаимоподкреплению смыслов которых способствовало их чисто внешнее созвучие770.
Сторонников мессианизма объединяют следующие положения:
• единство человечества в земном мире невозможно, поскольку оно представляет собой поле эсхатологической борьбы Града Земного и Града Небесного в мировой истории;
• сакрально–политическое и сакрально–культурное единство мира достигается в единственной, богоизбранной империи, обладающей в силу этого императивным внутренним величием, возвышающим ее над остальным миром;
• мир есть пространство для провиденциальной миссии богоизбранного народа;
• глобальная культура есть культура богоизбранного народа, она имеет универсальный характер и связана с его сотериологической функцией.
Существование империи как высшей формы традиционной государственности есть необходимым условием развертывания мессианизма. Как надгосударственное образование, которое объединяет несколько народов и стран под эгидой универсальной идеи религиозно–этического характера, империя есть высшей, главной и наиболее эффективной формой интеграции, доступной традиционной государственности. Империя — это государство, которое видит себя организатором и интегратором ойкумены, которая декларирует свою особую цивилизационную миссию, объединяющую мир на основе имперской идеи. Она предполагает сочетание этнокультурной разнородности в структуре империи и универсализма в ее политической практике, а также сакральный характер власти, обычно осуществляемой без посредничества промежуточных между правителем и народом органов и учреждений. Имперская структура основана на включении подчиненных народов и территорий в государственную структуру, единую с народом, вокруг которого и под эгидой которого эта структура образуется.
Условиями формирования империи можно считать: наличие в системе политической легитимации государства некоторого указания на его абсолютное, универсальное значение; присутствие в политической практике государства устойчивой тенденции к территориальному расширению; социокультурную мозаичность территории государства, отсутствие или ограниченность ассимиляции народов территорий, включаемых в состав империи, сохранение ими своих этнокультурных особенностей.
Имперская логика превращает экспансию в нечто самоценное и суперценное, способное компенсировать любые возможные материальные потери культурно–символическими и политическими достижениями. Возникновение препятствий к расширению территории (естественных или антропогенных препятствий к интервенционистской активности) ведет не к свертыванию, а наоборот, к ее дальнейшему наращиванию, поскольку любое препятствие дискредитирует вселенские амбиции государства. Но иногда символическим выходом для империи может оказаться изоляция ее сакрального, мистически значащего пространства от «профанной» территории, занимаемой «варварами». В этом случае стены и валы не просто определяют границы пространства, которое обороняется от вторжения извне, но и отделяют содержательное пространство от предаваемого забвению (Китайская стена, вал Адриана).
Таким образом, в ситуации объективной невозможности для империи осуществлять непосредственную территориальную экспансию этот процесс в определенном смысле начинает замещать экспансия в пространстве политической символики. Эксплуатация имперского порядка после прекращения расширения империи оказывается своеобразным компенсаторным механизмом, обеспечивая продолжительное существование имперской системы.
Империя существует в условиях противоречивого взаимодополнения тенденции к фиксации себя как определенного геополитического образования, вызванной естественным стремлением к стабильности, и тенденции к универсализации и глобализации. Напряженность, которая порождается этими ориентациями, определяет основные имперские характеристики: милитаризм, неопределенность территории, двусмысленность границ, нездоровый прозелитизм, слабую институционализацию.
Восприятие мирового пространства сквозь призму мессианской парадигмы характеризуется осознанием пропасти между сакральным пространством и остальным миром погибели. На Руси единое православное царство, отмеченное симфонией властей, т. е. гармонией между церковным владычеством и императорской властью, рассматривалось как «катехон», «удерживающий», о котором говорит Апостол Павел. Отпадение Запада, католичества от Византии понималось как следствие нарушения симфонии, как неправомочная узурпация Римом светских функций. Иными словами, как отмечает А. Г. Дугин, «католичество воспринималось как “ересь”, искажающая сотериологические пропорции в структуре последнего царства, как удар, нанесенный по “катехону”»771. Отсюда биполярное восприятие мирового пространства как арены противостояния Града Божия и Града Земного — Империи подлинной и мнимой, православной и еретической. Следствием такого мировосприятия является до сих пор не покидающее Россию чувство одиночества в мире.
Эсхатологическое мироощущение, характерное для мессианского сознания с его четким чувством глобальной грани Конца Мира, привносит в сам мир более конкретную грань между «своими» и «чужими», и противоречия между ними склонны приобретать тотальный, экзистенциальный характер. С другой стороны, даже в самых жестоких войнах враг России прямо не отождествлялся с воплощением чистого зла, и в этом проявлялось сознание собственной сакральной «всечеловечности», которая даже для воплощения Абсолютного Зла предполагала сугубо национальный, русский контекст. Согласно этой тенденции влияние извне в русском мессианском сознании обретает завершенное воплощение в национальном сюжете. Мессианский русский народ должен нести в себе самом оба эсхатологических полюса, иначе речь шла бы не о «всечеловечности», а лишь о сакрализации национального эгоизма.
Империя была не столько инструментом экспансии, сколько инструментом отгораживания православного и потенциально православного пространства, механизмом поддержания внутри его определенной дисциплины. Задачей государства было устанавливать границы православного царства, а обращать туземное население в православие — это дело промысла Божьего. Отметим, что к XVIII в. Россия не знала миссионерства как целенаправленной государственной деятельности, как не знала его и Византия. Для русских государственная граница как бы отрезала присоединенные регионы от остального мира, представляя собой непреодолимый барьер. Самая русская империя как бы вобрала в себя все многообразие, все религиозные противоречия мира, стремясь победить их внутри себя самой.
Универсальное предназначение империи проявляется в виде разных форм сакрализации власти. Мистический ореол власти колоссально усиливает ее авторитет и возможности, в том числе экспансионистские. Рубежи потенциальной экспансии находятся в прямой зависимости от границ трансляции имперского мифа — там, где заканчивается власть одних богов, начинается власть других. Вопрос об имманентных границах сакрального пространства фактически снимается радикальным монотеизмом в соединении с религиозным универсализмом. Ими отрицается самая возможность пространственной локализации сферы власти и влияния сакрального центра.
Имперский мессианский миф может охватывать своими гипнотическими влияниями не только саму империю, но и пограничные страны, так как согласно ему власть империи всеобъемлющая и распространяется на весь мир, охватывая и круговорот естественных явлений. В империи выражается общий закон мира — «устроение к единству» (Л. П. Карсавин). В соответствии с ним императору как «главе мирян» подчинены все земные силы. «Белый Русский Царь отождествлялся с Царем Мира, а русский народ становился избранным сосудом благодати, спасителем, богоносцем, нацией Святого Духа», — отмечает А. Г. Дугин772.
Хронософское измерение мессианизма проявлялось в особом чувстве времени, которое связывалось с жизнью империи. Византийская империя была неразрывно связана с «imperium romanum» поздней античности, заимствуя традицию, содержавшую римские, а также чисто эллинистические и восточные элементы, полученные как через посредничество Рима, так и через непосредственные контакты. В монашеской среде, преданной идее универсальной империи, постепенно сформировался принцип «translatio imperii».
Идея простого Римско–Константинопольского преемства в VI в. уступает место представлениям о том, что Византия есть Рим новый и обновленный, призванный возродить Рим древний и падший. Это была концепция «Renovatio imperii» («обновление империи»), которая достигла своего расцвета между IX и XII в. и предусматривала фигуру умолчания по отношению к немецким императорам.
На Западе падение Рима не означало ликвидации империи де–юре, она оставалась политической реальностью, как римское право — юридической. Эта своеобразная вертикальная империя воспринималась как «мистическое тело», которое именовалось то христианской республикой, то христианской империей.
В мессианском сознании восприятие мировой истории окрашено глубоким эсхатологизмом, мечтой о Конце Мира, на грани которого откроется промыслительная роль каждого из народов земли. Это взгляд из кончающегося мира на «финальное богоявление». Такое мировосприятие девальвирует уже свершившуюся национальную историю как нечто ничтожное в сравнении с большим и единственным мигом Второго Пришествия. Устремленная в вечность, мечта о Конце Времен не имеет ничего общего с прогрессистскими ожиданиями Золотого Века.
Наиболее полно эсхатологический финализм раскрывается в русско–православном сознании, в котором Конец Времен воспринимается как нечто глубоко национальное, имеющее отношение прежде всего к судьбе русского народа. Практически вся русская история, начиная от мученической гибели святых князей Бориса и Глеба, переживается им как катастрофа. Начиная с конца XV века, ожидания Антихриста становятся на Руси всеобщими, достигая своего апогея в расколе. По словам А. Г. Дугина, «смысл России в том, что сквозь русский народ осуществится самая последняя мысль Бога, мысль о Конце Света»773.
Русский православный эсхатологизм следует отличать от хилиазма как учения о грядущем земном «тысячелетнем царстве». Православная Церковь учит, что «тысячелетнее царство» уже осуществилось после прихода Иисуса Христа в Византийской империи, когда дракон — древний змий — был связан. Падение Византии было концом «тысячелетнего царства», и лишь православная Русь, переняв эту миссию от Нового Рима, стала на некоторое время оплотом православия в мире всеобщего отступничества, как бы чудесным продлением на некоторое время «тысячелетнего царства» на особой богоизбранной, провиденциальной территории.
Раскол и стал той предчувствуемой катастрофой, которой было наполнено русское мессианское сознание, поскольку вслед за ним последовала реальная десакрализация Руси, явный ее отход от мессианской роли. Отменяется Патриаршество, столица переносится из Третьего Рима в безблагодатные болота западных окраин. Даже страна получает новое имя — латинизированное «Россия» вместо славянского «Русь». Мессианская парадигма перестала быть определяющей в государственной идеологии Российской империи. Несмотря на это, эсхатологически–мессианское сознание сохранило свои корни в русско–православной цивилизации вплоть до нашего времени, порождая в нынешнее трансформационное время ощущение того, что мир вот–вот рухнет, растворится.
Антропософское измерение мессианизма развертывается вокруг сакральной личности императора, олицетворяющего статус богоизбранности мессианского народа. Так, в основе Византийской империи была заложена идея, согласно которой земная империя есть копия Царства Небесного, а правление императора — выражение Божественной власти. Империя — это икона Царства Божьего, наиболее драгоценное в мире золото, по словам диакона Агапита. В своем идеале это — сообщество людей, объединенных идеей православия, то есть правильной веры, и таким образом преодолевших то деление на языки, этносы, культуры, которое было следствием греха — попытки человечества самостоятельно достичь небес, построив Вавилонскую башню.
Политическая мысль Византии исходила из того, что император есть «космократ», имеющий верховный статус в христианском мире. Принцип, который устанавливал зависимость единого на земле императора, представлявшего единого Бога, был разработан в IV в., усиливая римскую идею универсальности идеей христианской вселенскости. Христианский император в определенном понимании предшествовал Царству Христа. Подчинение императору было обусловлено его православностью. Принцип православия был главным в империи, определяя легитимность любых ее установлений.
Уже в «Повести временных лет» проводится мысль о единении Руси, богоизбранности славянского (русского) народа для исполнения особой миссии — борьбы с мировым злом, миссии добротолюбия, что отражало воспреемство глубоких нравственных начал, почитание идеалов добра и правды, рожденных еще в дохристианский период и органически слившихся с новой религией, определив особенности русского православия. Последнее, в свою очередь, обусловило характер русского мессианизма, отразившийся в символике Св. Георгия, поражающего змия.
Как писал Н. А. Бердяев, «мессианское сознание не есть националистическое сознание, оно глубоко противоположно национализму, это — универсальное сознание»774. Оно непременно имеет имперский характер. Сакрализация Руси как «Святой Руси» и русского народа как «народа–богоносца» выполняла роль фундамента имперской идеологии, наделявшей имперское бытие провиденциальным смыслом. Характерно, однако, что русский мессианизм, несовместимый с идеей национального превосходства, уникально сочетался с самоопределением Руси через образ Покрова, с его идеей защищенности от внешнего безнадежно погибшего мира силой чуда и молитвы. Он пронизан эсхатологическими мотивами.
Царство–Москва — не только Новый Царьград, но и «катехон» — последнее христианское сообщество в мире погибшей веры, объединенное и защищаемое Покровом Богородицы. Оно совпадает с земной церковью. Так, Филофей использовал апокалиптический образ Жены, облеченной в Солнце, Богородицы–Церкви, преследуемой драконом–ересью, убегающей туда, где пока еще для нее есть место. По его словам, теперь церковь Успения в Москве стала центром мира, она «едина во вселенней паче солнца светится». Позднее Св. Димитрий Ростовский в своем «Слове на Покров» соединил образ Богородицы, молящейся за мир, с образом Жены, облеченной в Солнце, в едином эсхатологическом значении.
Н. А. Бердяев обращал внимание на то, что «очень сильна в русском народе религия земли, это заложено в очень глубоком слое русской души. Земля — последняя заступница». С этим он связывает и «основную категорию» русского сознания — материнство. Русский философ отмечал, что «народ более чувствовал близость Богородицы Заступницы, чем Христа. Христос — Царь Небесный, земной образ Его мало выражен. Личное воплощение получает только мать–земля»775 Образ Бога был подавлен образом земной власти и представлялся, не в последнюю очередь под влиянием иосифлянства, по аналогии с ней, поэтому народ как бы стремится укрыться от грозного Бога за матерью–землей, за Богородицей.
В западной историософии женщина объявляется воплощением «русскости». По мнению В. Шубарта, «разные народы дали разные образы человеческих идеалов. У китайцев это мудрец, у индусов — аскет, у римлян — властитель, у англичан и испанцев — аристократ, у пруссаков — солдат, а Россия предстает идеалом своей женщины»776. Составляющими идеализированного образа «Матушки–Руси» являются загадочность, нравственная и физическая сила, забота, жалость, милосердие, верность, мягкость, душевность, целомудрие, открытость, приоритет любви над законом. Собственно говоря, именно с женским образом России соотносятся симпатии к русской культуре. С ним В. Шубарт связывает и русский мессианизм: «Россия не стремится ни к завоеванию Запада, ни к обогащению за его счет — она хочет его спасти. Русская душа ощущает себя наиболее счастливо в состоянии самоотдачи и жертвенности»777.
Если Запад нередко уподобляется Марфе, которая «печется о многом», то Россия — Марии, которая думает о Боге. Истинно русским образом является образ «плачущей Богородицы с Младенцем». Культ Марии как Богоматери сыграл определяющую роль в формировании черт русской народной религиозности и государственности. Особое значение, придаваемое культу Девы Марии, является одним из параллелизмов в истории Испании и Русской державы, почти одновременно взявших на себя миссию зашиты от мавров и татаро–монголов, а вслед за этим овладевших огромными пространствами на Море и на Суше. «Смысл Реконкисты заключался в отвоевании пространства на Иберийском полуострове для свободного почитания Образа Пречистой Божией Матери», — писал К. Шмитт778.
Идея мистической связи России и сакрально–сотериологического (причем женственного) начала вообще является характерной темой историософского дискурса. В русской культуре это нашло отражение в формуле «Россия — Дом Богородицы», ставшей развитием формулы «Киев — Третий Удел Богородицы» (которая повлияла на становление идеи «Москва — Третий Рим»), По представлениям «Степенной книги», Богородица присутствует на земле Русского государства. «Степенная книга» вспоминает обещание Богородицы, переданное Киево–Печерским патериком, — «и самая хощю на Руси жити» — и считает это обещание выполненным. Но если, по патерику, Богородица обещала быть в церкви, которая строилась в монастыре, то, по «Степенной книге», она обещала жить в стране — на Руси.
В Никоновской летописи, составленной в 20‑е годы XVI века в Москве под руководством митрополита Даниила, впервые в русском летописании представлен эпизод видения Богородицы над градом. Она же придала государственно–политический смысл Владимирской иконе Пресвятой Богородицы, значение которой приблизилось к значению ризы и Одигитрии как оборонного оружия. Владимирская икона стала палладиумом Русского государства. То, что Богородица встала над Москвой, превращало Москву в аналог Влахернской церкви, в богоизбранный и богохранимый град-Церковь.
Очевидно центральное значение образа Пресвятой Богородицы в становлении русско–православной цивилизационной традиции. Оно выразилось и в особой популярности в русском народе имени Богоматери. Надо сказать, что на Руси оно традиционно ассоциируется с представлениями о самых лучших женских качествах, а его популярность отразилась в русских сказках и во множестве уменьшительно–ласкательных форм, закреплявших его «обрусение», — Маруся, Машенька… Можно сказать, что именно в имени Мария воплощается святой, возвышенный и одновременно трагический образ Русской земли — пространства встречи двух миров, земного и небесного, с парящим над ним двуглавым орлом.
Русско–православный цивилизационный символизм, таким образом, наглядно свидетельствует об исключительно глубоком проникновении мессианских идей в народное самосознание. Тем не менее принципиально неверным является соблазн прямого политического толкования русского религиозного мессианства. «Мессианско–эсхатологические настроения на Руси не носили политического характера и не являлись выразителями гегемонистских или имперских настроений, — отмечает архиепископ Кирилл (Гундяев). — Идея «Москва — Третий Рим» была той религиозно–национальной идеей, которой никогда не вдохновлялась русская внешняя политика, но которой вдохновлялись многие на трудном пути духовно–нравственного совершенствования». «Это была своего рода религиозно–национальная утопия, весьма страстная и поэтическая, выросшая из непреодолимой жажды приблизиться к воплощению царства Божия на Земле»779. Характеризуя духовное самоощущение русского народа, концепция «Москва — Третий Рим» была направлена на сохранение общественной жизни, в том числе и политики, от действий, не соответствовавших высокому предназначению государства как хранителя и защитника православной веры. Тем самым она становилась мощным религиозно–нравственным фактором российской политической жизни.
Еще митрополит Илларион, утверждая воплощение «царства Ветхого Завета» в «царстве Нового», что также было реминисценцией византийской традиции преемства власти от Римской империи, фактически создавал фундамент для позднего усвоения идеи «translatio imperii» — одной из центральных среди византийских представлений о провиденциальной сущности «империи ромеев», обосновывавшей право на супрематию во всем цивилизованном мире. В лице Византии видели мировую империю, наследницу римской государственной мощи, но рассматривалась она двойственно.
Константинополь как политический символ в силу двоякой политической природы Византии имел двойное толкование: в русле одного подчеркивались благость и священство, в русле второго — власть и царство. Символическим выражением первого стал Иерусалим, когда Константинополь понимается как святое теократическое царство, а второго — Рим, когда Константинополь рассматривается как имперское государство, столица мира. Оба подхода находят воплощение в осмыслении Москвы как нового Константинополя, который появляется после падения Византийской империи.
Эта идея была оформлена в концепции «Москва — Третий Рим», зародыш которой содержится в произведениях новгородского митрополита Зосимы, признанного позднее еретиком. В Предисловии к составленной им Пасхалии (1492) не только осуществляется уподобление Ивана III византийскому императору, а Москвы — Константинополю, но и отстаивается вытеснение старого центра православия новым, московским.
Самая же концепция была сформулирована монахом псковского Свято–Елеазарова монастыря Филофеем в послании М. Г. Мисюрю–Мунехину, наместнику Великого князя Московского Василия III в Пскове («Послание о планитах и о зодеях»), написанном около 1523 г. и включенном в 1541–1542 гг. в «Великие Четьи Минеи». В нем он доказывает, что римская церковь перестала быть истинной вследствие проникновения аполинариевой ереси, а церковь «Второго Рима» — Константинополя — разрушена внуками агарян, турками. Согласно представлениям Филофея Россия оставалась единственным в мире носителем истинного христианства, и в этом смысле она становилась царством вселенским, «катехоном» («удерживающим»). Подчеркивая исключительность возлагаемой на Великого князя церковью ответственности, Филофей наставлял Василия III:
«Да еще добро устроиши свое царство — будеши сын света и гражданин вышняго Иерусалима, якоже выше писах ты и ныне глаголю: блюди и внемли, благочестивый царю, яко все христианьския царьства снидоша в твое едино, яко два Рима падоша, а третей стоит, а четвертому не быти: уже твое христианское царство инем не останется»780.
Третий Рим мыслится при этом как последнее земное царство, которое завершает человеческую историю, и тем самым эсхатологически–мессианистическая направленность выходит у Филофея на первый план. Рим олицетворял для него мир, и потому конец Рима — это в его восприятии то же самое, что и конец мира. Только на короткий срок Москва превращается в Третий Рим, чтобы еще на малое время отдалить приход антихриста, отложить тот миг, когда его пришествие станет универсальным явлением. Москва — столица сущностно нового государства, не национального, но сотериологического, эсхатологического, апокалиптического. Характерно в этом смысле, что в то время как в «Изложении Пасхалии» митрополита Зосимы Москва — это прежде всего «новый Константинов град», то послание Филофея говорит именно о третьем и последнем Риме. Более того, в третьем Риме виделся не новый имперский центр мира, а новый Иерусалим. Имперская же гордыня проявилась только тогда, когда «Святая Русь уходит со сцены в подполье и молчание, а сцену занимает держава, которая “слезам не верит”»781.
В целом содержание концепции фактически ограничивалось религиозной проблематикой, ее направленность касалась не столько политического могущества России, сколько преимуществ, превосходства истинного русского православия. Она подчеркивала связь Русского государства с высшими духовно–религиозными ценностями, предусматривая изоляцию от «нечистых» земель. Тем самым она существенно повлияла на внутреннее самообособление России от Запада, формирование среднеевразийской славяноправославной цивилизации и религиозного самосознания русского народа с присущими ему образами Святой Руси и Москвы как Града Божьего. Повлияла она и на идеологическую подготовку перехода к самодержавию.
Филофей обнаруживает логику поэтапного отпадения от православия его порченых членов и тем самым — обретения оставшимися совершенной чистоты. Эта концепция, несомненно, способствовала развитию «островного» самосознания русского народа (если слово «остров» связывать с корнем «остр(ый)», ср. греч. acros, Acropolns — «Остроград, выдающийся город, скала, кремль», лат. асег. Ocras — с общим смыслом «выдающийся на однородном пространстве»). Остров — как выделенное, избранное пространство в «пучине вод», океане погибели. Остров Россия — как «катехон», единственное православное царство, законная Империя. Отметим, что это представление в некотором смысле воспроизводило древнейшие идеи неразрывной связи божественного начала и родительного пространства.
По мнению К. Н. Леонтьева, высшая цель, к которой фатально влечет Россию ее история, не может обуславливаться соображениями этнического порядка, это — задача религиозная. «Истинно–национальная политика должна и за пределами своего государства поддерживать не голое, как говорят, племя, а те духовные основы, которые связаны с историей племени, с его силой и славой». Для России такой духовной основой является православие, которое защищает ее от разрушающего влияния Запада и вовлекает в сферу не только славянских, а и восточных межнациональных отношений. В связи с этим политике «православного духа» он отдавал предпочтение в сравнении с политикой «славянской плоти»782.
Леонтьев выдвинул мысль о решающем значении византийского влияния, «византизма» в историческом развитии России. Византизм в государстве означает для него самодержавие, в религии — православие. Византийские идеи и чувство сплотили в единое тело полудикую Русь, византизм дал ей силу перенести татарский погром, бороться с Польшей, Швецией, Францией, Турцией. По мнению Леонтьева, «византийский дух, византийские основы и влияния, как сложная ткань нервной системы, пронизывают везде весь великорусский общественный организм»783. Он предупреждает, что «предавая даже в немых помыслах наших этот византизм, мы потеряем Россию»784.
Византизм он противопоставляет славизму как абстрактной идее «общей (хотя и не чистой) крови и общих языков». Вообще равенство людей он считал проявлением осуждаемой им идеи общего блага, всеобщего равенства и свободы, а национализм — антигосударственной, космополитической идеей, которая несет в себе большую разрушительную силу. Леонтьев отмечал, что «индивидуализм губит индивидуальность людей, областей, наций»785. Все его политические работы проникнуты антиславистским пафосом. Он подчеркивал, что панславизм несет угрозу национально–культурной самобытности России.
В своих оценках Леонтьев был не одинок. До него Ф. И. Тютчев также развивал традиционные мессианско–глобалистские взгляды. Главным его тезисом можно считать следующий: «Всемирная монархия — это Империя. Империя же существовала всегда, она только переходила из рук в руки»786. Церковь, освятив Империю, приобщила ее к себе, и отсюда — сделала ее окончательной. История же Запада, начиная с Карла Великого, — это история узурпированной империи. Империя на Западе всегда была узурпацией. Это добыча, которую папы поделили с кесарями. Законная Империя остается связанной с наследием Константина Великого. Эти мысли русского поэта можно считать попыткой напомнить секуляризованному и вестернизируемому русскому обществу XIX в. об исторической, сакральной миссии России. Взгляды Тютчева оказали влияние на развитие славянофильской и в целом консервативной мысли.
В творческом наследии великого русского писателя Ф. М. Достоевского мы наблюдаем преодоление «ограниченности» западников и славянофилов — двух идейных течений, весьма связанных с восприятием Запада. Достоевский исходил в понимании России не с замкнуто национальной, а с всемирной точки зрения. В «Речи о Пушкине» он подчеркивал: «назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Наша судьба и есть всемирность, которая не мечом приобретена, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей». Достоевский обращает внимание на то, что «Россия хотя и в Европе, но Россия — и Азия, и это главное, главное»787. Для него является ошибочным взгляд на русских как лишь на европейцев или на азиатов. Как бы подводя итоги двухсотлетнего европеизма, он провозглашает необходимость установить своего рода равновесие и «отворить окно» в Азию, что, однако, совсем не предполагает отворачивания от Европы.
Будучи писателем Петербурга, он постоянно обращается к Третьему Риму, и в особенности это проявилось в романе «Преступление и наказание», который А. Г. Дугин назвал «очерком новой теологии — теологии богооставления». Центральными его героями являются Раскольников, старуха–процентщица и топор, причем именно топор связывает первых двух. Раскольников раскалывает голову капиталистической старухи. «Капитализм, который ползет в Россию с Запада, с закатной стороны, плотски изображает мирового змея, — отмечает Дугин. — Его агент — старуха–паук, которая плетет сети процентного рабства; она же часть его. Раскольников несет топор Востока. Топор восходящего солнца, топор Свободы и Новой Зари»788. Именно в этом состоит сакрально–историческая миссия России.
В. С. Соловьев, автор оригинальной философской системы Всеединства, создал грандиозный проект морального обновления человечества на основе глобального преобразования мира. Он своеобразно осмысливает роль России во всемирно–историческом процессе. Прогрессивное, светлое начало гуманистической любви и общечеловеческой соборности, обусловленное концепцией Всеединства, нивелировало великодержавные, цезарепапистские черты русской идеи. Человечество для него — «великая соборная сущность», а разные нации — ее «живые члены». Подлинная национальная идея — это органическая функция нации во всемирной жизни человечества: « нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности»789.
Соловьев видел источник могущества русского государства и цивилизованности русского общества в верности духу христианства, которое поднимало над «хаосом варварства и невзгод» то Владимира Святого, то Петра Великого. Настоящее величие России утверждается не силой оружия. Масштабом оценки моральной ее роли, как и любой другой нации, должна быть всемирная идея Богочеловечества. Русский народ — народ христианский, и Россия должна выполнить свое христианское призвание, чему препятствует лишь дух национального эгоизма, который необходимо преодолеть. Русская идея в интерпретации В. Соловьева — это провозглашение исторической миссии России, русского народа и истинного христианства, которая связывается со Вселенской Церковью. Предназначение России заключается в восстановлении в единстве со всеми народами на земле образа Божественной Троицы.
Если в ранних работах он исходит из того, что судьбы человечества определяются тремя мировыми силами — Востоком, Западом и славянством, причем Россия должна дать жизнь и обновление двум первым, которые уже исчерпали себя, то дальше философ все сильнее отстаивает мысль о примирительной миссии русского народа. В дальнейшем в поисках «положительного Всеединства» и совокупного спасения человечества он все больше приходит к мнению о необходимости союза русского царя с римским папой. Мыслитель выдвигает проект «всемирной теократии» — всемирного, политически и религиозно единого человеческого сообщества, основанного на соединении монархической (русское самодержавие), римско–католической (Западная Европа во главе с папой) и пророческой властей. Выступая за синтез «основ западного и восточного христианского мира», Соловьев «вышел из славянофильского лагеря и стал выдвигать ту сторону истины, которая состояла в западничестве», как об этом говорил Е. Н. Трубецкой790.
Достаточно распространенным является мнение о том, что после революции русский мессианизм вновь воспрял в образе Третьего Интернационала. По этому поводу Н. А. Бердяев писал: «На Западе очень плохо понимают, что Третий Интернационал есть не Интернационал, а Русская национальная идея»791. Даже после его роспуска лежащие в его основе идеи нашли продолжение в советской политике имперского социализма. Однако следует четко различать эсхатологически ориентированный мессианизм от хилиазма, устремленного в Золотой Век.
Русский мессианизм не видел в качестве своего идеала Царство Божие на земле, которое уже осуществилось, равно как и советское общественное сознание отнюдь не было устремленным к Концу Времен. Внешнее, формальное подобие не должно здесь вводить в заблуждение, подобно тому, как недопустимо на основании сходства черт политического режима в СССР и нацистской Германии ставить знак равенства между большевизмом и национал–социализмом. В целом советский коммунизм на деле так же далек от мессианизма Третьего Рима, как первобытный строй («золотой век») от Апокалипсиса (вспомним слова И. В. Сталина о первобытнообщинном строе как «первобытном коммунизме»).
Не менее характерной мессианская парадигма была и для планетарного сознания западного общества. Мечта об объединении всего человечества в единое теократическое государство была одной из главных идей политической теории Т. Кампанеллы, изложенной в работах «Монархия Мессии», «Об испанской монархии», «Вопрос о наилучшем государстве», «Политические афоризмы» и др. Считая, что «религиозная общность связывает наиболее прочно», он призывал объединить весь род человеческий под властью папы.
Вообще идея создания универсальной европейской континентальной империи занимает исключительное место в истории внешнеполитической мысли Европы как в средневековье, так и в эпоху Возрождения, в начале Нового времени. Выдающимся ее теоретиком и практиком был итальянский гуманист, юрист Меркурио Гаттинара — канцлер императора Священной Римской Империи Карла V. Отстаивая идею сакрального происхождения имперской власти, он рассматривал роль Карла V как политического лидера всего христианского мира, который может возглавить общую борьбу против врагов последнего. Эта концепция опиралась на идейные традиции испанской Реконкисты, которые старались приспособить к условиям ситуации острой борьбы с исламским миром в лице Османской империи. Она была реальной альтернативой политического развития Европы, но имела консервативный характер и была препятствием развитию буржуазных отношений и становлению национальных государств.
В условиях Нового времени мессианизм на Западе утрачивает свою сакральную природу и характер и растворяется в рамках выдвинувшейся на передний план космополитически–универсалистской парадигмы.
Космополитически–универсалистская парадигма планетарного сознания
Ядром космополитически–универсалистской парадигмы являются следующие общепринятые для нее базисные положения:
— утверждение изначального единства человеческой истории, судьбы, стирание национальной идентичности и растворение наций в планетарном сообществе индивидов;
— утверждение единства планетарной социально–политической организации людей, отрицание права наций на самостоятельное существование и государственную независимость;
— утверждение первичности единой глобальной культуры и отказ от национальных патриотических традиций и национальной культуры.
Смысл космополитического универсализма обнаруживается в идее линеарного времени, однако к ней он приходит не сразу. Исходной посылкой в развертывании универсалистской мысли является идея однородного пространства. Собственно, теософское измерение космополитического универсализма раскрывается в идее ойкуменизма — единства всего обитаемого мира, контролируемого одной цивилизацией. Такое восприятие мирового пространства может сочетаться как с идеей монополярного (Рим), так и биполярного (Афины–Спарта, Рим–Константинополь) или мультиполярного («европейский концерт») мира. Потенциально существует тенденция растворения центра ойкумены, и она находит свое воплощение в транскультурной парадигме, возникающей как модификация цивилизационного универсализма.
Однако однородное пространство есть не что иное, как виртуальность, ибо, чтобы быть действительно реализованным, пространство должно соотноситься с ансамблем определенных направлений, или лучей, эманирующих из центра. В однородном же пространстве универсалистов–космополитов такой центр отсутствует. Можно сказать следом за Р. Геноном, что «некое тело не может быть расположено без различия в любом месте, так же, как некое событие не может происходить в любую эпоху без различия». По его словам, «истина состоит в том, что время не есть нечто развертывающееся единообразно, и следовательно, его геометрическое представление в виде прямой линии, как его обычно рассматривают современные математики, дает полностью ложную его идею из–за крайнего упрощения»792. Собственно, универсализм и воплощает тенденцию чрезмерного упрощения социально–политического и культурного мира.
«Всемирно–исторический смысл нашей эпохи связан как раз с тем, что эта агрессия простого и одномерного против трудно настраиваемых высокосложных систем сегодня уже подвела нас к рубежу, за которым начинается необратимая деградация и природы, и культуры»793, — подчеркивает А. С. Панарин. Модерн, по его словам, есть торжество искусственности, а в искусственных системах порядок и разнообразие противостоят друг другу, в силу чего экспансия искусственных сред убивает естественное разнообразие, порождая энтропийные эффекты. Поэтому задача состоит в том, чтобы повернуть вспять энтропийный процесс, развязанный Модерном.
Космополитический Модерн не просто порождает роковые глобальные проблемы, но и формирует тип человека, в принципе не способного мобилизоваться перед их лицом. Невиданно сложным проблемам бытия противостоит невиданно упрощенный человеческий тип «экономического животного». Но, оскопив в духовном и эмоционально–волевом отношении западного человека, Модерн стремится сделать то же самое с представителями других цивилизаций, с тем, чтобы лишить их ощущения вызова.
Линеарное время противоположно «качественному» циклическому времени, каждая фаза которого имеет свое собственное качество, влияющее на определение событий. Сама длительность человеческой жизни рассматривается как уменьшающаяся от возраста к возрасту, то есть протекает со всевозрастающей быстротой от начала цикла к его концу. Эти качественные характеристики времени полностью игнорируются в космополитическом прогрессизме. Линеарное время есть непрерывная эволюция в одном направлении, когда общество неуклонно совершенствует одну модель развития, в данном случае — модель либеральной демократии. Линеарность политического времени позволила Западу очень быстро развить свой культурный потенциал, но также привела к тому, что этот потенциал быстро исчерпался. Линеарность становится возможной благодаря инструментальному отношению к миру, благодаря отделению мира ценностей от мира ценностно–нейтральных средств, от орудийной сферы. Это предоставило возможность Западу набрать высокие темпы развития во всех областях культуры, близких к материальному производству, но в ценностной сфере он опирается на примитивный идеал «потребительского общества».
Развитие в одном направлении неизбежно накапливает «усталость» в самых разных измерениях социума. Люди пресыщаются одними и теми же эталонами жизни и поведения, наступает эпоха всеобщего декаданса. Между тем линеарные процессы в природном мире аномальны из–за своей разрушительности: непрерывное развитие в одном направлении заканчивается катастрофой. Вера в прогресс оказывается иллюзией настоящего и утопией будущего. Но главная ловушка линеарного времени — в его способности провоцировать политиков возможностями «ускорения», приближающего заветные цели. В массовом потребительском обществе человек не умеет и не хочет ждать, он живет сегодняшним днем. Это — пострелигиозный человек, поверивший в земные возможности технической цивилизации. И политики, чтобы привлечь избирателей, используют миф ускоренного времени.
Антропософские представления универсализма изначально формировались с номиналистических позиций противопоставления индивидуального коллективному, разума — невежеству. Еще киники провозгласили автономию личности. Киническое благо глубоко индивидуалистично, добродетель заключена в автаркии, воле и действиях самого человека, освобожденного от ограничений религии, государства, семьи, собственности и т. д. Все поведение человека в обществе киники ориентируют на его независимость от общества. Но одновременно этот индивидуализм сочетается с гуманизмом, «филантропией», культом дружбы, а не вырождается в эгоизм. Киник воспринимал жизнь как поединок со множеством врагов, как борьбу, а себя — как борца–одиночку.
Кинический индивидуалист–космополит, воплощаемый в образе «Диогена в бочке», при всех его отличиях оказывается прообразом либеральноуниверсалистского Робинзона. Не связанный традициями, обычаями, ценностями своего народа, кинический космополит — «гражданин мира», от природы равный со всеми другими людьми на земле, открыт для объединения с ними вне зависимости от любых природных или социальных границ. Руководствующийся «общечеловеческими» законами разума, он стремится к поиску наиболее отвечающих природе человека форм жизнедеятельности, и этот поиск неизбежно приведет его к идеям космополитического униформистского «One World».
Современные сторонники космополитизма представляют его торжество как становление нового типа человека — Человека Интернационального, что они связывают с овладением людьми достижениями мировой цивилизации и с открытостью государств. Человек Интернациональный — это человек мира, осознающий свои личные, экономические, гуманитарные, коммуникационные потребности и рассматривающий средства их удовлетворения на общепланетарном уровне. Одновременно они признают, что «главным минусом Человека Интернационального могут быть названы его «непатриотизм» и эгоизм»794, что от него априори исходит угроза своей стране.
Космополитический универсализм представляет собой выражение тенденции сведения к единообразию как людей, так и вещей. Нельзя не отметить утопичность универсалистского проекта, поскольку достижение унифицированного состояния мира, единообразия условий и форм существования предполагает возникновение существ, лишенных всякого качества, а такое единообразие никогда не может быть достигнуто. Если бы они не отличались качественно, то были бы лишь частями entia rationis (мысленной сущности) схоластики — частями гомогенного пространства и времени, у которых нет никакого реального существования.
Представители философской школы киников стали одними из первых выразителей универсализма. Космополитизм был неотъемлемой частью природно–социального учения киников. Диоген Синопский первым в истории назвал себя космополитом. «Спрошенный, откуда он явился, ответил: “Я гражданин мира”»795. Будучи продуктом кинического негативизма и анархизма, космополитизм означал не утверждение вселенского гражданства, а отказ от всех существующих государственных форм. Космополитизм в понимании киника — это приобретенная внутренне свободным киническим мудрецом возможность жить повсюду, пренебрегая государственными, сословными, расовыми, географическими границами, несправедливыми законами, условностями, обычаями и т. п. Кинические скитальцы усиленно подчеркивали свою независимость, безродность. «Посмотрите на меня, — говорил Диоген, — у меня нет ни родины, ни собственности, ни семьи. Только небо и земля»796. Но этот нигилизм означал вместе с тем и утверждение планетарной, космической природы человека. Лишь в единстве с природой, космосом человек способен достичь высшей гармонии, познать справедливость и наполнить смыслом свое бытие в мире.
Кинический космополитизм стал формой интеллектуального социального протеста против полисного партикуляризма и патриотизма, против идеи противопоставления эллинов и варваров, якобы самой природой предназначенных для рабства. Утверждая требование «жить согласно природе», стремясь к гармонии между человеком и природой, киники тем самым стали предшественниками экологического глобализма.
Космополитическая (универсалистская) парадигма планетарного сознания, выработанная киниками, получила развитие у стоиков. Правда, еше до них Демокрит утверждал, что «мудрому человеку вся Земля открыта, ибо для хорошей души отечество — весь мир», однако стоики распространили этот принцип на всякого, а не только на мудрого человека.
Исходя из уподобления человека космосу, они рассматривали разум человека как часть космического разума, а его душу — как часть космической души. У этих представлений весьма много общего с современной глобалистской концепцией «мирового мозга» П. Рассела, согласно которой в силу нашей склонности к обработке информации мы представляем собой некую планетарную нервную систему. «Мы, миллиарды мозгов, составляющих этот огромный «мировой мозг», связаны друг с другом нервными волокнами систем связей точно так же, как и миллиарды клеток индивидуального человеческого мозга», — утверждает британский физик и психолог. Он отмечает, что «наша разрастающаяся коммуникационная сеть начинает связывать один мозг с другим», и прогнозирует создание всеобъемлющей сети797.
Из космологического взгляда стоиков на природу человека вытекали их социальные воззрения, пронизанные идеей койнонии — братства, соучастия в жизни других людей. Высшая цель людей — преодолеть разъединяющие их этнические, расовые, социальные, политические барьеры и слиться в космическое братство, образовав всемирную органическую целостность греков и не–греков, людей и богов. Как древние греческие, так и римские стоики от Зенона до Сенеки — космополиты, для которых весь мир, космос — общее отечество для всех людей. Цицерон также развивал идею Стой о мировом порядке космополиса. С ними солидарен и Тит Лукреций Кар:
«Нет ни краев у нее, и нет ни конца, ни предела.
И безразлично, в какой ты находишься части Вселенной!»798.
Однако космополитизм стоиков, как и киников, имеет и обратную сторону — одиночество отдельной личности, ее потерянность в космической бесконечности. Кинические и стоические мудрецы одиноки, и все, что может дать им их философия, — это научить «стоически» переносить удары судьбы. По сути, они столкнулись с той проблемой, которая в наши дни получила название «одиночества в толпе». Ее решение они искали на пути фаталистического и примиряющего принятия происходящего в жизни, хотя и пытались сочетать его с требованием свободы выбора для человека.
Стоический идеал представлял собой зародыш современной идеи глобального тоталитаризма. Еще Плутарх удивлялся воззрениям Зенона–стоика, призывавшего к тому, чтобы «мы жили не особыми городами и общинами, управляемыми различными уставами, а считали бы всех людей своими земляками и согражданами, так чтобы у нас была общая жизнь и единый распорядок, как у стада, пасущегося на общем пастбище»799. Античный историк в этой связи отмечал, что мечты Зенона начал воплощать в действительность Александр Македонский, видевший в себе «поставленного богами всеобщего устроителя и примирителя» и заставлявший всех считать родиной Вселенную.
Империя Александра Македонского была первой попыткой построения единого космополитического государства в масштабах ойкумены античного мира. Однако эта попытка достичь органического общечеловеческого (не только государственного, но и этнического — смешанные браки) единства была обречена на провал.
В Новое время развитие универсалистской парадигмы связано с деятельностью масонства. В числе главных догматов Афганского общества иллюминатов — Рошании — отмена частной собственности, устранение религии, отмена государств, вера в то, что просвещение идет от Высшего Существа, которое избирает класс совершенных людей для организации и управления миром, вера в план преобразования социальной системы мира посредством контролирования государств.
Одной из наиболее значительных ветвей иллюминатов в Германии считались розенкрейцеры, первая официальная ложа которых была основана в 1100 году в Вормсе. В 1776 году А. Вайсхаупт основал «Тайный орден баварских иллюминатов». Их программные документы предполагали, что «посредством зависти, ненависти, раздоров и войны, через лишения, голод и распространение заразы все народы должны быть доведены до того, что они не будут более видеть никакого выхода, кроме того как полностью отдаться в подчинение иллюминатов»800. Отмечалось, что «мирового господства можно достичь только окольными путями, посредством целенаправленного подрыва всех подлинных свобод»801.
Эти документы были обнаружены при обыске на квартире главного ассистента Вайсхаупта г-на фон Цвака в 1785 году и опубликованы баварским курфюрстом под названием «Подлинные рукописи ордена и секты иллюминатов» для предупреждения европейских монархий. Независимо от того, насколько реальными были или являются сейчас возможности по их реализации, они показательны, так как отображают важную тенденцию эволюции общественно–политической мысли. Считается, что, уйдя в подполье, баварские иллюминаты продолжили свою деятельность, позднее приняв новое имя.
Русская Православная Церковь за рубежом так определила масонство: «Масонство есть тайная интернациональная мировая революционная организация борьбы с Богом, с христианством, с Церковью, с национальной государственностью и особенно с государственностью христианскою»802.
Масонские идеи можно считать мондиалистскими по своему характеру, поскольку они предусматривают установление мировой власти. Мондиализм здесь рассматривается как идеология космополитического универсализма, геополитическая стратегия установления «One World». Существуют правый мондиализм, являющийся идеологией глобализации атлантизма и предусматривающий сценарий окончательного выигрыша Западом геополитической дуэли с Востоком, а также левый мондиализм, представители которого считают необходимым включить в единое государство и евразийский сектор, предусматривают конвергенцию двух идеологических и геополитических лагерей с созданием нового типа цивилизации, промежуточного между капитализмом и социализмом, чистым атлантизмом и чистым континентализмом.
Космополитически–универсалистская парадигма нашла современное идеологическое выражение в «новом гуманизме» — социальной доктрине Римского клуба. З. В. Балабаева определяет ее как «идеологию социального глобализма, представляющую собой систему идей и концепций, претендующих на выработку особого пути трансформации человеческого общества в общество гуманное на основе пересмотра существующих ценностных ориентаций, выступающих главным средством преобразования, минуя социальную революцию»803.
Гуманизм имеет своеобразный религиозный фон, он становится новой религией человечества. Сами «новые гуманисты» называли свое учение «светской религией». По словам президента Американской гуманистической ассоциации Ллойда Морейна, гуманизм — это «религия без Бога, божественного откровения или священных писаний». Это было подтверждено в решениях Верховного Суда США804. «Новые гуманисты» выдвинули идею т. н. пангуманизма, который, по их словам, «должен быть способен объединить все существующие религии, включая советский коммунизм»805 Пангуманизм виделся как основа космополитического образа жизни в рамках всемирной «федерации наций».
Гуманизму придавался революционный характер, он рассматривался как главный инструмент социальной реконструкции. Центральной идеей «нового гуманизма» является концепция «человеческой революции» или «революции в сознании». Целью такой революции объявлялись социальная справедливость и действительное самоосуществление человека. «Новые гуманисты» провозгласили необходимость новых моделей «веры и действий», формирования новой мировой культуры, нового способа мышления и понимания самого человека, его отношений с другими людьми. Они выдвинули идеи о необходимости достижения мирового единства, мировой солидарности, создания единого мирового органа для руководства всеми преобразованиями. Программу социальной реконструкции и культурной реформации человечества они связывали с деятельностью ООН.
Одной из мер достижения социальной справедливости идеологи «нового гуманизма» считали отказ от национального суверенитета. В частности, Я. Тинберген писал, что «подлинную взаимозависимость нельзя отделить от суверенной независимости, но чрезмерный упор на национальный суверенитет, существующий в теории и весьма ограниченный на практике, несет семена конфронтации, антагонизма и, в конечном итоге, войны»806.
По их мнению, «планетарное единство глобальной технологии» будет вызывать и стимулировать параллельное развитие политического, экономического и культурного единства человечества. Для того, чтобы адаптироваться к этим изменениям, направить их на пользу человеку, необходимо глобальное мышление во всех сферах. «Мы должны учить людей думать глобальными или планетарными терминами. Мы должны сформулировать новый комплекс глобальных идей: планетарной торговли, этической ответственности, денег, тарифа, долгов, сырьевых материалов, технологии и т. д.»807.
Идеологи «нового гуманизма» как современного космополитизма выдвинули концепцию глобальной солидарности, общей судьбы человечества. Суть провозглашаемой ими революции «мировой солидарности» заключается в трансформации сознания, переориентации людей на гуманистические ценности, в результате чего должен появиться некий «новый глобальный этос», основой возникновения и существования которого являются принципы ответственности и солидарности, а также должен возникнуть «новый стандарт гуманизма» как норма поведения человека и характерная черта государственной политики. В результате будет создан новый международный порядок и построено новое мировое сообщество.
Сущность современного космополитизма отчетливо прослеживается в целях его основных идеологов — идейных предшественников и представителей «нового гуманизма». О. Рейзер в своем кодексе «нового гуманизма» прямо сформулировал идею создания Соединенных Штатов Мира с целью осуществления «фундаментальных изменений в политической и экономической системе, осуществления полицейской власти и принуждения всех к принятию общих решений». Соединенным Штатам Мира должно быть присуще «глобальное планирование, глобальное мышление в оценке экономических и политических проблем»808.
Будучи приверженцами идеи конвергенции, «новые гуманисты» считали, что грядущая универсальная цивилизация должна будет соединить черты различных политических, экономических и религиозных систем, причем основой для конвергенции виделись принципы гуманизма. Они утверждали, что мир сначала нужно подготовить к десуверенизации как первому шагу на пути создания нового мирового порядка, а затем крупные страны должны показать пример, в одностороннем порядке отказавшись от определенных специфических аспектов своего суверенитета, а после этого уже необходимо перейти к созданию мирового правительства809.
В пользу идей глобального управления приводятся самые различные аргументы, среди которых можно выделить следующие:
• мировое сообщество представляет собой функционально взаимосвязанную целостную систему, складывающуюся из множества подсистем различного уровня и конфигурации;
• у человечества в XX веке, особенно с вступлением в ядерную эру, появились общие интересы, которые выше любых частных интересов;
• общие интересы получают моральную санкцию в новой универсальной системе ценностей, таких как мир, экономическое благополучие, социальная и политическая справедливость, экологическая безопасность, самореализация личности;
• эти интересы и ценности могут быть выражены как общие цели человечества, осознание которых, прежде всего политической элитой, является необходимой предпосылкой разумного вмешательства в стихийные процессы общественного развития.
Современные сторонники космополитического универсализма придерживаются той точки зрения, что ныне процесс образования новых цивилизационных миров завершился, наступил «конец истории» и мир вступил или стоит на пороге единой общечеловеческой цивилизации. Примечательно, что Г. X. Шахназаров связывает ее становление с разрушением СССР: «Само сообщество, которое мы называем мировым, становится по сути именно таким только теперь, после того, как вберет в себя все составные компоненты миропорядка. Причем «соединение» Востока и Запада, как принято называть, представляет собой лишь первый этап грандиозной операции, за которым последует другой, может быть, еще более сложный, а именно — интеграция Севера с Югом. Иначе говоря, речь идет о мировом процессе становления новой цивилизации»810.
Не удивительно, что именно конец XX века ознаменован новым всплеском космополитического универсализма. Его апофеозом можно считать Хартию Земли, текст которой разрабатывался десять лет и был одобрен Международной комиссией по Декларации Земли при ЮНЕСКО в марте 2000 года. В этом документе изложены основные принципы устойчивого развития как «общепринятые стандарты, которыми должны руководствоваться все люди, организации, деловые круги, правительства и транснациональные институты и по которым должна оцениваться их деятельность»811.
Распад СССР и победа Запада в холодной войне привели к возникновению неомондиализма, представленного прежде в сего доктринами Фрэнсиса Фукуямы и Жака Аттали. Американский исследователь Ф. Фукуяма в начале 90‑х гг. в статье «Конец истории» предложил такую версию мирового исторического процесса, согласно которой человечество от темной эпохи «закона силы» и нерационального менеджирования социальной реальностью двигалось к наиболее разумному порядку, воплощенному в современной западной цивилизации, капитализме, рыночной экономике, либерально–демократической идеологии812. Падение СССР для него — это падение последнего бастиона «иррационализма», с которым связано окончание истории и начало особого планетарного существования под знаком Рынка и Демократии, объединяющих мир в отлаженную рационально функционирующую машину.
Французский геоэкономист Ж. Аттали, бывший директор Европейского банка реконструкции и развития, пишет в работе «Линия горизонта», что после завершения борьбы экономики с антиэкономикой победой над последней открывается единый мир без границ. Мир утрачивает свою архаичную многокачественность и становится тотально однородным. Лишь в таком гомогенном пространстве может установиться «эра денег» — общего эквивалента, который не знает отличий между высшим и низшим, моральным и аморальным, аутентичным и неаутентичным813.
Космополитический универсализм, реализуемый в механизмах воздействия Запада на остальной мир, способствует разрушению цивилизационных регуляторов, вырабатывавшихся на протяжении веков. Не удивительно, что попытки духовной, культурной, политической унификации человечества вызывали и вызывают решительное сопротивление народов. В этой связи обращает на себя внимание мысль К. Ясперса: «Обязательный для всех единый мировой порядок (в отличие от мировой империи) возможен именно в том случае, если многочисленные верования останутся свободными в своей исторической коммуникации, не составляя единого объективного общезначимого содержания веры; общей чертой всех верований в их отношении к мировому порядку может быть только то, что все они будут стремиться к такой структуре и основам мирового сообщества, в которых каждая вера обретает возможность раскрыться с помощью мирных духовных средств»814.
Сторонники цивилизационного плюрализма придавали решающее значение в историческом развитии человечества расовым, этническим, унаследованным психологическим особенностям людей и народов. Они не без основания считали всемирное гражданство нелепостью, справедливо полагая, что если возникает общество, в котором люди не являются продуктом определенной культуры, не имеют родственников и близких, не имеют родного языка, то возникает угроза «засухи» и исчезновения всего того, что делает человека человеком. Уже сейчас убыстряющиеся социальные и технологические изменения в направлении унификации порождают многочисленные формы деперсонализации человека, отрыва его от своих корней, от традиционных верований и представлений. Особенно это характерно для США, превратившихся в «нацию иностранцев», как назвал свою книгу американский социолог В. Паккард.
Транскультурная парадигма планетарного сознания
До XX века планетарное сознание существовало и развивалось в борьбе космополитически–универсалистской, цивилизационно–плюралистической и мессианской парадигм, и лишь в XX веке оно вышло за эти рамки. Возникшая на волне транснационализма транскультурная парадигма планетарного сознания стала тем вторым историческим вызовом, который «планетарный человек» бросил «человеку этническому». Оказалось, что перспектива экспансии транскультурного планетарного пространства еще более опасна для человеческого общества, нежели традиционный «безродный космополитизм».
Транскультурная парадигма планетарного сознания, являющаяся продуктом нынешней эпохи транснационализации, содержит в качестве своего ядра следующие постулаты:
• человечество движется от анархического плюрализма к единству в процессе стирания культурных, социальных, политических, этических и др. барьеров;
• государствоцентристская модель социально–политической организации человечества неуклонно разрушается, уступая место сетевым, транснациональным формам социально–политического взаимодействия;
• результатом общепланетарных процессов в социокультурной сфере является формирование в мировом масштабе национальных культур глобального транскультурного пространства, неуклонно расширяющегося и отодвигающего на периферию традиционные модели культуры.
Транскультурализм предложил человеку не выбор между национальной (цивилизационной) и общечеловеческой идентичностью, а возможность мозаического сочетания в рамках «мировой культуры» собственных культурных традиций с элементами культурного достояния других народов. В основе этой возможности — экстраполяция рыночных механизмов и ценностей в пространство культуры через посредство глобальной коммуникационной сети.
Вообще понятие «сеть» раскрывает сущность морфологии проектируемого общества, построенного на принципах транскультурализма. Идея сети как гибкой системы ситуативных связей представляет возможность охватить вариативность и мобильность современного мира. Обнаруживается серия аналогий между принципами работы Интернета и принципами построения социальной сети. Во–первых, подобно тому, как сетевая архитектоника Интернета не может быть контролирована из одного центра, так и в общественной иерархии можно обнаружить тенденцию к управленческой полицентричности. Во–вторых, глобальная компьютерная сеть является базовой моделью для изображения новой общественной морфологии, техническим средством функционирования сетевых структур и средой существования многих сетей, образующей мир виртуальных сообществ, который все более чаще и ощутимее вмешивается в реальный мир. В то же время понятие сети не дает возможности зафиксировать, описать и определить новую социальную структуру, поскольку «любая попытка кристаллизации позиций в сети как культурного кода в конкретном времени и пространстве обрекает сеть на устаревание»815 Тем самым либо общество постепенно приближается к состоянию хаоса с отсутствием любой структуры, либо само понятие сети не является адекватным средством выражения логики построения этого общества.
В становлении транскультурализма важную роль сыграло преодоление барьера между разновидностями информации — звуком, текстом и изображением, приведшее к их интеграции. Ослабление доминантной роли письменной коммуникации имело следствием размывание жесткой структуры классической культуры, или «мозаизацию» сознания. В современном обществе, в особенности с появлением мультимедиа, решающая роль в формировании знаний принадлежит не системе образования, а СМИ. В результате, по словам А. Моля, «человек открывает окружающий его мир по законам случая, в процессе проб и ошибок»816. Мозаичность картины мира ведет к разрушению системной структуры человеческих знаний.
По сути, транскультурализм воспроизводит идею «невидимой руки рынка», о которой в свое время писал А. Смит, по мановению которой из хаоса разнонаправленных интересов и действий индивидов возникает некий порядок. Возвращение к таким представлениям проявилось в идее Ф. Хайека о наличии неподдающейся восприятию структуры, паттерна, спонтанно создающего рыночный порядок и стимулирующего культурную эволюцию. Чикагскую школу либертаризма, обосновавшую необходимость освобождения рынка как социал–дарвинистского механизма «естественного отбора» от каких бы то ни было ограничений, можно рассматривать как идеологическую апологетику транскультурализма.
Стало возможным быть утром православным, на работе — «прагматиком», в перерыве — «эпикурейцем», по дороге домой приобщиться к кришнаизму, а во время досуга выбирать между «духовными упражнениями» Игнатия Лойолы и «сайентологией» Рона Хаббарда. То же касается не только отдельных людей, но и целых обществ (Турция, Япония, Гонконг, Сингапур), в жизни которых эклектически смешались черты их традиционных культур со всеми удобствами Манхэттена. Больше того, сложился определенный комплекс общечеловеческих правовых ценностей, институционализированных в форме т. н. неотчуждаемых прав человека в международноправовых актах универсального характера. Для защиты этих прав стало возможным обратиться в соответсвующие международные организации, игнорирующие специфику цивилизационного преломления этих общечеловеческих ценностей.
Конечно, «миграция мыслей» и взаимодействие культур и цивилизаций, как и миграция перелетных птиц, — естественные процессы, продолжающиеся на протяжении всей истории, но лишь теперь они приобрели хаотический, необратимо–энтропийный характер. Обращают на себя внимание утрата субстанциальности, господство заурядности, торжество поверхностного и безразличного, при этом «основным моментом становится бесконечная мимикрия», о чем говорил еще К. Ясперс817.
Транскультурная парадигма оказалась весьма удобной для огромного числа интеллектуалов и широких масс. Ее восприняли и многие нестандартно мыслящие деятели науки и культуры. Так, Н. Н. Моисеев утверждал, что «мир идет к рациональному обществу, в котором при всем многоцветий культур, необходимом для обеспечения будущего, утвердится единство без национальных границ, национальных правительств и конфронтаций»818. Реально же за этим скрывается принятие простого перенесения важнейших атрибутов Запада на остальной мир и его перелицовки на псевдорациональных началах по образцу и подобию Запада.
Транскультурализм складывается в контексте общих цивилизационных процессов, определяемых как переход от Модерна к Постмодерну. Понятие postmodernity возникло в связи со стремлением подчеркнуть отличие нового социального порядка от «современного», указать на противоречие между contemporary и modern. Определяя в качестве эпохи modernity период, начавшийся в последней четверти XV века, исследователи фактически отождествляли его с эпохой зарождения и развития в западных странах капиталистического производства. По мнению А. Тойнби, К. Райта Миллса, П. Дракера и других ученых, уже с начала послевоенного периода в развитии индустриальных стран появились тенденции, позволяющие говорить о формировании нового порядка (post–modern order).
В рамках данной теории modernity воспринимается как эпоха, отрицающая саму идею общества, разрушающая и замещающая ее идеей постоянного социального изменения, а история modernity представляет собой историю медленного, но непрерывного нарастания разрыва между личностью, обществом и природой. Напротив, postmodernity определяется как эпоха, характеризующаяся ростом культурного и социального многообразия и отходом как от ранее господствовавшей унифицированности, так и в ряде случаев от принципов чистой экономической целесообразности.
Постмодернисты акцентируют внимание на становлении новой личности и ее месте в современном обществе, они переносят акцент с понятия «мы», определяющего черты индустриального общества (при всем присущем ему индивидуализме), на понятие «я». Постмодернисты считают, что в эпоху postmodernity преодолевается феномен отчуждения, трансформируются мотивы и стимулы деятельности человека, возникают новые ценностные ориентиры и нормы поведения. Однако, по мнению большинства постмодернистов, нарождающееся новое общество отчасти сохраняет черты прежнего, оставаясь «дезорганизованным» или «умирающим» капитализмом.
В целом, несмотря на недоопределенность термина, постмодерн можно понимать как общую философскую, мировоззренческую и социально–историческую ситуацию эпохи. Еще в 1992 году Дж. Несбитт определил десять новых глобальных тенденций: переход от индустриального общества к информационному, от развитой техники к высоким технологиям, от национальной экономики к мировой, от краткосрочных задач к долговременным, от централизации к децентрализации, от институциональной помощи к самопомощи, от представительной демократии к непосредственной, от иерархии к сетям, от Севера к Югу, от альтернативного выбора «или–или» к многообразию выбора819. Это описание предугадало глобализацию, но, кроме того, оно, по сути, обозначило основную коллизию — между ее модерновыми корнями и постмодерновой направленностью.
Влияние транскультурализма проявляется и в концепции М. А. Пешкова. В его интерпретации глобалистика позволяет объяснить сдвиг к отношениям деполяризующегося неравенства, которые «складываются по оси, как бы разворачивающей вертикальное пространство в пространство горизонтальное, где уже нет места иерархии. Появляется множество центров и периферий, центров на периферии, посреднических звеньев и пр.»820. Он указывает на то, что «размывание структурных оснований отношений неравенства, вертикального (пространственного) и синхронного (временного) членений означает и подрыв основ субъект–объектного отношения, присущего человечеству и имеющему ныне вид отношений Север — Юг».
Теософское измерение мирового пространства в транскультурализме возвращает планетарное сознание в мифологический мир Хаоса. Хаос является начальной категорией мифологии и начальным состоянием мифологической Вселенной. За ним стоят и бездна, и пустота, и океан, и бесконечное пространство, и мгла и т. д. В архаичных мифологиях (австралийских, африканских, сибирских) образ первичного Хаоса неразрывно связан с водой. Вода выступает в качестве первоначала у Фалеса и Гомера. Библия также говорит о том, что дух Божий первоначально носился над безбрежными водами.
Хаос — это тьма, зияющая темная бездна. Натурфилософский смысл Хаоса состоит в том, что он есть бесконечное пространство. Напротив, Космос характеризует зенит мифологии и является ее завершающей категорией, а в древнейших мифологических представлениях вообще отсутствует идея мира как единого целого и относительная упорядоченность связана лишь с родовой территорией.
Для транскультурализма характерно восприятие глобального мира как пространства–времени, характеризующегося хаотическим поведением экономических систем, культур, этносов, индивидов, наступлением «нового мирового беспорядка», который воспринимается как нормальное состояние. На первый план в научном познании выходит синергетика, превращающаяся в новое мировидение, в инструмент меж — и наддисциплинарного познания. В ее рамках возникает такое научное направление, как хаосология, предмет которой находится на стыке с философской проблематикой случайности и необходимости («детерминистский хаос»). Синергетика постулирует вывод о хаосе как о «сложной и непредсказуемой форме порядка»821.
Хаосологию М. А. Чешков рассматривает в контексте формирования постнауки, возникающей с переходом к некоему новому типу знания, в котором собственно научное знание в силу необходимости неразрывно соединяется со знанием ненаучным и вненаучным822. Число работ в области теории хаоса в последние два десятилетия непрерывно растет. Основные положения можно сформулировать следующим образом:
• хаос возникает по мере того, как с усилением колебаний система достигает порога устойчивости и входит в область сильных флуктуаций;
• в состоянии неравновесности возникают точки бифуркации, задающие возможность разнонаправленного движения, при этом выбор вектора решает только случайность (в интерпретации И. Пригожина; его оппоненты считают, что и в точках бифуркации возможен не любой путь эволюции, но лишь определенный спектр векторов);
• совокупность колебаний и бифуркаций придает системе различные ритмы и режимы работы так, что система как бы находится одновременно во всех возможных состояниях;
• непрерывное возникновение ряда точек бифуркации (или каскада бифуркаций) создает последовательность в необратимой эволюции системы и ведет к ее переходу из состояния, где «все решает случайность», к детерминированному поведению, при этом через смену режимов хаоса система упорядочивается823.
Симптомы деструктивного хаоса обнаруживаются в тех угрозах, которые реально стоят перед социальным универсумом, — угрозе ядерной катастрофы, международном терроризме, торговле оружием и наркотиками, возникновении специфических социальных образований типа «обществ пустоты». Предпосылки «хаоса несводимых вероятностей», когда возникают неожиданные (эмерджентные) пути развития, усматриваются в возрождении классических цивилизаций Востока и их универсальном культурном и научном значении, рождении различных примордиальных образований, базирующихся на этнических, родовых, локальных идентичностях и т. д.
«Сознание Глобальной смуты» М. А. Чешков связывает с процессами, сопоставимыми с эпохой «осевого времени», когда действовал целый конгломерат социальных, культурных, этнических, религиозных, территориальных движений. Это «Великое возвращение» он рассматривает в контексте исчерпания социальной истории и ее восполнения формами, ранее подавляемыми мировой = западной историей824, то есть в таком виде — цивилизацией Модерна. В то же время эта эпоха бифуркации связана с более масштабными процессами, нежели кризис Модерна. В русле концепции постэкономической революции В. Л. Иноземцева ее можно связывать с кризисом более масштабной экономической общественной формации.
Сегодня геософские представления транскультурализма возвращают человека в состояние первобытного Хаоса, порождая те же сильные чувственные и эмоциональные элементы — мрак, бездну и т. п. Их можно рассматривать как проявление антитезы холистского миросознания — миросознания фрагментарного, в пределах которого целостность объекта или отрицается, или подвергается сомнению. Если холизм характерен для космополитического универсализма, то фрагментальность является атрибутом транскультурной парадигмы планетарного сознания.
Еще Р. Генон обратил внимание на то, что «время в некотором смысле истощает пространство через воздействие силы сжатия, которую оно представляет и которая стремится все больше и больше сократить пространственное расширение, которому она противостоит»825. Это ускорение стало очевидным в нашу эпоху, когда время сжимает, поглощает не только пространство, но и самого себя, открывая перспективу Конца Мира, когда «времени больше не будет».
Но после того, как «время остановится», все существующее сможет существовать лишь в абсолютной одновременности, то есть можно сказать, что «время превращается в пространство». «Переворачивание» осуществляется тем самым в конечном счете против времени, в пользу пространства. На формуле «опространствливания времени» базируется новая специальная дисциплина — хронография. Она восприняла представления о множественности социального времени (событийное, конъюнктурное, структурное), развернутые в исторических исследованиях Ф. Броделя.
Под влиянием «ситуации постмодерна» в философии, науке, литературе и искусстве происходит отказ от попыток систематизации мира, который, как оказалось, не умещается ни в какие теоретические схемы. Возникает мышление вне традиционных понятийных оппозиций (объект — субъект, целое — часть, внутреннее — внешнее, реальное — воображаемое, разрушение — созидание), не оперирующее какими–либо устойчивыми целостностями (Восток — Запад, мужское — женское). Постмодернистский дискурс приводит к распаду категории субъекта как центра системы представлений. Место категорий «субъективности», «интенциональности» занимают безличные «потоки желания» и имперсональные «скорости».
Постмодернизм ориентирует человека на жизнь в новой, им созданной бесприродной технической среде, в виртуальной реальности, в которой, общаясь только через экран компьютера и электронные СМИ, человек имеет дело лишь с информацией, а не с реальными предметами. Виртуальная реальность создается внешним по отношению к ней объектом, наделена собственным пространством, индивидуальным временем, своеобразными законами существования, имеет активную коммуникацию с другими системами, в том числе с той, которая ее породила. Таким образом, техника из средства деятельности превращается в субстанцию, а информация становится средой обитания. Компьютерные сети Интернета, представляющие возможность миллионам людей общаться, не видя, не слыша и не зная друг друга, открыли путь к созданию электронных личностей. Это ведет к роботизации человека, тем более — если учитывать реальную перспективу клонирования людей.
Темпы технико–технологических изменений привели к отрыву сформировавшегося за время длительной эволюции сознания людей и их биологической основы от современного уровня техники. Все большее число людей уже не справляется с нагрузками, диктуемыми жизнью, не может приспособиться к окружающему миру, поскольку существуют критические параметры адаптации к изменившимся условиям. Стремительные изменения в пространстве культуры под влиянием техники порождают постчеловеческую цивилизацию — сложное, многомерное, искусственное пространство, созданное самим человеком, но функционирующее и развивающееся независимо от него, по своим собственным автономным законам.
В ней мир техники перестает быть ценностно нейтральным и подопечным человеку, поскольку во всех прогнозах интеллектуализации ЭВМ речь идет о передаче технике центров принятия решений. В условиях, когда сила техники приобретает онтологическую самостоятельность и собственную рациональность, это становится опасным прежде всего для самого человека. Необходимость технического прогресса обосновывается теперь самим прогрессом: «все равно не остановишь». Даже этапы сокращения вооружений необходимы в первую очередь для того, чтобы выйти в их производстве на новые технологические уровни.
Природа и культура, уставшие от экспансии Абсолютной Техники, требуют реабилитации старых, вытесненных и подавленных форм организации пространства, основанных на принципах стабильности, порядка и традиции. Подлинная «война миров» развернулась не между землянами и инопланетянами, а как борьба технократов и гуманитариев, борьба искусственного и естественного. Сталкиваются две парадигмы организации пространства культуры — силовая, агрессивно–наступательная, и гармоничная, коэволюционная. Противостояние Востока и Запада сегодня становится противостоянием естественного и искусственного, технического и духовного, утилитарного и нравственного.
Если в постиндустриальном обществе XXI века целью человеческой активности станет не прикладная польза, не промышленный утилитаризм, а полнота духовного самовыражения, то обязательно будут затребованы такие факторы духовного порядка, которые выходят за рамки одномерной рациональности. И это неизбежно связано с реабилитацией восточных принципов восприятия культурного пространства, в котором художественный гений довлеет над гением конструктивистским. Для восстановления социокультурной восприимчивости к скрытым гармониям природного пространства требуются укрощение раскрепощенной техники, утверждение приоритета природной гармонии над волюнтаристскими импровизациями, то есть переход к совершенно иному принципу организации культурного пространства, переход от иконографии Моря к иконографии Суши.
Транскультурализм отмечен кризисом исторического сознания, когда опыт прошлого оказывается представленным в произвольных констелляциях, не находящихся в сущностных связях с прошлым и будущим. Человеческое существование детемпорализируется, разрушается идея непрерывности и преемственности времени и истории. Человеческая жизнь утрачивает смысл.
Траектория процесса подчиняется строгим закономерностям лишь до определенного момента реального времени, за пределами которого нормальное время заканчивается. В новейшей физике, исследующей сильно неравновесные состояния и хаотические системы, есть технический термин «время Ляпунова», обозначающий тот период, когда некий процесс выходит за пределы точной или даже вероятностной предсказуемости и вступает в хаотический режим. Это время течет необратимо, а следовательно, состоит не из раз и навсегда заданной траектории в четырехмерном пространстве, а из «событий», то есть совершенно непредсказуемых и немотивированных движений. Однако это не период полного беспорядка, а некое промежуточное состояние между вполне структурированной системой и полным отсутствием системы. Хаос имеет свою парадоксальную структуру, а следовательно, «время Ляпунова» подлежит определенному парадоксальному измерению.
В сфере социально–политических процессов также на определенном этапе нарастания энтропии наступает «время Ляпунова», в котором общество начинает вести себя непредсказуемо, хаотически. С точки зрения синергетики, «изменяется общий характер мирового развития — традиционная формационная логика уступает место альтернативной логике, для которой характерны многовариантность, специфическая колебательность процессов и др.»826. Формационная логика как бы замыкается на самое себя и снимается более сложным самоорганизующимся процессом. В науке ответом на это становится многомерная логика и методология.
Лингвистический поворот в философии связан с формированием антропософского «среза» транскультурализма. Он обозначил тенденцию распада образа исторической реальности до уровня атомизированного индивида, вступающего в частные отношения с другими индивидами. Жизнь языка сложна и переменчива, он представляет переплетение множества дискурсов, связанных с частными отношениями людей. «Иное» как условие диалога, существования, самоидентификации стали видеть не в других социальных группах, с которыми общество может себя соотносить, а в других индивидах.
Происходит распад представлений о принадлежности к собственной цивилизации, а это мешает увидеть и оценить реальность существования других цивилизаций. Такой подход ведет к отказу от цивилизационной теории и переходу к микроистории. Классик постмодернизма Ж. — Ф. Лиотар прямо провозгласил конец больших нарративов (историй обществ) и призвал сделать из каждой индивидуальной жизни самостоятельный нарратив. Отменялись всякий универсальный язык и универсальная рациональность, вместо которых утверждалось существование лишь различных «языковых игр».
Идеалом социального взаимодействия стало перемешивание этносов и рас при условии приверженности людей либеральной демократии и рынку. По словам И. Н. Ионова, «глобализм «побратался» с индивидуализмом. Этот союз подкреплялся политическими лозунгами «гражданской нации» и «конституционного патриотизма» (в противовес этнической нации и государственному патриотизму)»827. Как следствие — на практике человечество стало не субъектом развития, а объектом глобального управления, и концепция «открытого общества» служит теперь в качестве обоснования допустимости «гуманитарных интервенций» и ограничения национального суверенитета ради соблюдения прав человека. В этом смысле транскультурализм смыкается по своим политическим последствиям с цивилизационным универсализмом.
Вызов транскультурализма диктует необходимость адекватного ответа, и осознание этой необходимости становится все более реальным. Оно требует поиска путей трансформации современного планетарного сознания. К этому приходят как ученые, так и общественные, политические, религиозные деятели и движения. Так, современная культурология вместо принятия концепции «открытого общества», в котором индивиды–атомы беспрепятственно перемещаются из одной группы в другую, меняя свою идентичность, как перчатки, настаивает на жизненной необходимости устойчивой идентичности. Она сделала вывод о жизненной необходимости выстраивания такой картины мира, в которой данному сообществу отводится незаменимая роль в мире.
Римско–католическая церковь в ряде папских энциклик в конце 80‑х–90‑х годов сформулировала свое видение будущего мирового порядка как построенного на принципах социальной справедливости, равенства всех народов при уважении их естественных различий. В XI энциклике папы Иоанна Павла II «Евангелие жизни» (март 1995 г.) современная цивилизация подверглась интенсивной и суровой критике как колыбель специфической «культуры смерти». Государства западного мира, констатирует папа Римский, «изменили своим демократическим принципам и движутся к тоталитаризму, а демократия стала всего лишь мифом и прикрытием безнравственности»828.
К схожим выводам пришел со своей стороны известный и влиятельный финансист Дж. Сорос, отмечавший в 1997 году, что «бесконтрольный капитализм и распространение рыночных отношений на все сферы жизни ставят под угрозу будущее нашего открытого и демократического общества. Сегодня главный враг открытого общества — уже не коммунистическая, а капиталистическая угроза»829.
Иранский президент М. Хаттами видит выход в диалоге культур и цивилизаций об «основах жизни». Отсутствие такого диалога может привести к тому, что «люди с культурной точки зрения окажутся в состоянии полной неприкаянности: они не смогут находиться в комфортной обстановке своей родной культуры, но и не найдут себе места на широком поле мировой культуры с ее открытыми горизонтами»830.
Вызовы транскультурализма являются лишь частью сложного комплекса проблем, вызванных кризисом цивилизации Модерна. Именно он решающим образом воздействует на состояние планетарного сознания нашей эпохи. На первый взгляд может показаться, что транскультурализм представляет собой способ органического синтеза космополитизма и цивилизационного плюрализма, но практика его самоосуществления показывает, что на деле транскультурализм есть тип «искривленного» сознания.
Признавая и санкционируя возможность «наложения» поверх слоя автохтонных культурных традиций и образов жизни слоя транскультурных миграций ценностей и моделей поведения, данная парадигма сознания способствует складыванию эклектичной культурной мозаики, не менее разрушительно действующей на цивилизационно–культурные системы, нежели космополитизм.
Цивилизационно–симфоническая парадигма планетарного сознания
Лейтмотивом мирового исторического процесса выступает дифференциация сфер человеческой деятельности при их последующем автономном, но взаимосвязанном и скоординированном развитии в рамках интеграционного целого. В этом смысле историческое развитие человечества предстает как единство интеграционно–дифференциационных процессов. Ныне мы находимся в своего рода «точке бифуркации», когда существует вероятность как доминирования унифицирующих тенденций, порожденных цивилизационным универсализмом, так и возобладания дифференциационных, фрагменталистских, хаотических тенденций, носителем которых является транскультурализм.
Свобода перемещаться по миру без границ, порывая с местной средой и культурой, интерпретируется в обеих парадигмах как свобода от онтологических ограничений, от необходимости считаться с объективной реальностью. В результате возникает «глобальный отщепенец — мигрант, освобожденный от чувства причастности», которому «не нужны никакие выработанные цивилизацией формы гражданского контракта и консенсуса»831.
В Основах социальной концепции Русской Православной Церкви обращено особое внимание на данную проблему. В этом документе отмечается, что «общества, прежде разделенные расстояниями и границами, а потому по большей части однородные, сегодня с легкостью соприкасаются и становятся поликультурными. Однако данный процесс сопровождается попыткой установления господства богатой элиты над остальными людьми, одних культур и мировоззрений над другими, что особенно нетерпимо в религиозной сфере. В итоге наблюдается стремление представить в качестве единственно возможной универсальную бездуховную культуру, основанную на понимании свободы падшего человека, не ограничивающего себя ни в чем, как абсолютной ценности и мерила истины. Такое развитие глобализации многими в христианском мире сопоставляется с построением Вавилонской башни»832.
В этой ситуации ответом на вызовы универсализма и транскультурализма может быть целенаправленное формирование четвертого типа планетарного сознания — цивилизационно–симфонического. Оно же призвано стать новой парадигмой цивилизационного развития, приоритетами которой будут надличностные интересы, сотрудничество и взаимопомощь. Его возникновение стало возможным лишь в кризисной ситуации, выходом из которой для человечества должно стать обретение жизненно необходимых человеку связей и отношений планетарного масштаба и характера. Цивилизационно–симфонический тип планетарного сознания должен иметь характер антикризисного сознания. Он должен формироваться вокруг идеи «симфоничности» или «соборности» грядущего миропорядка, представляя собой продукт диалектического осмысления коллизии глобализации, фрагментации, регионализации и глокализации.
Соборность — это универсальный закон мира. Выступая в форме сверхвременного онтологического единства «Я» и «Ты», претворяя связь настоящего с прошлым и будущим и упрочивая тем самым внутреннее единство мира, соборность представляет собой воплощение идеи Всеединства. Она утверждает абсолютную ценность конкретного индивидуального или коллективного бытия, недопустимость его растворения в более общей тотальности.
Очевидно, что тенденция глобализации будет развиваться в перспективе открытой в своей непредсказуемости истории, преодолевая серьезные препятствия на своем пути. Подобно тому, как когда–то на заре цивилизации архаичных племенных богов победила и вытеснила великая римская идея, так и сегодня новому трайбализму необходимо противопоставить сильную гуманистическую объединительную идею. Решение этой задачи определяется способностью к равноправному диалогу культур в условиях глобального мира.
В основу новой парадигмы планетарного сознания должна быть положена идея о том, что единая мировая культура возможна лишь как продукт межкультурного полилога равноправных цивилизаций, а необходимым условием ее развития есть пронизывающая идея «вселенского в национальном».
В этом смысле заслуживает пристального внимания и поддержки инициатива Исламской Республики Иран об организации диалога между цивилизациями. Центральной проблемой в нем должен стать облик формируемой мировой цивилизации. По мнению иранского президента М. Хаттами, «Сейчас следует самым серьезным образом обратить внимание на реальность мировой культуры, которая не может и не должна оставаться равнодушной к запросам, потребностям и особенностям местных культур, не должна навязывать им себя»833. Вопрос в том, как отыскать мироустроительную альтернативу вызовам космополитического униформизма и транскультурного хаоса.
Цивилизационный симфонизм противопоставляет идеям единообразия и хаоса идею гармонии. «Уравновешивание одного с помощью другого называется гармонией, благодаря гармонии все бурно растет, и все живое подчиняется ей»834. Действительно, некоторая доля хаоса, стихийности является определенным конструктивным фактором в процессах самоорганизации социальной среды, но стихийное разнообразие требует включения адекватных механизмов его регулирования. Гармония, по словам Э. А. Азроянца, предполагает наличие соразмерности, пропорциональности и упорядоченности частей и единство в многообразии835.
Гармония — это универсальный закон мироздания, закон единого целого, предполагающий не только наличие целого, но и его разделенность на противоположности на фоне объединяющей их целостности. Гармония — это согласие, созвучие, лад, где каждая часть обнаруживает возможность свободного развития. Она характеризует не только состояние, но и процесс развития целостности, дающий возможность наиболее полно проявить внутренне присущую каждому из ее отдельных моментов индивидуальность, самобытность.
Это понимание гармонии определяет то направление, в котором следует искать основания для утверждения мировой гармонии, — это планетарный дуализм Сил Суши и Моря, Востока и Запада. Он коренится в фундаментальной бинарности человеческой и социальной реальности. В планетарном дуализме следует искать ответ на вызовы глобализации и фрагментации, и такой ответ, как представляется, заключен в идее монодуализма мира, акцентирующей на его единстве, достигаемом через разделенность, раздвоенность на противоположности.
М. Д. Ахундов подчеркивает «развитие в эволюции именно билатеральных механизмов построения образов внешних объектов (бинокулярное зрение, бинауральный слух, бимануальное осязание и т. д.), что обусловлено фундаментальными свойствами пространства окружающего мира, и в том числе его трехмерностью». Он также отмечает билатеризацию условно–рефлекторных механизмов по сравнению с безусловно–рефлекторными, что генетически связано с ориентацией организма в пространстве окружающего мира836 По мнению Б. Г. Ананьева и Е. Ф. Рыбалко, парная работа больших полушарий головного мозга обеспечивает специальное приспособление высших организмов к пространственным условиям существования837.
Различия Запада и Востока действительно функционально схожи с различиями между левым и правым полушариями человеческого мозга, а мировому цивилизационному процессу на всем его протяжении был присущ «биполушарный» характер. Речь идет о наличии некоего антиэнтропийного механизма циклической динамики восточной и западной фаз мировой истории, характеризующихся доминированием соответствующих цивилизационных принципов. Такой взгляд на мир указывает на опасность его превращения в «однополушарный», а отсюда — на необходимость поиска путей гармонизации отношений между Востоком и Западом.
Еще Платон, понимая гармонию как согласие противоположностей, их взаимную «любовь», утверждал, что свою жизнедеятельность человек должен согласовывать с небесной гармонией, так как «вся жизнь человеческая в ритме и гармонии»838. Гармония воплощается в идее любви, оба эти феномена объединяются своей внешней парадоксальностью: двое становятся одним и одновременно остаются двумя индивидуальностями. Тем самым гармония и любовь приобретают характер одновременно согласия и конфликта. Марсилио Фичино сравнивал любовь с крепчайшим обручем, скрепляющим мироздание в одно великолепное сооружение, а людей — во всеобщее братство. Натурфилософия досократиков видела в эросе энергию взаимного тяготения всех элементов космоса, их непреодолимого чувственного влечения, «любопытства» друг к другу. О «космической», «мировой» любви говорили Платон, Николай Кузанский, Джордано Бруно, Якоб Беме, Тейяр де Шарден и другие мыслители.
Важнейшим компонентом цивилизационно–симфонической парадигмы планетарного сознания является идея незримой гармонии, которой сопричастны все вещи и явления в космическом универсуме. Восходящая к идеям даосизма, она близка также и современному экологизму, предложившему идею геобиоценоза как системной целостности природы, эволюционной согласованности всех ее элементов. Достижение космической гармонии возможно на основе восприятия китайской идеи «срединного пути» как пути возвращения к первоединству, близкой русской философии Всеединства. Этот путь противоположен пути линеарного прогрессивного развития, означающего нарастание дифференциации, которая заканчивается антагонистическими противоборствами. Напротив, «срединный путь» означает преодоление экологического и социально–этического нигилизма, освоение коэволюционных принципов, на которых основана система внутренних гармоний космоса. На этом пути обретается периодически теряемая связь человека с Небом, с Космосом.
Нынешние социально–экологические представления о коэволюции на самом деле подменяют гармонично–соразмерное развитие природы, человека и технической цивилизации управляемым развитием биосферы посредством техносферы, что А. С. Панарин считает «новым изданием утопии планового хозяйства»839. В основе этих представлений лежит приписывание рынку способности не только регулировать хозяйственную жизнь, но и определять жизнеспособность и рациональность любых форм и видов деятельности, достижений во всех сферах человеческой жизни. Подлинная коэволюция возможна лишь как результат коренной трансформации планетарного сознания на новой, цивилизационно–симфонической основе.
Для этого необходимо сначала изменить сами принципы социального мироустройства, отказаться от идеи культурной унификации и рационалистического монизма, обратившись к идее гармонии и любви. Любовь представляет ту творческую силу, которая способна преодолеть необратимость мировой энтропии. Она заключается в преодолении эгоцентризма, признании не только за собой, но и за другими абсолютного значения. Любовь связана с отдачей, а не с восприятием, и именно в процессе отдачи раскрывается сила и богатство дающего. Но любовь к другому требует и любви к себе, противоположной эгоизму и сообщающей большую независимость и мощь. Чтобы любить других, надо любить и себя, но чтобы любить себя, надо любить других. Тем самым в диалоге цивилизаций и культур особый, базовый смысл приобретает патриотизм — любовь к родной земле и живущему на ней народу — чувство, сопряженное с желанием видеть в своей родине осуществление идеала человечества.
Ставя перед собой задачу устранения партикулярного эгоизма, любовь способствует спасению и этическому оправданию культурно–цивилизационной самобытности. Раскрываясь в принципе соборности, преодолевающем разделенность мира, идея любви находит воплощение в отношениях между цивилизациями и культурами. Разумеется, «социальная» любовь еще менее, чем индивидуально–личностная, может быть абстрактной, и также, как и последняя, в наибольшей мере постигается через идею дружбы. Тем самым любовь входит в контекст отношений «друг — враг», приобретая таким образом политический смысл. Это не столько любовь–агапе, сколько любовь–филия, внутренняя склонность, обусловленная (в данном случае — социальным) выбором.
Подобно относительной разделенности, отчужденности обоих полов, каждый из которых имеет свое назначение и особое место в мире, отношениями разделенности в единстве связаны цивилизации Востока и Запада. Эти отношения подобны космическому браку Неба и Земли, мужчины и женщины. Возможности любви в мире зависят от степени развития культуры и предусматривают достижение состояния сотворчества, в котором преодолеваются властолюбие, самолюбование, приобретаются отзывчивость и способность видеть другого таким, какой он есть, признавая его индивидуальность. Это состояние в наибольшей степени заключено в русской душе с ее склонностью ко «всемирной отзывчивости» и «всепримирению». Любовь — наиболее адекватный показатель реальности собственного существования. Именно в любви субъект способен почувствовать и пережить свою абсолютную незаменимость, только здесь он может прочувствовать смысл своего существования и смысл существования другого для себя.
Альтернативой процессу социально–духовного разоружения человечества перед наступлением неоязыческого транскультурализма является консолидация глобального Третьего мира. Понятно, что возврат человечества к локальному изоляционизму уже невозможен, поэтому человечество нуждается в стратегии альтернативного глобализма, способной сохранить позитивное наследие универсалистского опыта, не допустив уничтожения духовной «надстройки» общества. По словам А. С. Панарина, «Третьему миру предстоит выступить в роли «Третьего Рима» — держателя и защитника духа против натиска взбунтовавшейся материи, отпущенной Западом на свободу и реабилитированной им»840. Такая стратегия должна исходить из принципа бимультиполярности как краеугольного камня в фундаменте нового мироустройства, в котором будет обеспечено равноправное участие цивилизаций Востока и Запада.
Новая парадигма планетарного сознания должна сочетать неприятие американоцентричного мондиализма с неприятием национализма и изоляционизма, быть ориентирована на поиск пути насыщения глобалистской идеи новым духовным содержанием. Этот путь есть путь диалога культур, цивилизаций. Он пролегает через то, что трудно выразить иначе как любовь, социальный смысл которой заключается в желании помочь другому раскрыть свою потенциальную сущность, с сохранением при этом собственной самости. На этой основе возможно коэволюционное развитие мирового сообщества как сообщества взаимосвязанных, взаимозависимых, открытых для диалога цивилизаций.
Отдельные проявления цивилизационно–симфонической парадигмы можно обнаружить на самых различных уровнях организации: на уровне фирм — практика социального партнерства, на уровне общин — тенденция коммунитарности, на уровне национальных регионов — консолидация коммерческих, общественных и административных структур в целях инновационного и социального развития региона, на государственном уровне — возрастание степени автономии гражданского общества, на международном уровне — стремление к выработке общих «правил игры» и формированию глобального игрового пространства, на глобальном уровне — начало формирования глобального гражданского общества.
Развитие этих механизмов расширяет пространство творчества, свободы и любви, что является целью глобализации и одновременно глобальным условием человеческого развития. Обращаясь к интерпретации мирового исторического процесса с позиций эзотерических учений отцов Церкви, как к последовательной смене доисторической фазы, фаз Отца, Сына и Святого Духа и последней тысячелетней фазы мира без войн, концепция которой была предложена Б. Муравьевым и используется Э. Азроянцем, можно обнаружить, что в 1945 году завершается фаза Сына и человечество вступает в фазу Святого Духа, которая предполагает приоритетность духовного развития, духовного производства, творчества, окончательное введение человека в сферу, где господствуют свобода и любовь. По словам Э. А. Азроянца, «высшей целью человека и Человечества является творчество как единственный способ воссоединения со Всеобщим»841.
Предпосылки этой новой парадигмы с наибольшей силой раскрываются в русско–православном цивилизационном сознании, наиболее способном, говоря словами Достоевского, «вместить в себя идею всечеловеческого единения». Великий писатель говорил о «всемирности» русской культуры, о том, что «лишь одному только русскому духу дана всемирность, дано назначение в будущем постигнуть и объединить все многоразличие национальностей и снять все противоречия их». Всемирность русской культуры коренится в том факте, что русско–православная цивилизация, а с ней и Государство Российское, с самого начала рождалась как «срединная земля», «сердце мира». Изначально это проявилось в становлении русской идеи как идеи Благодати, обращенной ко всем народам.
Именно русско–православное цивилизационное сознаниие оказалось единственным носителем принципа сострадания к слабым и гонимым, принципа блаженства нищих духом. Оно несовместимо с духом новой сегрегации. Вот почему оно стало объектом атак со стороны носителей господствующего духа эпохи, утверждающего уже расово–антропологический характер неравенства богатых и бедных и несущего с собой тем самым новую бестиализацию человечества.
Возможно, здесь раскрывается нравственный смысл геополитического, цивилизационного противостояния России и морских держав — Англии и США, который осознавался даже русскими западниками. К. Д. Кавелин, в частности, писал: «Родина дарвинизма давно внесла зоологические законы в общество человеческое и ими постепенно оскотинивает людей». Говоря о борьбе России с Англией в Азии, он отмечал, что «победить своего врага она ничем не может так успешно, как своею человечностью»842.
Всечеловечность в православии означает идею универсальности спасения в противовес ветхозаветной установке избранничества. Мировое призвание Православия А. С. Панарин усматривает в том, чтобы «заново утвердить, «переоткрыть» единство человечества — единство «эллина и варвара», «язычника и иудея», — которое впервые явилось вместе с христианством и постепенно было утрачено на пути к секуляризации»843 В свою очередь, всемирность русской культуры ничего общего не имеет с космополитизмом. Напротив, она олицетворяется образами матери–земли и матери–родины, и именно поэтому в ней сохраняются предпосылки космической и культурной укорененности человека и действуют законы коэволюции. По убеждению того же Достоевского, всечеловечность — это как раз глубоко, органически народное свойство. Оно заключается в осознании того, что хотя национальная идея не является последним словом человечества, но она есть точка опоры, общечеловечность же достигается не иначе как упором в свою национальность каждого народа.
Как пишет В. Кожинов, «сохранить и развить единство народности и всечеловечности — это не только труднейшая, но и в полном смысле слова творческая задача, которая для своего осуществления нуждается не только в разумном ее понимании, но именно в напряженном и вдохновенном творчестве»844. Разрыв этого единства приводит к вырождению идеи народности в национализм, а идеи всечеловечности — в космополитизм.
В осмыслении глобальных процессов современности необходимо в первую очередь отказаться от отождествления мондиализации с глобализацией и подходить к этим феноменам с позиций межкультурного диалога как условия формирования органичного глобального мира. «Если диалог победит, победит человек, его цивилизация и культура. Мы должны верить в эту победу и надеяться на то, что сердца и души всех жителей планеты будут готовы услышать призыв Всевышнего к тому, чтобы слушать сказанное и следовать наилучшему из услышанного», — убежден М. Хаттами845. В условиях беспрецедентных вызовов важно не допустить столкновения цивилизаций, ибо оно может стать прологом разрушения общецивилизационных оснований человеческого бытия в мире.
ГЛАВА 9: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ МИРА (С. В. Сиденко, А. В. Плотников)
Глобальная экономика: истоки, особенности и динамика (С. В. Сиденко)
За последние 20–30 лет тема глобализации вообще и различных форм человеческой жизнедеятельности в частности стала одной из центральных проблем исследования экономистов, философов, историков, социологов и политологов всего мира. Одними из первых начали всестороннее исследование истоков, сущности и движущих сил глобализации представители школы «международной политической экономии» — С. Стрендж, Э. Хеллайнер, Р. Андерхилл, Ф. Черни, Л. Вейс, Т. Пемпел, Т. Скопол, П. Эвене, Д. Хелд, П. Катценштайн и др. В настоящее время уже накоплен значительный опыт исследования и написано много книг по проблемам глобализации, но единого мнения по многим вопросам пока не достигнуто. Глобализация остается наиболее обсуждаемой и в то же время недостаточно изученной тенденцией современного мира.
Даже видные ученые и общественные деятели современности характеризуют ее по–разному. Так, в высказываниях о глобализации, например, З. Бжезинский связывает ее с наступлением периода глобальной смуты, С. Хантингтон — с грядущим столкновением цивилизаций, К. Санторо — с угрозой планетарного хаоса, Иоанн Павел II — с движением общества к новому тоталитаризму, И. Валлерстайн — с концом либерализма, а Дж. Сорос — с капиталистической угрозой демократии со стороны неограниченного в своем «беспределе» либерализма и рыночной стихии846.
Существует также популярная политическая идсологема, согласно которой под глобализацией понимается формирование, в основном по инициативе стран Запада, наднациональных структур, распространяющих все больший контроль и влияние над хозяйственными и политическими процессами современного мира.
Профессор М. Веллинга из Утрехтского университета отмечает, что «…глобализацию оказалось трудно определить концептуально и показать эмпирически»847. Тем не менее, существует сложившееся понимание движущих сил, сущности и проблем данного процесса. Сейчас уже можно утверждать, что это исторический процесс, затрагивающий весь мир. В связи с этим Б. Бади отмечает наличие трех измерений глобализации: глобализация как постоянно идущий исторический процесс, глобализация как гомогенизация и универсализация мира и глобализация как разрушение национальных границ848. На размывание экономических, социальных, политических границ государств как ключевую характеристику глобализации указывают также К. Роули (Лондонский городской университет) и Д. Бенсон (Мельбурнский университет)849.
Многие ученые справедливо связывают глобализацию с качественно новыми уровнями интегрированности, целостности и взаимозависимости мира. Лауреат Нобелевской премии 2001 г. по экономике Д. Стиглиц отмечает, что на рубеже XXI в. в развитии человеческой цивилизации обозначились тенденции к сближению стран и народов, к возникновению единого экономического и информационного пространства в планетарном масштабе, к интенсивному обмену знаниями и технологиями. Эти тенденции принято объединять термином «глобализация»850.
Процесс глобализации предполагает формирование подлинно взаимозависимого мира, в котором стираются географические границы социальных и культурных систем и сами люди во все большей степени осознают исчезновение подобных границ. Поэтому глобализацию можно определить как становление единого мира — целостного и по своим общим контурам, и по внутренней взаимосвязанности взаимопроникающих компонентов. Сам процесс характеризуется усилением единства человечества851.
Новое качество общественного бытия в глобализирующемся мире отмечают российские экономисты А. Володин и Г. Широков, рассматривая глобализацию как комплексное геоэкономическое, геополитическое и геогуманитарное явление, оказывающее мощный демонстрационный эффект на все стороны жизнедеятельности вовлекаемых в этот процесс стран852.
Иногда глобализация отождествляется со становлением глобальной экономики, но этот термин применим в равной степени к экономике, политике, праву, культуре и другим сферам общественной жизни. Однако именно глобализация экономики образует основу всех глобализационных процессов, служит мотором и задает импульс развитию процесса. Другие сферы общественной жизни более инерционны, чем экономика, и по своим темпам и глубине глобализация в этих областях существенно уступает глобализации экономики. Это объясняется тем, что глобализация в области политики, культуры, в социальной сфере наталкивается на национальные барьеры, которые трудно преодолеть в силу существования национального суверенитета, традиций, менталитета, духовных ценностей нации. Распространение глобальных тенденций и на эти сферы потребует много времени и усилий мирового сообщества на национальном и глобальном уровнях. Именно поэтому глобализация экономики стала предметом исследования намного раньше и изучена намного основательнее других сфер, а всесторонность и глубина анализа значительно превосходят достигнутое в других областях.
В настоящее время можно выделить, по крайней мере, три различных подхода при определении истоков процесса глобализации. Так, одни исследователи отстаивают трактовку глобализации как процесса имманентного человечеству, полагая, что в процессе эволюции идея глобализма настойчиво, «упрямо», так или иначе, заявляет о себе в доисторическую, историческую и в постисторичесую эпохи853. Интересно в этом отношении высказывание Дж. Сороса о том, что «…глобальная капиталистическая система не есть чем–то новым. Ее история берет начало в ганзейском союзе и в итальянских городах–государствах, где политические единицы были связаны коммерческими и финансовыми связями. Но современный глобальный режим отличается новыми чертами. Одна из них — скорость коммуникаций, хотя относительно ее новшества есть сомнения — в XIX в. изобретение телефона и телеграфа представлялось не меньшим ускорителем, чем развитие компьютерных коммуникаций сегодня». Правда, он при этом отмечает, что «международной торговли товарами и услугами недостаточно, чтобы создать глобальную экономику. К экономической интеграции ведет мобильность капитала, информации и предпринимательства»854.
О том, что тенденции глобализации имели место и раньше, пишут также Р. Болдуин и Ф. Мартин. В своей концепции истории глобализации они утверждают, что глобализация имела две волны: первая началась в конце XVIII в., в период промышленной революции, и закончилась началом первой мировой войны, а вторая началась после окончания второй мировой войны. Похожие выводы сделали российские ученые М. Ильин, В. Иноземцев и др. Они отмечают: «Наукам об обществе известны два процесса, каждый из которых приводил человеческую общность на более высокую ступень целостности. Первым из них было создание национальных государств на этапе промышленной революции. Второй столь же масштабный процесс развернулся в XX столетии и получил название интернационализации; на этот раз хозяйственное развитие потребовало образования блоков и союзов государств, гигантских корпораций, передела мира. Превращение общности наций в плотную сеть взаимодействий не только государств, но и иных активных субъектов различного масштаба имеет своим следствием появление особого типа интернационализации, который уместно называть глобализацией»855.
Другие исследователи (М. Чешков, Н. Симония, Г. Шахназаров, С. Мицик и др.) считают, что начало формирования глобальной общности началось не в последние 20–30 лет, а в процессе интернационализации в конце XIX — начале XX в. Именно период на рубеже XIX–XX вв. (1870–1913 гг.) характеризовался быстрым ростом объемов мировой торговли, движения международного капитала и миграций значительного числа работающих в страны «нового света»856.
Несомненно, историческим предшественником глобализации является интернационализация. Именно она, будучи начальным периодом интенсивного международного движения капиталов, товаров и людей, заложила основы целостности мирового пространства. Экономическая глобализация является продолжением и развитием процесса интернационализации хозяйственной жизни, знаменуя собой его переход в качественно новую стадию. В этой связи Ю. Шишков отмечает, что глобализация представляет собой новую, более продвинутую стадию давно известного процесса интернационализации (транснационализации) различных аспектов общественной жизни. На этой новой стадии на грани 1960–70 гг. процессы интернационализации общественной жизни, которые у своих истоков имели первоначально очаговый характер, охватывают все мировое сообщество, достигая планетарных масштабов857.
Интернационализация производства и обмена развивалась на протяжении нескольких столетий. Благодаря великим географическим открытиям в XV–XVII вв. в международную торговлю были вовлечены страны и континенты, что способствовало существенному росту ее объемов и расширению международных связей. В последующем промышленная революция и возникновение крупного капитала привели к усилению международной миграции финансового капитала и рабочей силы. Наиболее интенсивное развитие интернационализации хозяйственной жизни приходится на конец XIX — начало XX в. В тот период развитие пароходства и железных дорог способствовало интенсивному развитию транспорта, а быстрое снижение транспортных издержек и таможенных тарифов стимулировало рост мировой торговли.
Так, в последнюю четверть XIX в. объемы мировой торговли возросли в 2,1 раза. В 1900–1913 гг. при росте мирового производства более чем на 40% физические обороты мировой торговли возросли на 62%. Интенсифицировались и финансовые потоки: в последнюю четверть XIX в. иностранные капиталовложения возросли в 2,3 раза, а в 1900–1913 гг. — удвоились858. В 1913 г. треть британских капиталов была размещена на заморских территориях. Значительно возросла миграция населения: за 100 лет, начиная с 1820 г., около 60 млн европейцев переселились в Новый Свет, 3/5 из них — в США. Происходило сближение стандартов в социальной сфере: быстро сближались уровни цен, заработной платы и уровней жизни в Западной Европе и США. Началось формирование трансатлантических рынков859.
Отмечая значительные изменения в мировой экономике и интенсификацию международных связей в этот период, некоторые исследователи выделяют период протоглобализации, развитие которой приходится на середину XIX — начало XX в. (до первой мировой войны) и которая распространялась на всю Европу и Северную Америку. На основании сопоставления таких показателей, как мировая торговля, вывоз капитала, золотой стандарт, они утверждают, что в начале XX в. мир был более глобализирован, целостен и однороден, чем в середине этого же века860.
Наконец, есть третья точка зрения на глобализацию, которую сегодня разделяет большинство авторов. Она неразрывно связана с утверждением, что «о глобализации в собственном смысле слова речь может идти лишь применительно к нашей эпохе, когда она становится доминантой мирового развития и это связано с появлением общемирового информационного и финансового пространства»861.
В этой связи можно согласиться с российским ученым В. Кувалдиным, который отмечает, что «корни глобализационных процессов уходят глубоко в толщу истории, все же глобализация — феномен XX века»862.
Выяснение сущности глобализации требует выделить те ее новые черты, которых не было ранее или они не были достаточно развиты. Для этого надо рассмотреть основные критерии глобализованности мировой экономики.
Российский экономист С. Долгов считает, что их можно определить при помощи таких показателей, как:
• объем интернационализированного (международного) производства товаров и услуг, темпы его роста по сравнению с объемом и темпами роста всего валового продукта в мире;
• объем и динамика прямых иностранных инвестиций по сравнению с объемом и динамикой всех инвестиций;
• объем и динамика международной централизации капитала (в виде международных слияний и поглощений компаний) по сравнению с общими данными о централизации капитала;
• объем и динамика крупных, комплексных международных инвестиционных проектов по сравнению с общими масштабами подобных проектов;
• объем международной торговли товарами и услугами и темпы ее роста по сравнению с валовым продуктом;
• данные о международных операциях с патентами, лицензиями, ноу–хау;
• объем и динамика международных операций банков и других кредитных учреждений по сравнению с общим объемом и динамикой всех их операций;
• объем и динамика международных фондовых рынков по сравнению с общим объемом этих рынков и темпами их роста863.
Обобщение качественных и количественных изменений, происходящих в мировой экономике в условиях глобализации, позволяет выделить основные элементы собственно глобализации. Таковыми являются — международная торговля, транснациональные корпорации (ТНК) и международные финансы.
Прежде всего глобализация сопровождается бурным развитием торговых связей. В 90‑е гг. прошлого столетия мировое производство выросло на 20%, а мировая торговля — более чем на 70%. В последние годы прошлого века мировой экспорт увеличивался в 1,5–2 раза быстрее валового продукта864. При этом необходимо отметить то обстоятельство, которое отличает интенсивное развитие торговли в начале и в конце XX в., — это возрастающая доля экспорта в ВВП стран мира. Так, экспорт товаров и услуг в ВВП составляет, например, 82% в Бельгии, 88% — на Мальте, 98% — в Ирландии. В то же время для многих стран мировой рынок становится определяющим условием функционирования их национальных экономик, при котором объем их экспорта превышает их ВВП. Речь идет об экспорто ориентированных странах, где соответствующие объемы составили: 116% — в Малайзии, 151% — в Гонконге (Китай), 145% — в Люксембурге865.
Второй важной чертой глобальной экономики является бурное развитие ТНК. Характеризуя переход от процесса интернационализации к глобализации мировой экономики, профессор социологии из Университета Дьюка Г. Джереффи указывает на возрастание степени «функциональной интеграции и координации в международных масштабах различных видов деятельности»866. К концу XX века в мире насчитывалось около 53 тыс. ТНК с 450 тыс. иностранных филиалов и объемом глобальных продаж в размере 9.5 трлн долл., на которые приходилось примерно 20–30% общемирового производства и 66–70% мировой торговли867. Сегодня 500 крупнейших ТНК обеспечивают более 1/4 общемирового производства товаров и услуг, их доля в экспорте промышленной продукции достигает 1/3, а в торговле технологиями и управленческими услугами — 4/5868.
В самой структуре ТНК образовалась небольшая группа гигантов мирового бизнеса. В 1997 г. объем продаж ведущих ТНК мира — «Дженерал моторе», «Форд», «Мицубиси», «Эксон», «Тойота» — превысил ВВП таких стран, как Малайзия, Израиль, Колумбия, Венесуэла, Филиппины. По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), более 60% мировых инвестиционных потоков приходилось на 109 наиболее крупных сделок (более чем на 1 млрд долл, каждая).
Наиболее динамичные процессы в условиях развития глобализации происходят в финансовой сфере. Глобальная экономика характеризуется не только свободной торговлей товарами и услугами, но и свободным движением капитала, способного устремляться туда, где прибыль наибольшая. Это, в свою очередь, привело к быстрому росту мировых финансовых рынков. Как отмечает Дж. Сорос, результатом этого стала «широкая система обращения»: она втягивает капитал в финансовые рынки и институты в центре, а затем перекачивает его на периферию869.
Развитие международных финансовых рынков получило значительный толчок в 80‑е гг. прошлого века. В период 1990–2000 гг. произошло четырехкратное повышение валовых мировых потоков капитала, которые составили 7.5 трлн долл. Международное движение капитала по отношению к ВВП возросло в 1970–2000 гг. с 3 до 17% в развитых странах и с 0 до 5%— в развивающихся870. Несмотря на периодические кризисы, развитие международных рынков капитала можно охарактеризовать как глобальное871. Годовая торговля валютой составляет около 400 трлн долл., в 80 раз превышая мировую торговлю товарами (в 1973 г. это соотношение было двукратным)872. Обороты на международном фондовом и валютном рынках в десятки, а иногда и сотни раз превышают торговые обороты. Экспорт капиталов в виде прямых инвестиций растет в 2–3 раза быстрее, чем мировая торговля. Гигантских величин достиг международный кредит, предоставляемый государствами, международными организациями, банками, частными компаниями.
Многие исследователи отмечают, что двигателем глобализации могут быть бизнес и высокие технологии, но ее структурная основа была создана международными организациями. Во время первой волны глобализации конца XIX в. возникли первые международные институты — Красный Крест, Международный Почтовый Союз, Международный Телеграфный Союз. Послевоенные международные организации — институты ООН, Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития, Всемирная торговая организация, Организация экономического сотрудничества и развития — оказались действенными и теперь превратились в международные институты глобализации. ГАТТ/ВТО устанавливает правила мировой торговли, МВФ — определяет правила для финансовых систем, ОЭСР — обеспечивает интеллектуальную поддержку глобализации, а политико–экономическую стратегию глобализации определяет «большая восьмерка».
Но главные качественные изменения в мировом развитии связаны с новым научно–техническим переворотом конца XX века. Во–первых, в глобальной экономике интеллект и знания становятся непосредственной производительной силой, а информация и технологии — важнейшими экономическими активами. Фундаментальные сдвиги в хозяйственной жизни, вызванные появлением информационных технологий и получившие название «новой экономики», призваны стать фундаментом формирующегося глобального общества. «Новую экономику» часто называют «экономикой знаний», подчеркивая особую роль науки и интеллекта в развитии современного производства.
Сейчас в странах ОЭСР более половины ВВП создается в интеллектуально–емком производстве. В научных открытиях последних десятилетий наиболее важные результаты имели прорывы в исследовании физики твердого тела, генетике, заложившие основы современных технологий в информатике, средствах связи, медицине, сельском хозяйстве. Информационная революция, базирующаяся на соединении компьютера с телекоммуникационными сетями, по мнению многих ученых, может иметь такие же последствия, как в свое время паровая машина или электродвигатель. Информационная революция в соединении с биотехнологией, робототехникой, созданием АСУ, новыми средствами передвижения революционизировала производство, обмен и потребление.
Во–вторых, феноменом глобального мира стали Интернет и информационные технологии. Профессор Калифорнийского университета М. Кастельс отмечает, что в последние два десятилетия в мире появилась экономика нового типа, которую он называет информациональной и глобальной. «Информациональная экономика… заключается в глубоком улучшении технологии и использовании знаний и информации во всех процессах материального производства и распределения на основе гигантского скачка вперед»873. Новые информационные технологии позволяют мгновенно перемешать информацию и многомиллиардные суммы денег в любой конец мира, а скорость распространения больших объемов информации намного обгоняет возможности передвижения товаров и людей, в результате чего создается глобальное информационное пространство, которое быстро осваивается человеком.
Согласно прогнозам мировой объем услуг, предоставленных коммерческими предприятиями потребителям при помощи электронной торговли, в 2004 г. должен был составить 233 млрд долл, (по сравнению с 25 млрд долл, в 1999 г.), а численность пользователей Интернет (в 2003 г. она составляла 500 млн человек) к 2005 г. должна достигнуть почти 1 млрд человек874.
Интенсивность информационных потоков многократно ускоряет глобальное распространение знаний и технических достижений и поэтому ее можно рассматривать в качестве нового стратегического ресурса человечества.
Обобщая перечисленные проявления глобализации, известный российский ученый академик О. Богомолов подчеркивает, что «бурное развитие компьютерной техники и электронных телекоммуникаций, появление высокоскоростного и более экономичного транспорта резко приблизили друг к другу все континенты и государства, создали необходимые предпосылки для стремительного нарастания трансграничных обменов. Переливающиеся из страны в страну потоки товаров и услуг, капитала и людей, глобальные системы коммуникаций и информации, деятельность международных экономических и финансовых организаций и корпораций образуют ткань глобальной экономики, в которую в большей или в меньшей степени вплетаются все без исключения национальные экономики»875.
Современный мир объединен не только торговлей, но и моментальной и почти бесплатной связью с помощью телефонов, спутников, телевидения, Интернета, реактивных самолетов. Все это сопровождается ростом «глобального сознания», которое влияет на бизнес, на защитников окружающей среды, борцов за права человека и др.876 В то же время глобальная экономика не охватывает все экономические процессы, территории и людей, хотя и имеет влияние на все человечество. На сегментарный характер глобальной экономики указывают многие зарубежные исследователи. Так, М. Кастельс отмечает, что, «несмотря на планетарный эффект от глобальной экономики, ее существование и формы затрагивают лишь отдельные сегменты и экономические структуры, страны и регионы пропорционально конкретному положению страны или региона в международном разделении труда»877.
Наконец, развитие процесса глобализации коренным образом преобразует человеческое и общественное бытие. Информационная революция, получившая развитие в последние десятилетия, позволяет устанавливать контакты между любыми точками земного шара, меняет содержание различных видов деятельности. В новых видах коммуникаций, в новых формах взаимодействия, в новых созидательных возможностях человека глобализация обретает свой экономический базис.
Глобализация также влечет за собой глубокую трансформацию всей системы социальных и общественных связей человека. Она раскрепощает личность, расширяет возможность выбора жизненной стратегии. Американские ученые П. Нанди и Ш. Шахидулла отмечают активную реакцию людей на изменение общемирового контекста деятельности. По их мнению, глобализация — «принципиально новый процесс роста и развития». В принципе глобализация открывает перед человеком беспрецедентные возможности самореализации878 и тем самым поощряет человека к самореализации. Тем самым стремление человека к максимальной самореализации становится основным источником прогресса наступающей эпохи.
В условиях глобализации выход человеческой деятельности за национальные рамки и усиление транснациональных форм ее организации ведет к кардинальным изменениям условий бытия индивидов, социальных групп и общин, народов и государств. Речь идет о создании глобального сообщества, в рамках которого существующие национально–государственные образования выступают в качестве более или менее самостоятельных структурных единиц. Это общество получило название мегаобщества879.
Фундаментальной тенденцией, радикально изменившей облик современной цивилизации во второй половине XX века, стало движение к обретению человеком все большей экономической, социальной, политической и духовной свободы. Это значит, что у человечества появляются необходимость и возможность влиять не на отдельные стороны социального прогресса, а на прогресс цивилизации в целом, что находит выражение в формировании и развитии институтов глобального управления.
Вместе с тем глобализация потенциально несет угрозу демонтажа всей созданной на протяжении предыдущего столетия социальной надстройки. Для большого количества работающих, даже в развитых странах мира, глобализация означает неуверенность в сохранении рабочего места, ухудшение условий труда и жизни, отсутствие социальных гарантий и др. Уже сейчас становятся все более очевидными социальные последствия глобализации экономики, особенно обострения международной конкуренции и усиления влияния ТНК. И в бедных, и в богатых странах вызывает обеспокоенность рост неопределенности по мере того, как технологический прогресс, активизация международной торговли и распад традиционных местных структур начинают угрожать занятости, уровню заработков и благосостоянию. С обострением международной конкуренции и развитые, и развивающиеся страны утратили стимулы к укреплению или даже сохранению механизмов социальной защиты, способной переориентировать иностранных инвесторов на страны с низкой заработной платой, ненормированным трудом и низкими социальными гарантиями. Уже сейчас трудящиеся обеспокоены тем, что возможности ускоренного роста и повышения уровня жизни, заложенные в глобализации, могут остаться нереализованными. Поэтому мировое сообщество должно учитывать социальные аспекты процесса глобализации, особенно при разработке правил, норм и политики управления мировой экономикой.
Глобальная экономика — экономика, основанная на знаниях (С. В. Сиденко)
Одной из качественных черт процесса глобализации, как уже ранее отмечалось, есть становление «новой экономики» или экономики, основанной на знаниях. Как известно, в конце 1950‑х гг. в развитых странах мира началось формирование основ постиндустриального общества. Его развитие прошло несколько этапов. На первом этапе в развитых странах Запада происходил значительный экономический рост в условиях стабильной хозяйственной конъюнктуры и быстрой структурной перестройки экономики. В 70‑е гг. было положено начало современной НТР. Важнейшим фактором роста экономики западных стран стало производство информации и услуг, поэтому постиндустриальное общество стали характеризовать как общество, основанное на услугах. Сейчас около 60% мирового ВВП приходится на услуги — образование, медицинское обслуживание, государственное управление, оптовую и розничную торговлю.
На втором этапе формирования постиндустриального общества, который охватывает 80‑е гг. прошлого века, для развития технологического прогресса и его самовоспроизводства возросла потребность в инвестициях, а потому активизировалось привлечение иностранных инвестиций в экономику и произошло сокращение текущего потребления, прежде всего расходов на социальные программы. Классическим примером реализации такой политики была проводимая в США реформа президента Р. Рейгана, которая максимально активизировала внутренние источники накопления и обеспечила беспрецедентный приток внешних инвестиций.
Третий этап охватывает период с начала 90‑х гг. по настоящее время. На протяжении этого периода западные страны развиваются как оформившиеся постиндустриальные социально–экономические системы. В середине 90‑х гг. в странах постиндустриального Запада была создана основа для самоподдерживающегося поступательного развития — экономика, базирующаяся на производстве, использовании и потреблении знаний. Поэтому постиндустриальную хозяйственную систему определяют как систему, основанную «на производстве и потреблении знаний»880. Знания стали не только важнейшим производственным фактором, но и фактором роста международной конкурентоспособности и процветания нации.
Экономика, основанная на знаниях, резко снижает роль таких основополагающих факторов производства, как природные ресурсы, основные фонды, издержки производства и др. Они уже не определяют ту ценность, которую потребители признают за тем или иным продуктом. Экономика превращается в систему, функционирующую на основе обмена знаниями и их взаимной оценки. Японский исследователь Т. Сакайя считает, что сейчас мы вступаем в новый этап цивилизации, на котором движущей силой являются ценности, создаваемые знаниями, и именно поэтому называет этот этап обществом, базирующимся на ценностях, создаваемых знаниями881.
Наряду с такими традиционными показателями национального могущества государства, как территория, население, уровень экономического развития, научно–технический потенциал, глобализация выдвигает на первый план новые факторы: информационно–коммуникационный потенциал, положение на мировых финансовых рынках, скорость создания, освоения и распространения новых технологий и др. Способность создавать, распространять, использовать знания становится необходимым условием развития экономики.
Из всего комплекса аспектов развития «новой экономики» остановимся только на проблеме развития человеческого потенциала, так как именно он является главной движущей силой этого процесса. Интерес к исследованию этой проблемы значительно повысился в 80‑е гг. минувшего столетия, когда глобализация выдвинула на передний план вопросы конкурентоспособности отдельных стран. Тогда целый ряд зарубежных ученых — М. Грановетер, М. Кастельс, Р. Сведберг, А. Сен, А. Турен, Р. Холлингсворт, Ф. Шмиттер, В. Штрек, А. Этциони и др. — проводили исследования социальных и культурных факторов, влияющих на структуру спроса, занятости, организацию производства и на общий хозяйственный потенциал страны. Ими был сделан вывод об обусловленности экономических процессов такими факторами, как правовые нормы, административные решения, господствующая в обществе система ценностей, приоритеты, традиции, мораль, этика882. Не случайно в странах нового технологического сообщества особое значение придается развитию человеческого потенциала.
В начале 1990‑х гг. в экономической теории возникла концепция интеллектуального капитала. Т. Стюарт (США) и Л. Эдвинсон (Швеция) придали этому понятию научно–теоретический статус. В настоящее время имеются разные определения интеллектуального капитала, но наиболее полно его сущность раскрывает определение, данное Д. Клейном и Л. Прусаком: интеллектуальный капитал — это интеллектуальный материал, который формализован, зафиксирован и используется для производства более ценного имущества883.
Исследования в сфере интеллектуального капитала убедительно свидетельствуют о значительно большей ценности интеллектуальных фондов компаний по сравнению с их материальными ресурсами. Так, профессор Колумбийского университета Ф. Лихтенберг подсчитал, что доллар, затраченный на исследования и разработки, приносит в восемь раз большую прибыль, чем доллар, вложенный в технику. К подобным результатам пришли и другие исследователи. Например, Ч. Хенди из Лондонской школы бизнеса утверждает, что интеллектуальный капитал корпорации, как правило, в 3–4 раза превышает стоимость ее материальных доходов. А по подсчетам Л. Эдвинсона, соотношение интеллектуального капитала к совокупной стоимости материальных средств производства и финансового капитала колеблется в пределах 5:1–6:1884. Таким образом, основой «новой экономики» постепенно становятся не основные фонды и даже не управленческий ресурс, а человеческий капитал.
Следует отметить, что качества, позволяющие человеку войти в класс интеллектуалов, формируются на протяжении десятков лет, начиная со школы, высшего учебного заведения, и на протяжении всей трудовой деятельности в процессе самосовершенствования и приобретения опыта. Само усвоение человеком знаний и информации тождественно производству нового знания. Передача знания другим не уменьшает количества этого ресурса, но доступ к этому специфическому ресурсу остается ограниченным, т. к. для получения знания необходимы мотивация, определенные способности, талант, определенная подготовка и др. Поскольку знания отличаются от большинства материальных благ своей редкостью, то их ценность определяется законами цен монопольных благ, а их создатели оказываются в исключительном положении.
Начиная с середины 1970‑х гг., развитие информационной экономики вызвало повышение спроса на работающих, которые обладают развитым интеллектом и хорошим образованием, а также обусловило небывалое расширение возможностей творческой самореализации личности. Производство и использование знаний формируют новую мотивационную парадигму и, по мнению многих ученых, становятся основой становления в обществе новых социальных групп, имеющих основные признаки классов885. Более того, в постиндустриальном обществе люди, работающие в интеллектуальной сфере, образуют доминирующий класс нового общества.
Этот класс интеллектуалов имеет свои отличительные черты. Во–первых, по мере подъема технологического уровня и повышения квалификации работающих наблюдается тенденция роста благосостояния той их части, которая обнаруживала способности, заметно превышающие средние для всего массива занятых. Отдельные индивиды и социальные группы, пользующиеся преимуществами технологического прогресса и высокого уровня квалификации, начинают распоряжаться богатством, которое они не присвоили путем эксплуатации, а создали своей творческой деятельностью или обрели в результате рыночного обмена.
В этом отношении показателен пример США, где сейчас лишь каждый 15‑й из тех, кто составляет 1% наиболее богатых американцев, получает свои доходы в качестве прибыли на вложенный капитал. Более половины представителей данной группы работают на административных постах в крупных компаниях, почти треть представлена практикующими юристами и врачами, а остальная часть состоит из людей творческих профессий, включая профессоров и преподавателей. Четыре из пяти проживающих сейчас в США миллионеров не приумножили унаследованные ими активы, а заработали свое состояние практически с нуля886 Примером в данном случае является Бил Гейтс — глава фирмы «Майкрософт», владеющий вторым по величине имуществом в мире — 46,6 млрд долл. — и заработавший его самостоятельно — своим интеллектуальным трудом.
Во–вторых, экономический прогресс XX в. в развитых странах способствовал удовлетворению базовых материальных потребностей человека, и последние десятилетия ознаменовались резким изменением мотивов его деятельности. Материалистические мотивы, связанные с повышением личного благосостояния, которыми человек руководствовался на протяжении многих веков, все более уступают место нематериалистическим, которые определяются стремлением к совершенствованию и максимальной самореализации личности.
В-третьих, изменяется сама организация труда, поскольку последний стал носить интеллектуальный характер. Традиционную компанию, организованную в соответствии со строгой иерархией, сменила сначала адаптивная, а затем креативная корпорация, предполагающая сотрудничество. Кроме того, в современных условиях наблюдается рост числа разнообразных венчурных средних, мелких и микро предприятий вплоть до феномена человек–предприятие. С развитием высокотехнологичных секторов экономики и сети Интернет появились возможности для автономной деятельности человека — открылась перспектива производства готового информационного продукта и его реализации на рынке, что не вписывается в классическую капиталистическую организацию производства.
Наконец, социальные тенденции последних десятилетий свидетельствуют, что общество, эффективно использующее результаты технологического прогресса, ставящее перед собой постматериалистические цели и культивирующее надутилитарные мотивы деятельности, ведет к нарастанию беспрецедентного имущественного неравенства. Его причины кроются в различиях уровня способностей людей, таланта, образованности и трудолюбия. Представители класса интеллектуалов присваивают все большую долю национального богатства, руководствуясь неутилитарными мотивами, в то время, как представители других классов или не могут обеспечить себе достойного существования, или лишь стремятся к повышению уровня жизни. Такое неравенство с позиций этики может быть признано справедливым, но возникающее при этом социальное противоречие может иметь серьезные и непредсказуемые последствия по сравнению с противоречиями классового общества индустриальной эпохи887.
Для перехода от индустриальной экономики к обществу знаний и обеспечения успешной конкуренции в постиндустриальном мире, в котором в эпоху сетевых технологий каждая страна должна располагать потенциалом для восприятия и адаптации глобальных технологий, необходимы развитая производительность и творческий потенциал рабочей силы, соответствующие материальные условия, а также определенная культура мышления. Это требует качественно нового уровня вложений на цели развития и расширенного воспроизводства гуманитарного капитала. Поэтому наиболее эффективной формой накопления становится развитие каждым человеком собственных способностей, а наиболее выгодными инвестициями — инвестиции в человека, его знания и способности.
Для создания среды, стимулирующей разработку новых технологий, необходимы политическая и экономическая стабильность, а также соответствующая экономическая среда, характеризующаяся гибкостью, наличием конкуренции и динамизмом. Для многих стран это делает необходимым проведение реформ, направленных на обеспечение открытости для новых идей и новых инвестиций.
Развитие науки и даже простое копирование иностранных технологий предполагают, что первостепенное внимание уделяется развитию национальной системы образования, поэтому во многих странах эти расходы являются приоритетными. Так, в большинстве развитых стран они составляют 5–6% ВВП, а в Израиле — 7,3%, Эстонии — 7,4%, Швеции — 7,6%, Дании — 8,3%, в Малайзии — 7,9%, на Кубе — 8,5%888.
Во многих странах государственные расходы на образование дополняются финансированием из частных источников. Например, в США только на повышение образовательного уровня своих сотрудников частные американские компании расходуют около 30 млрд долл, ежегодно, что равно суммарному ассигнованию на все направления научных исследований в России, Китае, Южной Корее и на Тайване889.
Особенно заметный рост расходов на образование отмечался в некоторых странах Азии. В отличие от стран Латинской Америки, где система образования развивалась вслед за индустриализацией, в странах Азии ее создание и расширение опережали развитие индустрии, а рост расходов на образование превышал темпы роста экономики. Например, в Сингапуре на протяжении 1960–1989 гг. совокупные расходы на образование (государственные и частные) увеличивались в среднем на 11,4% в год — быстрее, чем возрастал ВВП. Существенной чертой во всех этих странах была доступность образования. По степени охвата молодежи средним и высшим образованием эти страны значительно превосходили индустриальные страны Латинской Америки.
В последнее время примечательной тенденцией стало особое внимание к подготовке специалистов в области математики, естественных и прикладных наук. Так, в 1994–1997 гг. доля поступивших в вузы по этим специальностям составила 37% в Финляндии; 38% — в Литве, Хорватии и Македонии; 42% — в Казахстане; 43% — в Словакии и Чили; 44% — в Молдове; 48% — в России и Грузии; 50% — в Алжире; 53% — в Гонконге890.
Развитие новых технологий обусловливает рост расходов на научные исследования и разработки. На протяжении 90‑х гг. страны ОЭСР тратили на НИОКР в среднем около 400 млрд долл, (в ценах 1995 г.). Сегодня на долю одних только США приходится 44% общемировых затрат на эти цели, в то время как государства Латинской Америки и Африки, вместе взятые, обеспечивают менее 1%891.
В 1996–2002 гг. расходы на НИОКР как доля в ВНП составили в странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона в среднем 1,6%, странах Центрально–Восточной Европы и СНГ — 1,0%, странах ОЭСР — 2,6%, при этом они превысили 3% в Японии, Исландии, Финляндии и достигли 4,6% в Швеции и 5,0% в Израиле892.
Но такие значительные расходы на образование, научные исследования и разработки, а также в целом на развитие гуманитарного капитала характерны только для высокоразвитых стран мира. Большинство же стран мира не имеют возможности развивать научные исследования по многим направлениям, в том числе приоритетным. К тому же в развитых странах в сфере науки и научных разработок сосредоточен значительный потенциал ученых и квалифицированных специалистов. Например, численность работающих в научно–технической сфере на 1 млн населения составляет в США 126,2 тыс., тогда как среднемировой показатель не превышает 23,4 тыс.893.
В результате получается, что к концу XX в. постиндустриальный Запад стал сосредоточением научного потенциала человечества. Занимая ведущие позиции почти по всем направлениям НТП, эти страны обладают большими преимуществами в области открытий, изобретений, разработки патентов и лицензий, имеют огромное технологическое превосходство. Развитые страны полностью доминируют в фундаментальных и прикладных исследованиях. В начале 90‑х гг. в 10 развитых странах мира было сосредоточено 84% мировых НИОКР, они обладали 80,4% мировой компьютерной техники, обеспечивали 90,5% высокотехнологичного производства894. Сейчас они владеют 97% зарегистрированных в мире патентов и на их долю приходится более 90% трансграничных доходов от патентов и лицензий.
В 90‑х гг. прошлого века в зависимости от критериев, которые использовались для определения интеллектуального уровня экономической деятельности (удельный вес высокотехнологических отраслей; доля расходов на исследования и разработки, на программное обеспечение и образование в ВНП; процент высококвалифицированной рабочей силы), лидировали Япония, Швеция, Германия и США895. По промышленному использованию роботов лидируют Япония и США (402 и 93 тыс. роботов соответственно).
Показательно в этом отношении распределение количества пользователей сети Интернет по странам мира. В конце 90‑х гг. 88% пользователей жили в развитых странах с населением 15% от мирового, в т. ч. в США и Канаде, где проживает 5% от мирового населения, было сосредоточено более 50% пользователей896.
Сегодня в региональном разрезе в перерасчете на 1 тыс. чел. населения количество пользователей сети Интернет приходится такое: в развивающихся странах (в среднем) — 40,9; в наименее развитых странах — 2,8; в странах Африки к югу от Сахары — 9,6; странах Центрально–Восточной Европы и СНГ — 71,8; странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона — 60,9; странах ОЭСР — 383,1. В то же время в США их количество превысило 551, Швеции — 573 и достигло 648 в Исландии897.
Сейчас 72% пользователей Интернет живут в странах ОЭСР с высокими доходами, на которые приходится 14% мирового народонаселения, в т. ч. 164 млн пользователей живут в США898.
Несколько иная картина наблюдается по такому показателю инновационной деятельности, как экспорт высоких технологий. По этому показателю наиболее высокие позиции занимали: Корея и США — 32% экспорта промышленных товаров, Ирландия — 41%, Малайзия — 58%, Сингапур — 60%, Мальта — 62% и Филиппины — 65%899. Здесь среди лидеров присутствуют и развивающиеся страны, которые в последнее время инвестируют значительные средства из госбюджета на образование, сферу НИОКР, а также на социальные программы. Поэтому в этих странах экспорт высоких технологий в последние десять лет рос быстрее, чем в развитых странах. Так, в Индонезии он возрос в 13 раз, в Китае и Гонконге — в 20 раз, в Коста–Рике — в 36 раз, на Филиппинах — в 70 раз, в то время, как в развитых странах — только в 1,5–2 раза900.
Оценивая достижения развитых стран мира в области науки и технологий, следует иметь в виду, что для этого они используют не только свой внутренний потенциал. Сейчас они разрабатывают специальные программы по привлечению зарубежных специалистов из наиболее перспективных отраслей. Например, Германия разработала программу привлечения зарубежных специалистов по компьютерным технологиям. В 2000 г. в США был принят закон, позволяющий выдавать квалифицированным специалистам ежегодно дополнительно 195 тыс. виз с правом на работу. Поскольку в развитых странах есть все необходимые условия для исследований и гарантирован высокий жизненный уровень, желающих эмигрировать в богатые страны много. Только в США в 90‑е гг. более 50% докторских степеней присваивалось иностранным гражданам, а 47% иностранных обладателей этой степени остались в Америке901 Наряду с другими факторами это способствовало росту объемов экспорта интеллектуальной собственности из США в 1986–1995 гг. в 3,5 раза, а положительное сальдо торгового баланса в этой области превысило 20 млрд долл. К 1995 г. на долю США приходилось 3/4 мирового рынка информационных услуг и услуг по обработке данных, емкость которого составляет сейчас 95 млрд долл.902
Но если от миграции ученых выигрывают богатые страны, то страны эмиграции несут значительные убытки. Однако оценить глобальные результаты международной миграции интеллектуального капитала можно только приблизительно. По методике ООН, согласно которой из ВВП вычитаются прямые и косвенные расходы на подготовку выезжающих специалистов и упущенная выгода, потери России от одного интеллектуального эмигранта оцениваются в 300 тыс. долл. Американские социологи дают более высокую оценку убытка, исходя из условий своей страны. Они полагают, что высококвалифицированный труд создает за все годы функционирования в расчете на одного работника прибавочную стоимость 400–450 тыс. долл., а труд научных и инженерных кадров — 800 тыс. долл. По американским критериям, потери России от утечки умов в 1992 г. оценивались в 25–28 млрд долл., в 1993 г. — 25–33 млрд долл., в 1994 г. — в 25–28 млрд долл., что составляет примерно половину выручки от товарного экспорта России903.
Таким образом, уже сейчас прослеживается значительная дифференциация стран по уровню научно–технического потенциала, которая в будущем будет иметь определяющее значение в глобальной экономике. Известный американский специалист по проблемам экономического развития Дж. Сакс делит современный мир по технологическому уровню на три категории — около 15% («золотой миллиард») практически полностью обеспечивают развитие науки, техники, новых форм производства; примерно половина населения земли не создает новых технологий, но в состоянии использовать достижения лидеров, а оставшаяся треть не может ни изобретать, ни использовать чужие изобретения. Технологически она отрезана от остального мира, и разрыв между теми, кто владеет информационными технологиями, и теми, кто их не имеет, увеличивается904. В то же время действующая система создания и практического использования интеллектуального капитала закрепляет существующее неравенство особенно прочно.
Проблемы усиления неравномерности развития стран и регионов в глобализирующемся мире (С. В. Сиденко)
Исследование проблем глобализации позволяет сделать вывод, что этот процесс оказывает неоднозначное влияние на мировое развитие, имея как положительные, так и негативные последствия. Оценивая результаты этого процесса, Д. Стиглиц отмечает, что открытие рынков для международной торговли помогло многим странам осуществить гораздо более быстрый экономический рост, чем это могло бы быть в ином случае. Международная торговля способствует экономическому развитию, тогда как экспорт страны влияет на ее экономический рост. Стимулируемый экспортом рост был центральным пунктом промышленной политики, обогатившей значительную часть Азии и существенно улучшившей жизнь миллионов. Благодаря глобализации увеличилась продолжительность жизни у многих народов мира, повысился их жизненный уровень. Глобализация уменьшила чувство изоляции, которое остро ощущалось в развивающихся странах, и открыла многим из них доступ к знаниям в таком масштабе, который стоит на порядок выше возможностей даже самых богатых жителей любой из стран сто лет назад905. Исследователи также отмечают, что за последние 10 лет созданы миллионы рабочих мест, существенно расширен ассортимент доступных потребительских товаров, созданы условия для свободного распространения информации в ранее закрытых обществах и др.
Отмечая положительные стороны процесса глобализации, необходимо учитывать новые проблемы и противоречия, порождаемые этим процессом. Среди комплекса проблем глобализации на первом месте — состояние окружающей среды. Ведь распространение по мере глобализации социально–экономической модели, в центре которой находится культ потребления, обусловливает наращивание промышленного потенциала в различных регионах мира, что ведет к истощению запасов природных ресурсов и растущему загрязнению окружающей среды. Это способно не только губительно отразиться на состоянии среды обитания человечества, но и на здоровье человека.
Во–вторых, не менее важной проблемой становится возрастание вместе с ростом взаимозависимости также и взаимной уязвимости различных стран мира. Это по–новому ставит проблемы национальной экономической, социальной и военной безопасности. В нынешних условиях характерным становится более быстрое и обширное распространение кризисных явлений в мировой экономике, что отчетливо продемонстрировал мировой финансовый кризис 1997–1999 гг., а также глобальный экономический спад 2001–2002 гг. Возрастает угроза международного терроризма, отмечается быстрое распространение новых опасных болезней (например, эпидемия нетипичной пневмонии в 2003 г.). Появление все более изощренных компьютерных вирусов угрожает сбоями в работе глобальных компьютерных систем. И этот список новых глобальных угроз можно продолжить.
В-третьих, существенное противоречие современной глобализации состоит в том, что она, объективно направленная на объединение мира путем его гомогенизации и универсализации на основе эталонных институтов, технологий и образцов поведения, наталкивается на принципиально несовместимые политические системы и культурные нормы, уровни социально–экономического и политического развития стран, образ жизни, уклад и системы ценностей, которые трудно унифицировать. Поэтому попытки форсировать универсализацию в политической, экономической, культурной сферах часто носят полунасильственный, навязанный характер.
В связи с этим актуально звучат выводы А. Тойнби, который отмечал, что успешная экспансия западной цивилизации за собственные цивилизационные пределы подталкивала страны, служащие объектом такой экспансии, к модернизации, сопряженной с усвоением некоторых особых элементов западной цивилизации. Модернизационные преобразования заключались, с одной стороны, в приспособлении форм массового производства к местной цивилизационной специфике и, следовательно, в продвижении техники и технологий запада в новые социокультурные регионы, а с другой — в освоении политических форм современной демократии. В то же время процессы вестернизации и вторжение элементов западной культуры в инородные цивилизационные пространства часто вызывали реакцию отторжения906.
В-четвертых, глобализация открывает неравные перспективы развития для стран и регионов мира. Для стран Запада, обладающих мощным научным и интеллектуальным капиталом, она открывает уникальные возможности развития, а для большинства развивающихся стран — потенциальную угрозу упадка и деградации, опасность усиления зависимости от развитых стран в результате создания неоколониальных империй на базе новейших технологий. Это обстоятельство может обернуться против самой глобализации, ведь, как отмечают специалисты, одной из основных причин дезинтеграции мира в период между двумя мировыми войнами было растущее глобальное неравенство. И история может повториться.
Наконец, существующее различие в потенциале участников и неравенство стартовых возможностей в глобализирующемся мире ведут к усилению неравномерности социально–экономического развития различных регионов мира, стран и народов. Конечно, это противоречие имело место и раньше, но глобализация значительно ускоряет и обостряет этот процесс. И эта проблема по важности может уступать только глобальной экологической уязвимости.
Как отмечает М. Кастельс, глобальная экономика характеризуется фундаментальной асимметрией между странами по уровню их интеграции, конкурентному потенциалу и доле выгод от экономического роста907. Эта неравномерность развития в современном мире прослеживается по всем направлениям. Во–первых, современная эпоха характеризуется наличием глубокой асимметрии в мировой экономике и ее социальной структуре. С одной стороны, выделяется небольшая группа стран с высоким и средним уровнем цивилизационного развития (страны ОЭСР), а с другой — большое число развивающихся стран, находящихся на начальных стадиях индустриальной и научно–технической цивилизации. Технологические новшества, составляющие основу национального богатства и экономического развития постиндустриальных держав, не могут быть эффективно ни произведены, ни скопированы, а в некоторых случаях даже использованы в рамках индустриальных или аграрных обществ, но только на основе таких новшеств возможно поступательное развитие. В этом кроется важнейшая из причин наметившегося в последние годы расширения пропасти между развитыми странами Запада и всеми другими государствами мира. По мнению многих исследователей, помимо деления стран на развитые и развивающиеся, возник более глубокий раскол — на страны, уже базирующиеся на информационно–инновационной экономике, и страны, даже и не помышляющие об этом908.
Во–вторых, развитые страны мира сосредоточили значительный промышленный, научный и гуманитарный потенциал. Они стали лидерами мирового развития, сумевшими произвести технологически уникальный продукт на базе информационных, научных и основанных на знаниях инноваций. Им принадлежит львиная доля мирового валового продукта (см. таблицу «Экономический потенциал крупнейших цивилизаций мира (в % к мировому)»). В конце XX века на 20% мирового населения богатейших стран приходилось 86% мирового валового продукта, а на 20% беднейших — лишь 1%. Поскольку экономический прогресс определяется инновациями, приумножают богатство развитые страны. За последние 20 лет доля созданных в мире богатств, принадлежащая 20% населения планеты, составляющего т. н. «золотой миллиард», возросла с 70 до 82,7%, тогда, как доля беднейших 20% снизилась с 2,3 до 1,4%909.
Экономический потенциал крупнейших цивилизаций мира (в % к мировому)
Цивилизации и страны Население ВВП за ППС Инвестиции Внешняя торговля Внешняя задолженность Расходы центральных правительств Североамериканская (США и Канада) 5,1 22,4 18,8 17,2 26,2 19,7 Западноевропейская (Германия, Великобритания, Франция, Италия) 4,4 14,5 12,3 24,5 13,1 29,3 Японская (Япония, Корея) 3,0 9,5 12,5 10,0 1,9 14,8 Всего наиболее развитые цивилизации 12,5 46,4 42,4 51,5 41,2 55,1 Россия (славянская) 2,6 1,6 1,0 1,4 3,2 0,5 Китай 21,1 10,7 16,6 2,4 3,5 3,9 Индия 16,4 4,1 3,9 0,7 3,4 0,7 Латиноамериканская (Мексика, Бразилия) 4,9 4,9 4,2 2,0 3,2 3,5 Мусульманская (Индонезия, Пакистан, Турция, Иран) 7,9 5,4 4,4 2,0 7,4 1,5 Весь мир 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0Источник: Яковец Ю. В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. — М.: Эдиториал. 2000. — 415 с.
В-третьих, развитие мировой торговли, глобальных финансовых и инвестиционных рынков благоприятно влияет на экономическое развитие, но наибольшие выгоды от участия в мировой экономике получают развитые страны. Так, на них приходится более половины мирового товарооборота и более 70% прямых зарубежных инвестиций. На протяжении 80‑х гг. объем прямых зарубежных инвестиций рос примерно на 20% в год, что в 4 раза превышало темпы развития международной торговли. Доля же развивающихся стран в объеме мировых капиталовложений последовательно уменьшалась с 25% в 70‑е гг. до 17% в 80‑е.
По словам Генерального секретаря ООН Кофи Аннана, 49 наименее развитых стран, где проживает свыше 10% мирового населения, практически не участвуют в мировой торговле и не получают инвестиций. На них приходится 12 млрд долл, иностранной помощи, 25 млрд долл, доходов от экспорта и 5 млрд долл, прямых иностранных инвестиций в год, или менее 20 центов в день910.
Развитые страны сосредоточили в своих руках рычаги управления мировой торговлей и установили неравноправные правила участия в ней. В результате этого, например, развивающиеся страны, поставляя товары и услуги на мировых рынках, сталкиваются с тарифами, в 4 раза более высокими, чем платят промышленно развитые страны. У последних только сельскохозяйственные субсидии, делающие аграрную продукцию развитых стран более конкурентоспособной, составляют порядка 1 млрд долл, в год, что в 6 раз больше общего объема иностранной помощи этим странам911.
Эти барьеры и субсидии наносят развивающимся странам убытки в виде недополученной прибыли, которые по своему объему превышают ежегодно получаемые ими в виде помощи 56 млрд долл. По данным ООН, из–за различных препятствий и ограничений на пути экспорта своей продукции развивающиеся страны теряют ежегодно до 700 млрд долл. Это больше, чем общий объем иностранных инвестиций в развивающиеся страны.
Кроме того, часто экономика развивающихся стран более открыта, чем развитых, и это одна из причин того, что развитые страны получают львиную долю выгоды от либерализации рынков. Открытость экономики может приводить к нарушению местных экологических и социальных систем и традиций, возникновению конфликтов. По оценкам Всемирного банка, 23% стран, экономики которых как минимум на 1/4 зависят от экспорта сырья, вовлечены в военные конфликты912.
Вместе с тем, как отмечают специалисты, глобализация, т. е. устранение барьеров на пути свободной торговли и более тесная интеграция национальных экономик, может быть доброй силой и в ней заложен такой потенциал развития, который способен улучшить жизнь всех жителей Земли. Для осуществления этой задачи необходимо радикально пересмотреть механизм управления глобализацией как в сфере международных торговых соглашений, играющих важную роль в устранении торговых барьеров, так и в области политики по отношению к развивающимся странам913.
Наконец, в эпоху глобализации сохраняется и усиливается тенденция разрыва в уровне благосостояния между странами и народами. Между «золотым» и «голодным» миллиардами существует пропасть в уровне, качестве и образе жизни. По данным Всемирного банка, в 2000 г. на долю 1/6 части населения планеты, в основном жителей Северной Америки, Европы и Японии, приходилось около 80% мирового дохода, т. е. в среднем по 70 долл, в день на человека, в то время, как на долю 57% населения Земли в 63 беднейших странах приходилось всего 6% мирового дохода — в среднем менее 2 долл, в день на человека914. Но есть еще примерно 1,2 млрд человек, которые имеют доходы менее 1 долл, в день на человека. В течение последнего десятилетия XX в. число людей, живущих в бедности, возросло почти на 100 млн и это в то время как общемировой доход возрастал в среднем на 2,5% в год915.
Особенно наглядно непреодолимая пропасть между богатством и нищетой прослеживается на примере соотношения между богатейшей страной мира — США — и беднейшими странами: совокупный доход богатейших 10% населения США равен совокупному доходу беднейших 43% населения всего мира.
Таким образом, имеет место совершенно четкая тенденция углубления социально–экономического неравенства в развитии стран и регионов мира. В то же время, сосредоточив гигантский производственный, технологический и интеллектуальный потенциал, распространив вестернизацию на многие регионы мира, западный мир обнаружил тенденцию к быстрому хозяйственному и социальному обособлению от остального мира. Как отмечалось выше, международная торговля и иностранные инвестиции являются важнейшими средствами глобализации, однако в современных условиях реально происходит все большее замыкание товарных и инвестиционных потоков в пределах группы стран постиндустриального общества. Так, если в 1953 г. индустриально развитые государства направляли в страны того же уровня развития 38% общего объема своего экспорта, в 1963 г. — 49, в 1973 г. — 54, то в 1990 г. — 76%916.
Но, как отмечают ученые, если постиндустриальный тип развития утвердится только в Северной Америке и Западной Европе, не перейдя границы западной цивилизации, то мир в целом неизбежно будет нестабильным, расколотым, обреченном в будущем на сильнейшие потрясения917.
Чтобы избежать таких последствий глобализации, необходимо использовать как внутренние, так и внешние факторы решения этой проблемы. Внутренние предполагают мобилизацию странами внутренних источников развития и прорыв на пути «догоняющего» развития, а внешние — формирование адекватной системы глобального управления.
Эффективность «догоняющей» модели модернизации исследуется многими зарубежными учеными, в частности российскими — В. Иноземцевым, В. Федотовой и др. Они отмечают, что в истории известны успешные примеры «догоняющего» развития — в XX веке такими были массированная индустриализация в СССР в 30–60‑х гг., германский вариант мобилизационного хозяйства (имевший место вплоть до 1944 г.), развитие Японии в 50–70 гг. Но эти примеры относятся к индустриальному этапу развития цивилизации, когда экономика могла ускоренно развиваться на основе эффективного использования внутренних накоплений и жесткого государственного регулирования.
В условиях развития постиндустриального общества попытку «догоняющего» развития предприняли ряд восточно–азиатских стран: в 50‑е гг. модернизацию начала Корея, в 60‑е — Тайвань, в 70‑е — Китай, в 80‑е — Вьетнам. Реформы в этих странах считаются наиболее удачными примерами модернизации последних десятилетий в Юго–Восточной Азии. Исследование этих проблем позволило сделать выводы о том, что успешное экономическое развитие в этих странах было обусловлено несколькими важными факторами:
• прежде всего, ведущую роль в процессе индустриализации этих стран играло государство, возглавляемое социально ответственными, патриотическими элитами;
• во–вторых, особенностью проводимых преобразований была экспортная ориентация их экономики, что компенсировало узость внутреннего рынка;
• в-третьих, длительное время Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Сингапур, следуя опыту Японии, эффективно использовали передовые технологии, заимствованные у стран Запада, эффективно стимулировали внедрение достижений науки и техники частным бизнесом, покупали за границей лицензии и патенты, приглашали специалистов из США и Японии в качестве консультантов;
• в-четвертых, значительную роль в экономике этих стран сыграл приток иностранных инвестиций, объемы которых с 1985 по 1992 г. возросли в Сингапуре в 3 раза, в Южной Корее — в 4,5 раза, Малайзии — в 9 раз, Таиланде — в 12–15 раз, Индонезии — в 16 раз;
• наконец, характерной чертой социальной политики «тигров», особенно в Малайзии и Сингапуре, был высокий уровень инвестирования в развитие гуманитарного капитала — образование, профессиональную подготовку, здравоохранение и социальное обеспечение918.
Благодаря значительному притоку иностранных инвестиций и высокой норме внутренних накоплений экономический рост в регионе в 70–80 гг. прошлого века был самым высоким в мире, составляя от 7–8% в Таиланде и Индонезии, 8,1%‑в Малайзии, 9,4–9,5 — в Гонконге, Южной Корее и Сингапуре — до 10,2% — на Тайване919. Вклад региона в мировой ВВП возрос с 4% в 1960 до 25% в 1991 г., хотя в начале реформ каждое из государств имело ВНП на душу населения не более 300 долл, в год.
Одновременно быстрый экономический рост в регионе сопровождался социальным развитием — уменьшением бедности основной массы населения и снижением социального неравенства. В этом нашли отражение как влияние конфуцианских традиций, социального патернализма и общинности, так и готовность политической и деловой элиты жертвовать текущими выгодами ради достижения стратегических успехов в будущем.
Но этим странам не удалось долго удерживать экономический рост, т. к. экономический рост обеспечивался, в основном, экстенсивными факторами и не сопровождался существенным улучшением социальной ситуации. Кроме того, привлечение новых технологий, увеличение расходов на науку и сферу НИОКР, рост числа ученых и инженеров — лишь необходимое, но недостаточное условие для перехода к постиндустриальному развитию. Например, в 1995–1997 гг. в Южной Корее и Японии расходы на научные исследования и технологические разработки были выше, чем в высокоразвитых странах Запада, составляя примерно 3% ВНП, но это не позволило им перейти к постиндустриальной модели развития. Проблема заключается в организации НИОКР и характере связей между научными исследованиями и производством готовых изделий, роли специалистов и их способности к творчеству. Поэтому странам Азии предстоит найти оптимальное соотношение между сложившимися традициями общинности и солидарности, которые помогают поддерживать стабильность в обществе, и индивидуализацией, стремлением человека к самовыражению, без чего невозможна творческая деятельность в условиях развития «новой экономики».
Модель «догоняющего» развития оценивают по–разному. Одни ученые утверждают очевидную несостоятельность и бесперспективность попыток индустриальных стран добиться ощутимых успехов на пути «догоняющего» развития920. Это предположение они аргументируют тем, что постиндустриальное общество не может быть построено — путем его становления является эволюционное развитие на основе максимальной реализации личностного потенциала людей, достигших высокого уровня материального благосостояния. Как показывает японский опыт, десятилетия заимствования технологий не порождают собственных технологических прорывов. В связи с этим полагают, что эволюционное формирование постиндустриальной системы в ближайшие десятилетия возможно только в США и странах Европейского союза. Поэтому ключевым является вопрос о том, перейдут ли другие — не западные — цивилизации (например, Япония и «тигры» Юго–Восточной Азии) от «догоняющей» индустриальной модернизации к постиндустриальному развитию, встроятся ли они в новую формирующуюся «сверхцивилизационную» общность921.
Другие специалисты делают более оптимистичные прогнозы относительно перспектив «догоняющего» развития и аргументируют это тем, что потенциально у каждого общества есть шанс изобрести нечто такое новое, что будет высшим достижением человечества в данной области и выведет это общество в число монопольных производителей этого продукта. То есть утверждается, что, даже не будучи частью постиндустриального мира, в него можно войти, создав хотя бы один необычный инновационный продукт, конкурентоспособный на мировом рынке922. Такое вполне возможно в условиях современной технологической революции. Но при этом следует иметь в виду, что такой прорыв возможен при наличии в обществе личностей, способных к генерированию нового знания и принципиально новых идей, а интеллект можно воспроизводить только при высоком уровне развития образования, науки и благосостояния, т. е. при осуществлении целенаправленной государственной политики.
Наконец, есть также предположение, что возможен симбиоз постиндустриального и индустриального обществ. Мировой опыт свидетельствует, что, несмотря на самодостаточность постиндустриального общества, оно все же выходит за свои цивилизационные границы, так как нуждается в определенном разделении труда и стремится переложить значительную часть нетворческой, тяжелой и низкооплачиваемой работы на представителей других обществ. Такую работу, в частности, выполняют сейчас динамично развивающиеся страны Юго–Восточной Азии, Китай и Индия.
Вторым направлением придания устойчивости развитию в глобальном мире есть создание системы глобального управления. Сейчас ученые, политики и общественные деятели приходят к выводу, что глобализация, как процесс развития экономической и политической взаимозависимости стран и регионов мира, достигла такого уровня, на котором становится необходимой постановка вопроса о создании системы глобального управления. Есть различные мнения по поводу вариантов и возможностей функционирования такой системы. Некоторые исследователи, например, В. Михеев, отмечают возможность и необходимость создания единого мирового правового поля и мировых органов экономического и политического управления923. Предлагается также, учитывая отсутствие каких–либо мировых центров власти, разработка мировым сообществом механизмов координации согласованных действий как на международном, так и на региональном уровнях.
В 70–80‑х гг. делались предположения о возможности образования в перспективе мирового правительства. Многие теоретики, перенося концепции государственного управления, устоявшиеся на национальном уровне, на глобальный уровень, пытаются представить ведущие международные организации в качестве прообраза будущего глобального правительства и наиболее подходящего инструмента, способного обеспечить управляемость мировым сообществом и мировым хозяйством. Однако реальные процессы глобального развития доказывают, что, по крайней мере, в нынешних условиях это в принципе неосуществимо.
Интересны в этом отношении исследования П. Херста и Г. Томпсона, которые сделали вывод о том, что в современных условиях глобализирующегося мира возникает необходимость управления на пяти уровнях — от международного до локально–регионального, реализовать которое может только нация–государство посредством:
• соблюдения межгосударственных соглашений;
• усилий значительного числа государств, создающих международные регулирующие организации типа ВТО;
• региональных торгово–экономических ассоциаций и союзов типа Европейского союза или НАФТА;
• использования национальных рычагов и институтов типа Ассоциации Рэнд в США;
• проведения внутригосударственной региональной политики для развития местных промышленных центров924.
Сейчас многие ученые и политики считают, что главным субъектом международных отношений должно выступать государство, ведь никакая глобальная система не будет жизнеспособна, если не будет отражать национальные интересы. Дж. Сорос отмечает, что развитие глобальной экономики не сопровождается развитием глобального общества, которое можно было бы поставить в соответствие глобальной экономике, как и не существует глобальной демократии. Базовой структурой в политической и социальной жизни остается нация–государство925.
Многолетний опыт функционирования интеграционных группировок показывает, что для их успешного развития необходимо сочетание национальных и наднациональных интересов. В условиях глобализации национальные интересы еще более выходят за рамки государственных границ, что требует принятия дополнительных решений по координации и определению направлений развития на наднациональном уровне. Одно из позитивных последствий глобализации заключается в том, что возрастают возможности многовариантности в реализации национальных интересов государств–членов мирового сообщества. Поэтому уважение суверенитета государства, его национальных интересов останется основополагающим принципом международных отношений и в XXI веке.
Таким образом, в условиях формирующегося «сверхцивилизационного» или «надцивилизационного» сообщества возникает необходимость не упрощения, а усложнения и модернизации функций современных наций–государств.
В последнее время в западных концепциях управления процессом глобализации отмечается неизбежность длительного периода сосуществования национальных и глобальных форм управления, которые еще предстоит создать. Предполагается, что глобальная система управления будет представлять собой многоуровневую систему управления — систему институтов, способных обеспечить управляемость развития в условиях глобализации. Сейчас проблемы глобального управления решаются на уровне ООН, Международной организации труда, Мирового банка, Международного валютного фонда, Всемирной торговой организации, «Группы восьми», «Группы 10», «Группы 22», многочисленных неправительственных организаций (НПО).
Ключевое место в системе глобального управления должно принадлежать ООН и системе ее специализированных органов. Еще в 1992 г. в Докладе о развитии человека отмечалось, что человеческое общество все более приобретает глобальное измерение и рано или поздно ему придется создать мировые институты власти. В 1995 г. на саммите ООН по социальным вопросам была подчеркнута важность глобального единства при решении проблем бедности, социальной незащищенности и общественного развития во всех странах мира.
Необходимость формирования механизмов глобального управления отмечена в Декларации тысячелетия, принятой ООН в 2000 г. В ней подчеркивалось, что глобализация может обрести полностью всеохватывающий и справедливый характер лишь посредством широкомасштабных и настойчивых усилий по формированию общего будущего, основанного на нашей общей принадлежности к роду человеческому во всем его многообразии.
Тогда же на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2000 г. главы государств и правительств отметили крайнюю неравномерность развития человеческого потенциала во всем мире и признали «коллективную ответственность за утверждение принципов человеческого достоинства, справедливости и равенства на глобальном уровне». В Декларации были определены цели в области развития человеческого потенциала, которые должны быть достигнуты к 2015 г.: искоренение крайней нищеты и голода, введение всеобщего начального образования, содействие достижению равенства между мужчинами и женщинами и улучшение положения женщин, сокращение детской смертности, улучшение охраны здоровья матерей, преодоление распространения ВИЧ/СПИД-а и других болезней, обеспечение экологической устойчивости и установление глобального партнерства во имя развития и др.926.
В процессе формирования системы глобального управления важную роль призвана сыграть Международная организация труда. Около 200 конвенций МОТ посвящено проблемам политики занятости, развития человеческих ресурсов, социальному обеспечению, социальной политики, механизму фиксации заработной платы, условий труда, производственных отношений, управления трудовыми ресурсами, защите прав женщин и детей и др. К середине 90‑х гг. среднее число ратифицированных конвенций на одну страну достигло 41. Развитые страны ратифицировали большее количество конвенций — в среднем 52 в Европе и 42 на Американском континенте, в то время как в Африке — 27 и в Азии — 21.
В настоящее время возрастание роли МОТ на международном уровне обусловлено двумя моментами:
• во–первых, необходимостью внедрения процедурных гарантий предыдущего консультирования с МОТ правительств государств по реформированию трудового законодательства в контексте инициированной Мировым банком структурной перестройки;
• во–вторых, необходимостью включения пунктов по трудовым и социальным вопросам в соглашения, заключаемые в рамках Всемирной торговой организации.
Последнее обстоятельство связано с тем, что в условиях глобализации большая опасность углубления неравенства между странами и регионами мира заложена в дискриминационных условиях внешней торговли. Завершение переговоров в рамках ГАТТ в 1994 г., ознаменовавшее эпоху расширения свободы торговли, усилило обеспокоенность по поводу возможности невыполнения тех мероприятий социальной защиты, регулятивных правил и норм в трудовой и социальной сферах, которые гарантировались, по крайней мере, в некоторых развитых странах. В наиболее невыгодном положении оказались развивающиеся страны, помимо их желания втянутые в политику социального демпинга, т. е. поддержания своей конкурентоспособности за счет искусственного занижения стоимости рабочей силы и отказа обеспечить своим работникам базовые права и необходимые условия жизни.
Поэтому историческая роль МОТ и заключается именно в предотвращении пагубного влияния усиления конкуренции и свободной торговли на трудовые и социальные нормы. Это достигается в ходе длительных глобальных дискуссий по поводу того, включать ли и каким образом пункты социальной политики (в частности те, которые предотвращают уменьшение социальных расходов) в соглашения по вопросам свободной торговли. В 1994 г. с этой целью МОТ создала рабочую группу для исследования последствий свободной торговли для социальных норм.
Проблемы предотвращения дискриминации во внешней торговле находятся в центре внимания и других международных организаций. В 1996 г. в рамках ВТО состоялась конференция, посвященная соблюдению международно признанных ключевых норм труда, где было принято решение о неприемлемости их использования в протекционистских целях. Со времени проведения Бреттон–Вудской конференции в 1994 г. роль создания безопасных условий для международного экономического обмена в мире посредством создания новой международной валютно–финансовой системы взял на себя Международный валютный фонд.
Важную роль в становлении системы глобального управления играет Всемирный банк, декларируя свою миссию содействия экономическому и социальному развитию, борьбе с бедностью. В 1991 г. был опубликован политический документ «Социальные стратегии борьбы с бедностью», а в 1996 г. банк принял стратегию борьбы с бедностью в развивающихся странах и были рассмотрены и внедрены более обоснованные социальные программы структурной перестройки. Доля займов под структурную перестройку, направленных на решение социальных проблем, возросла с 5% в 1984–1986 финансовых годах до 50% в 1990–1992 гг. В 1992 финансовом году 18 из 32 займов под программу перестройки четко предназначались для борьбы с бедностью. Мероприятия по борьбе с бедностью в развивающихся странах уже позволили смягчить последствия структурной перестройки в ряде стран Африки и Латинской Америки.
Наконец, все более заметную роль в становлении глобальной системы управления играют неправительственные организации (НПО). Если в 1914 г. существовало всего 1083 международных НПО, то к 2000 г. их было уже более 37 тыс., причем пятая часть их была создана в 90‑е гг. Сейчас более 7 млрд долл, помощи развивающимся странам предоставляется по каналам этих организаций.
Но в целом процесс глобализации еще не стал институционально оформленным и регулируемым, т. к. не созданы соответствующие структуры и механизмы управления. По этому поводу Д. Стиглиц отмечает, что «у нас нет мирового правительства, ответственного за народы всех стран, чтобы контролировать процесс глобализации способами, сопоставимыми с теми, которыми национальные правительства направляли процессы образования наций. Вместо этого у нас есть система, которую можно назвать глобальным управлением без глобального правительства, такая, в которой кучка институтов — Всемирный банк, МВФ, ВТО, — и кучка игроков — министерства финансов, внутренней и внешней торговли, тесно связанные с финансовыми и коммерческими интересами, — доминируют на сцене, но при этом огромное большинство, затрагиваемое их решениями, остается почти безгласным927. Поэтому мировому сообществу еще предстоит решить важнейшую задачу создания эффективной системы глобального управления.
Подводя итог изложенного, необходимо сказать и о перспективах развития процесса глобализации. Сейчас, когда процесс глобализации развивается по восходящей, охватывая новые регионы и сферы деятельности, создавая глобальные институты, кажется, что процесс необратим и ему нет альтернативы. Но исторический опыт свидетельствует о нелинейности и вариантности общественного развития928.
Как отмечалось ранее, в конце XIX — начале XX в. значительно возросли взаимосвязи и взаимозависимость мира. Многие исследователи отмечают, что наивысший уровень мировой торговли по отношению к мировому ВВП наблюдался в канун Первой мировой войны и только к 1990‑м годам этот уровень удалось превзойти. Но уже в конце XIX в. усилились протекционистские тенденции во внешней торговле: континентальная Европа закрыла свои сельскохозяйственные рынки от притока дешевого американского и украинского зерна, США воздвигли таможенные барьеры, чтобы защитить свою зарождающуюся промышленность от европейской конкуренции. Ряд стран, в т. ч. США, Аргентина и Канада, ограничили иммиграцию. Первая мировая война и Великий кризис 1929–1933 гг. усилили поворот к политике автаркии и самоизоляции, что было обусловлено крахом золотого стандарта и свертыванием торговых отношений. Разрушительный кризис привел к замыканию в национальных границах и заставил сконцентрироваться на внутренних экономических и социальных проблемах.
Современная волна глобализации началась в конце XX в. и сразу обнаружила много противоречий и проблем, которые необходимо решать на глобальном уровне. Поэтому уже в конце 90‑х гг. началось массовое транснациональное движение социального протеста, или так называемое антиглобалистское движение. Это движение не имеет аналогов в прошлом, так как в него объединились самые разные слои населения различных стран — студенты, церковные общины, экологи, профсоюзы, неправительственные организации, пацифисты и др. Первый и Второй Всемирные социальные форумы, состоявшиеся в 2001 и 2002 гг. в Порту–Алегри (Бразилия), показали, что антиглобалистское движение — это общественное движение, призывающее отказаться от глобализации по–американски и придать ей человеческое лицо. Они не отрицают объективный процесс мирового развития, а протестуют против его современных форм, сложившихся под влиянием интересов ведущих индустриальных государств мира.
И уже сейчас многие исследователи и политики высказывают сомнение в необратимости современного процесса глобализации. Интересно высказывание по этому поводу Дж. Сороса: «…первый вариант глобальной капиталистической системы образца XIX в. был уничтожен Первой мировой войной. Существует достаточно высокая вероятность того, что и современный вариант глобального капитализма приближается к своему логическому концу»929. Подобное заключение делает и российский ученый М. Чешков: «Процесс глобализации находится ныне в критической фазе, настолько критической, что она оценивается как кризис глобализации и даже как проявление предельности, исчерпанности этого процесса настолько, что ставится вопрос о реалиях постглобализации»930.
В то же время специалисты Всемирного банка высказывают более оптимистичный прогноз, предвидя два сценария глобального развития. Согласно первому развитие может иметь пассивный характер, т. е. будет характеризоваться дальнейшей дифференциацией между отдельными регионами и усилением неравномерности развития, замедлением экономического роста и разрозненностью. Этот путь получил название дивергентного сценария.
Во втором сценарии — конвергентном — анализируются возможные последствия активного государственного вмешательства на национальном уровне во всех регионах мира в сочетании с усилением международной интеграции. Главными факторами в нем будут инвестиции в образование, информатику, технологии. Повышение профессионального уровня работающих в условиях глобализации позволит многим странам подняться на новый технологический уровень. Этот сценарий предвидит рост доходов и сокращение неравенства во многих странах и регионах. Конвергентный сценарий и интеграция могут положить начало сокращению больших различий между странами, существующих в наше время.
Таким образом, только управляемый и регулируемый процесс глобализации может содействовать росту благосостояния и равенства для большинства народов мира. Только установление мирового порядка, основанного на праве, на диалоге культур, утверждении мира и толерантности, может способствовать сближению цивилизаций.
Цивилизационные аспекты финансовой глобализации (А. В. Плотников)
Общие подходы к определению современных цивилизационных проблем и проблем глобализации мира создают необходимые предпосылки для их характеристики. Причем такая характеристика возможна как с точки зрения современных цивилизационных проблем, так и с точки зрения глобализации. Довольно специфическим, но полезным для обеих точек зрения является исследование цивилизационных аспектов финансовой глобализации.
Развитие мировых экономических и политических процессов все более стимулирует размежевание между богатыми и бедными странами. Это приводит к уменьшению центров экономического и политического могущества в мире и их определенной стабилизации. Принимая во внимание процессы общей глобализации со всеми их преимуществами и недостатками, надо определить весомую их составную — финансовую глобализацию931. Финансовая глобализация является довольно новым феноменом в развитии человечества. Западные специалисты относят ее зарождение к 60‑м гг. XX в., когда началось бурное развитие торговли, миграции и движения капитала932.
Основные экономические и политические процессы в мире становятся все больше связанными друг с другом. Глобализация все решительнее охватывает мир, делая его более структурированным. В то же время глобализационные процессы происходят в условиях, когда уже больше 10 лет тому назад де–факто ликвидировано многолетнее деление мира на «капиталистическую» и «социалистическую» системы. Современная глобализация, имея бесспорные отрицательные последствия для общецивилизационного развития, в то же время характеризует процессы соответствия существующего развития потребностям конкретных индивидов. Как подчеркивал известный американский экономист Дж. К. Гелбрейт еще в начале 90‑х годов, «капитализм не смог бы выжить в своей первоначальной или чистой форме. Но под нажимом он смог приспособиться. Социализм в своей начальной форме успешно решал свои первоначальные задачи. Но он не смог приспособиться и породил репрессивную политическую систему угнетения»933 Исходя из этого, процессы общей глобализации, как и ее отдельных составляющих (к которым, в частности, относится и финансовая глобализация), имеют общецивилизационное значение, причем имея две параллельные составляющие: тормозящую развитие цивилизации и ускоряющую развитие цивилизации.
В мире наиболее активно происходит финансовая глобализация. Финансовая глобализация отражает процесс движения финансовых ресурсов за пределами государственных границ. А кроме непосредственного движения финансовых ресурсов, финансовая глобализация охватывает также совокупность отношений, которые связаны с формированием, аккумулированием и использованием финансовых ресурсов, не считаясь с существованием государственных границ.
Финансовая глобализация является многогранным процессом, имеющим как положительное, так и отрицательное влияние на развитие человечества. Причем, как процесс общей глобализации (с точки зрения его оценки), финансовая глобализация имеет неоднозначное (положительное или отрицательное) влияние на разные страны, в зависимости от степени их экономической развитости и политического влияния в мире.
В рамках финансовой глобализации информационные технологии, к минимуму снижая затраты на осуществление конкретных операций и цену выхода на глобальные финансовые рынки, уничтожают эти препятствия, устраняя тем самым и препятствия для всякого хоть сколько–нибудь устойчивого разделения этих рынков.
Формирование единых общемировых рынков в финансовой сфере и постепенная интеграция глобальных рынков разных финансовых инструментов в единый мировой финансовый рынок ставят на повестку дня вопрос о возникновении глобальных монополий как следствия финансовой глобализации.
Современный мир предполагает влияние динамики экономического роста ведущих стран на процессы финансовой глобализации. И это связано с конкретными макроэкономическими показателями. Кроме этого, несколько специфическое влияние на развитие глобализационных процессов в мире оказали события 11 сентября 2001 г. и весь комплекс факторов, которые вытекают из этого. По расчетам Economist Intelligence (исследовательского подраздела журнала The Economist), на начало 2002 года, если реальный рост ВВП в странах мира достиг показателя 4,7% в 2000 году, то в 2001 году он снизился до 2,2% и начал постепенно возрастать по 4,2% до 2006 г. Соответственно, по странам ОЕСР: 2000 год — 3,8%, 2001 – 1,0%, 2006 – 2,7%, а по странам — не членам ОЕСР: 2000 год — 6,0%, 2001 – 4,3%, 2006 – 6,1%934. Хотя, учитывая то, что много учреждений, в частности Мировой банк, постоянно пересматривают свои прогнозы экономического развития в лучшую сторону, возможным представляется даже более оптимистичный ход событий. Здесь надо прибавить, что это совсем не темпы роста экономики Украины, — в приведенных странах совсем другое наполнение роста и совсем другие показатели того, от чего отталкивается такой рост. Хотя на развитие мировой экономики все еще продолжают влиять последствия не только событий 11 сентября 2001 г., но и мирового финансового кризиса 1997–1998 гг.
Финансовая глобализация несет определенные опасности как для развитых стран, так и для стран, которые имеют невысокий экономический уровень развития. Существуют реальные опасности финансовой глобализации: во–первых, опасность глобальных финансовых кризисов; во–вторых, опасность подрыва суверенитета стран с невысоким уровнем развития по причине долговой и другой финансовой зависимости; в-третьих, разрыв между уровнями финансового и в целом экономического развития отдельных стран; в-четвертых, финансовое подчинение стран с невысоким уровнем развития, осуществляемое развитыми странами; в-пятых, финансиализация культурных и других нематериальных ценностей. Эти опасности являются довольно серьезными угрозами для развития человечества.
Цивилизационные аспекты финансовой глобализации характеризуются рядом направлений, которые позволяют как соединить национальные особенности отдельных стран и стереть барьеры между ними, так и наоборот — подчеркнуть именно национальные особенности отдельных стран и регионов. Основными из них, в контексте национальных интересов Украины, являются следующие четыре направления: 1) использование единых финансовых инструментов как средства унификации экономического развития; 2) формирование финансовых центров в процессе цивилизационного развития; 3) возможности масштабных действий, направленных на подрыв стабильности финансовой системы, как формы цивилизационного противодействия; 4) особенности цивилизационного развития Украины с точки зрения финансовой глобализации.
1. Использование единых финансовых инструментов как средства унификации экономического развития. Вся совокупность экономических отношений, связанная с финансовой глобализацией, — формирование, движение и использование финансовых ресурсов за пределами национальных границ государств — имеет довольно жесткие унифицированные правила развития. При этом использование инструментов формирования финансовых ресурсов, их движения и использования отвергнет любые национальные особенности и делает их одинаковыми независимо от региональных, национальных, религиозных и других особенностей. При этом все, что может оставаться характерным, не является принципиальным для финансовой глобализации. Национальные и прочие особенности, связанные инструментами формирования, движения и использования финансовых ресурсов, могут сохраняться на уровне полуофициальном, или теневом935.
Исходя из этого, любые страны, независимо от уровня их цивилизационного развития, включаясь в достаточно развитые товарно–денежные отношения, уже принимают участие в унифицированном экономическом развитии благодаря финансовым инструментам. При этом выход национальных товарно–денежных отношений на рубежи государственных границ служит гарантией того, что национальные особенности цивилизационного характера исчезают и страна «начинает играть» по установленным унифицированным международным правилам936.
Учитывая исторический опыт развития товарно–денежных отношений, а также предпосылки для развития валютно–финансовых отношений, представляется естественным, что в условиях финансовой глобализации все процессы, связанные с использованием единых финансовых инструментов, направлены на подчинение менее развитых стран более развитым.
От финансовой глобализации выигрывают развитые страны, которые имеют влияние на экономические и политические стороны развития мира. В современных условиях фактически единой сверхдержавой остается США со всеми возможностями для подчинения финансовой глобализации в свою пользу.
Если не затрагивать перспективу евро, то доллар есть и остается единой сверхмощной валютой мира937. В свое время в печати стран СНГ и развивающихся стран даже обсуждалась возможность проведения той или другой конфискационной денежной реформы наличных долларов США. США всегда могут провести в той или иной форме конфискационную реформу по крайней мере наличной части своих долларов, которые находятся вне страны. Это может быть сделано, например, под видом борьбы с международной преступностью: во–первых, поскольку этот тезис выступает стандартным приемом США в международной конкурентной борьбе, а во–вторых — поскольку это правда: обращение значительной части долларов за пределами США в той или иной форме связано с нарушением законов. Хотя, опять–таки, это возможно исключительно как модель, практические следствия такой конфискационной реформы для других стран стали бы губительными.
Для Украины все еще является актуальной проблема взаимоотношений доллара и японской ены, равно, как и изменений курсов к доллару других азиатских валют вследствие кризиса 1997–1998 гг. Актуальными являются проблемы взаимодействия доллара и евро. Финансовое влияние США в рамках финансовой глобализации является довольно весомым и в плане конкуренции с евро. Это может характеризоваться конкретными действиями данной страны как в финансовой, так и в общеэкономической плоскости. В принципе, конкурентная борьба между США и Западной Европой (которая сейчас определяется как зона евро) является традиционной, но сейчас приобрела новую окраску.
Оживление мировой экономики, которое отмечается сегодня, не имеет однозначного влияния на Украину. Среди позитивов можно определить то, что в той или иной степени западный капитал будет работать с Украиной, хотя условия и принципы такой работы, естественно, претерпят изменения. К негативам можно отнести исторические условия такого оживления — сейчас страны Запада более зациклены «сами на себе», а не на поиске возможностей работы с рискованными рынками, к которых относится и Украина. В любом случае Украина не может и не будет играть ведущую роль в процессе распределения экономического влияния в мире. Все, что ей осталось, — найти свое оптимальное место, с тем чтобы минимизировать отрицательные влияния финансовой глобализации на свое будущее.
2. Формирование финансовых центров в процессе цивилизационного развития. В процессе цивилизационного развития состоялось формирование центров экономического развития, базирующихся на современных основаниях финансовой глобализации. Причем финансовая глобализация в таких финансовых центрах выступает и как движущая сила, и как результат формирования этих центров.
Мировые экономические центры, сформировавшиеся на протяжении послевоенного развития, стали почти чем–то несокрушимым. Сегодня фактически можно вести речь лишь о тенденциях к изменениям весомости США, Западной Европы и Японии, а никак не о том, что какой–либо из приведенных центров исчезнет или образуются новые. Даже с введением евро все споры концентрируются именно вокруг перспектив его соотношения к доллару, а совсем не на том, возникнет ли какой–нибудь новый конкурент евро.
Действия фактически единственной сверхдержавы в рамках финансовой глобализации позволяют США захватить инициативу и самостоятельно выбирать время, сферу и характер конкурентной борьбы, что предоставляет им преимущество. С точки зрения конкуренции со странами Западной Европы, США имеют определенные преимущества. При первом рассмотрении перспектив такой конкуренции, которая основывается на сопоставлении имеющихся запасов ресурсов, безусловно преобладающими представляются шансы Европы. Однако сопоставление в динамике, с учетом разного уровня затрат, возрастающей роли наиболее современных технологий и фактически естественной монополии США на владение ими и на их развитие принуждает в долгосрочной перспективе сделать вывод в пользу США.
Влияние разнообразных факторов финансовой глобализации на современную конкуренцию видно при сопоставлении потерь, понесенных европейскими и американскими капиталами вследствие финансового кризиса 1997–1998 гг. в Юго–Восточной Азии: при любых способах оценки убытки европейцев превышали потери американцев. При этом, если в США потери несли в основном высокорисковые структуры, которые находятся на периферии национальной финансовой системы, то в Европе — преимущественно банки, составляющие ее сердцевину.
Конкуренция между США и зоной евро может иметь ощутимые отрицательные последствия не только в рамках финансовой глобализации, но и в более широком смысле. При этом возможна потеря или по крайней мере консервация наиболее передовых технологий: в случае победы еврозоны — поскольку она традиционно имеет проблемы с их созданием; в случае победы США — в связи с резким сжатием рынков продажи и реализации этих технологий, которое ослабит стимулы их разработки и уменьшит ресурсы, привлекающиеся на эти цели.
Цивилизационные аспекты финансовой глобализации отмечаются на параметрах экономического роста отдельных регионов мира. Причем такое возрастание (даже в силу факторов региональной и государственной ограниченности) происходит в условиях действия факторов финансовой глобализации. В этом направлении происходят также проявления всей совокупности как отрицательных, так и положительных факторов глобализационных процессов в мире.
По расчетам Мирового банка938, в 2004 году прогнозировалось увеличение темпов возрастания в странах европейского и центральноазиатского региона до уровня 4,5%, что отражает более высокие темпы роста в странах Центральной и Восточной Европы и замедление роста в СНГ. С учетом Турции рост экономики в Центральной и Восточной Европе мог увеличиться с 3,5 процента в 2003 году до 4,3 процента в 2004 году.
3. Возможности масштабных действий, направленных на подрыв стабильности финансовой системы, как формы цивилизационного противодействия. Проблемы финансовой глобализации тесно связаны с целым рядом отрицательных явлений. Среди них можно выделить такое явление, как экономический терроризм. В принципе, придавать террористическим акциям определенные цивилизационные или нецивилизационные черты некорректно. Хотя много политологов квалифицировало события 11 сентября 2001 г. именно как столкновение цивилизаций, довольно тяжело делать такие обобщения, исходя из отдельного террористического акта, пусть даже имевшего ощутимые экономические и политические последствия. События 11 сентября 2001 г. могли бы состояться также при условиях, если бы их исполнители были не арабского, а и англосаксонского или любого другого происхождения. Исходя из этого, можно определить характеристики экономического терроризма как явления общецивилизационного, последствиями которого являются процессы, охватывающие изменения финансовой глобализации.
Экономический терроризм — это общественно опасные в национальном или международном масштабе действия, которые приводят к нарушениям в нормальном функционировании международной или национальной экономической системы, экономической деятельности отдельных субъектов, экономической деятельности и экономической жизни граждан939.
К экономическому терроризму также относятся насильственные действия, направленные против отдельных граждан, учреждений и организаций, стран или групп стран. В отличие от терроризма обычного, экономический терроризм проводится, как правило, без осуществления акций, которые приводят к взрывам, разрушениям, человеческим жертвам и т. п. Проявления экономического терроризма можно рассматривать на нескольких уровнях — международном, национальном, уровне граждан. На международном уровне целью экономического терроризма является изменение в существующей расстановке экономических и политических сил. Экономический терроризм может иметь целью снижение показателей региональных фондовых индексов, снижение курса акций тех или иных компаний, снижение курса коллективной валюты (например, евро) и т. п. В этом случае действия экономического терроризма прямо связаны с процессами финансовой глобализации, причем именно в плане усиления отрицательных его проявлений.
В качестве одной из целей экономического терроризма на международном уровне выступает изменение влияния традиционных центров экономического могущества (США, Западной Европы, Японии). Одним из возможных проявлений экономического терроризма на международном уровне выступают искусственные прыжки цен на золото, нефть, отдельные металлы и т. п. На достижение целей экономического терроризма в международном масштабе влияют решения военных конфликтов, политические потрясения, действия обычного терроризма.
На национальном уровне экономический терроризм имеет целью подрыв экономической системы конкретной страны и изменение ее места в мире по экономическим показателям. Такая разновидность экономического терроризма часто находится во взаимосвязи с целями и задачами, которые ставит перед собой международный экономический терроризм. Наиболее часто действия национального уровня экономического терроризма происходят параллельно с проявлениями обычного терроризма, а также политических факторов внутреннего и внешнего характера. Проявления экономического терроризма на национальном уровне могут происходить путем подрыва экономической безопасности страны, создания условий для внешней экономической зависимости, развала финансово–кредитной системы страны, истощения естественных запасов и разрушения национального экономического потенциала. Общие схемы международного уровня экономического терроризма также пригодны для использования на национальном уровне.
На уровне отдельных лиц экономический терроризм призван создать условия для полной экономической зависимости граждан от других субъектов (других граждан, учреждений и организаций, государства и т. п.). В этом направлении экономический терроризм создает условия для отсутствия любой экономической самостоятельности граждан, что, в свою очередь, приводит к потере самостоятельности политической. К экономическому терроризму на уровне граждан относится лишение граждан имущества, денежных сбережений, взносов в банковских учреждениях, денег, находящихся в ценных бумагах и т. п. Экономический терроризм против граждан приводит к уменьшению возможностей государства, полному экономическому упадку и имеет политические последствия. Как правило, данный уровень экономического терроризма осуществляется одновременно на национальном и международном уровнях.
С точки зрения финансовой глобализации одним из специфических проявлений экономического терроризма являются события 11 сентября 2001 г. в США. Именно тогда масштабные проявления терроризма обычного (разрушение Всемирного торгового центра в Нью–Йорке и частично здания Пентагона в Вашингтоне с использованием самолетов гражданской авиации) привели к достижению целей экономического терроризма. Вследствие террористических действий с использованием гражданской авиации и разрушения символов могущества США возникла ситуация, повлиявшая на фондовый рынок, а также задевшая сферы страхования, авиаперевозки, самолетостроение и т. п. За счет общеглобализационных рычагов, а также рычагов финансовой глобализации, отрицательным воздействием были охвачены не только непосредственно США, но и другие регионы миры, в первую очередь страны, открытые для международного движения товаров и капитала.
Не преувеличивая общецивилизационные масштабы влияния событий 11 сентября 2001 г. на развитие мировой экономической и политической ситуации, следует констатировать ощутимость этих акций.
В начале ноября 2001 г. индекс Dow Jones Industrial Average упал на 14,2%, достигнув оценки в 8235,81 пункта — минимального уровня со времен финансового кризиса в августе 1997 г. Индекс Standard & Poor’s 500 впервые с 13 октября 1998 г. закрылся ниже оценки в 1000 пунктов — на уровне 965,8 пункта. Индекс компаний высокотехнологического сектора NASDAQ Composite достиг минимального уровня с 8 октября 1998 года — 1423,18 пункта.
Одно за другим появлялись сообщения компаний о снижении прогнозных показателей прибыли и массовых увольнениях сотрудников. Общее число уволенных в конце октября 2001 г. достигло 60 тыс. Рыночная капитализация компаний в США снизилась более чем на 1,2 трлн долл. Значительно упали в цене акции авиа — и технологических компаний. Вслед за авиакомпаниями подешевели ценные бумаги туристических фирм. Новая оценка суммарных страховых выплат в 73 млрд долл, вызвала падение цен на акции страховых компаний. Продолжили падать котировки акций производителя самолетов Boeing Со., заявившего о намерении освободить 30 тыс. человек и сократить снабжение авиационной техники. Снизилась стоимость таких больших технологических фирм, как Microsoft Corp., Cisco Systems Inc. и Intel Corp. Лишь золотодобывающие компании и компании медицинского сектора продемонстрировали значительный рост.
В начале ноября 2001 г. продолжилось падение котировок акций и европейских компаний. Фондовые индексы Великобритании, Германии, Италии, Швейцарии и Испании уже достигли 4‑годичного минимума. Суммарная капитализация компаний индекса Dow Jones Stoxx 50, в расчет которого входят наибольшие компании зоны евро, снизилась на 470 млрд евро.
События 11 сентября 2001 г. сначала воспринимались в мире как что–то сногсшибательное, что приведет к разрушению мировой экономики. Хотя сентябрьское развертывание событий действительно можно квалифицировать как довольно весомое потрясение мировой экономики, ведущие страны мира достаточно быстро нормализовали ситуацию и вышли на уровень экономического оживления.
Оживление мировой экономики продемонстрировало устойчивость не только конкретно экономики США, но и экономических и финансовых механизмов современной цивилизации в целом. Причем такая устойчивость характеризуется способностью противодействовать как непосредственным проявлениям экономического терроризма, так и весомому психологическому наслоению, сопровождающему проявления экономического терроризма.
Кроме этого, с точки зрения интегрированности непосредственно Украины в общецивилизационные процессы оживление мировой экономики опровергло, по крайней мере, три существовавшие к тому времени мифа:
Во–первых, был развенчан миф о том, что после 11 сентября 2001 г. в странах Запада начался небывалый спад, который мог бы иметь абсолютно непрогнозируемые последствия для современной цивилизации. Запад оказался более стойким к подобного рода потрясениям, и нынешнее оживление демонстрирует именно такую устойчивость.
Во–вторых, практически синхронное оживление в странах Запада демонстрирует то, что эти страны довольно жестко связаны одна с другой в рамках глобализации и взгляды, согласно которым страны Запада разъединены и не имеют механизмов синхронизации экономического развития, несостоятельны.
В-третьих, необоснованным оказался миф о сильной интегрированности украинской экономики в мировые хозяйственные связи. Такая интеграция является весьма незначительной, если судить по полному отсутствию какой–нибудь взаимосвязи в динамике макроэкономических показателей Украины и развитых стран.
Что касается реального влияния событий 11 сентября 2001 г. на события в Украине, то слабая интегрированность Украины в международные экономические отношения позволяет говорить только об опосредствованном влиянии. Глобализация мировых экономических и политических процессов, а также непосредственно финансовая глобализация, определяют то, что какие–либо события в мире прямым или косвенным образом влияют друг на друга.
4. Особенности цивилизационного развития Украины с точки зрения финансовой глобализации. С точки зрения финансовой глобализации Украина не является страной, могущей характеризовать прогрессивные движения общеэкономических и непосредственно финансовых процессов. Больше того, учитывая динамику и основные характеристики современного мира, Украина находится на обочине мировых финансовых процессов940.
Если учесть, что у Украины нет перспектив присоединения к зоне евро, остается найти место в процессе конкурентной борьбы между США и зоной евро, или, по крайней мере, попробовать смягчить влияние этой конкурентной борьбы на собственное экономическое и политическое развитие.
Все сказанное в полной мере характеризует финансовую глобализацию. Существует известный перечень проблем, охватывающих национальную финансовую сферу. Тут и проблемы выбора структуры валютных резервов страны, и создание необходимой финансовой инфраструктуры, и выполнение несложных условий для поощрения иностранных инвестиций в Украину. Потоки финансовых ресурсов просто огибают Украину, используя, так сказать, хорошо известные обходные пути. Если не анализировать динамику теневой экономики и просто отмывание денег, нормальные финансовые интересы нормальных стран лежат вне границ Украины. Кстати, если взять практику Российской Федерации, то сейчас западными специалистами констатируются процессы возвращения капитала, который вытек из этого государства, и усиление инвестиционных процессов именно в его пределах. Этого уровня развития Украина еще не достигла. Как не достигла Украина и уровня задач типа достижения полной конвертируемости национальной валюты, которое также ставит перед собой Российская Федерация941.
С точки зрения цивилизационных аспектов финансовой глобализации целесообразно определить направления, в которых такое влияние сказывается наиболее весомым образом: проблемы интеграции Украины в международные экономические отношения, проблемы взаимоотношений с международными финансово–кредитными учреждениями и проблемы внешних заимствований, проблемы продвижения в Украину иностранного капитала и сотрудничества с иностранными партнерами.
Слабый уровень интегрированности в систему международных экономических отношений оказался своего рода барьером на пути распространения отрицательных последствий кризисных явлений и потрясений в мире. Проблемы интеграции Украины в международные экономические отношения имеют отдельную внутреннюю сторону. Достаточно затронуть одну из составных проблем интеграции в международные экономические отношения — степень зрелости финансового рынка. Развитость финансового рынка на национальном уровне является необходимым условием для развития интеграционных процессов в рынок мировой. Так, в частности, общеизвестный показатель рыночной капитализации внутреннего рынка разрешает не только давать оценки конкретным рыночным секторам, но и использовать динамику этих показателей в отношениях с иностранными кредиторами — как международными финансово–кредитными учреждениями, так и частными инвесторами. То же можно сказать и о формировании и динамике развития национального фондового индекса.
Примером роли и места Украины в международных экономических отношениях могут служить рейтинги ведущих корпораций мира, которые строятся по признакам рыночной капитализации. Традиционный рейтинг 500 наиболее могущественных корпораций мира (по показателю рыночной капитализации) газеты Financial Times942 никогда не включал украинских предприятий, причем они никогда не попадали даже в 100 ведущих компаний Восточной Европы. В свою очередь, российские компании были представлены в перечне 500 крупнейших компаний мира еще с 1997 г.
На решение проблемы интеграции в международные экономические отношения влияют приватизационные процессы. Неразвитость приватизации влияет на фондовый рынок. В свою очередь, отсутствие фондового рынка, адекватного процессам рыночной трансформации экономики, оказывает отрицательное влияние на все сферы экономики. Неразвитость показателя рыночной капитализации в Украине не позволяет создать общенациональный индекс фондового рынка и использовать такой индекс для сравнения с другими странами. Низкие показатели развитости финансового рынка в Украине подтверждаются путем сравнения с другими странами Центральной и Восточной Европы.
Происходит и трансформация взаимоотношений Украины с международными финансово–кредитными учреждениями. Такое влияние можно определить с двух сторон: с одной — происходит переосмысление целей и форм деятельности международных финансовых институтов; а с другой — изменяется модель экономического развития стран, получающих помощь, которая предлагается международными учреждениями. Если говорить более подробно, то еще финансовый кризис в Азии 1997–1998 гг. выявил острые противоречия, связанные с процессами глобализации в рамках современной мировой экономики и либерализации мирохозяйственных отношений, и, кроме того, с необходимостью их эффективного регулирования в международном масштабе.
В то же время, учитывая постоянную критику Международного валютного фонда и Мирового банка за определенную пассивность в процессе прогнозирования мировых финансовых кризисов и их переориентацию на помощь странам, пострадавшим от таких кризисов, довольно сложно предполагать повышенное внимание этих учреждений к сотрудничеству с Украиной. Поэтому можно приветствовать реалистические мысли, которые есть в Украине касательно взаимоотношений с международными финансово–кредитными учреждениями, в частности, относительно перехода к отношениям с Международным валютным фондом на бескредитную основу.
Довольно проблематичным оказывается привлечение внешних средств путем размещения украинских ценных бумаг на внешних рынках. Частный капитал, пострадавший вследствие мирового финансового кризиса, довольно недоверчиво относится к рискованным операциям, к которым относится и приобретение украинских ценных бумаг. Даже сверхвысокие проценты по таким ценным бумагам не могут компенсировать реальную перспективу возможных потерь. Кроме того, вследствие событий 11 сентября 2001 г. в мире сократился объем так называемого «свободного» капитала, пригодного к вложениям как в ценные бумаги, так и для инвестирования в ту или другую страну.
Традиционны трудности с привлечением в Украину иностранных инвестиций. Даже не считаясь с последствием этих мероприятий, сфера привлечения иностранных инвестиций является крайне уязвимой в Украине. Существующее состояние привлечения иностранного капитала в экономику Украины не позволяет говорить об эффективности его поступления. Оценивая ситуацию в сфере привлечения иностранного капитала, следует отметить, что общая масса иностранных инвестиций в Украине, накопленная на протяжении лет независимости, является мизерной.
Для Украины, при условиях ощутимого дефицита внутренних источников накопления, роль иностранного капитала тяжело переоценить. Кроме этого, постоянные трудности с привлечением в Украину иностранных инвестиций усложняются последствиями потрясений мировой экономики после 11 сентября 2001 г. и, все еще, последствиями мирового финансового кризиса 1997–1998 гг. Мировой финансовый кризис сформировал у западных предпринимательских структур в определенной мере «иммунитет» против инвестирования на рискованных рынках. Происходит переосмысление географического и отраслевого срезов движения иностранного капитала. Поэтому, если раньше в Украину не поступали иностранные инвестиции в связи с учетом национальной специфики правового поля, нестабильностью политической ситуации и т. п., то сейчас это тормозится еще и последствиями общемировых процессов.
Кроме этого, изменилась структура ведущих компаний мира, включая их роль в мире и место на международных и региональных рынках. В первую очередь это касается авиакомпаний; страховых компаний; компаний, осуществляющих строительные работы и снабжение строительными материалами и т. п. Происходят процессы переориентации производителей на конкретные рынки, а также переориентации потребителей на другие виды товаров и услуг. Все это необходимо принимать во внимание при осуществлении внешнеэкономической деятельности Украины.
Ситуация в экономической и других сферах развития Украины остается неоднозначной. Она отличается от форм развития, традиционно сложившихся в развитых странах. Все финансовые институты, работающие на рынке, фактически являются новообразовавшимися. Украина утратила рынки сбыта продукции, которые имела во времена союзной кооперации, но так и не нашла новые. Технологический уровень производства в Украине такой, что расширить круг конкурентоспособности продукции сложно. Национальные товаропроизводители не имеют надлежащих условий для развития производства.
Уровень доверия к действиям власти со стороны граждан и иностранных инвесторов крайне низкий. Учитывая данные социальной статистики, а также рейтинги разных международных организаций, отношение к государству не может быстро измениться. Украина среди стран мирового сообщества еще долго будет иметь репутацию государства с высокими рисками и непредвиденным развертыванием политической и экономической ситуации.
К сожалению, процесс трансформации в Украине затянулся: если сравнить Украину со странами Центральной и Восточной Европы, то, конечно, Польша, Чехия или Венгрия имеют совсем другие — намного более позитивные — экономические показатели. Это касается и того, как развивается их национальный капитал, как они работают с иностранными инвестициями. А Украина все еще ищет модели эффективного рыночного развития.
Важными являются действия власти, направленные на поддержку экономического развития государства. Если бы экономикой занимались всерьез на высшем государственном уровне, то последствия были бы куда лучше. Но почти на протяжении всех лет независимости она развивалась сама по себе, а власть существовала сама по себе. Это привело к тому, что лишь в 2001 г. в Украине начался экономический рост. Украина может служить примером того, что экономика во все время экономического падения функционировала сама по себе И только когда экономические показатели достигли дна, оказалось, что у страны есть потенциал, и сам собою начался экономический рост. Если бы этой сфере была оказана еще и политическая помощь, процесс пошел бы значительно лучше и легче. Поэтому для объяснения специфического состояния экономики Украины вовсе не следует искать влияния внешних факторов или внутренних врагов. Это закономерный результат бездеятельности власти, которая является даже более разрушительной, чем действия теневых сил. И в этой связи можно предположить, что каждый следующий экономический кризис потенциально может иметь все более отрицательные и угрожающие для самой идеи украинской государственности последствия.
Речь идет о новом видении того, что надо делать, и о другом отношении к власти, к возможностям принятия решений и результатах таких решений. В Украине все еще нет расчетов того, что надо делать для качественного развития государства через 10–30–50 лет. Экономическая сфера государства в своем большинстве подчинена текущей ситуации и каким–то частным или клановым интересам.
Таким образом, цивилизационные аспекты финансовой глобализации позволяют подходить к определению влияния финансовой глобализации на экономическое развитие отдельных стран и регионов. С этой точки зрения финансовая глобализация выступает как рычаг, с помощью которого происходит стимулирование процесса выравнивания развития отдельных стран, но выравнивания в пределах причастности или непричастности к центрам экономического влияния. В этом смысле финансовая глобализация приводит, с одной стороны, к подтягиванию уровня развития стран к определенным «средним показателям» по группам стран в зависимости от центров финансового влияния, а с другой — финансовая глобализация довольно жестко удерживает страны от чрезмерного движения вперед и от перехода в более высокоразвитую группу.
Цивилизационные аспекты финансовой глобализации находят реализацию путем использования единых финансовых инструментов как средства унификации экономического развития. Активно происходит формирование финансовых центров в процессе цивилизационного развития. Главной отрицательной возможностью, которую открывает финансовая глобализация, является возможность масштабных действий, направленных на подрыв стабильности мировой финансовой системы, как форма цивилизационного противодействия. Цивилизационные особенности с точки зрения финансовой глобализации имеют отдельные регионы и страны, включая Украину.
Что касается влияния цивилизационных аспектов финансовой глобализации на развитие экономической ситуации в Украине, то в силу специфики экономического развития со времен обретения независимости ей очень далеко до лидерства даже среди стран Центральной и Восточной Европы. В то же время возможность использования опыта развития других стран представляется крайне важным для Украины как для определения ее нынешнего места в мире, так и для возможностей максимального использования положительных влияний финансовой глобализации и минимизации влияний отрицательных.
ГЛАВА 10: КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ СДВИГИ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ (С. Б. Крымский)
Проект и проектирование в современной цивилизации
Методологический ландшафт современной цивилизации определяют сейчас две генеральные тенденции: построение будущего и конструктивизация, что определяется сближением теоретических и практических аспектов деятельности, раскрытием процедурно–технологических потенций теории и модельно–информационных возможностей практики. Первая тенденция характеризуется усилением процессов целереализации, которые выходят за пределы настоящего (от осуществления экологических задач до фундаментальных исследований типа космических программ или проблем термоядерной энергетики). Вторая тенденция приобретает вид развертывания процессов трансформации теоретического в практическое, преобразования теоретических разработок в наиболее значительные области промышленности типа атомной и электронной индустрии.
В науке сейчас вообще выдвигаются на передний план, по словам В. Гейзенберга, акты реализации гипотез, умственных схем и теоретических моделей; приобретают приоритетность задачи создания объектов, сравнительно с их созерцательным отражением, что, впрочем, отнюдь не уменьшает достоинства теоретического. Дело в том, что объекты современной науки теряют натуральность твердых тел макроокружения человека и выступают (наподобие квантовомеханических объектов) как созвездие возможностей. Познание таких объектов и является актуализацией тех или иных ракурсов потенциального. Поэтому мышление путем конструирования становится нормативным в современном научном познании.
Опыт построения будущего и конструирования в современной цивилизации показал, что осуществление актов перехода от теории к практике, от прошлого к будущему, от потенциального к актуальному, от естественного к искусственному требует деятельности особого типа. Такой деятельностью и оказывается проектирование и его главная концептуальная задача — проект. И неслучайно проектирование сейчас получает интегральный статус и начинает конкурировать с традиционными средствами познания и действия, отодвигая даже теорию как главную форму организации научного знания. «… Современная наука, — пишет по этому поводу Г. Башляр, — базируется на проекте. В научном мышлении соображения субъекта об объекте всегда принимают форму проекта»943.
Не менее значительную роль играет проектирование в социальной практике, культуре и, в частности, искусстве. Проектирование становится важнейшей характеристикой инженерного, социологического и художественного сознания, основным содержанием дизайна, организации материальной среды человека. Выдвигаются даже идеи о проективном состоянии культуры в целом (К. Кантор, В. Сидоренко и др.), об осуществленности в проектном языке виднейших замыслов цивилизации как таковой944.
Актуализация задач проектирования действительно связана с состоянием современной цивилизации, которое манифестирует возрастание социальной опасности ошибки и потому утверждает необходимость проектного испытания всего нового. Ведь человечество накануне III тысячелетия впервые, по выражению К. Поппера, испытало абсолютную ошибку, когда невероятные материальные и человеческие ресурсы были затрачены на утопические программы, которые являются принципиально не осуществимыми. Стало ясно, что будущее есть предметом не «заглядывания» вперед (как это утверждают приверженцы утопических программ и прогностических иллюзий), а — построения, так как оно не приходит (подобно весне), а проектируется. Итак, альтернативой утопий, которые стали настоящим бедствием XX в., выступает именно научная сила проектов как конструктивного достояния современной деятельности.
Если утопия есть порождением свободной, неограниченной фантазии, то эксперимент опирается на эмпирически выверенное воображение. Если утопия всегда есть результатом состояния, когда со сферой мысленного ведут себя, как с областью реального, то проект, наоборот, сориентирован на получение реальности как предмета творения и конструирования.
Идея «рукотворного будущего» требует также различения понятий проекта и судьбы. Становится очевидным, что будущее не только и не столько судьба, сколько путь реализации человеческих ожиданий. Не будущее приходит к человеку как судьба, а человек приходит к будущему как осуществлению своих целей, идеалов, проектов. В этом отношении процесс отличается от судьбы тем, что в нем конфликт между актуальной реальностью и привлекательностью будущего решается посредством осознания путей превращения настоящего в грядущее, тогда как судьба лишь констатирует неизбежность будущего.
Разумеется, проект и проектирование не являются произведением лишь нашего времени. Они были присущи человеку как творчески–деятельному существу всегда, но не в том специально выделенном, автономизированном виде, в котором проект и проектирование возникают сейчас. Гносеологический анализ актов конструирования и теоретико–познавательных средств, с помощью которых раскрывается феномен проекта, был проведен в XVIII в. И. Кантом. Он впервые показал, что между эмпирической и теоретической деятельностью выступает творческая сила продуктивного воображения, которое опосредствует эти когнитивные сферы актами конструктивизации. Отсюда он сделал вывод об эвристической роли структур, начертаний, схем, которые имеют достоинство интуитивных факторов трансформации эмпирического в абстрактно–теоретическое и наоборот.
Конструктивные акты, которые, благодаря своей теоретико–практической двойственности, объединяют теорию и практику, проявляют деятельную основу всего познавательного процесса. Тем самым обеспечиваются гносеологические условия проектирования как важного состояния современной научно–технической деятельности. Сейчас центральное место проектирования и феномена проекта обосновывают процессы «пракгизации» теоретических разработок, заполнения гносеологического интервала между теорией и практикой интегрированной практико–теоретической деятельностью. Ведь наука постоянно превращается в специфическую разновидность техники, а техника приобретает статус экспериментальной науки. С возникновением «машинного мышления» и робототехники появились информационные технологии, которые имеют маргинальный относительно теории и практики характер. Так же конституируется и статус вычислительной математики, инженерных расчетов, конструкторских разработок и целевого планирования управленческой деятельностью. Особой разновидностью практико–теоретической деятельности стали так называемые технические теории или концептуальные построения технической деятельности (такие, как теория электрических цепей, теория связи, теория автоматического регулирования, теория устойчивости, теория колебаний или теория подобия)945.
Развитие деятельности, промежуточной между теорией и практикой, по–новому поставило вопрос об их соотношении. Оно начало рассматриваться уже не как связь автономных сфер теоретического и практического (так как граница между ними стала относительной), а под углом зрения взаимодействия фундаментальных и прикладных исследований. Смысл такой постановки вопроса состоит в том, что прикладные разработки могут быть теоретическими (как, например, вычислительная математика), а фундаментальные — практическими (как об этом свидетельствует космонавтика). То есть здесь речь идет о взаимопереходе теории и практики в ракурсе процедурно–преобразующей, конструктивной деятельности (прикладные исследования) и производства знания об объективных закономерностях, делающих эту деятельность возможной (фундаментальные разработки), независимо от их связи с абстрактными или конкретными средствами познания.
Такой взгляд стал возможен благодаря тому, что в рамках «практизации» знания раскрытие теоретического аспекта практики обнаружило в наше время обратные явления усиления деятельных аспектов теории. В этой связи находится, например, развитие «мыслимого эксперимента», имитационного моделирования, операционализации теоретических конструктов и актуализации такого компонента теории, как аппликация, которая наряду с дедуктивной схемой и интерпретацией стала структурообразующим фактором теоретических систем.
Применение процедур формализации теоретических систем наперекор, казалось бы, их отчуждению от сферы эмпирического на самом деле привело к возникновению алгоритмических, управляющих теорий (наподобие теории синтеза дедуктивных автоматов). А это означало непосредственное преобразование теоретического знания в процедуры реализации определенных программ.
Тем не менее распространение алгоритмических теорий и компьютерных сценариев и программ функционирования теоретических систем обнаружило пределы эвристических возможностей традиционных теорий как главных форм организации научного знания. Традиционная теория уже не может справиться с тем массивом информации, которого требует интеллектуальный анализ современной научной практики. Поэтому теории включают в контекст определенных компьютерных программ, встроенных в так называемые «интеллектуальные системы» типа «человек — программа — компьютеры», сориентированных на реализацию определенных проектов.
В этих условиях теории все чаще строятся с предоставлением им проективных и программных функций, способных реализовываться в определенных компьютерных комплексах. Теория приближается к проекту, а проект начинает конкурировать с теорией. Так, в физике элементарных частиц квантовая теория поля, пересекаясь с теорией унитарной симметрии, приобретает вид способа проектирования адронов (тяжелых частиц) соответственно преобразованиям внутренних симметрий (унитарного пространства, изотопического пространства и т. п.) по супермультетам (октетам и декулетам). При этом все разнообразие адронов генерируется разными соединениями Lit; d-, s-, с-, t-, и b-кварков, которые образовывают связанные состояния, подчиняющиеся и симметриям взаимодействия, и законам сохранения. Аналогичные свойства имеет и теория слабого взаимодействия, которое спроектировало векторные частички (промежуточные векторные бозоны).
Проективные функции проявляет и теория генетического кода, которая через механизм синтеза белка (в соответствии со структурой ДНК и трансляцией РНК) раскрывает возможности проектирования разных фенотипических свойств организмов и даже построения химерических биологических образований. Так же можно характеризовать и теорию синтеза дедуктивных автоматов, позволяющую проектировать различные кибернетические системы.
Итак, современная теория как форма организации научного знания начинает все более органически объединяться с проектом, а проект — обеспечивать методологию практической деятельности. В этой связи методологические функции проекта оказываются более широкими, чем конструктивная задача теории или теоретические основания практики. Ведь проект строится в соответствии с алгоритмами практики, а функционирует в виде теоретического построения.
Следует учитывать и то, что развитие современной цивилизации продемонстрировало невозможность автоматического соединения теории и практики. Для этого необходимой оказалась особая промежуточная деятельность и ее социотехническое обеспечение. Такой особой деятельностью и выступают сейчас проектно–конструкторские работы. Более того, связанные с этими разработками соответствующие проектные учреждения, социальные учреждения науки и производства по своим масштабам, количеству работников и финансовым ресурсам значительно превышают научные институты академического профиля. Это и дало основание некоторым методологам утверждать о превращении науки в разновидность проектирования (Г. Щедровицкий и др.). При всем преувеличении, присущем подобным утверждениям, они, тем не менее, не являются безосновательными.
Дело в том, что структура сближения практик с теорией (как об этом свидетельствуют информационные технологии, технические теории, конструкторско–инженерные расчеты и подобные им явления) и функциональная нагруженность теории практическими свойствами (целевые программы управления, алгоритмы, мыслимые эксперименты и т. п.) выдвинули на авансцену научных стратегий проект и проектную деятельность. Проект наряду с теорией становится важнейшей формой организации научного знания и его связи с практикой. Если научная теория является универсальной формой теоретического освоения мира, то проект является универсальной формой его конструирования.
Вместе с тем компьютеризация производства и формирование глобального моделирования, возникновение холистской технологии, которая определяется движением от целого к деталям (типа печатных схем в электронике), и дизайна, проектирование АСУ и градостроительство, актуализация системного планирования, теорий организационного управления и менеджмента, распространение комплексного подхода и методов оптимизации оказывали содействие выделению проектирования из общего фона целеполагания и конструирования будущего в специализированную, относительно автономную деятельность интегративного значения. Проектирование стало своего рода архитектурой технического универсума современной цивилизации, хотя и распространяется далеко за рамки техносферы.
В широком понимании проект очерчивает теоретические горизонты функционирования самого «третьего мира», то есть духовно–практической среды человека, который включает и технику, и культуру, и объективируемое знание. Этот мир существовал всегда с момента возникновения человека, но сейчас он приобретает характер проектной формы сконструированного бытия, начинающей претендовать на видное место в человеческом космосе. Иначе говоря, проектное бытие становится агрессивным по отношению к естественному миру, о чем, в частности, свидетельствует экологический кризис современности.
Если раньше духовно–практическая сфера человечества сосуществовала с миром природы, то сейчас возникает опасность ее противостояния естественному бытию. Еще никогда в своей истории человечество не отрывалось от своей земной колыбели так, как это происходит с началом эры космических полетов, никогда не вмешивалось в первоисточники живого в такой мере, как это произошло с овладением генетическим кодом, открывающим возможность управления биологической эволюцией. Никогда еще человек не владел такой космической силой, как термоядерная энергия, которая способна уничтожить планету, и никогда человеческая любознательность не касалась интимных механизмов функционированя ума в такой мере, как это начало происходить с созданием машинного интеллекта.
В 70‑х гг. XX в. американский исследователь Г. Саймон поставил вопрос о создании общей методологии анализа искусственного мира, сферы синтезированного существования946. В современной российской литературе разработка такой методологии началась в области дизайна (К. Кантор) и техниковедения947. Но в общефилософском плане методология синтезированного бытия или феноменология искусственного сама остается интеллектуальным проектом. В определенном понимании такая методология должна учитывать номенологический подход в духе Э. Гуссерля и М. Хайдеггера, что акцентирует на самораскрытии объектов, на движении от предпосылок вещей к их проектированию, на формировании самого опыта, на переходе от внутреннего опыта к внешнему. Формой такого перехода внутри самого искусственного бытия и выступает проект.
Феноменология искусственного связана также с логико–гносеологическим структурированием феномена проекта и осознанием его специфических задач. В этом отношении проект выступает как зондаж путей реализации определенных перспектив, выхода на информационную зону будущего и определяется как целенаправленный процесс получения ожидаемого результата (изделия, конструкции, модели, информационного продукта).
В задачи проекта входят обеспечение режима эффективности и оптимальности функционирования рукотворной сферы деятельности, подъем уровня организованности «третьего мира», искусственного универсума вообще. В таком понимании проект манифестирует неделимость прикладных и стратегических задач, теоретико–аналитических и конструктивно–синтетических актов. Он является основной формой идеологии продуктивно–реализующих решений, которая охватывает идеи, программы и гипотетические модели конституирования изделий и образцов.
Проект является условием и гарантом реализации определенной системы измерений и критериев конструктивной деятельности. К ним относятся оценка и учет перспективных потребностей, технологичности и реализованности задач, экономической эффективности, социально–экологической целесообразности и управляемости, надежности и оптимальности средств. Соответственно проект и проектирование включают ценностно–оценочную фазу своего осуществления. Проект всегда ставит в соответствие структуру и функцию будущего продукта. Но само проектирование может иметь как морфологическую целенаправленность (что было характерно для докомпьютерной эпохи), так и функциональное осуществление с помощью имитационного моделирования.
Проект объединяет теорию с конструктивной деятельностью, в частности с техническими процедурами. В последнем случае он переводит теоретические схемы на язык вычислительно–инженерных действий. Проект рассчитывает соотношение целей, перспектив, возможных результатов, структуры затрат, времени, организационных мероприятий и управленческих структур. Поэтому он объединяет логико–гносеологические и социальные аспекты.
Соответственно, по своему построению проект включает такие компоненты:
1. Проблемизатор (комплекс условий решения определенного класса проблем, установочно–нормативное описание их смысла и целеуказание).
2. Структурно–номологическую схему и ее епистемическое обеспечение (то ли в виде теории или отдельных теоретических ориентиров, то ли в виде программных установок).
3. Алгоритмизатор (иерархизированная система поэтапных действий).
4. Вариативное поле возможных реализаций с блоками контроля и оценки.
Проблемизатор проявляет определенные степени свободы в оперировании возможностями решения проблемных ситуаций. Он фиксирует исходное состояние мира задач проекта, критерии их осмысленности, содержит описание имеющихся средств, типы построений и формы осмыслений, предусматривает выбор расчетов значений условий, оценки обеспечения целей ресурсами.
Структурно–номологическая схема репрезентует своего рода «квазионтологию» проекта, те закономерности и законы, которые позволяют оперировать идеальными объектами наподобие реальных. В ней «средства аналитического исследования идеальных объектов представлены системой теоретических конструктов, которые в онтологической форме фиксируют связь предметного содержания с математическим аппаратом теории»948. Структурно–номологическая схема определяет режим проектирования, его процессные показатели, пределы применения теоретических идеализаций. Она задает систему измеренных ситуаций, раскрывает прогнозно–аналитический потенциал моделей реализации проекта.
Алгоритмизатор является процедурно–алгоритмической частью проекта, составляющей механизм его осуществления, сферу объединения информационных и предметно–деятельностных технологий, определяющих реализуемость проектирования. Он задает определенные операции и фиксирует ожидания, связанные с переходом их в результат. Проблемизатор связывает порядок операций со сроками выполнения проекта, ресурсами и организационными мероприятиями, распределением функций управления и исполнительными актами.
И, в конце концов, вариативное поле возможных реализаций выступает как множество вариантов осуществления проектирования. Поскольку в случае технических или других материализованных разновидностей проектирования они выступают в режиме конкуренции и альтернативного выбора, вариативное поле проекта предусматривает показатели эффективности практического применения и прочие ценностные критерии (или критерии качества проекта). Степень соответствия этим показателям и критериям определенных вариантов (то есть мера их осуществления) можно считать конкретными значениями измерений качества проекта.
Оценка альтернативных вариантов проекта — сложное дело. Вследствие ограничений человеческой деятельности между конкретными значениями разных измерений качества проекта (его ценностными оценками) могут возникать разногласия. Поэтому вариативное поле проекта неминуемо образует две области — зону согласованных измерений качества и зону проектных разногласий (так называемую зону Парето). Например, значение измерения эффективности и надежности может не согласовываться с конкретными значениями измерений экономичности и экологичности, а конкретные значения измерений реализованности и технологичности — противоречить измерениям социальной целесообразности или простоты.
Итак, в одних случаях все конкретные значения качества проекта можно согласованно улучшить, а в других — улучшение одного значения непременно ведет к ухудшению другого, то есть зона разногласий остается непреодолимой. Тем не менее встречаются и проекты, в которых зона Парето может быть существенным образом сужена или даже устранена за счет использования математических методов оптимизации, построения системы шкал оценки важности любого из конкретных критериев качества проекта, свертывания отдельных критериев в обобщенный, главный критергий и переведения других критериев качества проекта во второстепенные. Но такой способ оценки Парето–оптимальцого варианта проекта может привести к выбору не совсем завершенного проекта или даже просто плохого949.
Наличие зоны разногласий является одним из важных (среди прочих) отличий проекта от теории. Поэтому, если теория берет на себя проектные функции, то имеется в виду теоретическое проектирование, которое лишено зоны Парето при сохранении всех других структурных компонентов проекта. Так, в уже приведенном примере проективных возможностей квантовой теории поля в функции предиктора выступают нормативные требования инвариантности, симметрии и сохранения определенных квантовых чисел в процессе взаимодействия элементарных частиц; в качестве структурно–нормативной схемы — матрица рассеяния; в роли проектора или формообразователя — трансформационные свойства полей относительно преобразований Лоренца и преобразований внутренней симметрии; а вариативное поле проекта определяется разнообразием представлений группы SU(n), задающим характеристики разных соединений кварков, которые генерируют андроны и другие элементарные частицы. Итак, функциональное сближение проекта с теорией связано с раскрытием ее как метода конструирования объектов, которые перестают быть предметом одного лишь интеллектуального представления.
Отсутствие зоны Парето не лишает проектирование ценностно–целевой фазы осмысления практической целесообразности и социокультурных предпосылок утверждения человека в собственном, искусственно созданном мире. В этом ракурсе проект отличается от программы, которая является «машиной на бумаге» (логическим механизмом), однозначно детерминованной системой, в то время как проектирование имеет вариабельное осуществление. Отличается он и от плана, который имеет индикативную природу, то есть является теоретической разработкой показателей будущей реальности, в то время как проект имеет конституирующую направленность на потенциальный мир настоящего, на алгоритмы его актуализации в настоящем.
Иначе говоря, проект работает не с будущим, а практически превращает возможности настоящего, независимо от их футурологической ориентации. План является указателем, а проект — деятельностью по его использованию. Соответственно отличается проект и от прогноза как по своему технологическому статусу, так и по модальности. Можно говорить и о нетождественности проекта модели, так как она определяется изоморфностью, соответствием с объектным рядом, в то время как проект превращает это соответствие в тождественность объективируемого знания с его предметной сферой, то есть имеет продуктивно–реализующую способность. Такие характеристики проекта являются тем его рубежом по отношению к другим формам трансформации теоретического в практическое, который не только разделяет, но и объединяет их с проектированием. Ведь и план, и программа, и модель, и прогноз (как целеполагание вообще) перекрещиваются с проектом, входят в той или иной степени, в том или ином выражении в проектирование.
Проект выступает систематической формой организации деятельности во взаимосвязи ее теоретических и практических аспектов. В этом отношении он может иметь как теоретико–процедурную, так и информационно–технологическую разновидность. Но в общем проект — это операционная система, которая характеризует конструктивный процесс творения искусственной реальности, актуализации потенциальной сферы бытия с точки зрения соединения номологических требований (законов) с целевыми и ценностно–нормативными структурами действия. При этом (в технологическом ракурсе) под целевыми структурами имеются в виду плановые и программные установки, а под ценностно–нормативными — социальные измерения проекта и показатели эффективности, оптимальности, реализованности и т. п.
Раскрытие в современной практике синтетической природы проектирования и феномена проекта, расширение сфер инженерно–конструкторской и компьютерно–программной рациональности привело к универсализации проектного подхода. Проектирование стало превращаться в интегральную форму, которая охватывает не только науку (как систему исследовательской деятельности), а и художественную культуру (в варианте дизайна) и свершение исторического прогресса (в виде программного бытия, которое связывает технологию с судьбой человека). На этой почве распространились страшные своим антигуманизмом проекты построения будущего общества под «механическими небесами», в котором душа заменяется информационной программой, фантазия и мечта — технической изобретательностью, а социальные утопии — проектным сознанием. К таким проектам будущего принадлежат, например, система «практотопии» (А. Тоффлера), «миф машины» (Л. Мемфильда), «технологической республики» (Дж. Бурстина) и «компьютерной демократии» (Д. Мура), мистического «технату» (А. Маравалля) и универсальный проект единения Бога, Универсума и машины (П. Тейяр де Шардена)950.
Формирование особой системы проектно–ценностного сознания, вызванное универсализацией проектного подхода, характеризуется сближением технологии и мистического прозрения перспективы, пророческого заглядывания в информационные программы будущего. Ведь и мистическое видение, и технологические программы сходятся в том, что трансцендируют возможное бытие: видение — через фантазию, программы — через проектирование. Но в обоих случаях возникает нестандартная ситуация, когда то, что принимается за реальность, становится реальностью по результатам (так называемая «аксиома Томаса»). В таком мире потенциального исчезает ложь, так как в нем действует продуцирующая сила проекта или веры, стирающая грани между утопическим и реальным. Именно это имел в виду Н. А. Бердяев, когда высказывал мысль о том, что страшнейшая особенность утопии состоит в том, что она легко осуществляется.
Продуктивное воображение задает особую сферу трансцендентного взгляда. А в ней, как подчеркивает американский эссеист А. Генис, имеют место необыкновенные правила: изобличая ложь, мы не приближаемся к правде; но и умножая вранье, не отдаляемся от истины. Складывание и отнимание в равной степени принимают участие в процессе изготовления выдуманных миров951. Благодаря такому широкому спектру перспектив искусственного мира в историческом универсуме человеческой деятельности становится возможным невозможное — проектирование истории, когда ей придается какая–то миссия. Именно таким способом в ретроспективе истории сложились два универсальных проекта ее осуществления. Сначала, как формулирует это обстоятельство российский исследователь К. Кантор, история определялась смыслами первого парадигмиального проекта — христианства, которое сделало возможным и необходимым создание второго парадигмиального проекта всемирной истории — марксизма952.
Продолжая эту идею на проектном языке, укажем, что в христианстве и марксизме действительно наблюдаются все характерные особенности проектирования. Прежде всего допускается высший проектный центр (Бог или единственно верное учение), который с высоты абсолюта задает канон истории, программируя ее осуществление по заведомо определенным образцам.
«… В божественной премудрости, — писал Фома Аквинский, — находятся прообразы всех вещей, которые мы называем идеями или образцовыми формами в уме Бога… Сам Бог есть первичным образцом всего»953. Первичные образцы относительно хода истории задаются и марксистским проектом коммунистического будущего. В нем, как и в христианском вероучении, имеют место все структурные компоненты проектирования.
Исходной частью этих проектов является программа построения «царства Божьего» на Земле или коммунистического общества на идеях справедливости, равенства, екуменизма (интернационализма), уничтожения социального отчуждения и капитала. Это предусматривает грандиозный прыжок из «царства необходимости» в «царство свободы», коренное революционное преобразование бытия («новая Земля», «новые Небеса», «новый Человек») и истории, которая выходит за собственные пределы (или теряя черты «предыстории», или входя в фазу «конца времен»).
Номологической схемой указанных проектов является опора на Закон (то ли в виде Завета Бога, то ли в виде безусловных принципов марксистского катехизиса) и признание исторической неизбежности праведного будущего. А реализующая часть христианского и марксистского проектов истории (так называемый проектор) связывается с «богоизбранным народом», носителем веры; или пролетариатом, вооруженным марксистской идеологией. Их активность определяется коллективными усилиями, которые опираются на единство теории и практики или веры и поступков и мерой руководства со стороны партийных организаций (Церкви во главе с Мессией или вождизм ЦК).
И, в конце концов, вариативное поле этих проектов истории характеризуется (если иметь в виду не региональные, а парадигмально–типичные варианты) двумя альтернативными моделями. В марксизме — это революционно–практическая и реформистская модель; в христианстве — это модель фундаменталистская и спиритуалистическая. Можно выделить и интегративную для них модель христианско–демократического типа. Марксистская революционная модель выходит из требования практического уничтожения сатанинских сил капитала, а спиритуалистическая — надеется на победу над сатаной верой, коллективным богостроительством души, любовью и братством с ближним.
Интегральная модель делает акцент на формировании «нового человека», который осуществляет моральные стимулы работы и нормы христианского общежития, своего рода «демократию соучастия». Этот «новый человек» воплощает сверхиндивидуальное сознание человечества, становящегося богочеловеком. В таком понимании молодой Маркс ставил задачи «осуществить в себе идею человечества, то есть по духовному совершенству стать равным Богу»954. Анализ интегральных попыток проектирования истории в его христианском и марксистском вариантах свидетельствует об определенных границах универсализации проектной деятельности. Ведь если эту деятельность расширять за продуктивную сферу ее применения (в данном случае определять на универсуме истории), то проект из синтетической формулы интеграции теории и практики превращается в свою противоположность — утопию. Значимость проекта и его процессуального выявления в проектировании определяется не столько широтой применения, сколько возможностью проекта обогащать человеческую экзистенцию зондажем потенциальных миров, способностью актуализации возможного в соответствующей действительности.
Трансформация социальных стратегий на рубеже тысячелетий
Эпоха завершения второго тысячелетия нашей эры и перехода к новому тысячелетнему зону истории демонстрирует резкое изменение характера, темпов, форм протекания и смыслов мирового исторического процесса. Именно эти изменения и связывают наш анализ современности с вопросом о «конце истории»; о природе исторического движения, его отличия от повседневности; о «разрыве времен» и поколений людей, которые их репрезентуют; о корреляции технологического и персоналистического аспектов истории; о метаисторических ценностях и конечных смыслах радикальных исторических событий.
При всем разнообразии вариантов осознания предельности событий будущего — от идеи «конца истории» как решения общецивилизационной задачи утверждения либеральной демократии в концепции Ф. Фукуямы до предчувствия опасности термоядерного Армагеддона или христианской эсхатологии — можно уверенно констатировать лишь одно: в событиях всемирной истории на протяжении нового тысячелетия действительно наблюдаются предельные, кризисные явления. Все более заметным становится феномен разрыва времен, когда будущее наступает с необыкновенным ускорением. На глазах одного поколения возникают и гибнут мировые тоталитарные империи; происходит впечатляющий своей внезапностью формационный прыжок от социума коммунистических иллюзий к постсоциалистическому обществу; проходит кинематографическое изменение политической карты мира, когда во второй половине XX в. возникает больше половины существующих сейчас государств. Быстро изменяется и структура международных отношений. Исторический процесс преобразования США и бывшего СССР в супердержавы и потери ими монопольной функции в формировании мирового порядка (которая определяется уже взаимодействием целых регионов Европы, Азии и Америки) осуществляется за несколько десятилетий.
Мир оказался в вихре научно–технического прогресса. В XX в. были открыты целые миры: мега — и микромир, предметное поле научного познания возросло в 1042 раз, а информационный массив знания стал удваиваться каждые 5 лет. При всей результативности исторических преобразований цивилизации XX в. они оказываются отягощенными накоплением стихийных последствий человеческой деятельности.
Мы начинаем сознавать, что человечество оказалось в ловушке собственного могущества. Научно–технический прогресс обернулся экологическим кризисом, последствия которого сейчас тяжело прогнозировать. Могущественное развитие науки породило угрозу термоядерного уничтожения, античная любовь к истине была скомпрометирована цинизмом знания, сориентированного на производство оружия массового уничтожения, то есть лишенного моральных горизонтов. И главное — бытие как высший дар судьбы превратили в инструментальное средство технической стратегии человечества, в предмет производственной перестройки. Теряется благоговение перед существующим, уважение к нему и ответственность за бытие.
Наиболее ощутимый удар человеческой экзистенции был нанесен тоталитаризмом XX в., который начал геноцид, отверг заповеди Декалога, вообще старался вывести человека из лона истории, перечеркнуть вековечные традиции и историческую память. Крах тоталитарных режимов продемонстрировал еще одно необыкновенное явление конца II тыс. Стало ясно, что на Земле нельзя построить рай, а можно только предотвратить ад. Это значит, что всемирно–историческая деятельность начинает ориентироваться не на достижение всеобщего счастья, а на ограничение деструктивных сил, борьбу с демонизмом, противоестественным разгулом губительных сил.
Вредные явления в социальной психологии были всегда. Но в конце XX в. они сконцентрировались таким образом, что производят уже впечатление настоящего взрыва подземного мира страстей, когда терроризм, фундаментализм, национализм, расизм (не только белых, но и других рас), иррационализм, эротизм и т. п. приобретают демоническую окраску. Вообще демонизм, то есть стихия разрушения ради самого уничтожения, вне решения каких–нибудь конструктивных проблем, приобрел в XX в. чрезвычайные масштабы. А в XXI в. опасность аварий современной техники уравнялась с опасностью войн. Не исчезла и угроза термоядерного клиоцида. «Мы живем, — подчеркивает О. Пас, — в неустановившемся мире: сегодня изменение не тождественно прогрессу», так как макромасштабное изменение может привести и к «внезапному уничтожению» не только по военной причине955.
В глобальных измерениях наблюдается так называемый кризис «концепции модернизации», то есть симптомы неочевидности успеха, улучшения. Если в локальном масштабе модернизации могут быть успешными, то в регистре мировой истории все престижные программы, с которыми связывалась историческая миссия капитализма или социализма, оказались дефектными. Ни одна из них не привела к уничтожению бедности, прямой или скрытой безработицы, преступности и социальной незащищенности будущего.
В этих условиях стали необходимыми изменение стратегических ориентиров истории, изменение стратегии социального интеллекта, необходимость направления его на решение глобальных проблем цивилизации. Четко эта потребность была сформулирована в известном меморандуме Рассела–Эйнштейна 1955 г., который стал манифестом Пагуошского движения, а затем начала конкретно учитываться в проектах Римского клуба, деятельности ООН и документах разных интеллектуальных движений современности.
Человечество, которое поставило перед собой целью в XXI в. идеалы ненасильственного мира и путь консенсуса в достижении важных этических ценностей, приобретает ту полноту духовной целостности, приобщение к которой настолько же поучительно, как и уроки мудрецов. «Стоит тому, — как образно утверждает А. де Сент–Экзюпери, — кто скромно стережет под звездным небом десяток овец, осмыслить свою работу — и вот он уже не просто слуга. Он страж. А каждый страж в ответе за судьбу империи»956. Осознание ответственности человека за судьбу «империи», то есть человеческого рода, и формирует новые социальные стратегии нашего времени.
За всей внешней близостью этого процесса осознания целостности и глобальной исторической взаимосвязанности конкретных действий людей всей практике новоевропейской цивилизации механизм конституирования глобальности в XXI в. отличается от простой групповой агрегации социальных единиц в предшествующий период. Для интеллектуальных стратегий современности характерен принцип приоритета общечеловеческих ценностей. А он имеет противоречивую природу. Ведь интерпретация этого приоритета (как преимущества или диктата авторитета внешнего интереса мирового сообщества перед внутренними проблемами народов) отягощена отрицательными следствиями не меньшего масштаба, чем обратное утверждение базисности региональных проблем.
Рациональная реализация принципа приоритетности общечеловеческих ценностей в новом мышлении современности предусматривает не унижение внутрирегионального перед глобальным, а, наоборот, вознесение конструктивной деятельности конкретных сообществ к общечеловеческим ценностям мирового сообщества. Здесь агрегационное понимание «соборности», подытоживание индивидуальных усилий в коллективные дополняется принципом монадности — воплощения и репрезентации коллективного в индивидуальном. Таково специальное дополнение механизма формирования глобальности и характера новых интеллектуальных стратегий. Их осуществление оказывается возможным вследствие того, что в конце XX в. в мировой истории впервые возникают информационно–духовные условия репрезентации универсального в индивидуальном.
Ныне создана глобальная информационная сеть Интернет, включающая спутниковую связь, каналы ЭВМ, новую компьютерную инфраструктуру коллективного планетного сознания. Она и дает возможность осуществлять диалог в масштабе планеты на кооперативной основе. Тем самым приобретает зримые черты тот «мировой мозг», о котором мечтал Г. Уэллс. Эта информационно–кооперативная основа социального интеллекта нашего времени раскрывает оперативно–процедурные возможности нового мышления и дает возможность связать его как с новыми типами социально–культурной деятельности, так и с теорией решений — прикладной методологией преодоления проблемных ситуаций, порожденных научно–технической революцией. Речь здесь прежде всего идет о расширении и осложнении типологии человеческих действий, о появлении задач управления сложными и сверхсложными системами (что требует рассмотрения многих переменных, учета нелинейных эффектов, фактора неопределенности и т. п.); в конце концов, о многовариантности, комплексности и нестандартности общественного развития в XXI в.
Если в эпоху войн и революций сама жизнь иногда выбирала за человека, то в условиях постановки современной практикой многокритериальных и многопараметричных задач нужны специальные методы теории решений. Более того, обнаруживается, что при решении таких задач вообще отсутствует четкая альтернатива абсолютно хороших и абсолютно плохих рецептов. Решения могут быть не просто хорошие или плохие, но прежде всего удовлетворительные. Условию же удовлетворительности отвечает не просто максимизация или минимизация результата принятия решений, а то из них, которое выше определенного уровня ожиданий, то есть реальная польза от него больше той, которую хотели получить. Причем этот уровень ожиданий является относительным: он повышается с успехом деятельности и снижается при неудачах.
Новые социальные стратегии предусматривают объединение и координированность современных представлений об оценке успешной деятельности. С точки зрения научной теории решений действия должны оцениваться не в одних предикатах эффективности, экономичности и утилитарности, а «решаться» в контексте отношений пользы и риска, связанных с ними. И это объясняется прежде всего тем, что в современной практике наиболее эффективные решения находятся в зоне максимальных затрат и риска. Вот почему теперь, когда возросла опасность аварий, ориентироваться желательно не на максимальную эффективность, а на критерии надежности, достаточности и пользы.
Не гарантирует высочайшей эффективности и предельная интенсификация деятельности. Это связано с тем, что динамика затрат и результатов не имеет линейного характера, то есть на единицу продукции не приходится единица затрат. Последние возрастают быстрее, чем полезные эффекты. В эпоху НТР нельзя минимизировать и затраты на новую технику. В инновационной деятельности нужна оптимизация всех средств, которые ведут к конечному результату. Именно всех, так как мы не знаем, какие средства и промежуточные факторы дадут наибольший успех. Такое обстоятельство и придает новым интеллектуальным стратегиям многовариантный и поисковый характер.
Важнейшим достижением нового мышления XXI в. становится осознание того, что ситуации разнонаправленных целей требуют компромисса, консенсуса — как вполне закономерного и правомерного средства принятия решений, а не беспринципной угодливости. Принятие решений в условиях осложнения социальной практики и повышения опасности последствий ошибки предусматривает комбинированный стандарт оценки деятельности. Здесь возможны три случая рассмотрения проблемной ситуации. Первый — когда отбрасываются все варианты решений и таким образом проблема снимается; второй — когда избирается один вариант, а все иные устраняются, то есть достигается то, что называют решением проблемы; третий — когда варианты согласуются, то есть достигается сбалансированный выход из проблемной ситуации, или компромисс. Последний случай и является наиболее типичным и приемлемым для большинства задач, поставленных современной цивилизацией. Он может быть представлен в терминах теории игр, как игра с нулевой суммой, то есть с таким результатом, когда никто один не выигрывает, но достигается польза для всех.
Компромиссному поиску (основывающемуся на принципе консенсуса в новых интеллектуальных стратегиях XXI в.), созвучны и задачи, поставленные научной теорией решений. Прежде всего это проблема группового выбора, ее фундаментальной задачей является соблюдение коллегиального принятия решений при учете границ ценности критерия большинства, важности индивидуальных мыслей и отвергаемых идей. Проблема здесь состоит не в нарушении демократического принципа большинства, а в приведении его в соответствие с требованиями научной теории решений, то есть в соблюдении такой структуры коллегиального обсуждения, когда равенство прав не исключает плюрализма мыслей, консенсуса, учета разнообразия интересов, определения группового выбора на дифференционном анализе всех позиций и точек зрения.
Опыт демократического принятия решений свидетельствует, что учет мнения большинства (которое предусматривает, как правило, усреднение оценок) конструктивен в случае широкой осведомленности и профессиональной однородности тех, кто принимает решение. Кроме того, решения, отобранные по принципу большинства, легче реализуются на практике, чем индивидуальные мнения. Однако групповые заключения, выработанные по принципу большинства, тяготеют к тривиальным соображениям и проявляют дефицит ответственности, который возникает вследствие коллективной анонимности. В силу указанного обстоятельства групповые решения большинства могут быть менее осторожными, чем индивидуальные предположения.
В коллективных обсуждениях большинство склоняется к крайним решениям, независимо от их знака, положительной или отрицательной значимости. По крайней мере в групповых решениях нет гарантии, что большинство будет с той же достоверностью обеспечивать принятие наилучшего варианта, как и исключать наиболее плохой. Вот почему принципиальную важность в групповых решениях имеет анализ индивидуальных мыслей. Даже сугубо индивидуальная мысль не должна быть утрачена при квалифицированном разборе решений, которые принимаются.
Индивидуальные мнения, как правило, являются источником оригинальных решений, которые так необходимы для анализа нестандартных, неочевидных ситуаций. Они являются незаменимыми при оценке эстетичных, моральных и уникальных явлений. В особенности важны индивидуальные выводы для определения степени риска (например, в экстремальных ситуациях), поскольку индивид более чувствителен к опасности, чем коллектив. Нельзя отворачиваться и от того, что индивидуальная позиция может принадлежать, как подчеркивал еще Платон, мудрецу, а решения, принятые по принципу большинства, представляют коллективную оценку через механизм усреднения мнений. Но в усредненном варианте мысли специалистов могут совпадать с мнением профанов.
Проблема индивидуального имеет в современную эпоху и специфическое социально–этическое содержание. Она отражает в европейском мышлении XXI в. обогащенное представление о демократическом процессе, призванном не только утверждать права граждан, наций или личностей, но и решать коллизии между ними. Ведь равенство прав граждан может оказаться под угрозой при расщеплении общества на национальное большинство и этническое меньшинство, а права даже национального меньшинства могут вступить в разногласие с правами личности, если национальный интерес тех или других этносов становится приоритетным или политически выгодным. В таких условиях интеллектуальные стратегии современности ориентируются на базисное значение прав личности, так как она является носителем и гражданских, и национальных качеств. Именно этим обусловлено всевозрастающее влияние морального начала при решении политических, социальных и национальных проблем в новом мышлении современности.
Феномен утверждения этической духовности, моральной политики и морального мира может стать характерной особенностью социально–исторического прогресса XXI в. Более того, на повестку дня нашего времени снова ставится идея мудрости в ее этическом истолковании. Особенностью такой мудрости является радикальное преимущество человеческих ценностей перед любыми интеллектуальными соблазнами и выгодами. Она тяготеет не к логическому успеху как таковому, но к ситуациям, выигрышным с точки зрения утверждения этически и гуманистически значащего. Из двух проблем, одна из которых предусматривает быстрый успех, но ценой отклонения от моральных критериев, а другая — требует трудных и более затратных усилий, но увеличивает шансы утверждения добра и справедливости, последняя всегда должна быть наилучшей. В таком контексте проблемы новых интеллектуальных стратегий XXI века смыкаются с вопросами новой духовности и неклассической рациональности, с жизненноважными проблемами современной философии.
Драматический и несравнимый по своим размахам социальный и экзистенциальный опыт XX века обозначил перелом некоторых многовековых тенденций в истории мировой философской мысли. Разложение мировых империй (от колониальных до коммунистической), крах тоталитаризма и связанных с ним бюрократических структур, принципов иерархизма и государственного диктата во всех сферах общественной жизни существенным образом поколебал догмат платонизма как императива господства общего над индивидуальным и единичным. Этому, тем не менее, оказывал содействие и внутренний культурный опыт человечества.
Платонизм всегда на протяжении столетий встречал оппозицию со стороны разных номиналистических, плюралистических и скептических течений, но до конца XX века все–таки оказывался (если иметь в виду не само учение Платона, а связанный с ним принцип превосходства всеобщего над индивидуальным) наиболее авторитетной установкой во многих теологических, эстетичных и философско–монистических системах. Сейчас эта авторитетность поставлена под сомнение. На передний план философского дискурса выдвигается уже не абсолютность мировой идеи, Бога или материи как универсальной субстанции, а отрицание всякой абсолютизации, то есть принцип монадности. С точки зрения такого принципа целое не исключает плюралистичности форм своего функционирования, каждая из которых может стать индивидуальным выражением общего.
И наоборот, индивидуальное — это не единичное, а единственное, способное воплощать весь мир, сжатый в границах личности. В таком понимании монадное становится принципом социально–культурной деятельности и духовности XXI века. Оно определяет ценность общечеловеческого в меру его способности воплощаться в индивидуальных судьбах людей и этносов.
То, что мы признаем сейчас в качестве общечеловеческого, на самом деле оказывается парадигмацей стандартов научно–технического прогресса и связанных с ним социокультурних ценностей, сформированных европейской цивилизацией. Эти ценности, принятые всем человечеством как условия исторической конкурентоспособности народов в нашу эпоху, тем не менее не исключают архетипы их национальной самоопределенности и бытийностной укорененности. Поэтому общечеловеческое выступает не как базисное, а как надстроечное явление, которое возникает на верхних этажах осуществления процессов регионально–цивилизационной этнической дифференциации человечества.
Общечеловеческое не является обычным проявлением инвариантного, общего в африканских, азиатско–тихоокеанской, ближневосточной или западноевропейской культурах. Оно конституируется по принципу внутренней репрезентации каждым этносом или культурой ценностей, которые диктуются историческим движением, этикой солидарности и вызовом Универсума. При этом потребность в определенной ценности может сначала осознаваться в одном регионе, в какие бы разногласия она не входила с общечеловеческими ценностями. Ведь в каждой цивилизации (не говоря уже об этносах) есть интимный мир архетипов, которые определяют их индивидуальное видение исторической действительности.
В условиях, когда человечество напоминает в социокультурном отношении симбиоз цивилизационных и этнических архипелагов, экуменистическое начало единства становится возможным лишь по мере развития тех собственных, региональных форм, которые способны репрезентовать глобальные интересы. И поскольку такая репрезентация становится действительностью, цивилизационное и этническое развитие человечества демонстрирует своего рода «этажирование» новых возможностей, когда над первичным уровнем культурных и поведенческих архетипов надстраиваются интегральные формообразования. Причем последние конституируются наиболее часто как коммуникационно–информационный и экономико–технологический процессы, в то время как архетипический базис цивилизаций или этносов сохраняет огромный потенциал разнообразия проявлений.
Итак, этническое разнообразие и плюралистичность неотъемлемы от аспектов глобальной жизни или отдельных цивилизаций, касающихся воплощения антропологически личностных моделей освоения мира. И, наоборот, те подсистемы общества и его сознания, которые характеризуются как надличностные образования или требуют выхода во внеличностные сферы, тяготеют к интеграционному способу существования. Это прежде всего касается техники и технологии, науки и экономики, отдельных аспектов правовых и политических отношений, которые воплощают общецивилизационные ролевые структуры. Тем не менее культура и социокультурная деятельность, имеющая личностные формы функционирования не только на индивидуальном, но и на этническом уровне (если этнос выступает со стороны своих неповторимых отличий как исторический индивид), базируются на архетипических своеобразиях, что питают дезинтеграционные тенденции. Это не означает отсутствия в культуре общечеловеческих ценностей, но они существуют в монадном режиме репрезентирования интеграционных элементов, а не их соборном подытоживании, как это считалось раньше.
Более того, когда культура выступает как цивилизация, то есть становится принципом жизни определенных социальных организмов, она не поддается непосредственной интеграции, а превращается в локально–цивилизационные общности, которые могут соревноваться между собой или даже бороться одна с другой. Так, в современном мире, когда исчезло противостояние двух мировых социально–экономических систем (так называемых социалистического и капиталистического лагерей) и соответственно ослабла тенденция классово–политической борьбы, формационные антагонизмы сменяются конкуренцией отдельных цивилизаций. Для современности является характерным, в частности, противостояние Западной, Евро–Атлантической и Мусульманской цивилизаций. Здесь сталкиваются не просто конфессионно разноориентированные интересы, но и отличия образа жизни, которыми, например, являются шариат и исламская государственность, толкующие Коран политически. Иначе говоря, противостояние христианской и исламской цивилизаций демонстрирует различие ценностей особых социокультурных общностей, которые имеют альтернативные конфессионально–политические ориентиры. С одной стороны — это фундаментализм с его ориентацией на религиозную утопию, а с другой — либеральная демократия, исповедующая научно–технический прогресс и идеалы постиндустриального, информационального общества с его плюрализмом и индивидуализмом.
Разногласия подобного рода и требуют учета в социальных стратегиях современности факторов отдельных цивилизаций, которые функционируют как надэтнические образования. Здесь актуализируется сам принцип этнического развития человечества, когда национальные образования могут обнаруживаться на разных уровнях социокультурного, социопсихологического и государственного репрезентирования общечеловеческих ценностей. Скажем, нация может конституироваться в политическом смысле, если на первый план выдвигается общность по признаку одинакового гражданства, ценностным основанием которого является единое государство. Так определяется, в частности, феномен американского народа Соединенных Штатов. Нация характеризуется и на этническом уровне, если объединяется за общностью социоантропных признаков на основе специфической культуры.
Для любого из уровней многоэтажной системы глобального взаимодействия народов, то есть человечества, существуют собственные механизмы интеграции и автономизации. Так, наряду с политическим объединением западноевропейских государств на базе общего рынка, действует принцип «европейского концерта», то есть содружества на манер полифонического музыкального произведения, в котором самостоятельные голоса соединяются в единое созвучное целое. Другой, ослабленной, но более распространенной формой есть согласование интересов в контексте идеи «партнерство ради мира».
Многоуровневый подход к вопросам интеграции народов, ассоциирующий, так сказать, контрапунктивное видение человечества, требует перехода от реликтовой стратегии единения на унисонной основе к осознанию плюрализма его вариантов. Это значит, что надо учитывать не только созвездие возможностей этнического единения, но и ситуации невозможностей. Ведь если этнические коллизии задевают архетипический уровень ментальности определенных народов, то, во всяком случае, их надо не сводить, а разводить (то есть содействовать их автономизации). И наоборот, при политических или социальных коллизиях этносов с солидным опытом сосуществования можно надеяться на преодоление любых разногласий на пути их интеграции.
Кроме исторического опыта, сходства и отличия народов по архетипам менталитета и культуры, проблемы возможности или невозможности интеграции требуют учета политического контекста. Известно, что нация, в отличие от этносов предшествующей поры, характеризуется развитой системой общественного самосознания, наличием собственного государства или борьбой за него. Иначе говоря, здесь действует то состояние активности, которое именуют «национальным духом», а он определяется осознанием и онтологией свободы. И пока определенная нация не проходит фазу свободного развития или борьбы за свободу, она не готова к интеграции, какими бы общечеловеческими ценностями эта интеграция не измерялась. Поэтому нация может оказаться в ситуации, когда, казалось бы, она действует в направлении, противоположном общеисторическим тенденциям к единению человечества, но вне такого утверждения самостоятельного, автономного развития она не может войти в пространство общечеловеческих ценностей и интересов.
Ситуации указанного типа не являются аномальными. Ведь в мире сейчас 199 государств и более двух тысяч этносов, то есть большинство народов не прошло фазы самостоятельного, государственного существования. А это значит, что нация по своей природе является объективно противоречивым явлением: она выступает безусловно положительным фактором развития культуры и личности и вместе с тем двузначна как политический императив, поскольку может использоваться и в интересах демократии, и в имперских консервативных целях.
Учет не только безусловного, но и противоречивого в общественно–политической жизни человечества, анализ многовариантных, комплексных и нестандартных ситуаций конца XX — начала XXI в. порождают необходимость новых оперативно–процедурных возможностей социальных стратегий современности, потребность оценки многих переменных, нелинейных эффектов, даже фактора неопределенности. Этому и отвечает, в частности, вопрос о тех политических формах, которые могут быть способны к самоконтролю, на самоподчинение конструктивным тенденциям своего функционирования и самообеспечения относительно разрушительных сил, порождающихся волюнтаризмом и чрезмерной самоуверенностью структур власти. Если учитывать тенденции современной истории, то способность к всеохватности и перманентному обновлению, критическому переосмыслению и решению собственных коллизий манифестируют сейчас принципы либеральной демократии.
Социально–политические процессы, определяющие современную историю как посттоталитарную фазу социального развития человечества, характеризуются расширением предметного содержания принципов демократии от политического обеспечения прав человека до экономического либерализма и равноправия всех форм социально–экономической самодеятельности; от идей правового государства до приоритетов гражданского общества; от идеологического до организационного плюрализма разных перспектив, партий, конфессий и культурных ассоциаций; от лозунгов единения и коллективизма до обеспечения прав личности. Это расширение содержания принципов демократии сопровождается их универсализацией в широких диапазонах от регионального самоуправления и государственной жизни целых наций до полиэтнических союзов типа СНГ и, дальше, — от континентальных ассоциаций типа европейского содружества до глобального партнерства государств в рамках ООН. В результате принципы либеральной демократии приобретают статус социального императива посттоталитарной эпохи, регулятивного идеала государственно–политического устройства и международной деятельности, метатребований современного гуманистического сознания.
Черты идеала в раскрытии содержания принципов демократии чувствительно улавливаются в политической практике, когда идея демократии связывается с категориями добра и зла. Считается, что способность людей творить зло делает демократию необходимой, а человеческая склонность к добру определяет ее возможность.
Тем не менее, чем более высоким по статусу и значимости становится императив демократии, тем более выразительно очерчивается расстояние между демократическим идеалом и эмпирической реальностью его осуществления. Всякие попытки практического преодоления этого расстояния наталкиваются на то, что идея демократии имеет проблемную часть, зоны эмпирической неразрешимости, разногласия, потребности проработки многопараметрических оценок (в частности моральных) перспектив демократического процесса и иерархии разных форм его зрелости. Так, еще в 1785 году французский ученый М. А. Кондорсе установил парадокс голосования по правилу большинства. Он показал, что при оценке на преимущество тех или других альтернатив обобщенное, коллегиальное представление оказывается не соответствующим сериям индивидуальных выборов, так как средняя оценка может встречаться чаще, чем высшая не по своему реальному «весу», а по порядку предъявления альтернатив выбора. А в 1950 году лауреат Нобелевской премии в области математической экономики К. Эрроу доказал теорему, согласно которой «умные» (то есть такие, что предполагают логикоматематическое моделирование) правила преобразования совокупности индивидуальных оценок в обобщенную, коллегиальную позицию — то есть выбор большинства — не могут считаться осуществленными с точки зрения методологической строгости. Ведь среди таких правил фигурирует запрет «диктата» авторитарной мысли, недопустимость навязывания оценок избирателям, условие независимости их суждений и т. п.
Это означает, что механизмы функционирования демократических принципов приобретают вид «метатребований», общественных идеалов, высоких норм. А практика демократического процесса, кроме формальных условий, требует конкретных решений, своевременных акций, преодоления каждый раз коллизий и разногласий, которые возникают в его осуществлении. Особое значение в этих условиях приобретает толкование применения требования равенства.
Проблема равенства заострилось в демократических процессах современности не только в социально–историческом, а и в социально–психологическом отношении. Как известно, во второй половине XX в. с беспрецедентным ускорением стали возрастать преступления против личности. Если до сих пор преступления преимущественно совершались из–за выгоды, мести, ревности и т. п., то сейчас наряду с ними возникли криминальные ситуации, когда, например, преступник просто расстреливает с небоскреба прохожих, то есть появились преступления, не мотивированные выгодой. Одну из причин таких, внешне неспровоцированных, явлений западные социологи связывают с особенностями демократического общества, в котором принцип равенства людей ведет к внушению мысли, что каждый из них может стать президентом. Поскольку в действительности такого равенства не существует, некоторые из граждан усматривают в этом обман со стороны социума, который тем самым якобы заслуживает мести. Такие расположения духа и питают определенные формы терроризма.
Практика пропаганды формально–демократического равенства оказалась настолько угрожающей, что Н. А. Бердяев стал противопоставлять современной демократии общество «нового средневековья». Этим подчеркивается стабильность социума, который основан на идеологии «естественных мест» каждого человека, когда, например, крестьянин, хоть и был крепостным, но верил в свое преимущество перед господином с точки зрения будущего спасения, большей доступности рая для обездоленных.
Иначе говоря, принцип равенства при учете коллизий его непосредственного воплощения требует компенсационного толкования, то есть создания системы противовесов в виде компенсаций определенным социальным слоям за их фактическое неравенство перед другими. А в более широком понимании этот принцип становится плодотворным лишь на основе развития цивилизованности общества, развитой политической культуры, опыта гражданской толерантности, социального здоровья народа. Тогда исчезают любые серьезные основания для поиска идеала стабильности в прошлом.
Ведь демократия — это не только правовое устройство, государственный порядок, но и система моральной зрелости граждан, формирование в обществе идиосинкразии к подлости и злу, социальной ответственности, способности к взвешенности мысли и действия. Эти требования настолько напоминают идеал, что один из основателей европейской идеи законодательного народовластия Ж. — Ж. Руссо пришел к выводу, что демократия рассчитана на богов, а не людей. Здесь фигурирует опасность незрелой демократии, оказывающейся хуже предшествующих ей средневековых форм общественной организации. Иначе говоря, незрелость развития демократических ценностей может побудить как отрицательную оценку демократии, так и потребность в идеалах ее будущего осуществления.
Незрелая демократия всегда скрывает угрозу злоупотребления правами большинства (тирании большинства), перерождения в охлократию; опасность популизма, приоритета сегодняшних решений над долгосрочными; плюралистического распыления сил (социального атомизма). Немало из таких последствий незрелой демократии (в частности анархии борьбы разных сил) испытала история украинской государственности, которая, несмотря на традиционность демократических традиций казацкой республики, городского самоуправления (Магдебургское право), избирательного назначения на церковные должности и академические вольности, неоднократно погибала. С некоторыми отрицательными результатами преобразования политического плюрализма в многопартийную систему сталкивается украинская государственность и сегодня.
Специфической коллизией развития демократии является постоянная угроза неадекватности законодательного большинства и управляющего меньшинства, то есть возможность противоречий между законодательной и исполнительной властью, между волей большинства и замкнутостью круга руководителей или вождей. Даже требование преобразования демократии политической в демократию социальную ведет к социалистическому обществу с его тоталитарными тенденциями. Как отмечал Ж. — Ж. Руссо, форма правления и порядок общественной жизни не всегда совпадают. Поэтому развитие демократических систем может приводить к ситуациям, когда власть (в законодательной сфере) якобы принадлежит народу, а форма правления тяготеет к вождизму, проявляет тенденции деспотизма. Таким образом, развитие демократических систем приводит не только к коллизиям незрелой, но и к парадоксам неполной демократии.
Демократия как власть большинства порождает власть меньшинства через отбор вождей, соединяет эгалитарность с элитарностью, возможность замены равенства в свободе равенством в рабстве. Нельзя пройти мимо того, что исторически демократия очень легко соединяется с деспотизмом, как об этом свидетельствуют симбиоз рабства и демократии в античности, варварской демократии с развитой системой работорговли в мусульманском мире или полная соотнесенность генезиса американской демократии с порабощением негров. Иначе говоря, можно говорить не только об альтернативности демократии и деспотии, но и о возможности особой синкретической формы их соединения — демоспотизме. Угрозы этой последней формы и скрывает кризис традиционных структур власти в современном мире.
Касаясь этого вопроса, известный русский ученый–юрист времен послеоктябрьской диаспоры П. И. Новгородцев писал в 20‑х годах минувшего столетия: «Нередко думают, что провозглашение всяческих свобод и всеобщего избирательного права имеет само по себе некоторую удивительную силу направить жизнь на новые пути. На самом деле то, что в таких случаях совершается в жизни, привычно оказывается не демократией, а, смотря на ход событий, или олигархией, или анархией, причем в случае анархии ближайшим этапом политического развития становятся наиболее жестокие демагогические деспотии»957.
Сказанное не отрицает необходимости, нормативности и возможности демократизма как пути утверждения политических свобод, народовластия и развития личности. Коллизии становления демократических систем свидетельствуют о том, что они не ограничиваются конституцией, принципами и лозунгами, а требуют учета корректирующей силы исторических обстоятельств. Демократия выступает как исторический, всегда творческий процесс развертывания политических свобод, который наполняет и питает новыми чертами общие формальные условия конституирования демократических систем.
В современном понимании демократия — не просто власть большинства, которой нередко злоупотребляли тираны, а прежде всего — система формирования воли большинства политическими средствами, показателем зрелости которой может служить толерантное отношение к интересам меньшинства и их учет. Это система, в центре которой стоят права человека и свободное соревнование проектов и перспектив.
Причем права человека доводятся до прав личности, как высшей ценности, а свободное соревнование проектов и перспектив — до экономических свобод, неформального предпринимательства и антимонопольных мероприятий. Демократия в современных условиях соединяет принцип правового государства, власть закона с социальной самодеятельностью людей, развитым гражданским обществом. А это предусматривает важное обогащение принципа плюрализма.
В традиционных системах демократии плюрализм ограничивался преимущественно идеологической и религиозной сферой. Но исторические процессы социального утверждения демократии дополняли его со стороны развития бизнеса, фермерства, профсоюзного движения и многопартийных систем власти. В XX в. «взрыв» национального самоопределения народов, так называемый «национальный ренессанс» многих регионов планеты, бросил настоящий вызов возможностям традиционной демократии, определил задачи демократических процессов на многоэтнической основе. Тем самым принцип плюрализма вышел за пределы идеологии и даже политической сферы и приобрел институционные черты, то есть стал закономерностью организационной системы демократического общества.
С формальной стороны такой закономерности соответствует так называемая «теорема фольклора», развивающая особенности функционирования сложных систем (типа социальных организмов) с довольно высокой степенью повторяемости ее процессов. В этих системах, провозглашает «теорема фольклора», всегда существует множество путей, решений, моделей, которые (при условии соответствия правилам) ведут к состояниям их равновесия. Правда, множество моделей и решений в социальных системах не исключает характеристики их эффективности относительно конкретных условий, что и создает основания для выбора958.
В расширенном содержательном и формально (организационно) обоснованном виде плюрализм становится тем самым, наряду с идеей прав человека, фундаментальным принципом современной демократии. Но, подобно принципу «общей воли», прав большинства, эти две последние установки современного демократизма также ведут к социальным коллизиям. Так, плюрализм, с одной стороны, вызовет соблазн неограниченных возможностей, ситуации «открытой двери», веер перспектив, а с другой стороны, не все делает осуществимым, так как релятивизирует ценности и идеалы, усиливает соперничество разных сил, отрицающее реализацию всего множества конкурирующих требований и ожиданий.
Плюрализм обеспечивает развитие гражданского общества и оказывает содействие утверждению полиэтничности социума, суверенизации прав нации. Но между утверждением гражданского общества (идеей равенства всех граждан, приоритетности прав человека над правами любых общностей, преимуществом социальной самодеятельности перед государственно–национальной авторитетностью) и суверенизацией наций могут возникать серьезные разногласия. Ведь гражданское общество альтернативно любым формам национальной авторитарности. Разумеется, источником разногласий здесь является не сам плюрализм (хотя он и освящает конкурирующие силы), а природа национальных процессов. Благодаря этому развитие демократических процессов современности с необходимостью дополняется экуменистической этикой солидарности. Именно она и позволяет улавливать обертоны целого на высших регистрах общечеловеческого концерта.
Экуменистическая этика и является одним из важных утверждений демократического императива современного мира, для которого высочайшими ценностями выступают личность конкретного (человеческого) и «бесконечного» (Божьего) лица, жизнь как способность противостояния смерти, свобода как принцип самостояния человека и социальных общностей, ее воплощающих.
Концептуальный строй анализа переходного процесса
Переход к XXI веку демонстрирует еще невиданную по масштабам, глубине и фундаментальности трансформацию мировых исторических процессов и макроцивилизационных образований. Кажется, что формационное постоянство социальных систем теряется навсегда. Такое формационное непостоянство встречалось и в предшествующие эпохи мировой истории. Но сейчас оно оказалось вписанным в переход к III тысячелетию и сопровождалось беспрецедентным взрывом социальной энергии и воли к изменениям.
Уже нельзя говорить просто об отдельных научных революциях (связанных с атомной энергетикой, выходом в Космос, компьютеризацией, новыми производственными материалами и т. п.). Революция имеет начало и конец в границах определенного отрезка времени. Но сейчас мы не видим конца и края революционным изменениям в познании и практике. Здесь уже речь идет о коренном перевороте в производственных (если иметь в виду не только материальное, а и духовное производство) возможностях человечества в начале III тысячелетия. Будущее все больше подпадает под логику технической рациональности, логику перманентных преобразований, которые вытекают из природы техносферы. Ритмика инноваций стала условием стабилизации производства и образа жизни.
Общественное бытие охватывает обвальный поток информации, порождающей калейдоскоп впечатлений динамического мира, сознание текучести его предметной сферы и его телеэкранных образов. Происходит информационно–электронная «дематериализация» предметно–чувствительного мира, замещение его подвижной иллюзорностью шоу–бытия, астральными телами телевидения и кинематографии, компьютерной графики и показателями шкал приборов; изменяется предметность и объектов потребления: значительная их часть оборачивается к человеку не столько своим естественным функционированием, сколько социальными качествами, так как они выступают символами престижа и моды. Возникает целая промышленность престижного потребления.
Это возрастающее замещение «твердой» надежности естественных тел «блипами» экранных эффектов, клипов, эфирных трансляций отвечает «размытым» переходным ситуациям общественного бытия, его нормативной неотрегулированности, быстрому изменению соотношения успеха и поражения, динамизации потребностей, императива непрестанных новаций, мобильности и спонтанности событий настоящего.
Ведь ускорение трансформаций социальных структур, коллизии между минувшим и грядущим, информационно–электронная «дематериализация» многих аспектов предметно–чувствительной сферы ведут к проблематизации человеческого бытия, ненадежности и незащищенности, формированию идеологии переходности, маргинальности общественного существования. Тем самым на передний план современности выдвигается в глобальном масштабе проблема переходных процессов. И определяется эта глобальность не просто сменой тысячелетий, а трансформацией типов цивилизаций, рангов культуры и самого исторического бытия, сопровождающего его.
В современной истории речь идет о переходе от индустриальной к постиндустриальной цивилизации (так называемого информационного, или информационального общества), от биполярного к системному миру с мир–системным ядром (развитые страны) и их периферийным окружением, от капиталистических и постсоциалистических обществ к цивилизации социально–ориентированного рынка и общей для всех стран либеральной демократии, от обычных культур к метакультуре.
Обвальное нарастание инноваций в современном мире не только актуализирует вопрос освещения динамики бытия, но и определяет необходимость его концептуализации, разработки понятийного аппарата его исследования. Ситуация требует введения более детальной концептуальной сетки раскрытия феномена динамизма, когда понятие «развитие» дифференцируется рядом дополнительных представлений. Среди них и выделяется концепт «переходный процесс», что становится важным звеном методологического анализа феномена изменения, преобразования и трансформации систем, особенно в социальном мире.
При концептуализации явлений динамизма определим сначала исходные понятия «процесс» и «развитие». Под процессом мы будем понимать всякое превращение во времени, которое характеризуется в предикатах состояния и изменения. Разновидностями процесса выступают прежде всего движение (то есть изменение как таковое), становление (взаимодействие бытия и небытия при возникновении определенных состояний), развитие (самодвижение), прогресс (поступательное развитие, ориентированное на достижение большего совершенства в иерархии возможных форм совершенства), морфогенез (то есть переструктурирование систем) и переходный процесс, который имеет свою разветвленную концептуальную сетку.
Базовой в этом разнообразии понятой является категория «развитие», хотя ее содержание пока что не может претендовать на точное, неопровержимое определение. Целесообразным представляется такое понимание данной категории. Развитие — это прежде всего внутренне детерминированный процесс качественного преобразования определенных объектов (вещей, состояний, событий, явлений, идеальных ценностей и т. п.) вплоть до перехода в иной статус их существования (инобытие); процесс, который характеризуется кумулятивностью (способностью обогащаться за счет впитывания переработанного содержания предшествующих фаз процесса), нарастанием степеней свободы и индивидуализации его (процесса) элементов, а также расширением дифференциации самого предмета изменений соответственно его включению в более универсальные связи целого (тотальности).
Разумеется, такой процесс не может распространяться на все и всякое бытие, так как тогда все существующее было бы втянуто в процесс обогащения и усовершенствования с тенденцией к высочайшим кульминациям (омега–пунктов в терминологии П. Тейяра де Шардена) совершенства. А это предусматривало бы введение какой–либо «causa finalis» или даже признание космологического доказательства бытия Бога.
Развитие присуще локальным участкам Вселенной, ее конкретным образованиям. Против универсализации категории развития выступают адепты философии постмодернизма, которые противопоставляют ей идею трансгрессии, обоснованную М. Фуко959. Она отличается от развития неопределенностью, спонтанностью, нефиксированностью результата, который размывается под давлением стремительных событий. Трансгрессия характеризуется отсутствием прогрессивного сдвига изменений (аналогией здесь могут быть новинки моды в жизни и культуре), ориентацией на отрицание, на логическую негацию, на обратные волны событий. Здесь действует обращенность к преодолению границ, динамике действия и стихии текучести. И хотя трансгрессия не является разновидностью переходного процесса, она указывает на области нестабильности на сломе, которые могут быть предметом специального анализа, в широкой сфере методологии переходности.
Переходный процесс — это те преобразования, изменения или трансформации, которые генетически связывают (как минимум) два состояния стабильности системы, одно из которых является исходным, а второе — результативным, конечным или целевым (при социальных изменениях). Он характеризуется: а) вариативностью: разнообразием путей, форм, моделей и проявлений продвижения к состоянию стабильности; б) структурной напряженностью или даже расшатыванием исходных структур (пределом чего может быть хаос); в) оппозициями неорганизованного и упорядоченного материала, стихийности и программируемости изменений, а соответственно социальной сфере переходов — мерой легитимности и нелигитимности процессов; г) «кентавроподобностью» образований переходного процесса; возникновением явлений, которые соединяют черты противоположных тенденций, аспектов, требований.
Примером последнего может быть переход от региональных цивилизаций к современной планетарной макроцивилизации, характеризующейся креолизацией западных (рыночно–либеральных, сциентистско–инновационных) и восточных (духовно–религиозных и традиционно–центристских) ценностей. Проявлением этого выступает так называемый «конфуцианский капитализм» на Востоке или смешанная, государственно–рыночная экономика стран СНГ, ориентированная на присоединение к западному миру. В природе типичным переходным, смешанным объектом является обезьяночеловек как звено антропогенеза или феномен «волна–частичка» в измерительных процессах перехода от представлений микро- к образам макромира.
Важной особенностью переходного процесса, как и развития вообще, является наличие в нем сквозных элементов, объединяющих прошлое, настоящее и будущее процесса. Еще со времен Г. В. Гегеля утвердилась мысль, что развитие идет по спирали. Но ведь в центре этой спирали нет дырки. Развитие всегда накручивается вокруг сквозных, фундаментальных структур, ценностей, тем. В культуре, например, сквозной является триада: Истина — Добро — Красота. В каждую эпоху история определяет различные содержания этих ценностей, но тематически они не сходят с арены культурных процессов. Физика в истории естествознания постоянно сохраняла свою важнейшую программу — динамику, которая при всех переходах от физики Аристотеля к Ньютону и дальше — к квантово–релятивистским представлениям — всегда определялась изучением закономерностей распределения вещества в пространстве. Всю всемирную историю пронизывает оппозиция Запада и Востока, общечеловеческие этические ценности, структуры так называемых «первичных коллективов» — семьи, общин, землячеств, этносов. С экономической стороны сквозными для всех преобразований хозяйственной деятельности с осевого времени являются структуры товарно–денежных отношений.
Указанные сквозные структуры и формы являются архетипами. Это такие образования, которые при всех исторических вариациях своего содержания очерчивают перспективы развития и поэтому характеризуются как ценности, которые не только предшествуют теперешним фазам того ли иного процесса, но и определяют его будущее960. Значимость архетипов в особенности заметна в трансформациях национальных феноменов и в культурном развитии.
Учет архетипов объясняет и такое явление переходных процессов в социальной сфере, которое некоторые исследователи называют «социальным полем» трансформации. Так, чешский ученый П. Штомпка характеризует социальное поле как среду, включающую нормы, ценности, идеалы, императивы, артикуляции, легитимизацию и переформулирование идей, кристаллизацию, утверждение и перегруппировку возможностей, распределение и приведение в порядок социальных иерархий961. Однако такая среда будет очень аморфным образованием, если не вводить архетипическое ядро указанных ценностей. Отношение к архетипам может быть (конечно, одним среди прочих) показателем формы переходных процессов. Так, сохранение всего фонда архетипов определенного социального поля того или иного процесса (при соответствующем изменении его содержательного наполнения) характеризует эволюционную форму развертывания переходных процессов. А минимизация или даже уничтожение архетипов фонда развития оказывается признаком катастрофической формы процесса.
Разумеется, катастрофическая форма не определяется только негацией архетипов. Это более сложное явление. Мы употребляем термин «катастрофическая форма» перехода, не отождествляя ее целиком с феноменом катастрофы как таковой, так как ставим рядом с нею и революцию. Различие между этими двумя разновидностями катастрофической формы перехода состоит в том, что катастрофа всегда обозначает регресс, разрыв истории, патологическую мутацию переходного процесса, а революция, при всей своей обвальной природе, может открывать определенную прогрессивную перспективу962.
В естественном процессе эволюции видов примером такой катастрофы была массовая гибель динозавров. В цивилизационном процессе катастрофической была гибель Крито–Микенской цивилизации вследствие геологических потрясений и военных поражений. В истории Киевской Руси настоящей катастрофой было монголо–татарское нашествие. Не менее катастрофическими были чума и продовольственный кризис в Европе XIV ст.
Вообще катастрофическая форма переходного процесса отмечается предельно сокращенной фазой промежуточных событий, взрывными изменениями, развалом нормальной регуляции и саморегуляции процесса и включением (в лучшем случае) новых ракурсов причинно–следственного взаимодействия. При таком переходе нарушается в процессе преобразований оптимальное соотношение благоустроенного и хаотичного аспектов в пользу последнего. А в социальных преобразованиях это нарушение касается еще равновесия между легитимными и нелегитимными, программированными и непрограммированными, стихийными и сознательными аспектами переходного процесса. При этом линия отклонения от оптимальности в соотношении указанных аспектов всегда в катастрофических переходах является неопределенной.
Как феномен аномалии или патологии катастрофичность в переходном процессе оказывается явлением невероятным. Действительно, всякая большая революция, как доказано историей, сначала кажется невероятной. Но если она (вследствие неожиданных пусковых факторов) начинается, то появляются источники самосозидания стихийных событий, которые быстро разваливают стабильность системы и расширяют вероятность катастрофических процессов. Иначе говоря, в катастрофических переходах действует своего рода конус вероятностей, который очерчивает вибрацию вокруг нуля вероятности начала процесса и расширения масштабов вероятностей по мере продвижения к финалу.
Альтернативой катастрофического перехода является эволюционная форма переходного процесса, которая предусматривает поэтапные изменения системы при постепенном распространении этих изменений на всю сферу функционального и структурного уровня ее существования. Поэтапность эволюционного перехода может определить разные фазы проявления преобразований или относительно элементов системы, или на уровне структур и функций, или их совместного изменения, но непременно постепенно.
Эти разные проявления эволюционного перехода заполняют с классификационной стороны промежуточную зону между категорией движения и пониманием развития. К ним принадлежат такие явления:
Метаморфоза — круговорот форм процесса типа «Товар — Деньги — Товар» или биологических образований от кокона к гусенице и мотыльку и снова к кокону.
Вариация — продвижение процесса за счет изменения периферийных элементов при сохранении основного содержания. Примером здесь может быть идея Лакатоса, считающего, что переход между теоретическими системами в науке определяется научно–исследовательскими программами, которые защищают вариативным полем гипотез главное, «жесткое» ядро положений исходной фундаментальной теории. В биологической эволюции переходные процессы осуществляются (если брать типичный пример) за счет вариативного изменения особей популяции.
Трансформация — важная структурная переработка систем, которая (выходя за границы простой перегруппировки ее элементов) превращает путем изменения связей, отношений, опосредствований (или даже условий детерминации) организацию и функции исходного формообразования. Трансформация является типичным переходным процессом в области знания, культуры, социальной эволюции.
Характерным примером трансформации в сфере переходов теоретических систем знания выступает принцип перманентности. Он раскрывает формирование цепей преобразований одной теории в другую на базе установления общих для всего множества теоретических систем закономерностей. Эти закономерности определяют сохранение некоторых типичных свойств, присущих всем теориям на протяжении всей цепи их преобразований. Поэтому каждая следующая теория лишь обогащает предшествующую. В результате эти теории структурируются в направлении последовательного обобщения, так что каждая следующая система включает предшествующую при сохранении обратного перехода, когда предшествующая теоретическая система определяется как частичный случай следующей. Такая перманентность преобразований имеет, например, место при переходе от арифметики натуральных чисел к арифметике дробовых чисел и от нее — к арифметике иррациональных — и дальше — к арифметике комплексных чисел. Принцип перманентности реализуется и на переходе от двузначной к трехзначной и так далее — к n-значной логике.
В более распространенном варианте логический аспект эпистемической трансформации осуществляется в предпосылке введения принципов запрета (типа невозможности «вечного двигателя» или движения со скоростью, которая превышает скорость света). Эти принципы составляют правила действия, которые определяют сферу возможного и невозможного. Такое определение позволяет сравнивать новые предметные области, которые исследуются, с хорошо известными с целью выявления условий переноса алгоритмов преобразования с одной теоретической системы на другую. Эти переносы алгоритмов преобразования и характеризуют особый случай трансформационного перехода от одной теории к другой. Так, алгоритм «поиска в конечном лабиринте», который возник в алгебре, был потом перенесен в сферу логики, с последующим применением в структурной лингвистике. А из нее указанный алгоритм был перенесен на теорию генетического кода. Во всех этих случаях были установлены трансформационные переходы между соответствующими теориями963.
Важным фактором логической трансформации теории является формализация, которая, преобразуя структуру исходной теории (за счет изменения ее аксиоматического базиса), расширяет предметное поле ее применения. Такая формализация теоретических основ Ньютоновой физики на уровне аналитической механики позволила создать Лангранжевы методы анализа теории электрических контуров и через Гамильтонов формализм получить эвристические средства разработки квантовой механики.
Верхним уровнем формализации теоретических систем является превращение их в логико–алгоритмические теории с управляющей функцией относительно содержательно–предметных теорий. Здесь обнаруживается важная черта любого трансформационного переходного процесса. Он предусматривает фактор управления или программирования, хотя и может происходить в стихийном варианте. Относительно общественного бытия, в том случае, когда управление является неотъемлемой частью социальной трансформации, он получает статус реформы.
Примером такой управляемой трансформации может быть реформирование постсоциалистического общества в направлении западноевропейской парадигмы развития. В ее нормальном варианте это реформирование предусматривает не конфронтацию социальных программ (присущих социализму) и рыночной стихии стоимостной регуляции, а объединение этих факторов в форме переходной и смешанной социально–рыночной экономики. Последняя и объединяет социальное управление со стороны государства с рыночной саморегуляцией экономических процессов.
Важное значение в трансформационных процессах социального реформирования приобретает установление оптимального соотношения роста и стабильности. Проблема здесь, как показал Ю. Н. Пахомов, состоит в том, что, в частности, планетарная стабилизация может отвлекаться от своей основы — экономического роста — и превращаться в самодовлеющий фактор. А это ведет к неплатежам, безработице, падению спроса, подрыву экономики и массовому притоку импорта, то есть к экономическому разрушению. Ведь стабильность не должна превращаться в статичность. На Западе иногда специально выводят экономическую систему из равновесия с целью провоцирования новых процессов. Вообще стабилизация не должна предшествовать росту в процессах социального реформирования.
Социальная трансформация в современном мире должна отвечать условию соединения государственного управления экономикой со свободным движением капитала на основе рыночной саморегуляции964. Здесь действуют глобальные закономерности трансформации планетарной макроцивилизации, в которой, по выражению Дж. Гелбрайта, «социализм» больших корпораций дополняется свободным предпринимательством мелких фирм. Тем самым стихийный аспект трансформационного процесса не отрицает необходимости государственного управления. В Японии, например, в 80‑х годах прошлого века государство регулировало более чем 10 000 позиций в области ценообразования, импорта, положения основного капитала и т. п.
Дело в том, что социальная трансформация имеет вариативную природу, создает проблемное поле множества вариантов, иногда противоречащих друг другу. Тут необходим отбор, селекция вариантов, тем более, что трансформационный процесс связан с социальным экспериментированием и конструированием. Поэтому управление социальными преобразованиями выступает необходимым компонентом трансформационных актов.
Одним из путей управляемой социальной трансформации (то есть процесса реформ) является метод параллельного переноса в актах взаимодействия традиционного (предшествующего или, условно говоря, «старого») опыта и нововведений, то есть инновационного, «-нового» опыта. Это взаимодействие означает, что предшествующее («старое», традиционное) не уничтожается, а преобразуется параллельно введению инноваций. А они разворачиваются при постоянном сравнении с успехами или неудачами реформирования старого порядка и переносе благоприятных результатов с одного порядка (реформуемого старого) на второй порядок реализации нового.
Вообще, не все то, что предшествует новому (и якобы является старым), подлежит преодолению или пересмотру. Ведь в процессах развития появляются сквозные элементы, которые, хотя и идут от прошлого, но очерчивают контуры будущего. Есть, в частности, сквозные ценности цивилизации, которые определяют самую цивилизованность определенных социальных систем. К ним принадлежат гражданский аспект функционирования государства в его организующем социум позитиве, товарно–денежные отношения, общечеловеческая этика, права человека, религия, национальная культура и т. п. Всестороннее использование этих ценностей в трансформации постсоциалистических стран является не возвращением к капитализму, а прогрессом в направлении современной планетарной макроцивилизации.
Соответственно надо указать и на проверенные, надежные, стабильные общественные явления, которые не подлежат переоценке в силу своей освященности всемирной историей. К ним, например, относятся стоимостное саморегулирование экономики, государственная поддержка больших социальных или технических программ, частная инициатива и деловая самодеятельность людей, идеи равенства, свободы, братства и солидарности В культурно–эпистемическом отношении такие освященные историей явления имеют достоинство классики, классического наследия, то есть приобретают статус идеала.
Интересно в этом контексте свидетельство выдающегося физика П. Эренфеста, близко общавшегося с выдающимися реформаторами современного естествознания — А. Эйнштейном, Н. Бором, В. Гейзенбергом. На вопрос — чем отличаются эти творцы новой физики от обычных ученых — он ответил: «…их можно назвать консерваторами, так заботливо они относились к классическим объяснениям, к каждому кирпичику здания классической физики»965. Это и есть наилучшее понимание трансформационного процесса, когда преобразование старого идет не методом его внешнего уничтожения, а путем логического, внутреннего выхода из него на основе необходимости, открытой благодаря предшествующему опыту.
Итак, трансформационный процесс включает и уничтожение, и переработку старого, и его адекватное воспроизведение, и гибридизацию старого и нового, то есть смешанную форму. Трансформационное движение является много вариантным. Это не только движение к новому, но и модернизация старого и традиционализация инноваций, пробуждение нужного прошлого, освобождение его от черт древности и уничтожение неоправданных форм настоящего или утопических извращений того, что считают будущим. «Социальные изменения, — по формулировке П. Штомпки, — обнаруживают слияние множественных процессов с разными векторами, которые частично расходятся, частично сближаются, частично усиливают или уничтожают один другого»966.
В трансформационном процессе всегда есть возможность обратного движения от нового к старому и не только в отрицательной форме его консервации, но и в положительном проявлении его модернизации. Так, в современной макроцивилизации трансформация социальных систем в направлении вестернизации (парадигмации западного общества) вызовет обратный процесс исламизации с ее фундаментализмом, консервативными идеалами; происходит и модернизация традиционного, о чем свидетельствует уже упомянутый феномен конфуцианского капитализма: его усилия вписать в традиционные ценности Востока современную рыночную экономику.
Наглядным примером модернизации предшествующего опыта был НЭП в социальной истории СССР и принцип соответствия в сфере трансформации научных теорий. Принцип соответствия исходит из того, что у новой теории, которая формируется, должны быть «классические двойники», то есть аналоги некоторых положений старой теории. Последние и надо использовать в полной мере для того, чтобы путем их коррекции и уточнения (если они будут при трансформации теоретических систем давать неопределенные результаты) получить формулы новой теории.
Как показал В. Гейзенберг, принцип соответствия является методом наибольшей аналогии между старым и новым знанием, которое создается в результате экстраполяции классических представлений на неклассическую область. Но поскольку старые представления не могут быть полностью адекватными новой области, строят искусственные, даже фиктивные объекты модельного типа, на которых эти представления исполняются за пределами старой теории. А потом ведут поиск частичного совпадения некоторых черт указанных модельных объектов с эмпирическим материалом новой теории. В той мере, в какой это совпадение осуществляется, развивают отдельные положения новой теории и устанавливают логические границы применения старых представлений.
Итак, переходный процесс с необходимостью включает искусственные, фиктивные объекты. И это особенность не только эпистемических, но и социальных трансформаций. Поскольку переходный процесс происходит между двумя состояниями стабильности, которые, будто два берега, очерчивают поток преобразований, то переход от одного «берега» на другой требует определенных ориентиров. А они определяются не только реальными событиями, но и мечтами, идеалами, надеждами и даже иллюзиями.
Человек не может ориентироваться по звездам, которые падают. Поэтому создает миф про недвижимые звездные ориентиры Неба. Здесь реальность переплетается с ожиданиями. Переходный процесс включает виртуальную реальность всего того, что не осуществлено, но является желательным. Так, в начале формирования США как государства, как пишет американский историк Д. Буртин, — «Америка порождала многообразие надежд, поскольку была привлекательным объектом иллюзий. Карта Америки состояла из незаполненных пространств, которые еще нужно было заполнить. Но там, где не хватало реальных фактов, возникали мифы»967.
Это переплетение реальности и иллюзий, в частности в утопической форме, подчеркивает и другой американский исследователь Л. Мамфорд. «Мы никогда не достигнем полюса, на который указывает стрелка компаса, — пишет он. — Точно таким же образом мы, несомненно, никогда не будем жить в утопии. Но если бы не существовало намагниченной иглы, мы едва ли сумели бы путешествовать. Нет оснований думать, что мы расправимся с утопией, утверждая, что она существует только на бумаге»968.
И дело здесь не только в том, что всякое бытие — это коллаж реальности с утопией (иначе реальность была бы весьма угрожающей). Дело в том, что в социальном бытии (и это является одним из парадоксов социологии) из мысленных ситуаций вытекают реальные следствия, о чем, например, свидетельствуют биржевые паники, вызванные слухами и т. п.
Этот феномен объединения реального и иллюзорного или утопического достаточно выразительно раскрывается в социальных трансформациях. В самой реальности переходного процесса, как свидетельствует опыт реформ в постсоциалистических странах, возникают фиктивные объекты типа инфляционных банкнотов, иллюзий трастовых обещаний, фирм–химер и т. п. Объективируются разные иллюзии — от утопий технократичного процветания до гипертрофии национальных ожиданий и мифологизации прошлого.
Ведь переходный процесс характеризуется наличием, кроме нормальных, распространенных в той или другой области феноменов, специфических разновидностей объектов, к которым принадлежат не только смешанные (объединяющие противоположные черты), «кентавроподобные» предметные образования, но и иллюзорные, фиктивные или искусственные объекты. В соответствии с такой специфической предметной областью переходного процесса существует, как мы видели, широкая концептуальная сетка теоретической репрезентации этого процесса. К ней принадлежат понятия «изменение», «преобразование», «становление», «развитие», «катастрофа», «метаморфоза», «вариация», «трансформация», «реформы», «революция» и т. п. Это и дает основание для выделения феномена «переходный процесс» в самостоятельный предмет методологического исследования.
Цивилизационный статус глобализации
Переход к III тысячелетию мировой истории ознаменовался превращением глобализации в детерминанту цивилизационных процессов XXI века, их типологическую характерологию. В полной мере развернувшись во второй половине XX века в ходе компьютерной революции, развития электроники и начала информатизации техносферы планеты, глобализация превратилась в универсальный феномен новейшей цивилизации. Она затрагивает важные аспекты не только технологий, производства, экономики, коммуникаций, политических стратегий мирового развития, культуры, но и измерение самого человека в его образе жизни и антропологической перспективе.
В определенном смысле с современной глобализацией можно связывать новый этап сапиентации человека. Ведь в эпицентре глобализации оказалось формирование спутниковой связи и Интернета, мировых информационных и социокультурних потоков, что позволило подключить человеческий интеллект ко всему объему знаний, выработанных человечеством, проложить дорогу мышлению на кооперативной, планетарно–компьютерной основе, создать своего рода «мозг планеты». Перед человечеством открылись универсум мировой информации и возможность выхода в виртуальные миры, на широты потенциирования всего многообразия экзистенции. Сбылась метафора мудрого Лао–Цзы, говорившего о том, что бороздить Вселенную можно не выходя со своего дома.
Цивилизационная многоаспектность глобализации создает определенные трудности ее исследования и оценки. В том, что в данное время выражается термином «глобализация», сплелись и подытожились глобализационные процессы разной исторической природы и временной определенности, относящиеся к разным сферам протекания. Глобализация имеет длинную предисторию, заданную самим ходом всемирной истории.
Разворачивание истории как всемирного процесса уже выступает фактической глобализацией в сферах разностороннего взаимодействия народов, стран и локальных цивилизаций. История самоосуществляется в направлении связей ее подсистем. Известно, что если в палеолите эти связи осуществлялись в радиусе 800 км, в эпоху раннеклассовых обществ не выходили за пределы 8000 км, то к началу христианской эры историческое взаимодействие народов охватывает уже межконтинентальные связи в пределах Старого Света, включая Европу, Азию и Африку, а с XVI в. простирается в масштабе всего Земного шара, открывая тем самым этап планетарной истории. Возникают мировой рынок и международная сеть культурного обмена. С начала 1960‑х годов можно уже утверждать о возникновении космического масштаба человеческой истории. Развитию всемирной истории отвечает и формирование мировой политики, мировых стратегий международных отношений. Начиная с Вестфальского мира 1648 года, возникают претензии на правовое мироустройство. А в данное время происходит политическая институционализация глобализации мировых процессов.
С XX века начинается другой тип глобализации, обозначенный развитием ноосферы, раскрытием информационных основ коэволюции человека и планетарных феноменов жизни. Развитие природы подвело к необходимости вмешательства разума в геохимию и биосферу планеты, использованию культурной энергии агротехнологии и искусственного отбора как альтернативы возрастающей энтропии, противодействию рассеянию полезных признаков в эволюции биологических видов. Эта необходимость начинала реализовываться по мере распознания генетической информации, общей для всего живого, и ее взаимодействия с социокультурной информацией. Витальный аспект человеческой деятельности и ее интеллектуальных стратегий приобрел общепланетарный масштаб, что и позволило говорить о формировании ноосферы как особого типа глобализации в сфере «мудрости жизни».
Начиная с 60‑х годов XX века, возникает глобализация предметного поля современной цивилизации, которая, собственно, и знаменовала интенсификацию интегративных процессов на переломе тысячелетий. Здесь уже на первый план выступило не просто масштабное расширение человеческой деятельности (которое было и раньше), а универсальная структуризация ее механизмов и результатов.
Это выразилось в образовании общих для всего человечества структур научных технологий, появлении универсального пространства электронных коммуникаций, общемировой компьютерной сети (Интернета), развертывании конфигураций мирообусловленности хозяйственной деятельности и ее планетарных геоэкономических структур и, соответственно, институционализации международных финансовых потоков вплоть до создания глобальной финансовой инфраструктуры, управляемой транснациональными корпорациями, стериотипизации ряда аспектов быта и моды, агрессии космополитических нормативов массовой культуры. Иначе говоря, интенсифицировалось формирование общечеловеческой надстройки над всем многообразием исторической деятельности за счет глобализации ее технологических, хозяйственных и информационных структур.
Такая глобализация, характеризующаяся планетарными структурами сверхцивилизации, опирается на ресурсы всемирной истории и ноосферной эволюции (которые имеют глобальный масштаб), но детерминируется главным образом результатами и ходом научно–технической революции. А эта революция порождена внутренними, имманентными свойствами Западной цивилизации с ее императивом технической рациональности, фаустовским духом, стремлением к преобразованию мира, господству над сущим, прометеевской дерзостью преодоления границ, установкой на инновационную активность, «соперничеством с Богом» в построении искусственного Космоса. В результате глобализация приобретает западноцентристскую конфигурацию.
Глобализация тем самым проявляет ценностные ограничения, так как парадигматизирует лишь часть ценностного потенциала цивилизационного процесса. Она ориентирована на все предметное поле этого процесса, включая цивилизации Востока, но реализует лишь возможности хозяйственной однородности мировой экономики, общечеловеческого статуса технологий электронного производства и планетарных коммуникаций.
При этом остается воспроизведенной (иногда даже в расширенном варианте) принципиальная культурная дифференциация региональных и национальных культур. И дело здесь не только в действии принципа необходимого информационного разнообразия (Р. Эшби) или анархическом традиционализме. Глобализация как формирование универсальных, общечеловеческих структур актуализирует также историческую деятельность, связанную со специфицирующими структурами или архетипами отдельных цивилизаций и национальных культур.
Особенность современного цивилизационного процесса именно и состоит в том, что он противостоит тем тенденциям нивелирования национальных расхождений, которые были характерны для индустриального общества, направленного на унификацию и стандартизацию производства. В рамках индустриальной эпохи такая направленность была необходима, так как она обеспечивала интеграционные возможности социоэкономичного развития на моноцентрической основе.
Но современная глобализация опирается на компьютерные сети своего обеспечения. А эти сети за счет своего быстродействия позволяют осуществлять интеграцию на полицентрической основе Полицентризм принятия решений и, соответственно, автономность подсистем не являются препятствием для компьютерной техники в реализации согласованного, кооперативного действия всех составляющих интегративной системы, возможностей ее функционирования как единого целого.
Конечно, одной возможности интеграционного действия на полицентрической основе недостаточно. Необходимы еще определенные социополитические условия. Но они уже относятся не к процедуре глобализации, а к ее политической институционализации, связанной со стратегией западных стран по преобразованию этой глобализации в вестернизацию, агрессивную относительно национальных, культурных и государственных отличий на международной арене.
Политическая стратегия вестернизации имеет, однако, ограничение: она сталкивается с не менее глобальной децентрализацией историко–культурных регионов мировой истории. Так, даже при наличии геофизических аналогий, одинаковости товарно–денежного обмена и электронных средств информации социокультурные особенности таких регионов, как дельта Меконга, фиорды Норвегии, Тибет и Швейцария, Цейлон и Исландия, настолько разительны, что создается впечатление разных миров. Черты миро–специфичности присущи и таким зонам, как Дальний Восток, Мусульманский регион, Североатлантическое сообщество, Африка, Южная Америка, постсоветская Евразия. Культурно–региональные отличия на уровне субмиров проявляют Россия и Индия, Китай и Европа.
При всем возможном пересечении культур этих сообществ, мировых регионов и стран расхождения между ними имеют нередко архетипическую природу. Для Дальнего Востока приоритетными являются коллективизм, патернализм (государство или фирма — аналог семьи), ценность ритуала, верховенство долга среди сакральных ценностей, при том, что любовь акцентируется лишь как верность старшим, традициям, прошлому. Для Мусульманского мира высочайшим принципом выступает закон, установленный в прошлом Аллахом и не требующий человеческой санкции, а ценность жизни дополняется ценностью смерти. Европа, наоборот, соединяет закон с принципом благодати, когда юридические установления могут потребовать личного обращения к Богу, исповедует персонализм, гуманизм, а любовь к ближнему провозглашает высшей заповедью.
Примечательны расхождения архетипов культур Китая и Европейского мира. В Китае знание вторично относительно мудрости, а инновация приспосабливается к традиции как к главной ценности. Для китайской культуры между знанием и бытием не существует кантовской пропасти, так как знание выступает как «недоразвитое действие». В Китае знание вне инструментального использования, вне прагматической ценности лишено содержания, в то время как в Европе оно может существовать вне практического контекста, если (как в Греции) знаменует духовность как таковую, характеризует личностное достоинство, имеет риторическую ориентацию.
Европейская культура рассматривает абстракцию как путь к истине, в то время как в Китае имеет место недоверие к абстрактным построениям, культивируется ставка на наглядность, очевидность, а не на логическое доказательство, преобладает ставка на афористическое указание, а не на полемику. Вместе с тем китайская цивилизация исповедует важность меры практической деятельности, ее согласованность с благоговением к естественному, а не искусственному.
Даже внутри европейского мира разные этносы по–разному толкуют казалось бы единые христианские ценности. Для итальянцев, например, Мадонна оказывается земной женщиной; для французов — это предмет этикета рыцарского поклонения; немцы усматривают в образе Богоматери с новорожденным символ связи прошлого и будущего, нечто вечно–женское; для восточных славян Богоматерь выступает как Оранта, женское опосредствование связи человека с Богом.
Таким образом, цивилизационный процесс во всемирно–историческом масштабе не сводится к глобализации. Она не ликвидирует этнической полисистемности планеты и фундаментальной дифференциации культур с их ценностной спецификой и архетипами. Человечество было и остается цивилизационно–этническим архипелагом. Это и создает оппозиционный фон глобализации, более того, вызовет обратную волну относительно радикализации программ общепланетной унификации человечества.
Такая обратная волна не менее заметна в современном мире, чем глобализация. Если мировая история в цивилизационном отношении двигалась, образно говоря, с Востока на Запад, а с началом Нового времени движение обернулось с Запада на Восток, то в данное время Североатлантическая конфигурация глобализации вызывает серьезное сопротивление со стороны восточной архаики и восточной специфики цивилизационной периферии современного мира.
Цивилизационные сдвиги в современной истории, связанные с глобализацией, сопровождаются альтернативной тягой к тоталитарной архаике. Резко усиливается влияние мусульманского фундаментализма и подобных ему стратегий африканского тоталитаризма. Обратная волна восточно–буддийского влияния — увлечение идеологией Дзена, буддийских сект, мистикой суфизма и восточных единоборств — создает конкурентную среду современным западным культурам, а иногда и поражает их соблазном западновосточного синкретизма.
Иначе говоря, глобальный технологизм современной цивилизации провоцирует как обратный результат первобытный мифологизм, когда колдун, шаман или знахарь рассматривается как своего рода доисторический технолог. И в таком неоязычестве есть тоже свой глобализм. Ведь мифология и язычество используют универсальные структуры взаимоотношения человека с природой в виде медиаторов связи земного и небесного, архетипов бессознательного и тотемов. В результате универсальные структуры глобалистических моделей будущего сталкиваются в современном мире с универсальными мифологическими структурами. Даже внутри цивилизационного процесса, который осуществляется под сигнатурой глобализации, происходит актуализация прошлого.
Обратная волна восточных влияний, феномен актуализации прошлого и неоязычество, стремление снять «груз истории» и возвратиться к универсальным формам мифологического единства с бытием ограничивают сферу и зоны эффективности глобализации в цивилизационном процессе. Здесь высвечиваются и болевые моменты этого процесса, его переломы и срывы. Ведь развитие современной цивилизации сопровождается цивилизационным вырождением в значительных регионах планеты, включая Афганистан, Камбоджу, Сомали, Чечню и «зоны смерти» в государствах африканского тоталитаризма969.
Относительно анализа границ глобализации напрашивается аналогия с результатами мировой стратегии Александра Македонского, который осуществил попытку навязать Востоку греческий образ жизни. Эта стратегия отвечала программе Аристотеля универсализировать нормы афинского социума. Однако завоевания Александра Македонского, приблизившись к границам ойкумены античной эпохи, натолкнулись на обратную волну культурных влияний Востока с его имперскими принципами, деспотией, мистикой и магическими ритуалами. В результате вместо глобализации образа жизни Афин возник эллинизм с его синкретизмом западных и восточных элементов.
Пределы глобализации намечаются и в современном мире. Однако она ограничивается на карте социокультурных миров планеты уже не только «по горизонтали», так сказать, широтно, но и «по вертикали», в ракурсе меридиональной локализации. Глобализация в настоящее время репрезентирует верхний этаж цивилизационных процессов. А эти процессы — многоуровневые. При этом этажирование уровней цивилизационного процесса определяется не по ценностным характеристикам (то есть не по принципу: «что высшее — то есть важнейшее»), а в соответствии с временным показателем (точнее инновационными надстройками над традиционными уровнями).
Верхние этажи цивилизационного процесса характеризуют большие инновационные сдвиги от результатов научно–технического прогресса до формационных преобразований социально–экономического типа и политических трансформаций мирового сообщества. Базовый же уровень (и в этом смысле предпосылки цивилизационного процесса) определяется антропологическими характеристиками, то есть модусами человеческого бытия, связанными (по убеждению раннего марксизма периода «Немецкой идеологии» К. Маркса и Ф. Энгельса) с «производством и воспроизведением человека». К этому необходимо также добавить стереотипы быта, традиции, менталитет этнических культур и национальных ценностей. Уже К. Маркс различал категории «Geselshaft» (то есть общество) и «Geselwesen» (то есть первичные коллективы типа семьи и рода, землячества, этноса). Последние, в отличие от больших социумов мировой истории, являются сквозными структурами всех социальных преобразований верхнего уровня, обеспечивают инвариантные, архетипические начала в общечеловеческом массиве инноваций.
Сказанное не отрицает возможности общечеловеческой надстройки над разными способами самоидентификации людей на этническом, местном, семейном уровнях. Ведь не только цивилизационный процесс является многоэтажным. Многоступенчатость обнаруживает и национальное сознание, которое включает и специфическое, и общее в жизни народа. Необходимо только учесть возможности восхождения на более высокие этажи человеческой экзистенции.
Многоуровневая система цивилизационного процесса позволяет обнаружить области, точнее, аспекты, наиболее благоприятные как для развертывания глобализации, так и для сохранения базовой специфики культур и этнических ценностей. Более того, этот процесс раскрывает возможность привлечения уникальности конкретных форм регионально–цивилизационного и этнокультурного многообразия мира для усиления мотивации экономической, культурной и любой другой результативности глобализации. Тем самым оказывается возможным ввести комбинированные стандарты преимуществ и глобализации, и спецификации в составе современной мировой макроцивилизации. Более того, многообразие путей и уровней цивилизации выступает необходимой предпосылкой как национальной идентификации культур и народов, так и глобализации мировой истории в общечеловеческом Универсуме.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Ю. Н. Пахомов, Ю. В. Павленко)
1
Как уже было отмечено во Введении, цивилизационную структуру современного мира можно рассматривать в двух измерениях.
Первое предполагает его анализ в ракурсе концепции «мир–системы» И. Валлерстайна, которая предполагает выделение «мир–системного ядра» — группы наиболее развитых и богатых стран Запада и Дальнего Востока, «полупериферии» — стран среднеразвитых — и «периферии» — бедных и отсталых аграрно–сырьевых государств с низкими, а то и отрицательными показателями темпов развития.
Второе исходит из того, что человечество как прежде, так и теперь представляет собой сложную динамическую систему отдельных взаимодействующих цивилизационных миров, региональных цивилизаций, их субцивилизационных составляющих, филиаций и анклавов.
Причем различные цивилизации сегодня (в отличие, скажем, оттого, что наблюдалось полтысячелетия или тысячелетие назад) не просто сосуществуют и взаимодействуют. В глобализирующемся мире они и их составляющие структурируются в иерархическую систему, в пределах которой между различными группами человечества все больше увеличивается разрыв в технологическом и экономическом развитии, уровне и качестве жизни. Северная Америка, Западная Европа и Япония, лидирующие в этих отношениях, относятся к мир–системному ядру, тогда как остальные цивилизационные общности относятся к мировым полупериферии и периферии.
В стадиальном отношении первые, в целом относящиеся к «золотому миллиарду», вышли или на наших глазах выходят на уровень информационного, точнее, по М. Кастельсу, информационального общества; вторые, в целом, остаются на стадии индустриального общества (иногда с анклавными вкраплениями информациональных структур, работающих в теснейшей взаимосвязи с ведущими центрами мир–системного ядра, но более опирающиеся на свою аграрно–сырьевую базу); а третьи — частично находятся на примитивной индустриальной стадии, однако демонстрируют широкое, во многих случаях преобладающее, присутствие доиндустриальных систем производства, до анклавного наличия раннепервобытного охотничъе–собирательского уклада включительно.
Задают тон страны мир–системного ядра, выступающие в роли информационного, технологического, экономического авангарда современного человечества. Но основная часть населения Земли проживает в существеннейшим образом зависимых от этих стран государствах мировых полупериферии и периферии, где наростает массовое недовольство сложившейся на рубеже XX и XXI веков глобальной системой отношений. Последнее, как и отмеченная неравномерность в экономическом и технологическом отношении, в распределении мирового богатства, накладывается на собственно цивилизационные отличия, выражающиеся прежде всего в различных идейно–ценностно–мотивационных основаниях разных цивилизаций. Все это определяет все большую разбалансировку, деструкцию прежней системы отношений на Планете.
При безусловной экономической, военной и информационной гегемонии Запада, прежде всего США, такое положение дел провоцирует ответные реакции со стороны многих политически активных групп незападных народов; реакции, часто приобретающие преступные, бесчеловечные формы. Суть проблемы вовсе не в несовместимости ценностей отдельных цивилизаций (которые различны, но, в принципе, должны рассматриваться как взаимодополняющиеся), а в неприятии большей частью представителей традиционных цивилизаций утилитарно–эгоистического духа и рекламно–коммерческих квазиценностей общества массового потребления.
По существу, это не пресловутый «конфликт цивилизаций», а неприятие квазиценностей Западной цивилизации (вырабатываемых главным образом в США) людьми, ориентированными на ценности и традиции других цивилизаций, вынужденных реагировать на ее вызовы и мучительно трансформироваться в поисках адекватного отклика на последние. Удачный пример поиска такого выхода — послевоенная Япония, неудачный — бывший СССР. Однако каждый случай уникален, и, скажем, дореволюционная Россия имела достаточно шансов успешно вписаться в складывавшийся глобальный мир, тогда как Япония поддалась соблазну милитаризма и пережила катастрофу во Второй мировой войне.
Нынешняя эпоха, в отличие от предыдущей, носит переходный характер. Если уходящий мировой уклад имел свой устойчивый облик и четко очерченный стержень, то нынешняя планетарная ситуация во всех ее авангардных составляющих отличается неустойчивостью и неопределенностью. В ней преобладают явления переходные, как бы «полусостоявшиеся». Они — эти явления — предстают перед взором человечества как нечто промежуточное между когда–то устойчивым, а ныне — размытым недавним прошлым и зарождающимся, во многом неясным будущим. Поэтому процессы, доминирующие в глобальном пространстве, представляются раздвоенными и имеющими различную судьбу: одни, согласно логике развития, должны сойти с арены или же трансформироваться в нечто качественно иное, а другие — характерные лишь для последнего времени — окончательно состояться.
Отмеченная двойственность, дающая о себе знать повсеместно, является источником противоречивости развития, сдерживающей достижения и усиливающей неустойчивость. А в каком–то контексте — даже подтачивающей сами основы существования человечества. В целом же планетарные глобальные реалии подталкивают к системным переменам, по сути — к формированию той новой человеческой общности, которая в конце концов должна обрести устойчивые свойства и качества.
Чисто внешне ситуация выглядит так, будто доминирование на нынешнем этапе именно глобализации порождает трансформационное тяготение совокупности локальных (в том числе и страновых) явлений именно к этим (т. е. глобальным) процессам. И это даже при том, что сама глобализация предстает как феномен, лишенный в его нынешнем варианте устойчивой и завершенной судьбы. И в особенности такое тяготение испытывают компоненты традиционного пласта действительности, которые глобализация втягивает в свое русло.
Но из–за незавершенности и неустойчивости самой глобализации все втягиваемое в глобальную воронку выглядит или обреченным, или к этому неподготовленным. Так, развивающиеся страны, вовлекаемые в незрелом состоянии в глобальную открытость, не только испытывают бедствия в виде потрясений, кризисов и нищеты, но и, как кажется, в перспективе лишаются шансов выйти из подобной ситуации. Тем более, что неравенство стартовых возможностей стран авангарда и развивающихся стран предопределяет устойчивую и углубляющуюся стратификацию, т. е. распределение ролей в качестве стран успешных и стран деградирующих, а то и «безнадежных». Причем именно глобальная открытость, усиленная соответствующим давлением Запада (в том числе в отношении принятия единых правил игры), порождает при неравенстве возможностей не только отставание, но и конфликты между фаворитами и аутсайдерами. И эти, равно как и другие, обстоятельства дают понимание того, что без гармонии высокоразвитого и слаборазвитых миров сама глобализация оказывается несостоявшейся.
Разрывы в уровнях развития — как стартовые, так и благоприобретенные по законам конкуренции — усугубляются в последние годы резким смещением потоков инвестиций и торговли на линию взаимодействия высокоразвитых стран между собой. К тому же фактор высокотехнологичности, доступный в основном лишь странам «Золотого миллиарда» и все больше смещающий доходы «в свою сторону», снижает заинтересованность высокоразвитых стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ресурсах и дешевой рабочей силе развивающихся стран. А это дополнительно усугубляет отставание.
Парадокс состоит и в том, что из–за глубоких травм, наносимых развивающимся странам глобальными процессами, и сами страны мирового авангарда по глобальным же критериям не могут полноценно состояться. Сама их глобальная победоносность оборачивается «ударами бумеранга» со стороны таких факторов, как наркомания, терроризм, теневизация экономики, международная преступность и, наконец, угроза потери идентичности в условиях захлестывания западных стран мигрантами. Все это, нарастающее именно в меру глобализации, как снежный ком, заставляет сам Запад закрываться и отгораживаться от деградирующих стран незападных миров; на этой основе происходит и его (Запада) перерождение.
Многое определяется тем, что глобализация, в том числе посредством вынужденной открытости, разрушила механизмы планетарного макроэкономического регулирования. Ни сами высокоразвитые страны, ни международные организации не в силах теперь поддерживать правила рыночной игры и балансировать разрастающиеся диспропорции. Расстыковки и разбалансированность стали доминировать в условиях глобализации не только в «третьем мире», но и в отношениях между ведущими государствами. Чего стоит только лишь задолженность Соединенных Штатов. То же происходит и в надстрановых явлениях и процессах. Достаточно сослаться лишь на разрыв между материально–вещественными и финансовыми потоками, который измеряется десятками раз.
Расстыковки и взаимное отторжение происходят и по линиям реализации политических глобальных стратегий. Так, стратегические установки благополучных стран отторгаются другими народами. И здесь не помогают ни прямые угрозы, ни мессианство в виде принуждения к свободе и демократии. Народы считают такие глобальные давления несовместимыми с традициями или же со своим достоинством.
Входить в переходное состояние, а вместе с тем и демонстрировать растущую несостоятельность стали прежде всего институты государства. Утрачивая под влиянием глобализации свою былую самодостаточность, они, с одной стороны, как бы затягивают экономику и весь общественный организм в новый глобальный общественный уклад, а с другой — наталкиваются на растущие преграды в своем стремлении обрести какую–то определенность. То есть в этом случае, при подрыве суверенности, у глобализирующихся стран нет ощущения, что дело движется от прежней к иной стабильности — в направлении формирования устойчивого глобального человеческого сообщества.
Получается, что сам факт болезненного размывания былой национальногосударственной обособленности ничем, исходящим от глобализации, не компенсируется. А если к унижающим государство обстоятельствам подрыва суверенитета добавить полнейшую зависимость большинства развивающихся стран от прямых иностранных инвестиций, от ТНК, от внешних рынков и технологий, — то картина судеб государств стран третьего мира становится совсем безрадостной. Впрочем, и сами высокоразвитые страны под влиянием глобализации все больше обретают сомнительную судьбу. Ведь прочность и победоносность этих стран всегда определялись системой евроатлантических ценностей. Сейчас же именно в этих странах происходит размывание цивилизационной идентичности, что несомненно таит угрозу подрыва их успешности.
Кстати, и сам человек, как и страна, в которой он живет, все больше вползает в ловушку неопределенности. С одной стороны, под индивидами все больше размывается национально–государственная почва, а с другой — и гражданами мира они пока не становятся, хотя признаки характеристики индивида как частицы мира уже налицо. Кроме того, человек с его психофизической и интеллектуальной ограниченностью оказывается узким местом прогресса. И это сдерживает или же уродует взаимодействие с глобализацией страновых и других локальных явлений.
Получается, что формируемая под давлением глобализации система — результат подтачивания и расшатывания сложившейся ранее планетарной архитектуры с двух сторон: и со стороны целостности, и, со стороны противоположного полюса — полюса индивида как субъекта общественных, в том числе экономических, отношений.
Подход к анализу противоречий, связанных с глобализацией, с позиций двух противоположных полюсов — полюса целостности и полюса индивида — исключительно важен в методологическом отношении. Ведь состояние промежуточных уровней (и соответствующих субъектов отношений), таких, как коллектив, государство или региональное сообщество, — это есть — в условиях доминирования глобализации — в конечном счете синтез качеств и свойств, заложенных, с одной стороны, в глобальной целостности, а с другой — в «человеческом материале», т. е. в индивидах, оцениваемых в социально–экономическом и духовно–нравственном контекстах970. Поэтому необходимо, не ограничиваясь общими положениями, обратиться к конкретным проявлениям тех признаков переходного состояния системы, которые обнаруживаются как на уровне глобальной целостности, так и на линиях трансформации индивидов.
2
Решающим фактором, трансформирующим глобальные процессы, а равно и локальные закономерности, являются высокие постиндустриальные технологии, а среди них, прежде всего, — технологии информационные. И причина этого — во флуктационной природе самого характера воздействия информатизации на всю окружающую среду, а не только на организационно–хозяйственные компоненты экономической деятельности.
Отмеченные обстоятельства — флуктационность и широчайший диапазон воздействия информационных технологий — выступают, как нам представляется, главным источником глобальной асимметрии и нарастающей неравновесности планетарных (не только глобальных, но и страновых) процессов.
Начнем с того, что в условиях индустриализма само воздействие новых технологий имело достаточно стабильную внутреннюю логику. Традиционно объектом непосредственного влияния производственно–технологических факторов были экономические формы и механизмы, т. е. организационные структуры и элементы (механизмы, формы, рычаги и т. д.) хозяйствования. В такой ситуации влияние технологических переворотов на свойства личности и человеческие отношения было непосредственным лишь на микроуровне — в сфере трудовых отношений. Что же касается перемен в экономических отношениях как целостности и в системе общественных отношений, то они испытывали влияние технологий лишь в конечном счете, т. е. через множество опосредствующих звеньев.
Принципиально иным оказывается влияние на общество постиндустриальных информационных технологий. Необычным здесь является уже то, что сами эти технологии выступают в качестве не только технологического базиса, но и своего рода надстройки — надстройки информационной. В дальнейшем постиндустриальные информационные технологии — в отличие от индустриальных, а также неинформационных постиндустриальных технологий — влияют на общественную (а не только экономическую) жизнь и непосредственно, причем в широком диапазоне, в том числе независимо от экономических сил. И это при том, что экономическая жизнь того или иного общества в рамках национально–государственного образования чаще всего по–прежнему определяется индустриальными, а не постиндустриальными факторами, и традиционным потребительством.
Получается, таким образом, что решающее постиндустриальное информационно–технологическое воздействие во многом как бы «перескакивает» через экономику как таковую.
Причем влияние на внеэкономические процессы оказывается настолько мощным и разнообразным, что перемены в сфере собственно общественных отношений идут «в отрыв» от экономики, поскольку получают импульс на опережение. В итоге — экономическая и внеэкономическая сферы приобретают разноскоростную динамику. Экономика в ее производственно–потребительской ипостаси оказывается — сравнительно со сферой общественной, трансформируемой информатизацией непосредственно, — существенно более консервативной. Это проявляется, в частности, и в незначительном влиянии информационных технологий на производительность труда, в том числе и в странах мирового авангарда. Так, статистика стран ОЭСР (т. е. высокоразвитых стран) свидетельствует о том, что по итогам информационной революции темпы роста совокупной производительности труда в этих странах существенно замедлились.
Отмеченный разрыв в «скоростях» перемен углубляется и тем, что информационные технологии существенно диверсифицируют динамику развития в рамках собственно экономических процессов. Они (эти технологии) буквально срывают с традиционных ниш и увлекают за собой финансы, наделяют их свойствами высочайшего динамизма и «стадного поведения». Производство же остается относительно консервативным.
Конечно, динамизм финансов оказывает обратное воздействие на фундамент экономики — производство и потребление, наделяя их импульсами развития. Однако это резонансное влияние не компенсирует отмеченных разрывов в динамике: они неуклонно нарастают. Тем более, что информационные процессы и высокодинамичные финансы, двигаясь «в отрыве» от реального сектора, обретают дополнительные шансы взаимно усиливать друг друга.
В итоге — не только информационные технологии (что вполне естественно), но и финансовые потоки в большой степени «живут своей жизнью». Они функционируют и влияют на развитие в ситуации нарастающего их отрыва от экономического базиса. В результате противоречия и асимметричные шоки, пронизывающие жизнь человеческого сообщества как целостность, придают и страновым, и глобальным явлениям и процессам черты неустойчивости, неравновесности и отчетливо выраженного промежуточного состояния — состояния, которое во многих отношениях нетерпимо для человечества и должно быть преодолеваемо.
О катастрофичности планетарной ситуации и настоятельности ее преодоления наиболее отчетливо свидетельствует нарастание межстрановой неравновесности и разрыва между высокоразвитым и развивающимся мирами.
Характерно, что углубление разрыва между странами мирового авангарда (ОЭСР) и развивающимися странами (третий мир) по времени совпадало не только со стартом глобализации, но и с началом деградации мировой системы социализма, т. е. с периодом, когда СССР стал уже проигрывать Западу состязание по вовлечению «третьих» стран в свою орбиту. Вспомним, что до этого рубежа и СССР, и США «наперегонки» реализовывали проекты, нацеленные на развитие «ничейных» стран «третьего мира». И именно в тот, весьма благодатный для третьих стран, период получили от США импульс в успехе не только Западная Европа и Япония, но и азиатские «тигры» и «драконы», что содействовало их вхождению в высокоразвитый мир.
Совпадение же периода деградации и затем развала соцсистемы с эпохой глобализации дало импульс прямо противоположным тенденциям. Интерес к подтягиванию неразвитых стран до состояния высокоразвитости угас; и одновременно — благодаря эффекту глобализации — открылись немыслимые ранее перспективы быстрого обогащения высокоразвитых стран за счет эксклюзивного использования во внешней экспансии информационно–финансового инструментария971.
Результаты использования Западом этих преимуществ дали о себе знать довольно быстро: характерной закономерностью планетарного экономического пространства стала нарастающая фундаментальная асимметрия между первым и остальными мирами по критериям уровня и динамики экономического потенциала, потенциала конкуренции, по перспективам интеграции и, конечно же, по показателям жизненного уровня населения.
Так, на протяжении периода 1960–2000 гг. соотношение доходов граждан, живущих в богатейших и беднейших государствах планеты (если учесть динамику по 20% от общей численности населения планеты с каждой стороны), менялось следующим образом: 1960 г. — 30:1; 1990 г. — 60:1; 1999 г. — 90:1. К концу XX века на 20% населения планеты, проживающего в богатых странах, приходилось 86% мирового ВВП, а на беднейшие страны — всего 1%972.
Конечно, обозначенная асимметрия не всегда и не обязательно означала ухудшение жизненного уровня развивающихся миров. Это явление могло быть и следствием успешного развития передовых стран и не сопровождаться абсолютным обнищанием стран слаборазвитых. Ведь всегда на протяжении прошлых веков различия в уровнях жизни разных стран имели место и сама по себе дифференциация не ассоциировалась со вселенской катастрофичностью. Линия прогресса, при всей ее синусоидальности, выдерживалась и тогда, когда рушились огромные империи и исчезали целые цивилизации.
Однако ныне, в отличие от прошлого, мир стал единым и народы «плывут в будущее в одной лодке». И если кто–то постоянно на общем пространстве сильнее загребает веслом в сторону большего благосостояния, то это теперь уже неизбежно происходит за счет ущемлений «гребцов», «сидящих» по другую сторону. Получается именно так, если охарактеризовать этот процесс, отбросив метафоры, из–за неумолимо нарастающего информационно–финансового (а по этой причине — и организационного: через всевластие ТНК) доминирования высокоразвитых стран над странами развивающимися. Превосходство в постиндустриальных факторах, стабильно недоступных большинству развивающихся стран, оборачивается ныне непрерывно нарастающей неэквивалентностью в обмене и распределении в пользу стран высокоразвитых.
Догоняющее развитие как феномен третьей четверти XX столетия в ситуации глобализации себя полностью исчерпало; вместо этого на глобальном пространстве, соединяющем всех со всеми, заработал насос, перекачивающий доходы преимущественно в одну сторону — в направлении и без того благополучных стран973.
Характерным признаком глобализации являются и постоянное одностороннее совершенствование, и структурное обогащение игроками мирового авангарда своего экспансионистского (прежде всего — информационно–финансового) инструментария, что сопровождается эффектом нарастания неэквивалентности.
Так что усугубляющееся неравенство — это уже не наследие исторических судеб и обстоятельств, вроде колониализма, а результат одностороннего, теперь уже постиндустриального, успешного развития передовых стран. И результатом асимметрии является не только опережающее благополучие стран авангарда, но и — как следствие этого — то, что уровень жизни почти трети населения Земли снизился ниже ранее достигнутого974. Причем снижение это происходит не только по критерию размера доходов.
В странах, где суммарный уровень жизни снижается, в условиях глобализации не только бедность, но и деградация пронизывают все сферы. Именно здесь больше всего разрушается природная среда обитания, крайне низок уровень образования, катастрофично состояние здоровья, некачественна и убога пища, неблагоприятна социальная сфера, тотальны коррупция и криминалитет. Продолжительность жизни в этих странах как минимум в полтора раза меньше и т. д. Иными словами, речь идет о том, что благополучные и деградирующие страны — это не только разные жизненные уровни, но и разные миры.
Особенно контрастно это различие в странах Африки южнее Сахары и во многих государствах Южной Азии. Здесь не без влияния западной глобальной (в том числе ценностно–культурной) экспансии образовались огромные — как язвы на теле Планеты — очаги хронического голода, жестокой конфликтности и геноцида. И перспективы преодоления подобных ситуаций пока что напрочь отсутствуют. Отсутствуют при том, что, согласно данным экспертов Международной организации питания, ныне в развитых странах 2–3% населения могут прокормить страну, а имеющиеся в распоряжении человечества ресурсы достаточны, чтобы обеспечить питанием 20–25 млрд человек.
Сомнений нет: сама по себе безальтернативность разрастания пропасти между странами успешными и неуспешными, а также перспектива ускоренного опускания третьей части населения Планеты до положения изгоев свидетельствуют о полной несостоятельности сложившейся глобальной системы и о ее преходящем, промежуточном статусе.
Но дело ведь к этой, вышеобозначенной, асимметрии не сводится.
Черты неустойчивости и неравновесности, равно как и устрашающие перспективы, все больше обретает и победоносный мир евроатлантизма. Причем неприятности, грозящие обернуться потерей идентичности, как бы в виде бумеранга обрушивает на благополучный (пока что) Запад униженный и обездоленный глобализацией третий мир.
Весьма чувствительные потери в виде подрыва и девальвирования западных ценностей — тех ценностей, которые только и делают Запад успешным, уже в ближайшей перспективе будут нести страны евроатлантизма из–за захлестывания их пространства миграционными потоками. Уже имеются расчеты, показывающие, когда именно в Соединенных Штатах погоду будут делать испаноговорящие «латинос»; когда в Великобритании критическую массу будут составлять индусы и арабы; через какое время ислам потеснит христианство во Франции; в какие сроки среди населения Германии будут преобладать албанцы, турки, курды, югославы и т. д.
Конечно, подобное смешение народов в конечном счете оздоровит дряхлеющие, демографически несостоятельные евроатлантические этносы, и человечество от этих перемен в конечном счете выиграет. И это при том, что белому западному человеку придется крайне болезненно пережить подобные трансформации. Но главное, видимо, произойдет: в таких условиях чудовищным асимметриям и планетарным катастрофам, привносимым ведомой Западом глобализацией, по всей видимости, будет положен конец. Ведь сам источник нынешних глобальных неурядиц — а им является Запад — в определенном смысле перестанет существовать из–за этнического перерождения.
Ведь роковая специфика нынешней глобализации, предопределяющая болезненный разрыв миров, лишь внешне проявляется через финансовые инструменты и информационные технологии. За этим всем скрываются главные источники западной экспансии и связанных с ней глобальных противостояний, а именно: источники, заключенные в экстравертной (по К.-Г. Юнгу) природе западного человека; в возведении погони за деньгами в ранг смысла жизни; в трактовке (с позиций протестантизма) обогащения как явления богоугодного.
Так что принципиально ошибаются те, кто сводит природу нынешней глобализации целиком к началам объективной заданности. Они игнорируют то фундаментальное обстоятельство, что источником как успехов, так и неудач разных стран и разных миров являются цивилизационные ценности, то есть дух, а не материя975. Причем они игнорируют очевидное: то, что вся история производственно–технологического прогресса, начиная с промышленной революции, подтверждает доминирование ценностных факторов над всем остальным. Кстати, те же свидетельства приоритетности духа (ценностей) над материей (в успехах или неудачах в экономике) дает вторая половина XX столетия. Ведь именно в этот период — по результатам постколониального цивилизационного ренессанса — страны, демонстрирующие феноменальные успехи или же досадные неудачи, буквально были разделены линиями цивилизационных разломов. Одно дело — страны конфуцианского пояса, другое — мир Ислама или же Африка южнее Сахары и т. д.
И, конечно же, сам западный мир, проехавшийся глобальным катком по планете, не смог бы достичь вершин конкурентного успеха, не будь он вооружен всепобеждающим ценностным инструментарием евроатлантической цивилизации. Тем более, что в самих процессах нынешней глобализации экспансионистская составляющая, производная от западной политики и Западного Проекта, слишком уж очевидна. Это и прозападная рецептура реформирования по МВФ; и двойные стандарты, исходящие от ВТО; и лоббирование высшей властью стран Запада интересов ТНК; и давление на незападные миры в части дерегулирования и поспешной (никак не подготовленной) открытости; и многое другое, выходящее за рамки собственно технологической вооруженности, в чем (наряду с Японией) беспроблемно лидирует Запад.
Глобализация, уже самой объективной заданностью «работающая» на Запад, дополнительно им взнуздывается и подминается через доминирующую прозападную глобальную политику и ориентированный на глобальную экспансию стратегический Западный Проект.
Так что Запад, который сполна пожинает плоды объективной глобальной заданности, дополнительно разворачивает глобальные процессы в свою сторону в качестве субъекта (глобального игрока), реализующего специфическую систему цивилизационных ценностей.
Отсюда, однако, логично напрашиваются выводы и от обратного: намечающийся на обозримую перспективу подрыв идентичности в странах западной цивилизации неизбежно обернется смягчением, а может, и преодолением экспансионистской природы глобализации. Ведь население незападных миров в основном (опять же, по К.-Г. Юнгу) интравертно; оно по своим культурным характеристикам не может в той же мере продуцировать глобальный экономический экстремизм, как Запад. Да и ажиотажное потребительство, существенно подстегивающее нынешний глобальный экспансионизм, в незападных мирах отсутствует.
Так что надежды на придание в недалеком будущем (через смешение народов) глобализму «мирного характера» не лишены оснований. Но это при условии, если сами доминирующие на планете страны западного авангарда не сумеют (до собственной кончины) обуздать и облагородить нынешнюю глобализацию посредством установления иного, приемлемого для человечества, миропорядка. Ведь к этому все больше подталкивают Запад не только растущее сопротивление незападных миров, но и антиглобалистские движения в собственных странах. К тому же всплеск (в виде реакции на глобальные потоки иммиграции) праворадикальных националистических движений в большинстве западных стран уже сейчас таит угрозу злокачественного перерождения ценностей свободы и демократии; а одно это лишило бы Запад претензий на мировое лидерство.
Могут возразить, что опасные для Запада тенденции пока эмбриональны, и это не вызывает сомнений. Но то же самое (о нерушимости устоев) недавно мы слышали (от тех же лиц, ныне — перерожденцев) по части прочности СССР. Казалось, что утес, испытывающий удары волн, извечно победоносен. Но побеждают в конечном счете волны; а крах подточенного волнами утеса — всегда неожиданность. К тому же под влиянием глобализации все изменения, подтачивающие устои, именно в наше время происходят стремительно. Ни страны, ни цивилизационные миры не успевают адаптироваться к новым обстоятельствам. Причем, что касается Запада, здесь сама его победоносность, сочетаемая с традиционной (для стран с демократией) политкорректностью, буквально обрекает соответствующие страны на межцивилизационный синтез, а значит — и на производные от синтеза «перерожденческие» трансформации.
Как видим, глобальные взаимодействия (прямые и обратные) различных стран и целых миров дают несомненные доказательства переходного состояния не только развивающихся стран, но и стран высокоразвитых, попадающих в ловушку собственного успеха. Неравновесность и неустойчивость, охватывающие практически все миры, в условиях нынешней глобализации, сочетающей, как известно, и объективные начала, и мощную субъективность, пока не могут не усиливаться. А это означает, что тенденция разрыва и деформации миров окажется в конечном счете настолько труднопереносимой, что человечество вынуждено будет преодолеть господствующие ныне переходные состояния и выйти на траекторию определенности и формационной устойчивости.
Что же касается природы нынешней глобализации, взятой в контексте стадиальных характеристик стран и миров, то на этом фоне известное изречение Ф. Фукуямы о «конце истории» (т. е. об окончательной сформированности западной модели, о ее пригодности для человечества) выглядит как издевательство над истиной. Сегодня от этого тезиса отказался и сам Фукуяма, поскольку и западный мир за короткое время (с момента, когда это было сказано) превратился из, казалось бы, навсегда устоявшейся тверди в некий промежуточный феномен, дрейфующий в неизвестном направлении.
3
Специфика нынешней мирохозяйственной структуры заключается, кроме прочего, и в том, что неустойчивость и неравновесность определяют переходное состояние не только стран и миров, но и глобальных процессов как явлений надстрановых. Речь идет в этом случае, прежде всего, о наиболее чутких процессах — о глобальных финансах.
Выше уже говорилось о том «вкладе», который глобальные финансы вносят в неравновесность и неустойчивость стран и миров. Но их роль в формировании переходного состояния систем не сводится лишь к этому. Финансы, под влиянием глобализации, сами становятся носителями флуктуационных шоков, хаотичности, крайней поведенческой неустойчивости и «капризности». И эти свойства оборачиваются деструктивностью и разрушениями, болезненными разрывами экономической материи. По этой причине типичными для глобального финансового пространства становятся «приступы» стадной паники, внезапные, не поддающиеся контролю «притоки» и «оттоки» капитала, все чаще оставляющие после себя руины.
Нарастающее доминирование на глобальном пространстве наиболее успешного виртуального капитала, порождающего спекулятивную вакханалию и отрыв финансов от реального сектора, таит в себе, кроме прочего, и потенциальную глобальную опасность прорыва финансового «пузыря», что может обернуться, по мнению ряда экспертов, внезапным крахом всей финансовой системы. В условиях, когда спекулятивный капитал все с большей кратностью превышает способность экономики осваивать финансы, такая опасность выглядит приближающейся.
Ясно, что все эти трансформации, обретающие характер зловещих флуктуаций, демонстрируют все тот же переходный характер нынешних финансово–глобальных перемен. Преодоление такого состояния как нежелательного и промежуточного, а также дрейф финансовых моделей в сторону устойчивости являются, несомненно, императивом ближайшего будущего. В противном случае — при выдерживании главными глобальными игроками принципа нейтральности к этой усиливающейся тенденции — человечество могут ожидать масштабнейшие финансовые катастрофы.
Печать перерождения и вырождения несет в условиях нынешней глобализации и конкуренция. И, снова–таки, ее стихийно складывающаяся модель дает свидетельства чего–то переходящего, изживаемого, в том числе и по причине растущей несовместимости с линией стабильности и прогресса. Так, ТНК — эти главные игроки на глобальном пространстве — тщательно избегают передачи и даже продажи наукоемких технологий новых поколений, даюших наибольшую доходность. Причем в современных условиях — в отличие от прошлого — ситуация такова, что преодоление монополии оказывается почти невозможным. А это имеет своим следствием не только консервирование отставания стран третьего мира, лишенных собственных научно–технологичных сегментов, но и задержку технологического прогресса в передовых странах, поскольку беспроблемность «единоличного» владения той или иной ТНК уникальным технологическим инструментарием лишает эти гигантские структуры модернизаторских мотиваций.
Широчайшее распространение в таких условиях получает скупка «на корню» изобретений и их авторов с целью припрятывания новинок и недопущения их воплощения в реальные проекты. Не случайно в такой ситуации рост производительности труда в странах мирового авангарда и в размещающихся в них ТНК существенно замедлился; и главным источником роста доходности, если речь идет о внутренних возможностях, становятся слияния и поглощения корпоративных структур, т. е. эффект масштаба. Другим важным источником доходности, свидетельствующим, опять–таки, о регрессе, о подавлении конкуренции монополией, является в нынешней глобальной ситуации искусственное, и чаще всего беспрепятственное, завышение цен, что тоже представляет собой признак конкурентного вырождения.
Тяжелым бременем на население деградирующих миров ложится такой псевдоконкурентный прием, как соблазн в виде рекламного навязывания нищенской стране высоких стандартов жизни благополучного Запада. Фактор престижности рекламируемых западных товаров переориентирует на их потребление даже бедные слои, что ведет к отказу от самого необходимого из–за эффекта избыточных расходов. В конечном же итоге неадекватная (по критериям потенциала) переориентация неразвитых стран на массовое потребление «модных» товаров истощает их и без того ничтожные возможности выйти на траекторию развития и роста, т. е. расширяет пропасть, отделяющую благополучные миры от неблагополучных.
Признаки «переходности» демонстрируют и противоречия, сложившиеся на почве соотношений и взаимодействий нарождающегося нового высокотехнологичного уклада (т. н. «новой экономики») и традиционных отраслей.
Как известно, новые технологии дают отдачу не сразу: вкладываемые в течение ряда лет инвестиции окупаются обычно через годы. Поэтому новации финансируются чаще всего или за счет государства (из бюджета), или за счет крупных корпораций, чьи накопления позволяют отвлечь на время часть доходов с расчетом на будущую высокую окупаемость. То есть поначалу, вплоть до периода коммерческого вызревания, инновации всегда подпитывались за счет традиционных отраслей.
В нынешних же условиях — на почве информационной революции и взбесившихся финансов — все это оказалось перевернутым с ног на голову. Искусственное раздувание коммерческой весомости высокотехнологичных сегментов на виртуальной финансово–информационной основе, особенно через биржевые инструменты, вызывает бум капитализации и чрезмерное завышение доходности новых, особенно — информационных, технологий, и обессиливание, а то и деградацию (в том числе и в США) многих традиционных отраслей.
Это искусственное завышение «оценочной стоимости» одних (новых) отраслей и неоправданное занижение «цены» отраслей традиционных является не только проявлением асимметричности и неравновесности, неадекватных реалиям, но и свидетельством иррациональности глобальных процессов. Иллюстрацией последнего обстоятельства может служить хотя бы то, что новый уклад, будучи еще в эмбриональном состоянии, уже дал импульс мощным деструктивным процессам и злокачественным флуктуациям в виде виртуальных пузырей и финансовых обвалов. Получается, что и в этом отношении разрушительные деструкции как бы обгоняют реалии, создавая на пути прогресса искусственные ловушки и тупики. Причем и то, и другое — производные от общей глобальной деструктивности — не ускоряет, а замедляет формирование нового технологического уклада. Ибо естественный ход событий здесь нарушается финансово–информационными флуктуациями.
О нарастающей актуальности упорядочения и ускоренного преодоления разрушительных флуктуационных проявлений нынешней модели глобализации, основанной не столько на объективном, сколько на Западном концептуальном Проекте, свидетельствует и нарастающее расстройство того искусного внутристранового макрорегулирования, той «тонкой настройки», которая заложена была кейнсианством и институционализмом. Становится все более очевидным, что эти сложности и расстройства идут не столько от глобализации как объективной заданности, сколько от абсолютизации Западом (в угоду ТНК и мощным финансовым игрокам) идеологии открытости и дерегулирования, что было заложено Вашингтонским консенсусом.
Об этом же — о доминировании интересов западных глобальных игроков и о продолжающемся «протаскивании» изживающих себя неолиберальных экстремистских подходов — свидетельствует само отсутствие действенных попыток (даже после мирового финансового кризиса!) восполнить институциональный и макроэкономический регулятивный вакуум на уровне глобального экономического пространства976. При этом распространенные на Западе ссылки на неподвластность глобализации как таковой основаны на заведомом нежелании отделить (вначале — на концептуальном уровне) субъективное (а значит наносное) от объективного, с которым действительно нельзя не считаться как с чем–то неизбежным.
Метаморфозы, подрывающие идентичность, характерны и для феномена рынка. Причем перемены в рамках этого института кажутся наиболее парадоксальными.
По внешним признакам может показаться, что глобализация дает рынку невиданный ранее простор; ведь декларируемым Западом императивом является дерегулирование, усиливаемое требованием и давлением на незападные страны в части открытости. И в общем–то механизмы дерегулирования и фактор открытости содействуют, казалось бы, именно рыночной экспансии основных рыночных игроков — международных экономических организаций (это как бы «квази–игроки») и ТНК. Да и фактор доминирования финансов над производством усиливает впечатление от глобализации как модели рыночного ренессанса.
Но, как когда–то было сказано классиком, «если бы видимость и сущность совпадали, то всякая наука была бы излишней». В действительности же и на поверхностном, и, главное, на глубинном уровнях набирают силу псевдорыночные трансформации, подрывающие и даже изживающие рыночную систему, которая, как известно, являлась до сих пор стержневым началом всех моделей капитализма.
Парадокс заключается и в том, что перемены, происходящие в институтах рынка, предопределяют размывание рыночных отношений в противоположных направлениях: во–первых — в русле постиндустриальной (т. е. уже не совсем рыночной) трансформации и, во–вторых — в сфере доиндустриальной рыночной архаики.
Об ударах, наносимых рынку глобализацией, т. е. о подрыве его многовековых устоев, свидетельствует, прежде всего, разрушение ядра рыночных отношений, а именно: механизмов сведения индивидуальных затрат к общественно–необходимым, что было признаком свободной рыночной конкуренции977 Об этом свидетельствует уже то, что в авангардном сегменте экономик высокоразвитых стран — в т. н. «новой экономике» — в распоряжении капитала оказывается интеллектуальный (творческий) труд, который способен создать ценности (а значит — рыночную стоимость), несопоставимо большие по сравнению с затратами. И если в рыночном, в том числе и в индустриальном, прошлом, подобный феномен не влиял на процессы создания стоимости вследствие своей редкости (т. е. уникальности), то в постиндустриальной (глобальной) ситуации интеллектуальный труд как фактор увеличения доходов уже стабильно доминирует.
Не укладываются в систему рынка и такие, типичные для постиндустриализма, факторы, как фундаментальная наука и информация. В сфере науки (именно фундаментальной) рынок, как известно, характеризуется термином «провальный». Что же касается прикладной науки и ее продукта — наукоемких технологий, то и в этих сегментах большую часть жизненного пути идея и изделие «проходят» по нерыночной траектории. Коммерциализация (а значит — погружение в рыночную среду) в этой важнейшей (и набирающей силу) сфере лишь венчает дело.
Информация с ее свойством безгранично (и не обязательно коммерчески) размножаться также лишь отчасти вписывается в процессы функционирования рынка.
Нарастающие вытеснение и обессиливание рыночных отношений происходят и в сфере деятельности ТНК, которые, как известно, в производстве и обращении товарных масс доминируют на глобальном уровне. Доказательства дает уже само по себе изничтожение транснациональными корпорациями тех остатков свободной рыночной конкуренции, которые сохранились в национальногосударственных образованиях периода индустриализма. То есть даже те механизмы рыночной конкуренции, которые были существенно оскоплены и отформованы правилами игры на традиционной государственной арене, ТНК подмяли и (по рыночным критериям) искалечили.
Начнем с того, что методы внеэкономического воздействия играют здесь решающую роль. Уже социо–психологическое воздействие с помощью откровенно манипулятивных рекламных технологий, реализуемых через монополизированные СМИ, дают такие свидетельства. Но ведь к этому внешнеэкономическое давление не сводится. Оно осуществляется и за пределами этих манипуляций в широчайшем диапазоне: от мирного (через подкуп) давления на региональную власть до известных всему миру силовых приемов.
Вытеснению и подрыву в сферах влияния ТНК рыночных отношений содействуют также их (ТНК) масштаб и система сетей. Напомним, что масштабы ТНК подчас сопоставимы со средними странами. И если при этом учесть, что внутрикорпоративные связи рыночными не являются, а ТНК доминируют на огромном пространстве, — то ответ на вопрос «чего стоят рыночные отношения» напрашивается сам собой. Надо признать, что воцарение ТНК — это по сути переход от рынка к квазирынку, т. е., во–первых — от конкурентного регулирования к паутине сетей; и во–вторых — от рыночной игры по правилам, сложившимся внутри государств, к системе контрактов корпоративных структур, покрывающих сетевой паутиной и страновое, и межстрановое пространство. Ведь на обширных пространствах, «покрываемых» сетями, устанавливается квазирыночный корпоративно–тотальный порядок, что жестко предопределяет не только структуру связей и характер разделения труда, но и схемы навязывания клиентам потребительских стандартов, а также способы ухода от контроля со стороны институтов власти и общественных институтов.
Сужение рыночных отношений происходит и на почве тесного межкорпоративного взаимодействия ТНК. Наряду с расширившейся практикой слияний и поглощений, дающей доходы за счет эффекта масштаба, распространение получает практика формирований союзов корпораций, а то и просто действий на основе дружеских договоренностей, последняя дает возможность избегать потерь от межкорпоративной конкуренции в результате сознательного выстраивания корпоративных иерархий, прочно удерживающих именно ту ситуацию, которая является приемлемой и выгодной.
Конечно, обозначенное ослабление и оттеснение рыночных отношений, с точки зрения стадиальной динамики развития человечества, по сути своей является безусловным прогрессом. Человечество посредством таких трансформаций как бы втягивается в какое–то им рационально регулируемое будущее.
Однако и здесь, на этом направлении важнейших перемен, выявляется родовой дефект нынешней модели глобализации, а именно: сопутствующее рывку вперед понятное движение «назад», т. е. архаизация. Архаизация проявляется и через деградацию под влиянием «успехов» ТНК стран третьего мира, и через «обомжевание» (вследствие своего конкурентного бессилия) преобладающей части малого и среднего бизнеса, который оттесняется на обочину, не вписываясь в траекторию прогресса.
Как пример архаизации, в том числе в сравнении с индустриальной стадией, следует оценить участившееся сдерживание глобальными игроками в странах третьего мира перемен в направлении роста заработной платы и социального благополучия. Ведь такие перемены, ориентированные на крупные социальные программы или же на массовый рост зарплаты, обесценивают «в глазах» ТНК слаборазвитую страну: она в этом случае теряет преимущества (дешевизна рабочей силы, низкое налогообложение корпораций), благодаря которым в нее и приходит транснациональный капитал. Реакция ТНК в таких случаях — либо «уход», либо «неприход»; а это в условиях финансовой немощи бьет по стране. В итоге выбор зачастую делается страной в пользу архаизации, т. е. отказа от возможностей достижения высоких жизненных стандартов и от ранее достигнутой прогрессивной «отформированности» рынка.
Существенным признаком архаизации рынка развивающихся стран является глобальное деформирование рыночных мотиваций в сторону безудержной и однобокой алчности. Парадоксально, что (в отличие от наших «реформаторов») этой проблемой оказался озабочен такой деятель, которого, казалось бы, можно отнести к акулам мирового бизнеса, как Дж. Сорос978. Именно он, по сути, восстал и против рыночно–мотивационной односторонности, и против распространения коммерческих критериев на общественные (внерыночные) отношения, т. е. на честь, совесть, дружбу, взаимопомощь и тому подобное.
По мнению Дж. Сороса (и тут нет каких–то интеллектуальных новшеств), нормально может развиваться только общество, в котором мотивации обогащения, во–первых, ограничены лишь сферой рынка, а во–вторых — уравновешиваются (балансируются) критериями социальной справедливости, а также и нравственными, эстетическими, гражданственными, экологическими и другими побуждениями высокой духовности. Он отмечает, что если в условиях авторитарного советского режима гипертрофированно насаждались государственно–этические ценности, что обернулось, в конечном счете, личностным мотивационным равнодушием, то с переходом к рынку постсоветские страны (в отличие, например, от Китая) стремительно качнулись в сторону безудержной алчности и циничного попирания этических правил и норм. Итогом этой мотивационной архаизации явилась не только духовно–нравственная, но и технико–экономическая деградация постсоветских стран, а значит, и их дрейф в Средневековье (в рыночное, разумеется, а не рыцарское).
Истоки деградации на почве гипертрофии рыночной алчности заключены не только в неизбежности доминирования в стране коррупции и криминалитета, но и в общем падении духа, в подмене высоких ценностей низкими. Давно уже доказано, что дух господствует над материей. И не случайно планетарно доминирующий экономический взлет Запада был замешан на протестантской этике, выплавленной в горнилах нравственных страданий и протестантских войн, растянувшихся почти на столетие. И страны конфуцианского пояса преуспевают тоже на базе возрождения высокой этики, мобилизующей на успех и сдерживающей развитие коррупционных метастазов рынка.
Архаизация рыночных отношений, а также их невиданная ранее деструктивная трансформация характерны и для действия законов рынка на глобальном пространстве. Именно здесь в первую очередь происходит крушение плановых начал, прижившихся уже давно во всех высокоразвитых странах, и наблюдается переход к примитивным рыночным отношениям с коротким горизонтом предвидения и попиранием социально–рыночных критериев.
В наибольшей степени это сказывается в том, отмечаемом Дж. Соросом, обстоятельстве, что глобальный (как и традиционный) рынок «идеально подходит для создания частных богатств, но сам по себе не в состоянии обеспечить общественные блага, такие как эффективное государственное управление, правопорядок и поддержание самих рыночных механизмов»979. Так что крах неолиберальных постулатов, согласно которым «рынок все и всех расставит по местам», наиболее полно обозначился именно в сфере процессов глобализации.
Нужно также отметить полнейшую неадаптивность современного (национально–государственного по своей природе) рынка к глобальным, т. е. планетарным, закономерностям и процессам. Ведь рынок до сих пор (при явном доминировании глобализации) отформирован лишь на основе весьма различающихся конкретных условий каждой отдельной страны. На уровне же надстрановых, т. е. собственно глобальных, процессов каких–либо правил рыночного функционирования просто нет. Да и институты, обеспечивающие их формирование, пока что отсутствуют, а имеющиеся центры принятия планетарных решений в лице и ведущих стран, и международных экономических организаций — из–за перекосов транснациональных мотиваций — озабочены лишь эгоистичными интересами базирующихся в авангардных странах ТНК: они полностью (МВФ, ВТО — особенно) сосредоточены на «добровольно–принудительном» взламывании экономических границ развивающихся стран; на преодолении преград на пути продвижения транснациональных капиталов, товаров и услуг, — что как раз и возрождает преодоленный уже, казалось бы, в середине XX столетия необузданный дикий рынок.
И это пренебрежительное отношение ведущих мировых игроков к проблемам институционального рыночного обустройства, т. е. упорядочения и облагораживания глобального пространства, оборачивается не только хищничеством, но и чудовищной неравновесностью, грозящей подрывом устоев не только третьего мира, но и мира высокоразвитых стран.
Конечно, неоднородность планетарного пространства, а также полнейшая институциональная необустроенность сферы глобализации существенно усложняют сам процесс рыночно–глобальной адаптации. Однако поразительно другое — то, что к развязыванию узлов этой сложнейшей проблематики пока что авангард человечества даже не приступал. Ведь даже ответом на кризисно–финансовые глобальные потрясения были лишь меры национально–государственные. В том числе и в США, несущих главную ответственность за огрехи глобализации. Похоже, что надежды на обуздание глобализации и ее упорядочение пока что связываются лишь с процессами регионализации. Но это — самый невыгодный вариант для ныне победоносного Западного мира.
4
Неспособность (а скорее незаинтересованность) лидирующего в мире Запада упорядочить механизмы реализации глобально–рыночных отношений является одним из проявлений кризиса западных стратегий, особенно в контексте ответа на планетарные вызовы нашего времени.
Этот кризис, из–за которого глобализация пущена на самотек, а ее пришпоривание имеет лишь своекорыстный характер, несет с собой множество отрицательных, в том числе и для Запада, последствий. Концентрированно они (эти угрозы) проявляются в углубляющемся разрыве миров и, особенно, — в нарастающей асимметрии показателей жизненных уровней. Выше уже обозначались бумеранги (в том числе потоки мигрантов и терроризм), рикошетящие по Западу на почве его эгоистичных достижений.
Но дело не сводится только к этим последствиям. Триумфальное планетарное шествие глобализации, подстегиваемой Западным Проектом, порождает и другие масштабные угрозы.
Прежде всего, — это нарастающая, в том числе и в странах Запада, теневизация и криминализация экономики. Получается, что Запад, целенаправленно поначалу открывший банки и оффшоры для откачки из постсоветских стран мыслимых и немыслимых богатств, сам в конце концов попал в эту ловушку. И это понятно, поскольку массовый приток грязных денег не мог свестись к финансам как таковым; «братки», стоящие за этими деньгами, влились с ними в пределы западного рая. Когда же (ФАТФ и прочие) там спохватились, было уже поздно: значительная (по критериям дееспособности) часть стран уже говорила на нашей «фене».
Понятно, что теневизация в такой ситуации и в экономике высокоразвитых стран, т е. стран ОЭСР, была неотвратима. Так, даже в трех германоязычных странах (Австрии, Германии, Швейцарии), известных своим умением хозяйствовать и уважением к закону, вырисовывается тревожная картина. С 1975 по 2002 г. удельный вес теневой экономики вырос здесь в несколько раз — с 2–6% до 10–16%980.
В других государствах ситуация еще хуже. В 90‑е годы нелегальный бизнес достиг внушительных масштабов практически повсеместно. По данным профессора Ф. Шнайдера из Линца (Австрия), в 2000–2001 гг. в теневой экономике стран Организации экономического сотрудничества и развития было занято 15,3% рабочей силы и производилось 16,7% «официального» ВВП. В постсоветских государствах, странах Центральной и Восточной Европы эти показатели, разумеется, были намного выше — соответственно 30,2% и 38%981.
Но самым опасным следствием пробуждения глобализацией исчезавшего было хищнического рынка стало крайнее, по сути катастрофическое, обострение проблем экологических.
Нынешняя модель глобализации ставит и развивающийся, и западный успешный мир (особенно США) в положение, когда рыночно–мотивированное разрушение природной среды оказывается неизбежным. Развивающимся странам, в силу их тотальной открытости и беззащитности, ничего не остается, как использовать конкурентные преимущества в виде (кроме дешевой рабочей силы) продажи по заниженным ценам доступа к природным ресурсам и эксплуатации перенесенных из Запада грязных производств. Бедность и неразвитость побуждают их экономить на затратах, предназначенных для стабилизации (не говоря об улучшении) природной среды.
Высокоразвитые же страны равнодушны к обостряющимся (вне своих пределов) экологическим проблемам по причинам как внутренним, так и внешним. Внешние причины просты — проблемы других народов далеки от ихнего восприятия; ну, а связь чужих и грядущих собственных проблем пока не осознается: ситуация сегодняшнего комфорта убаюкивает; кажется, что зеленая травка и подстриженные кустики для планетарных экологических катастроф неуязвимы.
Посложнее выглядят внутренние истоки экологического равнодушия. Их природа связана с неистребимостью (особенно в США) ажиотажного потребления, с учащающейся сменой моды на одни предметы модой на другие. Потребительство — это не просто жадность, это необходимое условие реализации установки из денег делать деньги, что и происходит в условиях глобализации успешнее всего за счет эксплуатации чужих рынков и чужих природных ресурсов. Осуществляемая Западом политика глобальной открытости и дерегулирования незападных миров делает природные богатства всей планеты объектами легкой наживы и великого соблазна. Рынок же, одичавший в условиях глобализации, а к тому же совмещенный в неразвитых странах с полнейшим игнорированием социальных обязательств, лишь потворствует этому.
Получается, таким образом, что переусердствование и «передового», и отсталого миров в деле разрушения природной среды органично вписывается в нынешнюю модель глобализации. И именно это должно дать импульс ускоренному преодолению авангардом человечества огромных рисков, идущих от нынешней глобализации. Тем более, что, согласно выводам экспертов, экологический кризис, охвативший планетарное пространство, уже таит в себе опасность общемировой катастрофы, а не просто риска. Становится очевидным, что дальнейший рост антропогенной нагрузки на биосферу может превысить допустимые пределы и дать импульс необратимым изменениям.
О важности изживания нынешнего варианта глобализации свидетельствует и рост протестных движений против глобализма в недрах самого Запада. Речь идет, конечно же, об антиглобализме.
Симптоматично, что, в отличие, скажем, от протестных антизападных движений, характерных для стран третьего мира, антиглобализм высокоинтеллектуален и его лозунги не декларативны, а нацелены на разрешение проблем, наиболее важных с точки зрения «лечения» глобализации. Лишь первые, приуроченные к международным форумам, демонстрации антиглобалистов выглядели как бунт разбушевавшейся толпы, ставящей целью различные эксцессы. Дальнейшие движения антиглобалистов характеризовались осмысленностью, компетентностью и принимали цивилизованные формы.
Так, вскоре после событий в Сиэтле и Генуе, на второй бразильский форум, собравший почти 50 тыс. делегатов, прибыли многие видные общественные деятели, крупные политики, и его девизом был лозунг «Возможен другой мир». Сам сопровождавший деятельность форума призыв отказаться от «глобализации по–американски» не ограничивался общим положением о придании глобализации человеческого лица. Протестующие выражали недовольство неолиберальной доктриной глобализации, выставляли требования сокращения разрыва между высокоразвитым и развивающимся мирами, соблюдения принципа справедливости. О качественных характеристиках участников движения свидетельствовали факты формирования его костяка преимущественно из людей образованных: студентов, специалистов, ученых, актеров, журналистов.
Еще одна важная деталь: основным рабочим инструментом движения стал Интернет как источник информации, модель организации и средств связи. Вооруженность передовыми информационными технологиями придавала движению гибкость, организованность, маневренность, способность наносить меткие удары. О массовости движения свидетельствовало не только число его участников, но и сочувствие, а также поддержка антиглобалистов большим числом граждан стран Запада, обеспокоенных глобальными угрозами и рисками.
Несомненно, что затягивание процесса смены модели глобализации обострит еще один, уже выплескивающий энергию, конфликт — конфликт, предстающий в виде столкновения цивилизаций, разгорающейся межцивилизационной конкуренции. Это — новый феномен конкурентности, порожденный глобализмом и заключающий в себе эффект бомбы замедленного (а то и быстрого) действия.
Как метко замечает в отношении межцивилизационной конкуренции М. Делягин, «кошмарный смысл этого обыденного факта только еще начинает осознаваться человечеством. Проще всего понять его по аналогии с межнациональными конфликтами, разжигание которых является преступлением особой тяжести именно в силу их иррациональности: их чрезвычайно сложно погасить, так как стороны существуют в разных системах ценностей и потому в принципе не могут договориться. Участники конкуренции между цивилизациями разделены еще глубже, чем стороны межнационального конфликта… Финансово–технологическая экспансия Запада, этническая — Китая и социально–религиозная — Ислама не просто развертываются в разных плоскостях; они не принимают друг друга как глубоко чуждое явление».
Уже сейчас, в связи с противостоянием Западу фундаменталистски настроенных исламистов, становится очевидным, что межцивилизационные противостояния для планеты наиболее опасны: ведь в этой борьбе сталкиваются разные ценностные подходы, часто замешанные на религиозном фанатизме.
Относительно новым явлением в глобализации, выявившимся лишь в последние годы, оказалась асимметрия между глобальной целостностью и человеком с его ограниченными возможностями адаптироваться к глобальным процессам. Именно по мере развертывания потенциала глобализации человек с его психико–физиологическими свойствами становится узким местом в дальнейшем развертывании информационной революции.
Кроме того, все менее совместимыми с глобальной практикой оказываются творческие возможности. А их реализация — главное условие развития нынешней экономики. Так что статус индивида как винтика в транснациональных сетевых структурах выглядит архаикой.
Неприемлемым для достижения устойчивого развития является и культивирование у индивидов необузданных личных потребностей. И, конечно же, несовместимой с глобальным упорядочением становится деградация индивидов в части как разрушения морали, так и ажиотажного потребительства.
Глобальные процессы, осложняющие, а то и разрушающие на огромных пространствах жизнь человечества, порождают идеологические и мировоззренческие споры касательно контуров будущего. И хотя перспектива проступает как размытая и противоречивая, человеческому сообществу уже сейчас важно иметь выверенные стратегии, формирующие новый миропорядок. Причины неотложности, кроме прочего, — и в необходимости учета фактора времени. Ведь проблемы упорядочения глобального пространства приходится решать в условиях острого дефицита времени.
Поскольку структуры и связи, формировавшиеся столетиями, а то и тысячелетиями, распадаются и исчезают за десятилетия, это ведет к тягчайшим, подчас необратимым последствиям, таким, как деградация окружающей среды, терроризм, нищета, перерождение семьи, разрушение связей поколений, кризис сознания, распад морали, наркомания, международная преступность. В таких условиях само сжатие исторического времени при обостренности проблемы выхода из зоны глобальных рисков предопределяет необходимость безотлагательного конструирования нового миропорядка.
Пока что стратегии формирования нового миропорядка находятся в эмбриональном и хаотическом состоянии. Более того, в подходах к решению глобальных проблем со стороны западных стран нет цельности и целеустремленности: они крайне противоречивы. А главное — в этих стратегиях нет отклика на острейшие вызовы времени: на проблему обеспечения надежности техносферы и преодоление техногенного раскола человечества; на стремительное разрушение природной среды; на кризисно опасный разгул спекулятивного капитала; на усиливающийся денежный тоталитаризм, подминающий под себя и свободу, и демократию.
Ясно, что в условиях усиления всех этих, а равно и других опасных тенденций, любые меры, направленные на преодоление пропасти между мировым авангардом и другими мирами, оказываются бессильными. Причем сами концептуальные подходы, которыми руководствуются высокоразвитые страны и международные экономические организации в условиях резкого усиления опасных рисков (в том числе и для западных стран в виде «бумеранга»), отнюдь не изменились. Они по–прежнему несут печать экспансионистских устремлений «Золотого миллиарда», освященных в свое время Вашингтонским консенсусом. И это — несмотря на признание мировым сообществом, в том числе и Западом, не только банкротства, но и опасности для человечества подобных подходов и идей.
В ситуации, когда опасности, идущие от глобализации, угрожают всему человечеству, мировой авангард в лице лидеров высокоразвитых стран, а также не растерявших свой авторитет (как это произошло с МВФ и ВТО) международных организаций (прежде всего ООН) должен возглавить выработку принципиально новых концептуальных подходов и стратегических решений, направленных как на обуздание опасных тенденций, так и на усиление позитивного влияния глобализации на консолидацию человечества и всеобщий (а не однобокий, как сейчас) прогресс.
Важнейшим условием успеха такого рода деятельности является актуализация интеллектуального потенциала, т. е. потенциала передовой науки (особенно — течений институциализма, эволюционизма, посткейнсианства), и протестных движений (особенно — антиглобализма). Последнее важно не только из–за нацеленности этих движений на минимизацию глобальных опасностей, но и по причине сосредоточения в рядах протестующих немалых интеллектуальных сил.
Миссия упорядочения и очеловечивания деятельности глобальных игроков может быть возложена как на высокие представительства стран — представителей разных миров (не только восьмерки, но и, к примеру, Китая, Индии, Египта, Бразилии), так и на международные организации, наделенные соответствующими правами, концепциями и реформаторской рецептурой.
Главное, как представляется, заключается не в трудностях выработки оздоровляющих глобализацию рецептов и не в подборе соответствующего инструментария. Трудность — в таком переориентировании помыслов и интересов ведущих глобальных игроков, при котором мотивации обогащения были бы лишены нынешней ажиотажности и вседозволенности, а успехи стран третьего мира стали бы предметом первоочередной заботы (как это было в условиях двухполюсного мира) и международных организаций, и высокоразвитых стран.
И, конечно же, предпосылкой такого рода планетарных перемен должно быть преодоление на глобальном уровне институционального вакуума. Но все это, в сравнении с задачей обуздания и облагораживания экспансионистских устремлений ведущих глобальных игроков (и стран, и ТНК), — задача относительно легкая.
В заключение отметим, что капитализм однажды (в первой половине XX столетия), — когда под вопросом оказалось само его существование, — сумел преодолеть и обуздать самого себя. Вместо обществ, раскаленных пылом классовых противостояний и сбиваемых с ног нарастающими кризисными потрясениями, воцарились системы межклассовой консолидации и всеобщего благоденствия. Ныне перед странами мирового авангарда (а не только перед странами отстающими) стоит та же задача выживания. Но теперь масштаб ее другой; и рука Запада должна быть протянута, в том числе и в целях самоспасения, обездоленным незападным мирам. Результатом же должна стать гармонизация интересов всего человечества. Как видим, мировой авангард, возглавляемый США, должен снова, как и в первой половине двадцатого века, наступить (в своих же интересах) на горло собственной алчности.
5
Поведение различных народов, их правителей и отдельных социальных групп так или иначе связано с присущими им идейно–ценностными, часто называемыми архетипическими, структурами, а во многом и определяемо ими. Поэтому для того, чтобы адекватно понимать себя и других, а значит — и правильно определять курс внутренней и внешней политики, необходимо иметь верное представление о природе и структуре отдельных цивилизаций.
Признание сказанного требует разработки культур–регионального измерения цивилизационной структуры современного мира, определяющейся конфигурацией, взаимодействием, темпами развития и перспективами отдельных цивилизационных миров и цивилизаций, субцивилизаций и зон цивилизационных стыков. В качестве предварительного эскиза можем предложить следующую регионально–цивилизационную структуру современного мира.
В самом общем плане можно выделять два цивилизационных мира, в свою очередь состоящие из отдельных цивилизаций, две полностью самодостаточные в своих идейно–ценностных основаниях, не входящие в эти миры цивилизации, одну цивилизационную общность, часто полагаемую также в качестве самостоятельной цивилизации, и несколько цивилизационных стыков–регионов, традиционно причастных к различным цивилизациям.
Два цивилизационных мира: Макрохристианский и Китайско–Дальневосточный. Две отдельные, не входящие в них цивилизации: Мусульманско–Афразийская и Индийско–Южноазиатская. Упомянутая цивилизационная общность — Транссахарская Африка. Кроме того, в мире существует несколько цивилизационных стыков, разных по своим масштабам: Балканский, Левантийско–Палестинский, Кавказский, обширный Центральноазиатский с его подразделениями, регион Юго–Восточной Азии и др. На цивилизационных стыках часто наблюдаются затяжные конфликты (Босния, Кипр, Чечня, Карабах, Кашмир, Синцзянь–Уйгурия). Однако в ряде случаев видим, в целом, достаточно добрососедское сосуществование и местное плодотворное сотрудничество (Юго–Восточная Азия, Океания).
МАКРОХРИСТИАНСКИЙ МИР — название достаточно условное, однако охватывающее основу той мощной традиции, к которой так или иначе причастны бразильцы и мексиканцы, немцы и французы или русские и украинцы безотносительно их личной конфессиональной принадлежности или ее отсутствия. Ныне он представлен имеющими общие корни и традиционно во многом близкие идейно–ценностные основания Западной, Восточнохристианско–Евразийской и Латиноамериканской цивилизациями. Каждая из них сама является сложноструктурированной.
Особое место в Макрохристианском мире занимают Филиппины. Они, будучи преимущественно, по крайней мере внешне, католическими, не могут быть отнесены ни к Западной, ни к Восточнохристианско–Евразийской, ни к Латиноамериканской цивилизациям, хотя типологически наиболее близко стоят к последней. Представляется правомерным выделять их в особую Филиппинскую филиацию Макрохристианского мира как такового, а не причислять к одной из трех его цивилизаций.
То же следует сказать и об издревле восточнохристианской (в догматическом отношении монофизитской), но в течение более тысячелетия не имевшей никаких контактов с другими христианскими странами Эфиопии. Ее восточно–христианская идентичность (через все поры которой проступают традиционные африканские верования) подтверждается, в частности, теплыми политическими отношениями с царской Россией и СССР. Однако отнесение современных жителей Абиссинского нагорья к Восточнохристианско–Евразийской цивилизации представляется сомнительным. Остается говорить о них как об Эфиопской филиации Макрохристианского мира.
Ведущее место в Макрохристианском мире в течение уже более полутысячелетия занимает ЗАПАДНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ, которая прошла сложный процесс трансформационного развития. Утвердившись в раннем Средневековье в качестве Западнохристианской, она качественно обновляется в эпоху Возрождения, Реформации и Великих географических открытий и приобретает вид Новоевропейско–Атлантической. От нее отпочковывается Латинская Америка, но сама она продолжает расширяться за счет Северной Америки и Австралии с Новой Зеландией, колониально или полуколониально господствуя над Африкой и большей частью Азии. Из нее в течение второй половины ХХ века, после Второй мировой войны и распада мировой колониальной системы, в условиях Холодной войны и информационной революции, вырастает феномен, именуемый Западом (Евро–Атлантической или Западноевропейско–Североамериканской цивилизацией с ее анклавами).
Таким образом, современная Западная цивилизация четко, не только по духу, но и океаническими просторами, разделена на две субцивилизации — Западноевропейскую (точнее, если использовать более громоздкое обозначение, ее следовало бы назвать Западно–Центральноевропейской, в масштабах европейских народов, традиционно исповедовавших католицизм и протестантизм) и Североамериканскую. Она представлена также своей Австралийско–Новозеландской филиацией и анклавом в Южной Африке в виде белого меньшинства одноименной республики.
Цивилизационное членение Североамериканской субцивилизации и Австралийско–Новозеландской филиации Запада не представляет трудностей, поскольку оно — приблизительно в первом случае и полностью во втором — соответствует государственной структуре. Для Австралии и Новой Зеландии такое членение вообще не существенно. Несколько сложнее дело обстоит с Северной Америкой, где, кроме разделения по государственному принципу (США и Канада кое в чем разнятся, в частности, в социальном отношении Канада ближе к Западной Европе, чем к своему южному соседу), в пределах самих Соединенных Штатов важным выступает региональное деление.
Нью–Йорк и Техас, Пенсильвания и Калифорния, Флорида и Монтана, Луизиана и Мичиган — своеобразные полюса американской жизни. При этом, кроме преодоления традиционной отчужденности белой и черной частей общества, в последнее время США все менее справляются с функцией «плавильного котла», тогда как неуклонно вырастает роль субкультурной (по этно–конфессиональному признаку) дифференциации внутри общества. Китайцы и индусы, арабы и латиноамериканцы, будучи гражданами Соединенных Штатов, в культурном отношении все более идентифицируют себя с ценностями собственных народов и цивилизаций.
Гораздо более условным и проблематичным представляется цивилизационное членение Западноевропейской (Западно–Центральноевропейской) субцивилизации. Ее, комбинируя конфессионально–культурный и этнокультурный критерии, можно представить в виде двух основных блоков: южного, романско–католического (Франция, Италия, Испания, Португалия), и северного, англогерманско–протестанского (Великобритания, Нидерланды, Скандинавские страны, большая часть Германии), с переходной зоной между ними (Бельгия, Швейцария, Бавария, Австрия). К ним подстегиваются связанные с католической и протестантской традициями славяне (словенцы, хорваты, чехи, словаки, поляки, а через последних — и (частично) западные украинцы), финно–угры (венгры, эстонцы, фины), балты (литовцы и латыши), кельты (ирландцы) и баски. В ряде случаев наблюдается конфессиональное разделение в пределах одного этнического массива (например, австрийцы и баварцы — с одной стороны — и большинство немцев земель Средней и Северной Германии — с другой).
Отдельно следует оговорить положение Великобритании, являющейся в цивилизационном отношении мостом между Западной Европой и Северной Америкой, Австралией и Новой Зеландией. Особое положение этой страны дает основания для выделения (в пределах Западной цивилизации) отдельной структуры, которую было предложено называть Англосаксонской (Океанической) субцивилизацией982 в противоположность континентальной Западной Европе. Выделение некой англосаксонской цивилизационной структуры выглядит вполне оправданным, однако все же представляется более целесообразным придерживаться предложенного выше субцивилизационного членения «Большого Запада», относя (оговаривая ее особое положение) Великобританию к Западноевропейской субцивилизации.
Как и в США, в развитых странах Западной Европы все более актуальной становится проблема эмигрантов, в особенности из мусульманских стран Средиземноморья, а также из бывших колоний в Транссахарской Африке, Карибском бассейне, Южной и Юго–Восточной Азии, из Китая и бывшего СССР — преимущественно из славянских республик. Западноевропейские страны нуждаются в дешевой и бесправной рабочей силе. В то же время различные группы эмигрантов, по мере возростания их численного состава, все более склонны создавать собственные этноконфессиональные анклавы, способствующие эрозии цивилизационной гомогенности ведущих государств старого континента, прежде всего Франции, Великобритании и Германии. А это, как и конкуренция на рынке труда, вместе с другими обстоятельствами вызывает заметный в этих странах в последние годы рост ксенофобии.
Сегодня, после расширения Европейского Союза до достижения им границ бывшего СССР, не менее существенным оказывается разделение его на старых и новых (постсоциалистических) членов. При этом последние, как менее экономически развитые, чаще находят общие позиции с относительно небогатыми Грецией, Испанией и Португалией, чем с процветающими Германией и Францией, при том, что Греция (как и вступившие недавно в НАТО Румыния и Болгария) к Западной цивилизации имеет лишь опосредованное отношение. В то же время западные украинцы, прежде всего закарпатцы и галичане, занимают в цивилизационном отношении переходное положение, что непосредственно выразилось конфессионально — в форме греко–католицизма (униатства). В этом отношении им подобны и униаты Трансильвании. Не следует забывать также, что, казалось бы, вполне по своей природе «западные» Латвия, Эстония и Литва имеют высокий процент населения, причастного к православной традиции, и не только среди русскоговорящих, но (в Эстонии) и представителей «титульной нации».
Как видим, сколько–нибудь четких восточных границ Западно–Центральноевропейской субцивилизации, а значит и «Большого Запада» в целом, провести не удается. И то, что они размыты, не должно удивлять, поскольку и Запад, и Восточнохристианско–Евразийская цивилизация принадлежат к одному — Макрохристианскому — цивилизационному миру. И то, что органически принадлежащие к последней Греция, Болгария и Румыния в той или иной форме уже включены в евро–атлантические структуры, вовсе не говорит об их западной цивилизационной идентичности, как о последнем не свидетельствует и членство в НАТО Турции. Границы империй и крупных военно–политических образований никогда не совпадают с цивилизационными, хотя приблизительное (при взгляде на карту мира в целом) соответствие обычно наблюдается.
Второй составляющей Макрохристианского мира выступает ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ, в известном смысле «производная» от Западной на ее Новоевропейско–Атлантической фазе развития и теснейшим образом с нею связанная. Она сформировалась в течение XVI–XIX веков в процессе сложной переплавки предельно разнородных в расовом, цивилизационном, этническом отношениях компонентов при ведущей роли иберийского католического начала.
При формировании государств Латинской Америки в одних случаях, как это, например, происходило на юге (Аргентина, Уругвай, Парагвай, Чили), потомки переселенцев из Испании и других европейских стран составили основу населения соответствующих государств. В других (Мексика, Перу, Боливия) — они вступали в сложные и противоречивые отношения с потомками создателей великих цивилизаций доколумбовой Америки. В третьих (Бразилия, Карибский бассейн) — основными взаимодействующими компонентами были белые колонисты и массово привозимые для работы на плантациях негры–невольники, при практически поголовном истреблении местных индейцев (Куба, Гаити) или сохранении их лишь в труднодоступных областях (Бразилия, Венесуэла, Колумбия). В большинстве латиноамериканских стран утвердился испанский язык, а в крупнейшей из них, в Бразилии, — португальский.
Спецификой Латиноамериканской цивилизации является отсутствие у нее определенного центра, системообразующего или, по крайней мере, доминирующего ядра. Это определено прежде всего географическими причинами: огромной, мало пригодной для жизни цивилизованного человека Амазонией в центре Южной Америки; системой Анд, отделяющих ее Тихоокеанское побережье от остальных частей материка; пространственной обособленностью Мексики от Южной Америки и региональной компактностью побережья Карибского моря с его бесчисленными островами. Играли роль и другие факторы, в частности вполне обособленное существование вице–королевств (имевших отдельные связи с Испанией), Бразилии и, преимущественно островных, территорий Карибского бассейна, принадлежавших конкурировавшим между собою Испании, Англии, Франции и Нидерландам.
Внешние силы как бы растягивали регион, замыкая на себе его экономику; причем эта ситуация лишь усугубилась в постколониальный период, вплоть до сегодняшнего дня, когда государства южной части Южной Америки создали объединение МЕРКОСУР, Мексика в роли младшего партнера оказалась подстегнутой к США в рамках НАФТА, при том, что в Притихоокеанских государствах все более ощутимую экономическую конкуренцию США составляет Япония.
Сказанное уже само по себе ставит трудноразрешимый вопрос о регионально–субцивилизационном членении Латиноамериканской цивилизации. В качестве предварительного варианта его решения можно предложить следующую схему. Просматриваются три основных субцивилизационных региона: Паранско–Приатлантический, Андско–Притихоокеанский и Карибско–Мезоамериканский. Первый четко подразделяется на государства бассейна Параны и Ла–Платы (Аргентина, Уругвай и Парагвай), с одной стороны, и Бразилию, основные жизненные центры которой расположены на побережье Атлантики, — с другой. Ко второму должны быть отнесены Чили, Боливия, Перу и Эквадор. К третьему — с одной стороны, Мексика, а с другой — Венесуэла, Колумбия, небольшие государства южной части Мезоамерики и острова Вест–Индии, среди которых особое положение занимает Куба.
В силу конфессиональной и, преимущественно, языковой гомогенности Латиноамериканской цивилизации, ее молодости и близости исторических судеб составляющих ее государств, четких границ между ее субцивилизационными регионами не существует и само их выделение является весьма условным. Именно поэтому употребление понятия «субцивилизационный регион» представляется более уместным, чем «субцивилизация».
В отличие от Латиноамериканской, ВОСТОЧНОХРИСТИАНСКО-ЕВРАЗИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ имеет собственные, независимые от Западной, исторические корни, глубоко уходящие через Византию и древнее христианство в античный и древнеближневосточный миры Восточного Средиземноморья. При отсутствии общепринятой терминологии ее также не без оснований можно называть Православно–Славянской или Восточнохристианско–Евразийской, даже просто Евразийской983. Однако каждый из этих терминов имеет свои недостатки.
Подчеркивая лишь «евразийскость» в том смысле, какой в него вкладывали евразийцы, мы исключаем из данной общности православных Балкан и Закавказья, в то же время, совершенно искусственно, включая сюда многие мусульманские и ламаистские народы; подчеркивая «православность», — армян, не говоря уже о других христианах восточных церквей Ближнего Востока; а акцентируя внимание на «славянстве», — их всех в одинаковой мере, тем более, что, как известно, многие славянские народы относятся к западнохристианской традиции, а историческим, духовно–культурным ядром Восточнохристианского мира была грекоязычная Византия.
Термин «Восточнохристианско–Евразийская» представляется более оптимальным, поскольку, во–первых, он охватывает все народы восточнохристианской традиции, во–вторых, указывает на то, что территориально она объемлет главным образом тот огромный географический регион, который в узком — культурно–историческом — употреблении слова и зовется «Евразией». Преимущественно восточнославянское население последней от Балтики и Карпат до Тихого океана составляло и составляет ее основу.
Православные Балкан и христиане восточного обряда Закавказья находятся в зонах цивилизационных стыков. Политически и экономически они в основном выступают в зависимом положении от «Большого Запада», прежде всего в лице США. Некоторое исключение составляют лишь Армения и Сербия, в которых пророссийская и прозападная ориентации находятся в динамичном балансе.
Указание не на славянство, а на «евразийскость» позволяет терминологически адекватно отразить факт органического вхождения в нее и огромной массы людей тюркского, финно–угорского и иного происхождения, не являющихся ни славянами, ни православными, однако по своим взглядам и жизнедеятельности мало или практически не отличающихся сегодня от своих славянских, исторически связанных с восточнохристианской традицией, соседей.
С учетом сказанного, применительно к настоящему времени, а не историческому прошлому, представляется правомерным говорить скорее о Балканской (Греко–Балкано–Нижнедунайской) и Закавказской филиациях Восточнохристианско–Евразийской цивилизации, чем об их субцивилизационном статусе. К первой традиционно относятся греки (в том числе и проживающие в Турции и на Кипре), болгары, македонцы, черногорцы, сербы и румыны; ко второй — армяне и грузины, частично — абхазы и осетины. Следует помнить и о древних восточнохристианских анклавах на Ближнем Востоке.
Таким образом, сегодня можно говорить о Православно–Восточнославянском ядре Восточнохристианско–Евразийской цивилизации, ее южных филиациях и анклавах, некогда, по большей части, составлявших основу Византийско–Восточнохристианского мира, но сегодня оказавшихся в зонах цивилизационных стыков. Практически все они пережили разрушительные иноцивилизационные (и со стороны не только мусульман, но и Запада) завоевания.
Иной была участь Древнерусской субцивилизации. Пережив разгром в середине XIII века, она в течение последующих трех веков, испытывая воздействие со стороны динамически развивающейся Западнохристианско–Новоевропейской социокультурной системы, превращается в ядро православно–славянского мира, состоящее из Западноправославной и Восточноправославной субцивилизаций. Они сформировались на древнерусской основе главным образом в границах великих княжеств Литовского и Московского.
Западноправославная субцивилизация (в пределах украинско–белорусских земель) в XVI–XVII вв. удачно адаптировала на восточнохристианских основаниях многие базовые достижения Западнохристианско–Новоевропейского мира, однако не смогла создать собственной эффективной государственности. В отличие от нее, Восточноправославная (Московско–Российская) субцивилизация создала сильное государство, однако длительное время не желала воспринимать культуротворческие западные импульсы. Последние в XVII веке проникали в нее уже в адаптированной форме через Киев. В следующем столетии произошел синтез достижений обеих субцивилизаций (при существенных утратах каждой из них) в пределах Российской империи, выборочно воспринимавшей многие западные достижения.
Российская империя и СССР не представляли особой цивилизации, охватывая различные в цивилизационном отношении народы Но в силу причин, о которых уже говорилось984, в этих государствах произошла на восточнославянской основе цивилизационная консолидация населения обширного пространства на пересечении эллипсов, которые весьма условно можно определять как евразийский, православный и славянский. В его пределах, полностью охватывающих Белорусь, в основе своей — Украину и Россию и, в известной мере, Казахстан, ныне выступает Православно–Восточнославянское ядро Восточнохристианско–Евразийской цивилизации. Понятно, что и его «православность» и «восточнославянскость» весьма условны, как условно и определение его границ, явно не совпадающих с государственными границами Украины, Белоруси, России и Казахстана, и регионально–субцивилизационное деление этого ядра.
Поэтому, если прибегнуть к историческому подходу, особенно касательно XV–XVIII вв., выделение Западноправославной (земли Украины и Белоруссии) и Восточноправославной (пространства Московии–России) субцивилизаций представляется очевидным, но в последующие века рубежи между ними существенно стираются, и сегодня можно говорить о юго–западном, украинском, и северо–восточно–восточном (российско–белорусском) субцивилизационных ареалах с весьма размытыми границами и широкой переходной зоной (Слобожанщина, Донбасс, Кубань, Крым, область Донского казачества) не только между собой, но и (у второго) на востоке — в сторону Казахстана и Средней Азии.
6
В теснейшей исторической взаимосвязи с Восточнохристианско–Евразийской и Западной цивилизациями с момента своего возникновения находится МУСУЛЬМАНСКО-АФРОАЗИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ. Такое определение представляется наиболее оптимальным, поскольку выражает как ее религиозную природу, так и пространственное положение. Нынче она охватывает огромные пространства Африки и Азии от Атлантического до Тихого океанов, причем ее распространение продолжается и сегодня — как вглубь Черного континента, так и в Европу, где в самых богатых странах, как уже говорилось, возникают мощные анклавы мусульманского населения.
Рассматривая субцивилизационную структуру Мусульманско–Афроазийской цивилизации, следует исходить из истории формирования ее ядра и распространения ислама, при адаптации мусульманской культурой элементов местных культур. При таком подходе совершенно ясно, что ядром этой цивилизации был и остается арабоязычный Ближний Восток, сердцевина Дамаскского (Омейядов) и Багдадского (Аббасидов) халифатов. Однако, начиная уже с раннего Средневековья, арабско–исламскими являются обширные пространства от Атлантики до Загросских гор, Персидского залива и Индийского океана. В этих пределах и следует определять Арабскую субцивилизацию Мусульманско–Афроазийской цивилизации.
Разумеется, что на столь обширных пространствах, при всей общности арабского этнонационального самосознания, единстве арабского литературного языка и взаимопонятности арабских диалектов, высокой степени гомогенности арабско–мусульманской культуры и соответствующего ей жизненного уклада, должны выделяться определенные «субсубцивилизационные» ареалы. С известной долей условности, учитывая отсутствие между ними четких границ, их можно выделить три: Аравийский, Ближневосточно–Восточносредиземноморский и Магрибский.
К первому относятся Саудовская Аравия с небольшими нефтедобывающими государствами Персидского залива (Кувейт, Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты), а также менее богатые южноаравийские Йемен и Оман.
Арабская идентичность их жителей является изначальной, домусульманской. Они, в сущности, никогда не входили в состав других, неарабских государств, за исключением разве что Кувейта, бывшего одним из вилайетов Османской империи. Власть последней над оазисами и священными городами — Меккой и Мединой — Западной Аравии была достаточно номинальной, а контроль Англии над побережьем Южной Аравии и Персидского залива — недолговечным.
Южной иноэтничной периферией Аравийского ареала стало исламизированное побережье Восточной Африки, исторически противостоящие христианской Эфиопии нынешние Эритрея, Джибути, Сомали и, отчасти, приморские районы Кении и Танзании, многочисленные архипелаги Индийского океана и пр. Их, в треугольнике между Эритреей, Занзибаром и Мальдивами, весьма условно можно было бы объединить в Восточноафриканско–Индийскоокеанскую филиацию Мусульманско–Афроазийской цивилизации.
Ко второму, Ближневосточно–Восточносредиземноморскому ареалу, можно отнести Ирак, Сирию и Египет, Иорданию, отчасти Ливан, а также арабскую Палестину. Непосредственным его южным ответвлением является принильский Судан — современная Республика Судан, точнее — ее господствующая арабомусульманская часть населения. Этот регион, будучи жизненным центром великих халифатов, в то же время охватывает территории древнейших цивилизаций, входивших также в состав государств Александра Македонского и его преемников, Римской и Византийской империй, могущественных царств Ирана (Ахеменидов, Аршакидов, Сасанидов). Его население в своей основе — арабизированные и исламизированные потомки местных жителей домусульманского периода, связанных с древнехристианскими церквями и зороастризмом. Оно испытало на себе нашествия крестоносцев и монголов, несколько веков находилось под властью Османской империи, а затем — Англии (Ирак, Палестина с Иорданией, фактически и еще раньше — Египет и принильский Судан) и Франции (Сирия и Ливан).
Существеннейшим фактором в жизни государств этого региона является арабо–израильский конфликт, не затухающий уже более полувека. Он был катализатором обострившегося здесь советско–американского противостояния. Важно учитывать также и заметное присутствие в этом регионе анклавов христианства, в особенности в виде христианской части населения Ливана, и органически мусульманского населения. Сегодня жизнь региона проходит под знаком оккупации Ирака войсками США и их союзников, вызывающей рост антиамериканских настроений во всем мусульманском мире.
Третий — Магрибский ареал Арабской субцивилизации — охватывает государства Северо–Западной Африки: Ливию (занимающую промежуточное положение между этим и Ближневосточно–Восточносредиземноморским ареалами), Тунис, Алжир, Марокко с территорией Западная Сахара и Мавританию (чье положение промежуточно уже по отношению к Сенегалу и Западному Судану). Основные жизненные центры ареала прилегают к Средиземному морю. В домусульманском прошлом в этих районах существовали Карфагенское государство и местные государства, поглощенные Римом.
Арабы захватили Магриб у византийцев, исламизировав и арабизировав (и на сегодняшний день в Сахаре сохранились неарабоязычные бедуинские племена) местное население. Мусульманские государства Северо–Западной Африки почти номинально вошли в состав Османской империи, однако по мере ее ослабления были захвачены Францией (Алжир, Тунис, большая часть Марокко, Мавритания), Испанией (часть Марокко, Западная Сахара) и Италией (Ливия). Колониальный период был здесь, особенно в Алжире, длительным и наложил на жизнь местного населения существенный отпечаток. Тесные связи Магриба с романскими государствами Западного Средиземноморья, прежде всего — Францией, поддерживаются и развиваются по сей день. Их следствием является массовое присутствие в этих государствах выходцев из Северо–Западной Африки.
Южной иноэтничной периферией Магрибского ареала стали исламизированные области Сахеля и Западного Судана, примерно от Атлантики до Дарфура; в пределах современных республик Сенегала, Мали, Нигера с прилегающими областями Нигерии и Чада. В Средние века здесь существовали крупные поверхностно исламизированные государства (Мали, Сонгай), а в колониальный период регион входил в состав Французской Западной Африки. Их можно было бы объединить в Западносуданскую филиацию Мусульманско–Афроазийской цивилизации, с учетом того, что местное, исповедующее ислам, негритянское население в своей массе не отступает и от исконных африканских обычаев и верований.
Кроме того, даже этот, обычно далекий от канонов, ислам распространен преимущественно в городах, а за их пределами фактически господствуют лишь поверхностно затронутые им архаические верования и ритуалы, вплоть до откровенного местного язычества. Поэтому данный регион является переходной зоной между собственно Мусульманско–Афроазийской цивилизацией и Транссахарско–Африканской цивилизационной общностью. С не меньшим основанием он может считаться ее Западносуданским регионом.
Второй, наряду с Арабской, можно считать Ирано–Средневосточную субцивилизацию. Ее становление в раннем средневековье определялось исламизацией иранского населения завоеванных арабами преимущественно ираноязычных областей Среднего Востока на восток от Месопотамии до Гиндукуша, Памира и Тянь–Шаня, но без его языковой ассимиляции. В целом здесь преобладал зороастризм, однако, если на территории собственно Ирана, в пределах державы Сасанидов, он имел ортодоксальные формы, то восточнее был синкретизирован с иными верованиями и представлениями. Через трассы Великого шелкового пути они были открыты как воздействию с запада, так и влияниям, шедшим из Индии и Китая. При этом они издревле взаимодействовали со скотоводческими тюркскими народами зоны Евразийских степей.
Эти и другие обстоятельства привели к тому, что в указанном регионе в раннем Средневековье сложилась мусульманская ираноязычная субцивилизация Среднего Востока, культура которой имела глубокие местные корни. Уже в IX–X веках она была представлена двумя самобытными регионами: западным, приблизительно в пределах современного Ирана, где к тому времени победила шиитская ветвь ислама и утвердилась династия Буидов, и восточным, охватывавшим приблизительно территории современных Афганистана, Таджикистана, Узбекистана и Южного Туркменистана, подвластных династии Саманидов и исповедовавших ислам в суннитской форме.
Западный регион можно называть Иранским, а восточный — Средне–азиатским. Судьбы их сложились по–разному. Первый в общих чертах сохранил свои контуры, конфессиональную и этническую идентичность и в настоящее время представлен государством Иран. Второй же, в результате тюркских и монгольских завоеваний, при существеннейшем влиянии местного населения на завоевателей через обращение последних в ислам суннитской ветви, претерпел принципиальные изменения. Во–первых, в этноязыковом отношении он стал дуальным, тюрко–иранским, с доминированием тюркского компонента в Узбекистане, Кыргызстане и Туркменистане и иранского — в Таджикистане и Афганистане. Во–вторых, через него Мусульманско–Афроазийская цивилизация распространялась среди тюрок по просторам Степного Туркестана до рубежей Сибири и Китая, с одной стороны, и Индостана — с другой.
В результате этих и других процессов в восточной половине Мусульманско–Афроазийской цивилизации возникла чрезвычайно сложная структура не имеющих между собой определенных границ трех субцивилизационных ареалов. Условно их можно было бы назвать Евразийским, Средневосточно–Центральноазиатским и Индостанским.
Евразийский субцивилизационный ареал, тюркский в этноязыковом отношении, оформившийся в степной зоне Евразии между Северным Причерноморьем, Средним Поволжьем и западными отрогами Алтая, представлен ныне крымскими, волжскими и сибирскими татарами, башкирами, казахами и киргизами. В результате последовательной экспансии со стороны Московского царства, Российской империи, СССР, имевшей характер преимущественно славянской колонизации восточноевропейско–казахстанских степей, в настоящее время очерченный регион в основном охвачен Восточнохристианско–Евразийской цивилизацией, при сохранении его самобытности на значительной части Казахстана и Кыргызстана.
Второй, Средневосточно–Центральноазиатский субцивилизационный ареал, в этноязычном отношении тюрко–иранский, охватывавший в эпоху позднего Средневековья территории современных Туркменистана, Узбекистана, Афганистана, Таджикистана и Синьцзян–Уйгурии, впоследствии утратил свое единство, оказавшись «растянутым» между Российской, Китайской и Британской империями. Сегодня, при планомерной этнической экспансии, проводимой Китаем по отношению к Синцзян–Уйгурии, фактическом распаде Афганистана и неопределенности будущего постсоветских республик Средней Азии, говорить о нем, как о чем–то целостном, проблематично. Однако и утверждать о его исчезновении было бы неверно, поскольку в пределах Узбекистана и Таджикистана отчетливо просматривается его древнее ядро с центрами в Бухаре, Самарканде, Ташкенте и Фергане.
Третий, Индостанский субцивилизационный ареал, возник в результате завоевания Западного и Северного Индостана, вплоть до Бенгальского залива, мусульманами среднеазиатского, тюрко–иранского происхождения и более либо менее выраженной исламизации местного индуистского населения. Его расцвет совпадает с расцветом империи Великих Моголов, но в период британского владычества в Индии этот ареал начал слабеть и утрачивать целостность. Сегодня он представлен двумя весьма различными частями: западной (Пакистан), непосредственно связанной с ядром Мусульманско–Афроазийской цивилизации, и периферийной — восточной (Бангладеш), сохраняющей многие староиндийские культурно–бытовые черты и в значительной степени находящейся под эгидой Индии. Следует отметить британско–колониальное прошлое обеих частей, сказывающееся на их жизни и сегодня.
Самая восточная часть Мусульманско–Афроазийской цивилизации представлена Малайзией и Индонезией, прежде всего Яванским центром последней, а также султанатом Бруней и анклавом на юге Филиппин. Ислам здесь утверждается в конце Средних веков, перед тем, как территория нынешней Индонезии стала нидерландской, а Малайзии и Брунея — английскими колониями. Этот отдаленный от центра мусульманского мира регион, сохраняющий множество черт местных домусульманских культур, можно определить как филиацию Малайско–Индонезийскую, входящую в широкий ареал цивилизационных стыков Юго–Восточной Азии.
Совершенно особое место в современном мусульманском мире занимает Турция, а также исламизированные фрагменты бывших балканских владений Османской империи — Албания и Босния, с анклавами в Сербии, которой формально принадлежит Косово, Македонии и Болгарии. Их можно было бы определить в качестве крайне западной Турецко–Балканской филиации Мусульманско–Афроазийской цивилизации. Ее специфика определяется как мощной византийско–православной подпочвой, так и сильнейшим западным влиянием, зримо отразившимся в переходе Турции с арабского на латинский алфавит и ее членстве в НАТО. Эти и другие обстоятельства в цивилизационном отношении представляются более существенными, чем тюркская этноязычная идентичность турок, роднящая их не только с тюркско–мусульманскими центральноазиатскими народами, но и с христианами–гагаузами и шаманистами–якутами.
Отдельно следует оговорить и цивилизационный статус тюркоязычного, но, в отличие от других тюркских государств, шиитского в конфессиональном отношении Азербайджана, ориентирующегося в своем развитии на европеизированную модель Турции. Возможному успеху на этом пути должно способствовать его в высокой степени секулярное советское прошлое. Поэтому не исключено, что в обозримом будущем можно будет говорить о Турецко–Балканско–Кавказской филиации Мусульманско–Афроазийской цивилизации.
С Мусульманско–Афроазийской цивилизацией в течение последнего тысячелетия теснейшим образом связана ИНДИЙСКО-ЮЖНОАЗИАТСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ. Она включает в себя не только огромную и в последнее время динамично развивающуюся Индию, культура которой базируется на мощном фундаменте индуизма, но и индуистский о. Бали в Индонезии, а также буддийские, органически связанные с традиционной индийской культурой, Непал, Бутан, Шри–Ланку (Цейлон), Бирму (Мьямну), Таиланд, Кампучию (Камбоджу), Лаос, частично Вьетнам, а также пребывающий в составе Китая Тибет, а через него — исторически находящиеся в зоне его духовного влияния монгольские народы (собственно монголов, бурят, калмыков и др.). В XX веке они находились в зоне преимущественного влияния Восточнохристианско–Евразийской цивилизации, в той или иной степени являясь ее составляющими.
Из перечня государств и народов, входящих в Индийско–Южноазиатскую цивилизацию (от Калмыкии до о. Бали), понятна вся условность ее названия. Ведь Тибет и Монголия — страны центральноазиатские, а калмыки вообще с начала XVII века находятся в Восточной Европе. Однако оно представляется оправданным тем, что указывает на ее происхождение и основной ареал распространения, при том, что буддизм в его разнообразных формах представлен не только в Центральной, но и во всей Восточной Азии до Кореи и Японии включительно.
Трудно однозначно определить, к какой из цивилизаций относится Вьетнам, где (не учитывая навязанную извне коммунистическую идеологию) видим взаимодействие индийского и китайского начал. Само определение региона как «Индокитай» говорит о синтезе здесь культур упомянутых регионов, при том, что по мере отдаления от Китая усиливается влияние индийских по происхождению традиций и наоборот. Вьетнам скорее относится к Китайско–Дальневосточному цивилизационному региону, а Таиланд — к Индийско–Южноазиатской цивилизации. При этом характерно, что в буддийских странах с сильным китайским влиянием (Вьетнам, Лаос, Камбоджа–Кампучия, Бирма), пусть и при участии внешних сил, успех имел социализм, оставшийся чуждым соседнему им Таиланду.
Из сказанного видно, что в Индийско–Южноазиатской цивилизации существует огромное, достаточно четко определенное ядро — в основе своей индуистская Индия — и его огромная, практически полностью буддийская (крохотной и отдаленной от Индии индуистской филиацией остается лишь о. Бали) субцивилизационная периферия.
Индийско–индуистское цивилизационное ядро, при всей гомогенности его идейно–ценностной основы, весьма неоднородно в своих проявлениях. При бесконечном многообразии его форм, связанных с религиозной, сословно–кастовой, этно–территориальной и пр. спецификой, наиболее целесообразным представляется его традиционное деление на Арьяварту и Дакшинападху — на Северно–Арийский и Южно–Дравидийский ареалы. Буддийский же, периферийный, в значительной степени синкретический, пояс можно разделить на южный (в конфессиональном отношении — южнобуддийский, ветви хинаяны) и северный (севернобуддийский, ветви махаяны) субцивилизационные ареалы: Цейлонско–Индокитайский и Гималайско–Тибетский. В Тибете и Индокитае цивилизационные компоненты индийского и китайского происхождения органически переплелись. В большинстве случаев можем говорить о преобладании индо–буддийских компонентов, но Вьетнам, как уже отмечалось, представляется более правомерным относить к Китайско–Дальневосточному цивилизационному миру.
Существенно учитывать, что практически все государства Индийско–Южноазиатской цивилизации (за исключением Таиланда и Тибета) имеют длительное колониальное прошлое, наложившее на них, в первую очередь на население больших городов Индии, глубокий отпечаток. Колониальный период, связанный с широким распространением английского языка в этих странах, сыграл немалую роль в развитии независимой Индии. В то же время сегодня в Индокитае огромную роль в экономической жизни играет североамериканский и японский капитал, а также капитал китайской диаспоры, часто выступающий одним из определяющих экономических факторов в странах Юго–Восточной Азии в целом.
Индокитайский вариант Цейлонско–Индокитайского субцивилизационного ареала, наряду с Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией, Индонезией и Брунеем, является составляющей огромного цивилизационного стыка Юго–Восточной Азии.
КИТАЙСКО-ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ МИР занимает территорию, значительно меньшую, чем мир Макрохристианский, однако сопоставим с ним по демографическому и экономическому потенциалу, а по темпам развития значительно его опережает. К тому же принадлежащая к нему Япония, наряду с Северной Америкой и Западной Европой, входит в мир–системное ядро.
Требует обоснования само определение Китайско–Дальневосточной системы в качестве именно цивилизационного мира, включающего две цивилизации: Китайско–Восточноазиатскую и Японско–Дальневосточную, а не единой цивилизации. Ведь японская социокультурная система является производной от китайской в такой же степени, как древнерусская от византийской.
Действительно, если мы будем вести рассмотрение в рамках Средневековья, точнее — всего доколониального периода, то выделение Японии в отдельную цивилизацию, при всей ее специфике и вто время, не покажется обоснованным. До середины XIX века Япония выглядит типичной субцивилизацией той цивилизационной системы, бесспорным ядром и доминантой которой был Китай. Ситуация начинает принципиально изменяться с революции Мейдзи 1868 г., когда Страна восходящего солнца принципиально вступает на путь модернизации, тогда как Китай, с началом Опиумных войн и восстания тайпинов, ускоренными темпами дезинтегрируется. Тем более принципиальные различия между Китаем (вместе с Вьетнамом и Северной Кореей) и Японией (вместе с Южной Кореей и Тайванем) наростают в течение нескольких десятилетий после окончания Второй мировой войны, достигая своего апогея в 70‑х гг. XX века.
В последнюю четверть века экономические различия между Японией с Южной Кореей и Китаем с Вьетнамом перестали усиливаться, более того, Китай и Вьетнам, вступив на путь реформ, несколько сократили эту дистанцию. Однако, как представляется, возникшее цивилизационное расхождение, условия для которого подспудно созревали как минимум с XIII века, от этого не исчезло.
Вместе с тем между Китайско–Восточноазиатской и Японско–Дальневосточной цивилизациями в силу ряда причин, в том числе и относительно недавнего отпочкования Японии в самостоятельную цивилизацию, расхождения не представляются столь глубокими, как между «Большим Западом» и Восточнохристианско–Евразийской цивилизацией, а промежуточные звенья между ними в лице разделенной Кореи, «китайско–океанических» Тайваня, Гонконга и Сингапура, а также насчитывающей десятки миллионов китайской диаспоры в странах Юго–Восточной Азии представляются экономически и демографически куда более значимыми, чем Греция с православными балканскими славянами и Румынией, Западная Украина и государства Восточной Прибалтики.
Анализ цивилизационной структуры Восточноазиатско–Дальневосточного цивилизационного мира особой сложности не представляет. Как уже было отмечено, ее главными составляющими являются Китайско–Восточноазиатская и Японско–Дальневосточная цивилизации.
КИТАЙСКО-ВОСТОЧНОАЗИАТСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ является древнейшей в мире из ныне существующих цивилизационной системой с непрерывной историей развития, начавшейся в середине II тыс. до н. э. Конечно, цивилизационная история Ближнего Востока (Египет, Месопотамия) значительно куда более древняя. Однако Древний Египет и Шумер, Ассирия и Вавилон никак не могут быть отнесены к Мусульманско–Афроазийской цивилизации, хотя, безусловно, находятся в ее основе. В то же время наращивание аутентичного социокультурного потенциала на цивилизационной стадии развития в долине среднего Хуанхэ, при всех взлетах и падениях, происходит с эпохи Шан–Инь, что всегда осознавалось самими китайцами (склонными относить начало своей цивилизации в еще более древние времена).
Вместе с тем сама цивилизация Китая никогда не была гомогенной. Ее основой стали царства среднего Хуанхэ, объединенные в конце III века до н. э. в единую империю (Цинь и вскоре сменившую ее Хань). Тогда же в нее вошло и царство в среднем течение Янцзы — Чу, имевшее иную этническую природу. Вскоре были завоеваны и небольшие вьетские (этнически родственные предкам вьетнамцев) государства Южного Китая (Данвьет, Намвьет и пр.). В течение нескольких веков их население было в социокультурном отношении ассимилировано сложившейся на севере конфуцианской цивилизацией Китая. Но принципиальные этнические, языковые, культурные, и тем более хозяйственные, различия между Севером и Югом Китая, определяющиеся особенностями традиционной экономики, этнической подосновой, политической историей и тому подобными факторами, сохранились по сей день. Поэтому можно говорить о Севернокитайском и Южнокитайском субцивилизационных ареалах.
В определенные периоды истории (начиная с эпохи Хань) в состав Китайской империи входили также Корея и Северный, так сказать, исконный Вьетнам, что определило их цивилизационный статус. Китай непосредственно накладывал на них отпечаток своей конфуцианско–бюрократической цивилизации, но передавал их народам и свои высшие культурные достижения, преимущественно творчески адаптированные и модифицированные корейцами и вьетнамцами. Поэтому вне собственно китайского ядра можно выделить две периферийные по отношению к нему субцивилизации — Корейскую и Вьетнамскую.
В Средние века подобные структуры, в условиях северной периферии Китая, начинали формироваться и в Маньчжурии. Однако ее народы (кидани, чжурчжени, маньчжуры), поддаваясь соблазну завоевания Северного Китая в периоды его ослабления, массово переселялись на его территорию и ассимилировались более культурным местным населением. В Китайской империи во главе с маньчжурской династией Цин, власть которой установилась в середине XVII века, это привело к включению в нее собственно Маньчжурии, ее китайской колонизации и конечной ассимиляции маньчжуров на их собственной этнической территории.
Как уже отмечалось выше, между Индийско–Южноазиатской и Китайско–Восточноазиатской цивилизациями, в силу взаимоналожения индийских и китайских влияний и распространенности буддийской культуры, существует широкий, переходной в культурно–цивилизационном отношении, пояс. В него входят ныне принадлежащие Китаю Тибет и Индокитай. При всей условности деления, как отмечалось выше, представляется оправданным отнесение их, кроме Вьетнама, к области Индийско–Южноазиатской цивилизации. Особо следует подчеркнуть влиятельность китайской диаспоры в странах Юго–Восточной Азии, в одной из которых, Сингапуре, она составляет большинство и играет ведущую роль во всех сферах жизни. Поэтому можно говорить о Сингапурском анклаве Китайского ядра (его южного ареала) соответствующей цивилизации.
ЯПОНСКО-ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ имеет еще более простую структуру. Безусловным ее ядром является Япония, в пределах которой, по крайней мере применительно к современности, нет оснований выделять отдельные субцивилизационные ареалы. Более того, Южная Корея и Тайвань, относимые С. Хантингтоном вместе со Страной восходящего солнца к Японской (Тихоокеанской) цивилизации, по сути, генетически относятся к цивилизации Китайско–Восточноазиатской. Они были искусственно обособлены от нее (с переходом под власть Японии) лишь в самом конце XIX — начале XX в. Этот процесс был закреплен разделом мира после Второй мировой войны, в результате которого Южная Корея и Тайвань, попав, как и Япония, в политическую зависимость от США, были сориентированы на подобную японской модель развития.
Несомненно, в будущем — при объединении Северной и Южной Кореи — основой дальнейшего развития станет экономическая модель ее южной части. Поэтому, в сослагательном наклонении, можем говорить о формировании в течение нескольких последних и следующих десятилетий особой Корейской субцивилизации, относящейся по своему происхождению к Китайско–Восточноазиатской, но по реальной конфигурации в XXI веке — к Японско–Дальневосточной цивилизации. Такая возможность не должна удивлять: ведь смогла же Ява в XV веке совершить куда более резкую смену «цивилизационной ориентации», перейдя из Индийско–Южноазиатской в Мусульманско–Афроазийскую цивилизацию. Менее убедительной такая перспектива представляется для Тайваня, который, очевидно, на тех или иных условиях воссоединится с континентальным Китаем.
Отдельного обсуждения требует вопрос цивилизационного статуса Транссахарской Африки. С одной стороны, не вызывает сомнения наличие ее собственной негритянской социокультурной, идейно–ценностно–мотивационной основы, своеобразной и разветвленной системы традиционных верований, возникновение к моменту появления колонизаторов собственных, местного происхождения, государственных образований. Однако, с другой стороны, в силу мощного многовекового влияния Мусульманско–Афроазийской цивилизации и колониального, в некоторых частях (Ангола, Южная Африка, Мозамбик и пр.) также длившегося несколько веков, господства, Черный континент оказался в зоне взаимонакладывающихся, обычно достаточно поверхностных, мусульманского и христианского влияний.
Такая сложная картина подталкивает к определению государств южнее Сахары в качестве АФРИКАНСКО-НЕГРИТЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ОБЩНОСТИ, состоящей из различных, преимущественно стыковых в цивилизационном отношении, регионов. Об одном из них, сильно исламизированном Западносуданском, уже шла речь при обсуждении составляющих Мусульманско–Афроазийского мира. В отличие от него, в Африке южнее экватора в течение последних столетий преобладает христианское влияние. Впрочем, как это происходит и в Западном Судане, где преобладает ислам, его ареалы не распространяются далее относительно крупных городов, тогда как деревня (а именно здесь сосредоточена основная масса коренного населения) живет своей традиционной, в значительной мере еще по нормам первобытности, жизнью.
Для полноты картины цивилизационной структуры современного мира в конце нашего обзора следует упомянуть и об Океании, отдельные общества которой (на Гавайях, Тонга) на момент их открытия европейцами по ряду параметров подошли к рубежу цивилизационной стадии развития. В настоящее же время можно говорить о гигантском в пространственном, но мизерном в экономическом и демографическом отношении Полинезийско–Меланезийском цивилизационном стыке, где пересекаются волны влияний Западной (причем в ее полноте, через Западноевропейскую и Североамериканскую субцивилизации с Австралийско–Новозеландской филиацией) и Японско–Дальневосточной цивилизаций.
* * *
Таким образом, в самых общих чертах можно представить цивилизационную структуру современного мира в ее социокультурно–пространственном отношении. Ее соотнесение с цивилизационной структурой глобализирующегося мира, представленной в соответствии с принципами мир–системного анализа, показывает, что только две цивилизации — Западная (и то не полностью — в виде Североамериканской и группы наиболее развитых стран Западноевропейской субцивилизаций) и Японско–Дальневосточная (в лице Японии) — входят в мир–системное ядро государств, достигших стадии информационного (информационального) общества. Остальной мир относится к его полупериферии и периферии.
Однако в этом окружении представленного странами «золотого миллиарда» ядра происходят свои сложные и динамичные процессы. Если одни его части, как большинство государств Транссахарской Африки, заметно деградируют; другие, подобно латиноамериканским или арабским государствам, не могут похвастаться заметными успехами; то третьи, в частности два таких мировых гиганта, как Китай и Индия, сегодня демонстрируют высокие темпы развития. Более конкретно об этих и других процессах, при их рассмотрении на цивилизационно–региональном уровне в глобальном, мир–системном контексте, речь пойдет в следующем томе предлагаемого издания. В нем будут проанализированы на регионально–цивилизационном уровне сложные, переходные процессы, характеризующие современное состояние человечества.
Сноски
1
См.: Пахомов Ю. Я, Крымский С. Б., Павленко Ю. В. Пути и перепутья современной цивилизации. — К. : Международный деловой центр, 1998; Цивилизационные модели современности и их исторические корни. — К., Наук. думка, 2002.
(обратно)2
Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. — М., 1993. — С. 163, 164.
(обратно)3
Кримський С. Б. Запити філософських смислів. — К., 2002. — С. 56–60; Цивилизационные модели современности и их исторические корни. — К. : Наук. думка, 2002. — С. 37–41.
(обратно)4
Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації: соціокультурний розвиток людства. — К.: Либідь, 1996; Павленко Ю. В. История мировой цивилизации. Философский анализ. — К.: Феникс, 2002.
(обратно)5
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. — № 3.
(обратно)6
Пахомов Ю. М. Глобальні регулятори конкурентності економічних систем // Глобалізація і безпека розвитку. — К., 2001. — С. 481; См. также: Пахомов Ю. Н., Крымский С. Б., Павленко Ю. В. Пути и перепутья современной цивилизации. — К. : Международный деловой центр, 1998; Цивилизационные модели современности и их исторические корни. — К. : Наук. думка, 2002.
(обратно)7
Павленко Ю. В. История мировой цивилизации. — К., 2002; Гелд Д., Мак Грю Голдблатт Д., Перратон Дж. Глобальні трансформації. Політика, економіка, культура. — К., 2003.
(обратно)8
Кстати, до этого, т. е. до радикальной вестернизации, жизнь африканских племен была вполне упорядоченной.
(обратно)9
Сразу оговорюсь, что эти возможности соперничать с Западом не относятся ни к ресурсному обеспечению (так что бесполезно уповать на лучшие в мире черноземы), ни к интеллектуальному потенциалу, творческой мысли или квалификации; и даже не к наличию высоких технологий. Все это, как свидетельствует опыт Украины и России, при отсутствии способности победоносно опереться на эффективные, адаптированные к стране реформаторские подходы оказывается невостребованным и разрушенным или (как человеческий капитал) «убежавшим».
(обратно)10
В китайской модели реформирования экономики искусно соединены наиболее пригодные для транзитивных экономик западные концепции эволюционизма, неокейнсианства и институционализма, а также взятые от советской практики принципы реформ А. Косыгина (1966–1970 гг.), рецепты венгерских реформ, в т. ч. периода Яноша Кадара, и даже элементы НЭПа. И все это не просто «взято», но и по–своему переделано, скомбинировано и адаптировано к своей среде.
(обратно)11
Согласно учению великого психолога К. Юнга, рациональное сознание западного человека гипертрофировано. Из–за чрезмерного утилитаризма оно отчуждено от чувств, эмоций, инстинктов; и часто из–за этой своей оголенности (как в случаях с историей Клинтона–Моники или с уничижительной реабилитацией перед неграми) выглядит карикатурно.
(обратно)12
Полис. — 1995. — № 4. — С. 56.
(обратно)13
Мировая экономика и международные отношения. — 1997. — № 8. — С. 122.
(обратно)14
Там же. — 1997. — № 8. — С. 122–127.
(обратно)15
Комсомольская правда. — 1993 – 11 авг.
(обратно)16
Политические исследования. — 1996. — № 1. — С. 54.
(обратно)17
Правительственный вестник. — 1990. — 21 мая.
(обратно)18
Там же. — 1997. — № 5. — С. 157.
(обратно)19
Реформы глазами американских и российских ученых. — М., 1997. — С. 36.
(обратно)20
Я обхожу здесь причины процветания нескольких (в основном небольших) феодальных стран Персидского залива; как и природу относительного успеха там, где в мусульманских странах экономически сильна китайская диаспора. Последнее связано с тем, что даже 5–7-процентная прослойка китайцев, владеющих в таких странах 70–80 и более процентами капитала, предопределяют (как в Малайзии или Индонезии) экономический успех. Китайцы эти привносят в экономику эффект «дрожжей», или «фермента» роста.
(обратно)21
Проблема оправданности или же недопустимости диктаторства у нас замалчивается по причинам т. н. политкорректности, а если откровеннее — трусливости. Действительно, сказать твердое «нет» — значит поставить под сомнение правомерность образа жизни десятков, если не сотен миллионов человек, периодически то допускающих институт диктаторства, то отвергающих его. Сказать «да», даже применительно к умеренному варианту, несущему успех, значит подпортить шанс гордо смотреться в зеркало, выставляя себя демократом. К тому же редко какое диктаторство оценивалось положительно, как, например, диктаторство в Сингапуре, давшее в конечном счете не только эффект успешного развития, но и строй либеральной демократии.
Учитывая подобные моменты, т. е. боязнь сказать нечто ужасное невпопад, сошлюсь на мысли выдающегося историка XX века Арнольда Тойнби, высказанные в его диалоге с Дайсаку Икедой, религиозным лидером современного буддизма. А. Лойнби в этом диалоге принадлежат слова: «Я не возлагаю свои надежды на установление диктатуры, я боюсь ее. Сама по себе диктатура является абсолютным злом. Тем не менее в прошлом диктаторская система нередко являлась составной частью неизбежной цены за великие социальные перемены. Добровольно или недобровольно люди терпели диктаторские режимы, поскольку они представлялись меньшим злом, нежели любая альтернатива, которую люди могли воплотить и представить себе. Короче говоря, намного легче было установить диктатуру, чем избавить общество от какого–либо иного типа социальной системы, проявившей себя недееспособной». Говоря далее об успешных диктаторах, А. Тойнби заметил: «Они добились успеха потому, что удерживали свои диктатуры в рамках, которые общественное мнение считало совместимыми с возможностью избежать худшего зла» (см. кн. «Диалог Тойнби — Икеда. Человек должен выбрать сам». Москва — Леан, 1998. — С. 153, 154).
(обратно)22
Вспомним, с каким презрением и чувством нравственного превосходства идеолог Чечни Удугов вещал по российским каналам TV о неспособности россиян справиться с мафией и криминалитетом, со всеми мерзостями российской жизни, и предрекал успешное и быстрое искоренение нечисти в Ичкерии после обретения суверенитета и приведения в действие жестокостей судов Шариата, когда за воровство рубят руки, а за измену забивают камнями.
(обратно)23
Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М. — Л., 1939–1956. — Т. 12. — С. 419.
(обратно)24
Эта особенность национального характера вполне объяснима. Историческая память народа обременена и искалечена не только событиями 30‑х и последующих годов, но и многовековым господством сменяющих друг друга иностранных режимов, набегами турок, татар; униженным, холопским положением украинцев при поляках (от соседства с которыми, кстати, украинцы бежали поближе к России, что и привело к созданию Слободянщины). Иллюстрации того, что феномен взаимного недоверия живуч и в наши дни, весьма разнообразны; они отнюдь не сводятся лишь к известным пословицам и поговоркам, к расхожему «общему» мнению. Имеются и цифровые доказательства. Так, показательным в этом отношении явились результаты социологического опроса, проведенного в начале 90‑х годов по программе, разработанной в Гарварде, и охватившей примерно два десятка стран. Среди прочих, программой ставился вопрос, касающийся степени взаимного доверия граждан каждой страны друг к другу. При подведении итогов оказалось, что результаты ответов на этот вопрос в Украине уникальны; здесь степень недоверия граждан друг к Другу существенно выше, чем в остальных (двадцати, где был проведен опрос) странах.
(обратно)25
Нужно отметить, что украинцы, когда речь идет о крупных делах, о деятельности на вершинах власти или о крупных проектах, для русских тоже оказываются незаменимыми. Не случайно и в советские времена, и в структурах нынешней российской власти удельный вес украинцев и был, и есть выше, чем их доля в населении. Но, видимо, и в этих ситуациях имеется (не в каждом случае, конечно же) своеобразное «разделение труда». Одним свойственны прорыв и размах; другим — тщательность и культура в отлаживании системы.
(обратно)26
См. об этом же: Мировая экономика и международные отношения, № 8, 2002 г., раздел «США», С. Дмитриев.
(обратно)27
Соловьев В. Русская идея // Русская идея. — М., 1992. — С. 192.
(обратно)28
Соловьев В. Соч. в 2‑х томах. Т. 2. — М., 1990. — С. 177.
(обратно)29
Тейяр де Шарден П. Феномен человека. — М., 1987. — С. 170.
(обратно)30
Соловьев В. Соч. в 2‑х томах. Т. 2. — М., 1990. — С. 170.
(обратно)31
Ясперс К. Смысл и назначение истории. — М., 1991. — С. 95.
(обратно)32
Померанц Г. Выход из транса. — М., 1995. — С. 293–296.
(обратно)33
Артемова О. Ю. Первобытные эгалитарные и неэгалитарные общества // Архаическое общество: узловые проблемы социологии развития. — М., 1991. — С. 44–91.
(обратно)34
См.: Павленко Ю. В. История мировой цивилизации. Философия цивилизационного процесса. — К. : Феникс, 2002. — 760 с.
(обратно)35
Васильев Л. С. История Востока. В 2‑х томах. — М., 1993.
(обратно)36
Васильев JI. С. Феномен власти–собственности // Типы общественных отношений на Востоке в средние века. — М., 1982. — С. 60–99.
(обратно)37
Меликишвили Г. А. «Древневосточный» социально–экономический строй и развитие ближневосточного общества в эллинистическую, позднеантичную и стедневековую эпохи // Кавказско–Ближневосточный сборник. Вып. 7. — Тбилиси, 1984. — С. 3–26; Меликишвили Г. А. Об основных этапах развития древнего ближневосточного общества // ВДИ. — 1985. — № 4. — С. 3–34; Меликишвили Г. А. Об основных типах классовых обществ Кавказско–Ближневосточный сборник. Вып. 8. — Тбилиси, 1988. — С. 3–19.
(обратно)38
Васильев JI. С. Проблемы генезиса китайского государства. — М., 1983. — 326 с.
(обратно)39
Илюшечкин В. П. Сословно–классовое общество в истории Китая. — М., 1986. — 395 с.
(обратно)40
Ясперс К. Смысл и назначение истории. — М., 1991. — С. 32–50.
(обратно)41
Коротаев А. В. Объективные социологические законы и субъективный фактор // Альтернативность истории. — Анналы. Вып. 3. — Донецк, 1992. — С. 76–108.
(обратно)42
Топоров В. Н. О космогонических источниках раннеисторических описаний // Труды по знаковым системам. Вып. 6. — Тарту, 1973. — С. 109–148.
(обратно)43
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика общество, культуpa. — М., 2000. — С. 81, 82.
(обратно)44
Павленко Ю. В. Шляхи розвитку первісного суспільства // Археологія. — 1990. — № 2. — С. 3–14.
(обратно)45
Павленко Ю. В. Классообразование у кочевников // Маргулановские чтения. — 1990. — М. — Алма–Ата, 1992. — С. 33–39.
(обратно)46
Павленко Ю. В. Раннеклассовые общества: генезис и пути развития. — К., 1989. — 289 с.
(обратно)47
Павленко Ю. В. Человек и власть на Востоке // Феномен восточного деспотизма — М„ 1993. — С. 26–61.
(обратно)48
Чубаров В. В. Ближневосточный локомотив: темпы развития техники и технологии в древнем мире // Архаическое общество: узловые вопросы социологии развития. — М., 1991. — С. 92–135.
(обратно)49
Павленко Ю. В. Раннеклассовые общества: генезис и пути развития. — К., 1989. — С. 157–189; Павленко Ю. В. История мировой цивилизации. Философия цивилизационного процесса. — К., 2002. — С. 322–349.
(обратно)50
Васильев JI. С. Что такое «азиатский способ производства»? // Народы Азии и Африки, 1988, № 3. — С. 72, 73.
(обратно)51
Гуревич Л. Я. Аграрный строй варваров // История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. — М., 1985. — Т. L — С. 90–136.
(обратно)52
Брайчевський М. Ю. Біля джерел слов’янської державності. — К., 1964. — 355 с.; Брайчевський М. Ю. Походження Русі. — К., 1968. — 224 с.
(обратно)53
Фурсов А. И. Восточный феодализм и история Запада: критика одной концепции // Народы Азии и Африки, 1987, № 4. — С. 104.
(обратно)54
Зиновьев А. А. Запад. Феномен западнизма. — М., 1995. — 514 с.
(обратно)55
Цивилизационные модели современности и их исторические корни. — К., 2002.
(обратно)56
Пахомов Ю. Н., Крымский Ю. В., Павленко Ю. В. Пути и перепутья современной цивилизации. — К., 1998. — С. 239–246.
(обратно)57
Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий. Введение // Вебер М. Избранное. Обзор общества. — М., 1994. — С. 43–73.
(обратно)58
Лосский Н. О. Учение о перевоплощении. Интуитивизм. — М., 1992. — 207 с.
(обратно)59
Н. Бердяев о русской философии. В 2‑х частях. — Свердловск, 1991. — Ч. 2. — С. 114, 163; Бердяев Н. А. О назначении человека. — М., 1993. — С. 235; Бердяев Н. А. Царство духа и царство кесаря. — М., 1995. — С. 280.
(обратно)60
Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм // Ницше Ф. Сочинения в 2‑х томах. — М., 1990. — Т. 1. — С. 47–157.
(обратно)61
Иванов В. И. Дионис и прадионисийство. — СПб. : Алтейя, 1994. — 342 с.
(обратно)62
Страхов Н. Я. Жизнь и творчество Н. Я. Данилевского // Данилевский Н. Я. Россия и Европа. — СПБ, 1895. — С. 27.
(обратно)63
Имеется в виду индоевропейская макроязыковая, а на ранних стадиях своего развития макроэтноязыковая общность, не соответствующая какой–то расе в научном, антропологическом, понимании последней. — Авт.
(обратно)64
Данилевский Н. Я. Россия и Европа. — М., 1991. — С. 121.
(обратно)65
Леонтьев К. Н. Византинизм и славянство. — Леонтьев К. Н. Избранное. — М., 1993. — С. 111.
(обратно)66
Леонтьев К. Н. Византинизм и славянство. — Леонтьев К. Н. Избранное. — М., 1993. — С. 75.
(обратно)67
Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. — М., 1993. — С. 146, 147.
(обратно)68
Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. — М., 1972. — 272 с.
(обратно)69
Леонтьев К. Н. Византинизм и славянство. — Леонтьев К. Н. Избранное. — М., 1993. — С. 111.
(обратно)70
Тойнби А. Дж. Письмо к Н. И. Конраду // Конрад Н. И. Избранные труды. История. — М., 1974. — С. 270.
(обратно)71
Тойнби А. Дж. Письмо к Н. И. Конраду // Конрад Н. И. Избранные труды. История. — М, 1974. — С. 271.
(обратно)72
Рашковский Е. Б. Востоковедная проблематика в культурно–исторической концепции А. Дж. Тойнби. — М., 1976. — С. 97.
(обратно)73
Toynbee A. J. A Study of Histori. Abridgement by Sovnerveii D. C. Vv. 1–2. — London, 1956–1957. — V. 2. — P. 299.
(обратно)74
Toynbee–Ikeda dialogue. — Tokyo, 1976. — P. 320.
(обратно)75
Toynbee and History. Critycal esseays and review. — Boston, 1956. — P. 188.
(обратно)76
Ibid. — P. 6.
(обратно)77
Toynbee–Ikeda dialogue. — Tokyo, 1976. — P. 307.
(обратно)78
Рассоха И. Н., Пименова И. К. Кто родился раньше всех: Пособие для развивающего обучения. — М., 1998. — С. 66, 67; См. также: Массон В. М. Экономика и социальный строй древних обществ (в свете данных археологии). — Л., 1976. — С. 85 и др.; Чеснов Я. В. Земледельческие культуры как этногенетический источник // Ранняя этническая история народов Восточной Азии. — М., 1977. — С. 128; Кобищанов Ю. М. На заре цивилизации: Африка в древнейшем мире. — М., 1981. — С. 7, 8 и др.
(обратно)79
Бродель М. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 3. Время мира. — М., 1992. — С. 14, 18, 61, 62.
(обратно)80
Бродель М. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 3. Время мира. — М., 1992. — С. 16, 559, 560.
(обратно)81
Там же. — С. 235.
(обратно)82
Словарь иностранных слов. 14‑е изд. — М., 1987. — С. 553.
(обратно)83
Сорокин П. А. Социальная и культурная мобильность // Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. — М, 1992. — С. 309, 310, 373.
(обратно)84
Сорокин П. Система социологии. Т. 2. Социальная аналитика: Учение о строении сложных социальных агрегатов. — М., 1993. — С. 562–566.
(обратно)85
Бродель М. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV‑XVIII вв. Т. 1. Структуры повседневности: возможное и невозможное. — М., 1986. — С. 37.
(обратно)86
Рассоха И. Н. Тезисы о тоталитаризме // Полис (Политические исследования). — № 2/95. — С. 147–155; См. также, например: Восленский М. С. Номенклатура: Господствующий класс Советского Союза. — М., 1991. — С. 552–608.
(обратно)87
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 3. Время мира. — М., 1991. — С. 605, 606.
(обратно)88
Там же. — С. 609.
(обратно)89
Курбатов Г. Л., Лебедева Г. Е. Город и государство в Византии в эпоху перехода от античности к феодализму // Становление и развитие раннеклассовых обществ. — Л., 1986. — С. 141, 142; Большаков О. Г. Средневековый арабский город // Очерки истории арабской культуры V–XV вв. — М., 1982. — С. 156–214; Большаков О. Г. Средневековый город Ближнего Востока (VII–XIII вв.) — М., 1984. — 342 с.
(обратно)90
Бродель Ф. Указ. соч. Т. 3. — С. 551, 573.
(обратно)91
Бродель Ф. Указ. соч. Т. 3. — С. 104, 125, 133, 567.
(обратно)92
Маркс К. Капитал. Т. 1. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2‑е изд. Т. 23. — С. 346.
(обратно)93
Сергеев В. С. История Древней Греции. — М., 1948. — С. 246.
(обратно)94
Чернышев Б. Софисты. — М., 1992. — С. 17.
(обратно)95
Тюменев А. И. Очерки экономической и социальной истории древней Греции. — Т. 1. — Птг., 1920. — С. 122.
(обратно)96
Глускина Л. М. Расцвет афинской рабовладельческой демократии // История древнего мира. Т. 2. — М„ 1982. — С. 187–189.
(обратно)97
Сергеев В. С. Указ. соч. — С. 240.
(обратно)98
История Древнего Рима / Под ред. А. Г. Бокшанина и В. И. Кузищина. — М., 1971. — С. 357–359.
(обратно)99
История Европы. Т. 1. Древняя Европа. — М, 1988. — С. 572, 573, 576.
(обратно)100
Аникин А. В. Золото: Международный экономический аспект. — М., 1984. — С. 65, 66.
(обратно)101
История Древнего Рима / Под ред. А. Б. Бокшанина и В. И. Кузищина. — М., 1971. — С. 330–350.
(обратно)102
Мейер Э. Экономическое развитие древнего мира. 3-є изд. — Пг., 1923. — С. 10, 11, 41.
(обратно)103
Бродель М. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 1. Структуры повседневности: возможное и невозможное. — М., 1986. — С. 39.
(обратно)104
Там же. Т. 3. — С. 73.
(обратно)105
Рассоха И. Н., Пименова И. К. Тайны древних цивилизаций. — М., 1998. — С. 52, 53; см. также: История Европы. Т. 1. Древняя Европа. — М., 1988. — С. 217.
(обратно)106
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. — М., 1992. — С. 261, 262, 270, 302–304.
(обратно)107
Ключевский В. О. О взгляде художника на обстановку и убор изображаемого им лица // Ключевский В. О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. — М., 1991. — С. 32, 35, 38.
(обратно)108
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения — М„ 1990. — С. 90, 94, 177–199.
(обратно)109
История Древнего Рима / Под ред. А. Б. Бокшанина и В. И. Кузищина. — М., 1971. — С. 368.
(обратно)110
Лосев А. Ф. Софисты // БСЭ. Т. 24. Ч. I. — С. 211.
(обратно)111
3 Хантінгтон С. 77. Захід: Унікальність versus універсалізм. Пер. з англ. О. Заремби // Філософська думка. — 1999, № 1, 2. — С. 87.
(обратно)112
Schlesinger А. М., Jr. The Disunity of America. — N. Y., 1992. — P. 127.
(обратно)113
Богораз JI., Даниэль Ф. Свобода, равенство, права человека. — М., 1997. — С. 8.
(обратно)114
Рассоха И. Н. Тезисы о тоталитаризме. — Полис, 1995, № 2. — С. 147–155.
(обратно)115
См. также: Андерсен Р. Д. Тоталитаризм: концепт или идеология. — Полис, 1993, № 3.
(обратно)116
Рассоха И. Н. Эпидемия насилия XX столетия как следствие глобального кризиса общения // Влада і насильство : Збірка наукових статей. — X., 1997. — С. 84–90.
(обратно)117
Рассоха И. Н., Пименова И. К. Кто родился раньше всех. — М., 1998. — С. 48, 49.
(обратно)118
Рассоха И. Н., Пименова И. К. Тайны древних цивилизаций. — М., 1998. — С. 52, 53; См. также: История Европы. Т. 1. Древняя Европа. — М., 1998. — С. 217.
(обратно)119
История Европы… — С. 237.
(обратно)120
Рассоха И. Мы — народ победителей! // День, 1999, № 220 (27 ноября). — С. 6.
(обратно)121
Рассоха I. М. Про національні корені української філософії // Філософія Історія культури. Освіта. Доповіді та повідомлення III міжнародного конгресу україністів. — Харків, 1996. — С. 45–48.
(обратно)122
Плетнева С. А. Половцы. — М., 1990. — С. 75, 83, 84, 88, 92, 93.
(обратно)123
Всемирная история в десяти томах. Т. 3. — М., 1957. — С. 423.
(обратно)124
Козловсъкий А. Роль археологічних пам’яток у вивченні історії запорозького козацтва // Філософія. Історія культури. Освіта. Доповіді та повідомлення III міжнародного конгресу україністів. — Харків, 1996. — С. 45.
(обратно)125
Лепявко С. До проблеми становлення козацького стану // Другий міжнародний конгрес україністів. Доповіді і повідомлення. Історія. Частина І. — Львів, 1994. — С. 84–86.
(обратно)126
Ефименко А. Я. История украинского народа. — К., 1990. — С. 275, 276.
(обратно)127
Станиславский А. Л. Гражданская война в России XVII в.: Казачество на переломе истории. — М., 1990. — С. 244; См. также: Никитин Н. И. О формационной природе ранних казачьих сообществ (К постановке вопроса) // Феодализм в России : Сборник статей и воспоминаний, посвященных памяти академика Л. В. Черепнина. — М., 1987. — С. 236–245; Самойлов Л. Путешествие в перевернутый мир // Нева, 1989, М., 4. — С. 162, 163.
(обратно)128
Ефименко А. Я. Указ. соч. — С. 251–253.
(обратно)129
Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. Т. 1. — К., 1990. — С. 452.
(обратно)130
Ефименко А. Я. Указ. соч. — С. 355, 472.
(обратно)131
Там же. — С. 428.
(обратно)132
Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст. — К., 1991. — С. 31–35, 68.
(обратно)133
Там же, подсчет автора. — Данные на стр. 45–55.
(обратно)134
Бродель Ф. Указ. соч. Т. 3. — С. 309.
(обратно)135
БСЭ. 3‑е изд. Т. 24. Ч. 11. — С. 106.
(обратно)136
Описи… — С. 78.
(обратно)137
Миронов Б. Н. Внутренний рынок России во второй половине XVIII — первой половине XIX в. — Л., 1981. — С. 77–79, 238, 239.
(обратно)138
Рассоха И. К вопросу об «Украинском Пьемонте» и «Украинской Сицилии» // Региональное развитие Украины: проблемы и перспективы. Материалы Международного научно–практического семинара. — X. : фонд «Українська перспектива», 1995. — С. 7.
(обратно)139
Рассоха И. Украинская Сицилия и Украинский Пьемонт // Бизнес Информ, 1995, № 19, 20 (143, 144). — С. 7, 8.
(обратно)140
Субтельний О. Україна: історія. 3-тє вид. — К., 1993. — С. 231, 232, 236.
(обратно)141
История Украинской ССР в десяти томах. Т. 3. — К., 1983. — С. 586, 587.
(обратно)142
История Украинской ССР в десяти томах. Т. 3. — С. 592, 606.
(обратно)143
Там же. — С. 619.
(обратно)144
Рассоха И. Н. Мостовые и тротуары Харькова // Харьковская недвижимость, 1996, № 6, 7. — С. 30.
(обратно)145
История Украинской ССР… — С. 666.
(обратно)146
Рассоха І. М. Про національні корені…
(обратно)147
Рассоха И. Н. Тезисы о тоталитаризме. — Полис, 1995, № 2. — С. 147.
(обратно)148
Программа Коммунистической партии Советского Союза. Принята XXII съездом КПСС (Москва, 17–31 октября 1961 г.) // КПСС. Программы и Уставы КПСС. — М., 1969. — С. 90, 91, 134.
(обратно)149
Конфедерация анархистов Украины. Общие программные принципы // Україна багатопартійна: Програмні документи нових партій. — К., 1991. — С. 186.
(обратно)150
Блок М. Феодальное общество // Блок М. Апология истории. — М. : Наука, 1986. — С. 122–181.
(обратно)151
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. — М., 1990. — С. 61–272.
(обратно)152
Маркс К. Формы, предшествующие капиталистическому производству // Маркс К, Энгельс Ф. Соч., 2‑е изд. — Т. 46, ч. 1. — С. 472.
(обратно)153
Там же. — С. 470.
(обратно)154
Архив Маркса и Энгельса. — Т. 9. — С. 50.
(обратно)155
Там же. — Т. I. — С. 284.
(обратно)156
Кларк Дж. Доисторическая Европа. — М., 1953.
(обратно)157
Павленко Ю. В. Передісторія давніх русів у світовому контексті. — К., 1995. — С. 60–122.
(обратно)158
Васильев Л. С. Феномен власти–собственности // Типы общественных отношений на Востоке в средние века. — М., 1982. — С. 60–99; Васильев Л. С. Что такое азиатский способ производства? // НАА. — 1988, № 3. — С. 75–85.
(обратно)159
Филипп Я. Кельтская цивилизация и ее наследие. — Прага, 1961. — 215 с.; Павленко Ю. В. Раннеклассовые общества: генезис и пути развития. — К., 1989. — С. 152–154.
(обратно)160
Гуревич А. Я. Аграрный строй варваров // История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. — М., 1985. — Т. 1. — С. 90–136; Павленко Ю. В. Раннеклассовые общества… — С. 184–189.
(обратно)161
Гуревич А. Я. Норвежское общество раннего средневековья. Проблемы социального строя и культуры. — М., 1977. — 317 с.; Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе. — Л., 1985. — 285 с.
(обратно)162
Фурсов А. И. Восточный феодализм и история Запада // НАА. — 1987. — № 4. — С. 93–109.
(обратно)163
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. — М., 1992 — С. 31.
(обратно)164
Зубарь В. М., Павленко Ю. В. Херсонес Таврический и распространение христианства на Руси. — К., 1988. — С. 83.
(обратно)165
Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. — СПб., 1994. — Т. 2. Средневековье. — С. 97.
(обратно)166
Grimpel J. The Mediaval Machine. The industrial revolution of the Middle Age. — London : Methen, 1976. — P. 274.
(обратно)167
Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації: соціокультурний розвиток людства. — К., 1996. — С. 303.
(обратно)168
Бердяев Н. А. Дух и реальность. Опыт богочеловеческой духовности // Бердяев Н. А. Философия свободного духа. — М., 1994. — С. 440.
(обратно)169
Рассел Б. История западной философии. В 2‑х томах. — Т. 1. — М., 1993. — С. 350, 351.
(обратно)170
Аверинцев С. С. Порядок космоса и порядок истории в мировоззрении раннего средневековья // Античность и Византия — М., 1975. — С. 277.
(обратно)171
Августин Аврелий. Исповедь. — М., 1991. — С. 188.
(обратно)172
Григор Нарекаци. Книга скорбных песнопений. — М., 1988. — 407 с.
(обратно)173
Гизо Ф. История цивилизации в Европе. — СПб., 1898. — 258 с.
(обратно)174
Аверинцев С. С. Порядок космоса и порядок истории в мировоззрении раннего средневековья // Античность и Византия. — М., 1975. — С. 266, 267.
(обратно)175
Бычков В. В. Эстетика поздней античности. — М., 1981. — С. 289, 290.
(обратно)176
Демчук Р. В., Павленко Ю. В. Структура Східнохристиянської цивілізації і місце в ній Київської Русі // Collegium, № 13, 2002. — С. 52–78.
(обратно)177
Такое понимание вполне отчетливо проступает уже в: Гуревич А. Я. Феодализм // Филос. энц. слов. — М., 1983 — С. 720–722, и четко сформулировано в: Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайского государства. — М., 1983. — 326 с.; Васильев Л. С. История Востока. В 2‑х томах. — М., 1993. — Т. 1. — 495 с.; Илюшечкин В. П. Сословно–классовое общество в истории Китая. — М., 1986. — 395 с.; Илюшечкин В. П. О происхождении и эволюции понятия «феодализм» // НАА, 1987, № 6. — С. 72–85; Илюшечкин В. П. Эксплуатация и собственность в сословно–классовых обществах. (Опыт системно–структурного исследования). — М., 1990. — 436 с.; Дьяконов И. М. Пути истории. — М., 1994. — 384 с.; Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації: соціокультурний розвиток людства. — К., 1996. — 360 с.
(обратно)178
Вебер М. Город // Вебер М. Избранное. Обзор общества. — М., 1994. — С. 334.
(обратно)179
Шпенглер О. Закат Европы. Т. L — М., 1993. — С. 189, 193 и др.
(обратно)180
Блок М. Феодальное общество // Блок М. Апология истории. — М., 1986. — С. 122. 123.
(обратно)181
Февр Л. Бои за историю. — М., 1991. — С. 146–158.
(обратно)182
Хейзинга Й. Осень средневековья. — М., 1988. — 540 с.
(обратно)183
Кульпин Э. С., Пантин В. И. Решающий опыт. — М., 1993. — С. 52.
(обратно)184
Соколов В. В. Средневековая философия. — М., 1979. — С. 325–334; Рассел Б. История западной философии. В 2‑х томах. — М., 1993. — Т. 1. — С. 482–484.
(обратно)185
Ясперс К. Смысл и назначение истории. — М., 1991. — С. 99–140.
(обратно)186
Хайдеггер М. Время и бытие. — М., 1993. — С. 221 — 238.
(обратно)187
Гайденко В. П., Смирнов Г. А. Западноевропейская наука в средние века. — М., 1989. — С. 46.
(обратно)188
Кульпин Э. С., Пантин В. И. Решающий опыт. — М., 1993. — С. 53.
(обратно)189
Там же. — С. 62; см. также: Кульпин Э. С. Бифуркация Запад — Восток. — М., 1996. — С. 150–154.
(обратно)190
Вебер М. Город// Вебер М. Избранное. Обзор общества. — М., 1994. — С. 309–446.
(обратно)191
Вернан Ж. Происхождение древнегреческой мысли. — М., 1988. — С. 126.
(обратно)192
Гайденко П. П. Эволюция понятия науки: Становление и развитие первых научных программ. — М., 1980. — 568 с.
(обратно)193
Лосев А. Ф. Дерзание духа. — М., 1988. — С. 164.
(обратно)194
Аверинцев С. С. Два рождения европейского рационализма // Вопросы философии. — 1989. — № 3. — С. 3–13.
(обратно)195
Мудрагей Н. С. Платон: рациональное — иррациональное // Зарубежное философское антиковедение. — М, 1990. — С. 48.
(обратно)196
Автономова Н. С. Рассудок. Разум. Рациональность. — М., 1988. — С. 14.
(обратно)197
Флоренский П. А. Смысл идеализма. — М., 1914. — С. 6.
(обратно)198
Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. В 2‑х т. — К., 1994. — Т. 1. У полоні Платонових чарів. — 444 с.
(обратно)199
Лосев А. Ф., Тахо–Годи А. А. Платон. Аристотель. — М., 1993. — С. 72.
(обратно)200
Аристотель. Соч. в 4‑х т. — М., 1975. — Т. 1. Метафизика: О душе. — С. 120, 121.
(обратно)201
Аристотель. Соч. в 4‑х т. — М., 1983. — Т. 4. — С. 630.
(обратно)202
Там же. — С. 59–62.
(обратно)203
Штаерман О. М. Древний Рим: проблемы экономического развития. — М., 1978. — С. 20.
(обратно)204
Лосев А. Ф. Эллинистически–римская эстетика I–II вв. н. э. — М., 1979. — С. 14.
(обратно)205
Фролова М. А. Западная цивилизация: доминанты становления и развития // Социально–политический журнал. — 1993. — № 11, 12. — С. 23.
(обратно)206
Ясперс К. Смысл и назначение истории. — М., 1991. — С. 82.
(обратно)207
Аверинцев С. С. Порядок космоса и порядок истории в мировоззрении раннего средневековья // Античность и Византия. — М., 1975. — С. 266, 267.
(обратно)208
Неретина С. С. Слово и текст в средневековой культуре // История: миф, время, загадка. — М., 1994. — С. 56.
(обратно)209
Гайденко П. Я., Смирнов Г. А. Западноевропейская наука в средние века. — М., 1989. — С. 173.
(обратно)210
Боэций. Утешение философией и другие трактаты. — М., 1990. — С. 8.
(обратно)211
Уколова В. И. Античное наследие и культура раннего средневековья. — М., 1989. — С. 51.
(обратно)212
Аверинцев С. С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью // Из истории культуры средних веков и Возрождения. — М„ 1976. — С. 17–64.
(обратно)213
Августин Аврелий. Исповедь. — М., 1997. — С. 170.
(обратно)214
Библер В. С. Мышление как творчество: введение в логику мысленного диалога. — М., 1975. — С. 57.
(обратно)215
Попов П. С., Стяжкин Н. И. Развитие логических идей — от античности до эпохи Возрождения. — М., 1974. — С. 193.
(обратно)216
Юнг К. — Г. Психология и алхимия. — К., 1994. — С. 41.
(обратно)217
Фигуровский Н. А. Очерк общей истории химии. — М., 1969. — С. 107.
(обратно)218
Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. — М., 1977. — С. 150–182.
(обратно)219
Ж ле Гофф. Цивилизация средневекового Запада. — М., 1992. — С. 325.
(обратно)220
Гайденко П. П. Бытие и разум // Вопросы философии. — 1997. — № 5. — С. 136.
(обратно)221
Баткин JI. М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. — М., 1990. — С. 6.
(обратно)222
Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978. — С. 242.
(обратно)223
Первоначальный вариант раздела был опубликован в виде статьи под названием «Рациональный капитализм: между мифом и реальностью» в журнале «Социология: теория, методы, маркетинг», 1999, № 2. Печатается с изменениями.
(обратно)224
Мамардашвили М. К. Мысль под запретом (Беседы с А. Эпельбуэн) // Вопросы философии. — 1992. — № 5. — С. 110.
(обратно)225
Вебер М. Избранные произведения. — М., 1990. — С. 208.
(обратно)226
Вебер М. Избранные произведения. — М., 1990. — С. 369.
(обратно)227
Там же. — С. 379.
(обратно)228
Там же. — С. 374.
(обратно)229
Там же. — С. 376.
(обратно)230
Вебер М. Избранные произведения. — М., 1990. — С. 714.
(обратно)231
Weber М. From Max Weber: Essays in Sociology. — N. Y., 1958. — P. 280.
(обратно)232
См.: Kymyeв П. В. Избирательное сродство в социологии М. Вебера // Социология: теория, методы, маркетинг. — 1999. — № 3.
(обратно)233
Цит. по: Вебер М. Антикритическое послесловие к «Духу капитализма»: Пер. с англ. П. Кутуева // Социология: теория, методы, маркетинг. — 1999. — № 3.
(обратно)234
Вебер М. Избранные произведения. — М., 1990. — С. 90.
(обратно)235
Там же. — С. 97.
(обратно)236
Вебер М. Избранные произведения. — М., 1990. — С. 121.
(обратно)237
Там же. — С. 121–122.
(обратно)238
Там же. — С. 146.
(обратно)239
Маркс К. Зкономічно–філософські рукописи 1844 року // Маркс К., Енгельс Ф. З ранніх творів. — К., 1984. — С. 502.
(обратно)240
Munch R. Talcott Parsons and The Theory of Action. Part I. // American Journal of Sociology. — 1981. — Vol. 86. — N 4. — P. 731.
(обратно)241
Маркс К. Економічно–філософські рукописи 1844 року // Маркс К., Енгельс Ф. З ранніх творів. — К., 1984. — С. 520.
(обратно)242
Игнатьев А. А. Ценности науки и традиционное общество // Вопросы философии. — 1991. — № 4. — С. 8. Впрочем для К. Полани становление рыночного общества, т. е. социума, все сферы которого подчиняются логике товарного рынка, было преимущественно деструктивным феноменом (см.: Polaniy К. The Great Transformation. — Boston, 1944).
(обратно)243
См.: Weber М. Sociology of Religion. — Boston, 1963. — P. 250.
(обратно)244
Кстати, образ капитализма, предлагаемый Вебером на последних страницах «Протестантской этики», не так уж отличается своим содержанием от инвектив в адрес этого «способа производства» со стороны И. Валлерстайна.
(обратно)245
См.: Kutuev Р. Development of Ideology and Ideology of Development in Ukraine // Наукові записки Національного університету «Києво–Могилянська академія». Соціологічні науки. — 2003. — Т. 21.
(обратно)246
Гуревич А. Я. Этнология и история в современной французской медиевистике // Советская этнография. — 1984. — № 5. — С. 37, 38.
(обратно)247
Вслед за С. Лэшем, я разделяю понятие «постмодерн», относящееся преимущественно (но не исключительно) к сфере культуры, и более социально–экономически наполненную категорию «постиндустриальное общество» Стоит также заметить, что попытки подчеркнуть «нормальность» развития Японии, нормальность, граничащую с обычностью, которые апеллируют к факту почти одновременного начала индустриализации «страны восходящего солнца» и США, игнорируют все иные составляющие процесса становления модерна (политические, культурные и социальные), а также полностью абстрагируются от предыдущей истории этих стран. Если США возникли в результате революции и «общественного договора», став «первой новой нацией» (С. Липсет), Япония эпохи Мэйдзи–исин была глубоко традиционалистским обществом. Также стоит отметить, что хотя Япония и не была единственной страной, где радикальные социальные изменения начались в форме революции сверху, она стала одной из немногих, добившихся успехов на этом пути. Следует упомянуть тот факт, что для многих исследователей феномен подъема Японии — и, шире, Восточной Азии в целом — является не более чем временным успехом, достигнутым за счет интервенционистской политики бюрократического государства, содействующего развитию (см.: Иноземцев В. Л. Пределы «догоняющего» развития. — М., 2000). Для таких же ученых, как А. Г. Франк и Дж. Арриги, именно Восточная Азия длительное время являлась центром глобальной экономики (вплоть до начала XIX века, согласно последней книге Франка «ПереОРИЕНТация» (см.: Frank A. G. ReORIENT: Global Economy in the Asian Age. — Berkeley, 1998) и лишь теперь восстанавливает исторически присущую ей конкурентоспособность и место в рамках мир–экономики (см.: Arrighi G., Hui Р., Hung Н. К, Selden М. Historical Capitalism, East and West // The Resurgence of East Asia: 500, 150 and 50 year Perspectives / Ed. by G. Arrighi, T. Hamashita, M. Selden. L.; N. Y.: Routledge, 2003). И те, и другие игнорируют роль культурной среды, способствующей или блокирующей распространение «капиталистического вируса» (термин Дж. Арриги).
(обратно)248
См.: Dower J. Embracing Defeat: Japan in the Wake of the World War II. — N. Y., 1999.
(обратно)249
См.: Harootunian H. Overcome by Modernity: History, Culture, and Community in Interwar Japan. — Princeton; Oxford, 2000. He лишним будет подчеркнуть еше раз, что предлагаемые в этом разделе взгляды отнюдь не являются энкомием культурно–детерминистской парадигме объяснения социальных феноменов: структурные факторы в развитии той же Японии часто играли ключевую роль. Например, Первая мировая война стала для Японии периодом подъема, обеспеченного временным устранением ее конкурентов, занятых боевыми действиями в Европе. Следующая мировая война воспринималась японскими интеллектуалами одновременно как внешняя — ее цель формулировалась как избавление от преобладания англо–американской мощи — и внутренняя, направленная на излечение японского духа, зараженного модерной цивилизацией (см.: Harootunian Н. Overcome by Modernity: History, Culture, and Community in Interwar Japan. — Princeton; Oxford, 2000. — P. 35).
(обратно)250
Подробнее см.: Карелова JI. П. Философское учение Исиды Байгана — основателя школы «Сингаку» : Автореф. дис…. канд. философ, наук. — М., 1990.
(обратно)251
См.: Грушевський М. Історія України–Руси: В 11 т. — К., 1997. — Т. 9. — Ч. 2. — С. 1496.
(обратно)252
Чаадаев П. Я. Философические письма. Письмо шестое // Статьи и письма. — М. 1989. — С. 118.
(обратно)253
См.: Песков А. М. Германский комплекс славянофилов // Вопросы философии. — 1992. — № 2.
(обратно)254
Jowitt К. New World Disorder. — Berkeley, 1993.
(обратно)255
Рено Ф., Даже С. Африканские рабы в далеком и недавнем прошлом. — М., 1991. — С. 188.
(обратно)256
Кобищанов Ю. М. История распространения ислама в Африке. — М., 1987; Ислам в Западной Африке. — М., 1988.
(обратно)257
Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації: соціокультурний розвиток людства. — К., 1996. — С. 322–326; Его же. История мировой цивилизации: Философский анализ. — К., 2002. — С. 595–600.
(обратно)258
История Латинской Америки. Доколумбова эпоха — 70‑е годы XIX века. — М., 1991. — С. 78.
(обратно)259
Васильев Л. С. Феномен власти–собственности // Типы общественных отношений на Востоке в средние века. — М., 1982. — С. 60–99; Васильев Л. С. Традиционный Восток и марксистский социализм // Феномен восточного деспотизма. — М., 1993. — С. 143–176.
(обратно)260
Медведев И. П. Византийский гуманизм XIV–XV вв. — Л., 1976.
(обратно)261
Секуляризація духовного життя на Україні в епоху гуманізму та Реформації. — К., 1991; Ульянівський В. І. Історія церкви та релігійної думки в Україні. У 3‑х книгах. Кн. 2. — К., 1994; Любащенко В. Історія протестантизму в Україні. — Львів, 1995.
(обратно)262
Українське літературне барокко. — К., 1987; Світ українського барокко. — К., 1988; Українське барокко та європейський контакт. — К., 1991; Попович М. Нарис історії культури України. — К., 1998.
(обратно)263
Русское искусство, барокко. — М., 1977.
(обратно)264
Полный православный богословский энциклопедический словарь. В 2‑х томах. (Без гор. и года изд.). — Т. 1. — С. 328, 329.
(обратно)265
Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека // Бердяев Н. А. Царство духа и царство кесаря. — М., 1995. — С. 51.
(обратно)266
Колесов М. С. Философия и культура Латинской Америки. — Симферополь, 1991. — С. 8.
(обратно)267
Франк С. Л. С нами Бог // Франк С. Л. Духовные основы общества. — М., 1992. — С. 226.
(обратно)268
Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. — М. : Наука, 1988. — С. 88.
(обратно)269
Тойнбі А. Дж. Дослідження історії. В 2‑х томах. — К., 1995. — Т. 2. — С. 215–220.
(обратно)270
Камю А. Бунтующий человек. — М., 1990. — С. 130.
(обратно)271
Бердяев Н. А. Судьба человека в современном мире // Бердяев Н. А. Философия свободного духа. — М., 1994. — С. 399, 400.
(обратно)272
Франк С. Л. Свет во тьме. Опыт христианской этики и социальной философии // Франк С. Л. Духовные основы общества. — М., 1992. — С. 408.
(обратно)273
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм: XV–XVIII вв. В 3‑х томах. — Т. 3. — М., 1992. — С. 550–551.
(обратно)274
Кульпин Э. С. Человек и природа в Китае. — М., 1990. — С. 157–165.
(обратно)275
Илюшочкин В. П. Крестьянская война тайпинов. — М., 1967.
(обратно)276
Васильев Л. С. История Востока. В 2‑х томах. — М., 1993. — Т. 1. — С. 43.
(обратно)277
Петров А. М. Внешняя торговля древней и средневековой Азии в отечественном востоковедении // Исторические факторы общественного воспроизводства в странах Востока. — М., 1986. — С. 67–89; Петров А. М. Новые задачи старинной науки и некоторые материалы к изучению экономической истории Востока // Народы Азии и Африки. — 1989. — № 2. — С. 47–60.
(обратно)278
Зарин В. А. Запад и восток в мировой истории XIV–XIX вв. Западные концепции общественного развития и становления мирового рынка. — М., 1991. — С. 115.
(обратно)279
Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. — М, — СПб., 1995. — С. 155–195; Тойнбі А. Дж. Дослідження історії. В 2‑х томах. — К., 1995. — Т. 2. — С. 140–223.
(обратно)280
Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. — М., 1990. — С. 7.
(обратно)281
Чаадаев П. Я. Философические письма. Письмо первое // Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. В 2‑х томах. — М., 1991. — Т. 1. — С. 320–339.
(обратно)282
Данилевский Н. Я. Россия и Европа. — М., 1991. — С. 53.
(обратно)283
Данилевский Н. Я. Сборник политических и экономических статей. — СПб., 1890. — С. 44.
(обратно)284
Шпенглер О. Человек и техника // Культурология. XX век. Антология. — М., 1995. — С. 486, 487.
(обратно)285
Там же. — С. 491.
(обратно)286
Шпенглер О. Человек и техника // Культурология: XX век. Антология. — М., 1995. — С. 491.
(обратно)287
Вебер А. Германия и кризис европейской культуры // Культурология: XX век. Антология. — М., 1995. — С. 282.
(обратно)288
Там же. — С. 289–290.
(обратно)289
Ленин В. И. Социалистическая революция и право наций на самоопределение // Ленин В. И. Полн. собр. соч. (5‑е изд.). — Т. 27. — М., 1973. — С. 261.
(обратно)290
Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. — М. — СПб., 1995. — С. 31.
(обратно)291
Фокуяма Ф. Конец истории? // Философия истории. Антология. — М., 1995. — С. 307, 308.
(обратно)292
Кульпин Э. С. Бифуркация Запад–Восток. — М., 1996. — С. 154.
(обратно)293
Вебер А. Германия и кризис европейской культуры // Культурология: XX век. Антология. — М., 1995. — С. 290.
(обратно)294
Тоффлер О. Эра смещения власти // Философия истории. Антология. — М., 1995. — С. 333.
(обратно)295
Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека // Бердяев Н. А. Царство Духа и царство Кесаря. — М„ 1995. — С. 24, 25.
(обратно)296
Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека // Бердяев Н. А. Царство Духа и царство Кесаря. — М„ 1995. — С. 103.
(обратно)297
Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека // Бердяев Н. А. Царство Духа и царство Кесаря. — М., 1995. — С. 103.
(обратно)298
Dauphin R. Le defi d’une nouvelle gauhe frangaise. — Paris, 1980. — P. 101.
(обратно)299
Захарова Л. Г. Россия на переломе // История отечества: люди, идеи, решения. — М„ 1991. — С. 321.
(обратно)300
Л. Н. Косыгин, выступая в свое время перед работниками материально–технического снабжения, с горечью говорил о том, что если в странах капитала любая щель в виде нехватки товаров мгновенно «зашивается», ибо все бросается в сторону спроса, то у нас наоборот — образовавшаяся щель довольно быстро превращается в пропасть.
(обратно)301
Франк С. Л. Свет во тьме. Опыт христианской этики и социальной философии // Франк С. Л. Духовные основы общества. — М., 1992. — С. 414.
(обратно)302
Бердяев Н. А. Судьба человека в современном мире // Бердяев Н. А. Философия свободного духа. — М., 1994. — С. 321.
(обратно)303
Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. 6‑е изд. СПб., 1906. — Т. 4. — С. 105.
(обратно)304
Бердяев Н. А. Дух и реальность. Опыт богочеловеческой духовности // Бердяев Н. А. Философия свободного духа. — М., 1994. — С. 423.
(обратно)305
Маркузе Г. Одномерный человек. — М., 1994. — С. 25.
(обратно)306
Зиновьев А. А. Запад. Феномен западнизма. — М., 1995. — С. 335–337.
(обратно)307
Бердяев Н. А. Философия свободного духа // Бердяев Н. А. Философия свободного духа. — М., 1994. — С. 149.
(обратно)308
Бердяев Н. А. Дух и реальность. Опыт богочеловеческой духовности // Бердяев Н. А. Философия свободного духа. — М., 1994. — С. 398.
(обратно)309
Шпенглер О. Человек и техника // Культурология. XX век. Антология. — М., 1995. — С. 487.
(обратно)310
Хайдеггер М. Вопрос о технике // Хайдеггер М. Время и бытие. — М., 1993. — С. 221–238; См. также: Хесле В. Философия техники М. Хайдеггера // Философия М. Хайдеггера и современность. — М., 1991. — С. 138–154.
(обратно)311
Маркузе L Одномерный человек. — М., 1994. — С. 36.
(обратно)312
Almond G. A Discipline Divided. — L., 1990. — Р. 219–262.
(обратно)313
Taylor J. From Modernization to Modes of Production. — L., 1979.
(обратно)314
См.: Кутуев П. В. Раціональний капіталізм в Україні: між міфом і реальністю // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 1999. — № 2; Kutuev Р. V. Democracy, State and Development: The Case of the Post–Leninist Ukraine // Наукові записки Національного університету «Києво–Могилянська Академія». Соціологія. — 1999; Kutuev Р. V. Between Modernity and Neopatrimonialism: The Development of the State and Political Society in Contemporary Ukraine // Наукові записки Національного університету «Києво–Могилянська Академія». Політологія. — 2001. — Т. 19, Кутуєв П. В. Час і суспільна модернізація: випадок ленінізму // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2002. — № 1.
(обратно)315
Almond G. Introduction: A Functional Approach to Comparative Politics // The Politics of the Developing Areas. — Princeton, 1960 — P. VII.
(обратно)316
П. Кеннеди предлагает блестящий анализ составляющих такого статуса и условий его достижения, сохранения и потери: Kennedy Р The Rise and Fall of Great Powers. — L., 1989.
(обратно)317
Цит. по: Kennedy Р. The Rise and Fall of Great Powers, — L., 1989. — P. 479.
(обратно)318
Ibid.
(обратно)319
См.: Mazuri A. A. From Social Darwinism to Current Theories of Modernization // World Politics. — 1969. — Vol. 21. — № 1. — P. 71.
(обратно)320
Rostow W. W. Countering Guerilla Attack // Modem Guerilla Warfare / Ed. by F. M. Osanka. — N. Y., 1962. — P. 471.
(обратно)321
Гірц К. Інтерпретація культур. — К., 2001. — С. 254.
(обратно)322
Там же. — С. 259.
(обратно)323
Parsons Т., Shils Е. Toward a General Theory of Action. — L., 2001. — P. 79.
(обратно)324
Levy M. The Family Revolution in Modern China. — Cambridge, 1949.
(обратно)325
Levy М. Modernization and the Structure of Societies. — Princeton, 1966. — P. 19.
(обратно)326
Frisby D. Fragments of Modernity. — Cambridge, 1986. — P. 2.
(обратно)327
Marx К. The Future Results of British Rule in India // Marx–Engels Reader / Ed. by R. Tucker. — L.; N. Y., 1978. — P. 659.
(обратно)328
Marx K. The British Rule in India // Marx–Engels Reader // Ed. by R. Tucker. — L.; N. Y., 1978. — P. 654, 655.
(обратно)329
Huntington S. Political Development and Political Decay // World Politics. — 1965. — Vol. 17. — N 3. — P. 392, 393.
(обратно)330
Weber М. Economy and Society. — Berkeley, 1978. — P. 19.
(обратно)331
The Guardian. — 2001. — 7 October.
(обратно)332
Brzezinski Z. The Soviet Political System: Transformation or Degeneration? // Problems of Communism. — 1966 — Vol. 15. — N 1.
(обратно)333
Зеленько Г. «Навздогінна модернізація»: досвід Польщі та України. — К., 2003.
(обратно)334
Almond G. A Discipline Divided. — L., 1990. — Р. 220.
(обратно)335
Huntington S. Political Order in Changing Societies. — New Haven, 1968.
(обратно)336
Huntington S. The Change to Change: Modernization, Development, and Politics // Comparative Modernization / Ed. by C. Black. — N. Y., 1976. — P. 39.
(обратно)337
Ibid. — P. 30.
(обратно)338
Deutsch К. Social Mobilization and Political Development // American Political Science Review. — 1961. — Vol. 55. — N 3. — P. 494.
(обратно)339
Huntington S. Political Order in Changing Societies. — New Haven, 1968. — P. 101.
(обратно)340
Ibid. — P. 342.
(обратно)341
Ibid. — P 95.
(обратно)342
Ibid. — P. 89.
(обратно)343
Huntington S. Political Order in Changing Societies. — New Haven, 1968. — P. 79.
(обратно)344
Huntington S. The Bases of Accommodation // Foreign Affairs. — 1968. — Vol. 46. — N 4. — P. 644.
(обратно)345
Huntington S. Political Order in Changing Societies. — New Haven, 1968. — P. 264.
(обратно)346
Ibid. — P. 119.
(обратно)347
Этот раздел был опубликован как статья: Кутуев П. В. Зависимость, недоразвитие и кризис в социологии развития недоразвития А. Г. Франка: критический анализ // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2003. — № 4.
(обратно)348
Burawoy М.,Krotov Р. The Soviet Transition From Socialism to Capitalism // American Sociological Review. — 1992. — Vol. 57. — N 1; Burawoy The State and Economic Involution: Russia Through China Lens // World Development. — 1996. — Vol. 24. — N 6; Nolan P. China’s Rise, Russia’s Fall // Journal of Peasant Studies. — 1996/1997. — Vol. 24. — N 1–2.
(обратно)349
Давыдов Ю. Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология. — М., 1998. — С. 281.
(обратно)350
См.: Левада Ю. Фашизм // Философская энциклопедия: В 5 т. — М., 1970. — Т. 5 — С. 307.
(обратно)351
См.: Weber’s «Protestant Ethic»: Origin, Evidence, Context / Ed. by H. Lehmann, G. Roth. — Cambridge, 1993. — P. 29, 30.
(обратно)352
Dos Santos Т. The Structure of Dependence // Development and Underdevelopment: The Political Economy of Global Inequality. — 2nd edition / Ed. by M. A. Seligsin, J. T. Passe–Smith. — Boulder; L., 1998. — P. 252.
(обратно)353
Dos Santos Т. Latin American Underdevelopment: Past, Present, and Future // The Underdevelopment of Development / Ed. by S. C. Chew, R. A. Denemark. — L., 1996. — P. 154.
(обратно)354
Chirot D. Changing Fashions in the Study of the Social Causes of Economic and Political Change // The State of Sociology / Ed. by J. Short. — Beverly Hills, 1981. — P. 259, 260.
(обратно)355
См., напр.: Herzfeld M. The Social Production of Indifference. — N. Y.; Oxford, 1992.
(обратно)356
Gusfield J. R. Tradition and Modernity: Misplaced Polarities in the Study of Social Change // American Journal of Sociology. — 1967. — Vol. 72. — N 4.
(обратно)357
Frank A. G. Latin America: Underdevelopment or Revolution. — L.; N. Y., 1969. — P. 26.
(обратно)358
Baran P. On the Political Economy of Backwardness // The Economics of Underdevelopment / Ed. by A. N. Agarwala, S. P. Singh. — N. Y., 1963. — P. 76.
(обратно)359
Цит. по : Kennedy Р. The Rise and Fall of Great Powers. — L., 1989. — P. 194.
(обратно)360
Ibid. — P. 190.
(обратно)361
Baran P. The Political Economy of Growth. — N. Y., 1957.
(обратно)362
Bagchi A. K. The Past and the Future of the Developmental State // Journal of World–Systems Research. — 2000. — Vol. 6. — N 2. — P. 428.
(обратно)363
Frank A. G. Dependence Is Dead, Long Live Dependence and the Class Struggle: An Answer to Critics // World Development. — 1977. — Vol. 5. — N 4.
(обратно)364
Frank A. G. Dependence Is Dead, Long Live Dependence and the Class Struggle: An Answer to Critics // World Development. — 1977. — Vol. 5. — N 4. — P. 6.
(обратно)365
Frank A. G. Latin America: Underdevelopment or Revolution. — L.; N. Y., 1969. — P. 13.
(обратно)366
Ibid.
(обратно)367
Frank A. G. Dependence Is Dead, Long Live Dependence and the Class Struggle: An Answer to Critics // World Development. — 1977. — Vol. 5. — N 4. — P. 358.
(обратно)368
Ibid. — P. 357.
(обратно)369
Frank A. G. Crisis: In the Third World. — N. Y.; L., 1981. — P. 9.
(обратно)370
Frank A. G. Crisis: In the Third World. — N. Y.; L., 1981. — P. 1, 2.
(обратно)371
Ibid.
(обратно)372
Frank A. G. Crisis: In the Third World. — N. Y.; L., 1981. — P. 10.
(обратно)373
Цит. no: Frank A. G. Crisis: In the Third World. — N. Y.; L., 1981. — P. 63.
(обратно)374
Ibid. — P. 132.
(обратно)375
Подробнеее об этой связи см.: Кутуєв П. В. Чи потрібен розвиток після розвитку? Дискурс построзвитку в західній соціології розвитку і модернізації // Мультиверсум — 2003. — Вип. 32.
(обратно)376
Escobar A. Encountering Development. — Princeton, 1995. — Р. 102.
(обратно)377
Frank A. G. Crisis: In the Third World. — N. Y.; L., 1981. — P. 87.
(обратно)378
Frank A. G. Crisis: In the Third World. — N. Y.; L., 1981. — P. 74.
(обратно)379
Ibid. — P. 96.
(обратно)380
Ibid. — P. 98.
(обратно)381
Frank A. .G. Crisis: In the Third World. — N. Y.; L„ 1981. — P. 104.
(обратно)382
Цит no: Ibid. — P.196.
(обратно)383
Маркс К. Капитал. — M„ 1988. — Т. 1. — С. 342.
(обратно)384
Dos Santos Т. Latin American Underdevelopment: Past, Present, and Future // The Underdevelopment of Development / Ed. by S. C. Chew, R. A. Denemark. — L., 1996. — P. 162.
(обратно)385
Frank A. G. Crisis: In the Third World. — N. Y.; L., 1981. — P. 239.
(обратно)386
Цит. no.: Ibid. — P. 242.
(обратно)387
Цит. по: Frank A. G. Crisis: In the Third World. — N. Y.; L., 1981. — P. 318.
(обратно)388
Ibid.
(обратно)389
Frank A. G. The Underdevelopment of Development // The Underdevelopment of Development / Ed. by S. C. Chew, R. A. Denemark. — L., 1996. — P. 35.
(обратно)390
См.: Kutuev P. The Development of Ideology and Ideology of Development in Ukraine // Наукові записки Національного університету «Києво–Могилянська академія». Соціологія. — 2003. — Т. 21.
(обратно)391
Основные положения этого раздела опубликованы ранее в форме статьи: Кутуев П. В. Методологические основы мир–системного анализа: парадигма И. Валлерстайна и его школы // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2003. — № 1.
(обратно)392
См.: Social Theory Today / Ed. by A. Giddens and J. Turner. — Stanford : Stanford University Press, 1987.
(обратно)393
Honneth A. Critical Theory // Social Theory Today / Ed. by A. Giddens and J. Turner. — Stanford: Stanford University Press, 1987.
(обратно)394
Ibid.
(обратно)395
Согласно собственной формулировке И. Валлерстайна «национальное развитие… является иллюзорной концепцией в рамках капиталистической мировой экономики» (Wallerstein /. Geopolitics and Geoculture. — Cambridge : Cambridge University Press, 1992. — P. 97).
(обратно)396
Lukacs D. History and Class Consciousness. — London : Merlin Press, 1968. — P. 27.
(обратно)397
Детальнее см.: Кутуєв П. В. Парадигма держави, що стимулює розвиток: концептуальний аналіз // Наукові записки Національного університету «Києво–Могилянська Академія». Соціологія. — 2002. — Т. 20.
(обратно)398
Кутуєв П. В. Раціональний капіталізм в Україні: між міфом і реальністю // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 1999. — № 2; Кутуєв П. В. Пролегомени до політичної соціології ленінізму // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2000. — № 4; Kutuev Р. V. Democracy, State and Development: The Case of the Post–Leninist Ukraine // Наукові записки Національного університету «Києво–Могилянська Академія». Соціологія. — 1999. — Т. 11; Kutuev P. V. Cultural Tradition and Socio–economic Dynamics: Weberian Perspective on Capitalism and Modernity in Ukraine // Наукові записки Національного університету «Києво–Могилянська Академія». Соціологія. — 2000. — Т. 18.
(обратно)399
Frank A. G. Capitalism and Underdevelopment. — New York : Monthly Review Press, 1967.
(обратно)400
Eisenstadt S. N. Modernization, Protest and Change. — Englewood Cliffs: Pretince Hall, 1966. — P. 1.
(обратно)401
Wallerstein I. World–systems Analysis // Social Theory Today / Ed. by A. Giddens and J. Turner. — Stanford : Stanford University Press, 1987. — P. 309.
(обратно)402
Маркс КЭнгельс Ф. Немецкая идеология. — М., 1988. — С. 20.
(обратно)403
Wallerstein L. World–systems Analysis // Social Theory Today / Ed. by A. Giddens and J. Turner. — Stanford : Stanford University Press. 1987. — P. 313.
(обратно)404
Ibid. — P.315.
(обратно)405
Wallerstein I. The Modem World System. — San Diego : Academic Press, 1974. — Vol. 1: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World–Economy in the Sixteenth Century — P. 347.
(обратно)406
Wallerstein I. World–systems Analysis // Social Theory Today / Ed. by A. Giddens and J. Turner. — Stanford : Stanford University Press, 1987. — P. 317.
(обратно)407
Ibid.
(обратно)408
Wallerstein I. The Modem World System. — San Diego : Academic Press, 1974. — Vol. 1: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World–Economy in the Sixteenth Century. — P. 16.
(обратно)409
Wallerstein I. World–systems Analysis // Social Theory Today / Ed. by A. Giddens and J. Turner. — Stanford : Stanford University Press, 1987. — P. 318.
(обратно)410
Wallerstein I. The Modern World System. — San Diego : Academic Press, 1974. — Vol. 1: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World–Economy in the Sixteenth Century. — P. 348.
(обратно)411
Wallerstein I. The Capitalist World–Economy. — Cambridge: Cambridge University Press, 1979. — P. 15.
(обратно)412
Wallerstein I. World–systems Analysis // Social Theory Today / Ed. by A. Giddens and J. Turner. — Stanford : Stanford University Press, 1987. — P. 319.
(обратно)413
Ibid. — P. 321.
(обратно)414
Wallenstein I. World–systems Analysis // Social Theory Today / Ed. by A. Giddens and J. Turner. — Stanford : Stanford University Press, 1987. — P. 324.
(обратно)415
Ibid. — P. 49.
(обратно)416
Wallenstein I. World–systems Analysis // Social Theory Today / Ed. by A. Giddens and J. Turner. — Stanford : Stanford University Press, 1987. — P. 52.
(обратно)417
Wallerstein I. The Capitalist World–Economy. — Cambridge : Cambridge University Press, 1979. — P. 25, 26.
(обратно)418
Ibid. — P. 273.
(обратно)419
Wallerstein I. The Capitalist World–Economy. — Cambridge : Cambridge University Press, 1979. — P. 97.
(обратно)420
Wallerstein I. The Modern World System. — San Diego : Academic Press, 1989. — Vol. 3: The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World–Economy, 1730–1840s — P. 38.
(обратно)421
Wallerstein I. The Capitalist World–Economy. — Cambridge : Cambridge University Press, 1979. — P. 240.
(обратно)422
См.: Гайденко В. П., Смирнов Г. А. Западноевропейская наука в средние века. — М., 1989.
(обратно)423
Alexander J. С. Formal and Substantive Voluntarism in the Work of Talcott Parsons: A Theoretical and Ideological Reinterpretation // American Sociological Review. — 1978. — Vol. 43. — N 2. — P. 77.
(обратно)424
Парсонс T. О структуре социального действия. — М.: Академический Проект, 2000. — С. 273.
(обратно)425
Krasner S. Approaches to the State // Comparative Politics. — 1984. — Vol. 16. — № 2. — C. 223.
(обратно)426
Wallerstein I. Geopolitics and Geoculture. — Cambridge : Cambridge University Press, 1992. — P. 97. Обстоятельнее про мир–системный анализ и его использование к постленинскому контексту см.: Kutuev Р. V. Ukrainian Post–Leninist Transformation From the World–System Perspective // Наукові записки Національного університету «Києво–Могилянська Академія». Соціологія. — 2001. — Т. 19.
(обратно)427
Parsons Т. Introduction // Weber М. Sociology of Religion. — Boston : Beacon, 1963. — P. 71.
(обратно)428
Ibid. — P. 70.
(обратно)429
Inkeles A., Smith D. Becoming Modern. — Cambridge : Harvard University Press, 1974. — P. 160.
(обратно)430
Skocpol T. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China. — Cambridge : Cambridge University Press, 1979. — P. 18.
(обратно)431
Цит. по: Stepan A. The State and Society: Peru in Comparative Perspective. — Princeton: Princeton University Press, 1978. — P. 7, 8.
(обратно)432
Offe С. Varieties of Transition: The East European and East German Perspective. — Cambridge : MIT Press, 1997. — P. 39.
(обратно)433
Wallerstein I. The Capitalist World Economy. — Cambridge : Cambridge University Press, 1993. — P. 97.
(обратно)434
Polanyi K. The Great Transformation. — N. Y.; Boston : Beacon, 1957.
(обратно)435
Rueschemeyer D., Evans P. The State and Economic Transformation: Toward an Analysis of Conditions Underlying Effective Intervention // Bringing the State Back In / Ed. by P. Evans, D. Rueschemeyer and T. Skocpol. — Cambridge : Cambridge University Press, 1985. — P. 45.
(обратно)436
Rueschemeyer D., Evans Р. The State and Economic Transformation: Toward an Analysis of Conditions Underlying Effective Intervention // Bringing the State Back In / Ed. by P. Evans, D. Rueschemeyer and T. Skocpol. — Cambridge : Cambridge University Press, 1985. — P. 47.
(обратно)437
Sayer D. A Notable Administration: English State Formation and the Rise of Capitalism // American Journal of Sociology. — 1992. — Vol. 97. — N 5. — P. 1411.
(обратно)438
Cardoso F. H. On the Characterization of Authoritarian Regimes in Latin America // The New Authoritariansim in Latin America / Ed. by D. Collier. — Princeton : Princeton University Press, 1979. — P. 51.
(обратно)439
Rueschemeyer Z)., Evans P. The State and Economic Transformation: Toward an Analysis of Conditions Underlying Effective Intervention // Bringing the State Back In / Ed. by P. Evans, D. Rueschemeyer and T. Skocpol. — Cambridge : Cambridge University Press, 1985. — P. 47.
(обратно)440
Ленин В. И. Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве // Избр. соч.: В 10 т. — М., 1984. — Т. 1. — С. 272, 273.
(обратно)441
Кутуєв П. В. Концепція вибіркової спорідненості в соціології Макса Вебера // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 1999. — № 3. — С. 136–148.
(обратно)442
Kutuev Р. V. Democracy, State and Development: The Case of the Post–Leninist Ukraine // Наукові записки Національного університету «Києво–Могилянська Академія». Соціологія. — 1999. — Т. 11. — С. 4–12; Kutuev Р. V. Cultural Tradition and Socio–economic Dynamics: Weberian Perspective on Capitalism and Modernity in Ukraine // Наукові записки Національного університету «Києво–Могилянська Академія». Соціологія. — 2000. — Т. 18. — С. 4–10.
(обратно)443
Kutuev Р. V. Public Service Ethos in Ukraine // Professionalization of Public Servants in Central and Eastern Europe / Edited by J. Jabes. — Bratislava and Tallinn: NISPAcee, 1997. — P. 94–100.
(обратно)444
Rueschemeyer D., Evans Р. The State and Economic Transformation: Toward an Analysis of Conditions Underlying Effective Intervention // Bringing the State Back In / Ed. by P. Evans, D. Rueschemeyer and T. Skocpol. — Cambridge : Cambridge University Press, 1985. — P. 48, 49.
(обратно)445
Ibid. — P. 57.
(обратно)446
Yarrow G. Privatization in Theory and Practice // Economic Policy. — 1986. — Vol. 1. — N 2. — P. 364.
(обратно)447
Rueschemeyer D., Evans Р. The State and Economic Transformation: Toward an Analysis of Conditions Underlying Effective Intervention // Bringing the State Back In / Ed. by P. Evans, D. Rueschemeyer and T. Skocpol. — Cambridge : Cambridge University Press, 1985. — P. 66.
(обратно)448
Mann М. The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results // Mann M. States, War and Capitalism: Studies in Political Sociology. — Oxford; Cambridge: Blackwell, 1988. — P. 7.
(обратно)449
Evans P. Transnational Linkages and the Economic Rile of the State: An Analysis of Developing and Industrialized Nations in the Post–World War II Period // Bringing the State Back In / Ed. by P. Evans, D. Rueschemeyer and T. Skocpol. — Cambridge : Cambridge University Press, 1985. — P. 202.
(обратно)450
Strange S. The New World of Debt// New Left Review. — 1998. — № 230. — P. 91–114.
(обратно)451
Evans P. Transnational Linkages and the Economic Rile of the State. — P. 205.
(обратно)452
Ibid.
(обратно)453
Rueschemeyer D.,Puttrman L. Synergy or Rivalry? // State and Market in Development: Synergy or Rivalry? / Ed. by L. Puttrman and D. Rueschemeyer. — Boulder and London : Lynne Rienner Publishers, 1992. — P. 256.
(обратно)454
Ibid. — P. 256, 257.
(обратно)455
Nove A. Some Thoughts on Plan and Market // State and Market in Development: Synergy or Rivalry? / Ed. by L. Puttrman and D. Rueschemeyer. — Boulder and London : Lynne Rienner Publishers, 1992. — P. 44.
(обратно)456
Ibid. — P. 45.
(обратно)457
Kubicek Р. Post–Soviet Ukraine: In Search of a Constituency for Reform // Journal of Communist Studies and Transition Politics. — Vol. 13. — N 3. — P. 111, 112.
(обратно)458
Україна: поступ у 21 століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000–2004 рр. Послання Президента України до Верховної Ради України // Урядовий кур’єр. — 2000. — 28 січня. — С. 7.
(обратно)459
Цыганков П. А. Теория международных отношений. — М., 2002. — С. 95.
(обратно)460
Арон Р. Мир і війна між націями. — К., 2000. — С. 312.
(обратно)461
Kaplan М. System and Process in International Politics. — New York, 1957. — P. 502.
(обратно)462
Хрусталев M. А. Системное моделирование международных отношений. — М., 1988. — С. 202.
(обратно)463
Мальський М. З., Мацях М. М. Теорія міжнародних відносин. — Львів, 2002. — С. 345.
(обратно)464
Мальский М. З., Мацях М. М. Указ. соч. — С. 347.
(обратно)465
Nye J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. — N. Y., 1990. — P. 120.
(обратно)466
Каплан M. Система и процесс в международной политике // Теория междунар. отношений. — М., 2002. — С. 91.
(обратно)467
Янг О. Политические разрывы в международной системе // Там же. — С. 213.
(обратно)468
Современные международные отношения. — М., 2000. — С. 77.
(обратно)469
Цыганков П. А. Теория международных отношений. — М., 2002. — С. 98.
(обратно)470
Поршнев Б. Ф. Франция, английская революция и европейская политика в сер. XVII в. — М., 1970. — С. 10.
(обратно)471
Мировая политика. — М. : Аст Пресс, 2003. — С. 99.
(обратно)472
Мировая политика: теория и практика. — М., 1997. — С. 202.
(обратно)473
Мировая политика: теория и практика. — М., 1997. — С. 47.
(обратно)474
Мировая политика. — С. 109.
(обратно)475
Грум Дж. Растущее многообразие международных факторов // Междунар. отношения: социод. подходы. — М., 1998. — С. 228.
(обратно)476
Иявалдин В. Б. Глобализация: рождение мегаобщества // Постиндустр. мир. и Россия. — М., 2001. — № 1. — С. 38.
(обратно)477
Мировая политика. — С. 114.
(обратно)478
Фергюсон Й. Глобальное общество в конце 20 столетия // Междунар. отношения: социол. подходы. — М., 1998. — С. 200.
(обратно)479
Мадіссон В. В., Шахов В. Л. Політологія міжнародних відносин. — К., 1997. — С. 83.
(обратно)480
Кузнецов В. Что такое глобализация? // Мировая экономика и междунар. отношения. — 1998. — № 2. — С. 17.
(обратно)481
Кулагин В. М. Мир в XXI в.: многополюсный баланс сил или глобальный Рах Democratica (Гипотеза демократического мира в контексте альтернатив мирового развития) // Полис. — 2000. — № 1. — С. 32.
(обратно)482
Лебедева М. М., Мельвилъ А. Ю. «Переходный возраст» современного мира // Междунар. жизнь. — 1999. — № 10. — С. 78.
(обратно)483
Мировая политика. — С. 140.
(обратно)484
Никитченко А. Н. Транснационализация демократии: Третья волна демократизации в свете теории международных отношений // Космополис: Альманах. — М., 1997. — С. 125.
(обратно)485
Сморгунов Л. В. Изучение «третьей волны» демократизации в сравнительной политологии // Космополис: Альманах. — М., 1999. — С. 30.
(обратно)486
Кулагин В. М. Цит. работа. — С. 34.
(обратно)487
Мировая политика. — С. 141.
(обратно)488
Бансарт А. Два определения // Латинская Америка. — 1997. — № 1. — С. 21.
(обратно)489
Dallanegra Pedraza L., Sosa A. J. Rol de Argentina en el marco del Mercado del Cono Sur // página Web de Dallanegra Pedraza L. Politica International, Debates //
(обратно)490
Dallanegra Pedraza L. El imperativo de la integración latinoamericana. Integración solución, integración problema // página Web de Dallanegra Pedraza L. Politica International, Debates //
(обратно)491
Parlamentos Regionales y Foros Parlamentarios — Guía Inforrativa‑XXVIII Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano Caracas, Venezuela 7–9 de abril de 2003 // Pagina oficial del Sistema Economico Latinoamericano, Publicaciones de Secretaria Permamente del SELA // /~sela
(обратно)492
Левыкин Э. В. Концепции экономической интеграции // Внешнеполит. доктрины и концепции стран Латинской Америки. — М., 1980. — С. 156.
(обратно)493
Там же. — С. 157.
(обратно)494
Dallanegra Pedraza L. Integracion Latinoamericana: lo que los Latinoamericanos. No Hacen // página Web de Dallanegra Pedraza L., Politica International, Debates //
(обратно)495
Dallanegra Pedraza L. El imperativo de la integración latinoamericana. Integración solución, integración problema // página Web de Dallanegra Pedraza L., Politica International, Debates //
(обратно)496
Dallanegra Pedraza L. Relaciones Argentina, Brasil, EUA: Integración о Subordinación? // Revista de Geopolitica «Limes», Italia, Septiembre del 2003. — P. 36.
(обратно)497
Dallanegra Pedraza L. Relaciones Argentina, Brasil, EUA: Integración o Subordinación? // Revista de Geopolitica «Limes», Italia, Septiembre del 2003. — P. 38.
(обратно)498
Dallanegra Pedraza L. Integración Latinoamericana: Io que los Latinoamericanos. No Hacen // pàgina Web de Dallanegra Pedraza L, Politica International, Debates //
(обратно)499
Dallanegra Pedraza L. El imperativo de la integración latinoamericana. Integraciyn soluciyn, integraciyn problema // pàgina Web de Dallanegra Pedraza L., Politica International, Debates //
(обратно)500
Dallanegra Pedraza L. Integración como integration econòmica // pàgina Web de Dallanegra Pedraza L., Politica International, Debates //
(обратно)501
Dallanegra Pedraza L. Integración corno integración económica // pàgina Web de Dallanegra Pedraza L., Politica Internacional, Debates //
(обратно)502
Кальворосси П. Мировая политика после 1945 года: В 2‑х кн. — М., 2000. — С. 98.
(обратно)503
Бжезинский З. Великая шахматная доска: Господство Америки и его геостратег императивы. — М., 1999. — С. 42.
(обратно)504
Там же. — С. 120.
(обратно)505
Weimer D., Vining A. Policy Analysis: Concepts and Practice. — New Jersey, 1992. — P. 96.
(обратно)506
Янг О. Политические разрывы в международной системе // Теория междунар. отношений. — М., 2002. — С. 227.
(обратно)507
Барабанов О. Н. Глобальное управление и глобальное сотрудничество // Глобализация, человеческое измерение. — М., 2002. — С. 50.
(обратно)508
Nye J. Bond to Lead: The Changing Nature of American Power. — N. Y., 1990. — P. 321.
(обратно)509
Панарин А. С. Философия политики. — М., 1996. — С. 120.
(обратно)510
Мельвиль А. Ю. Опыт теоретико–методологического синтеза структурного и процедурного подходов к демократическим транзитам // Полис. — 1998. — № 2. — С. 32.
(обратно)511
Сергеев В. М. Государственный суверенитет и эволюция системы международных отношений // Космополис. — М., 1999. — С. 27.
(обратно)512
Лазаренко О. В., Лазаренко О. О. Теорія політології. — К., 1996. — С. 82.
(обратно)513
Мадіссон В. В., Шахов В. А. Політологія міжнародних відносин. — К., 1997. — С. 113.
(обратно)514
Фергюсон Й. Глобальное общество в конце 20 столетия // Междунар. отношения: социол. подходы. — М., 1998. — С. 202.
(обратно)515
Сергеев В. М. Государственный суверенитет и эволюция системы международных отношений // Космополис. — М., 1999. — С. 27–31.
(обратно)516
Барабанов О. Н. Цит. соч. — С. 42.
(обратно)517
Мировая политика. — М., 2003. — С. 158.
(обратно)518
Кулагин В. М. Мир в XXI в.: многополюсный баланс сил или глобальный Рах Democratica (Гипотеза демократического мира в контексте альтернатив мирового развития) // Полис. — 2000. — № 1. — С. 60.
(обратно)519
Багиров А. Новые информационные технологии в международных отношениях // Междунар. жизнь. — 2001. — № 8. — С. 92.
(обратно)520
Иявалдин В. Б. Цит. соч. — С. 38.
(обратно)521
Мельвиль А. Ю. Цит. соц. — С. 32.
(обратно)522
Лебедева М. М., Мельвиль А. Ю. «Переходный возраст» современного мира // Междунар. жизнь. — 1999. — № 10. — С. 83.
(обратно)523
Кулагин В. М. Цит. соч. — С. 52.
(обратно)524
Мировая политика, — М., 2003. — С. 310.
(обратно)525
Барабанов О. Н. Цит. соч. — С. 39.
(обратно)526
Никитченко А. Н. Транснационализация демократии… Третья волна демократизации в свете теории международных отношений // Космополис. — М., 1997. — С. 120–137.
(обратно)527
Мировая политика: теория и практика. — М., 1997. — С. 180.
(обратно)528
Актуальные вопросы глобализации: Круглый стол // Мир. экономика и междунар. отношения. — 1999. — № 4. — С. 39, 40.
(обратно)529
Кулагин В. М. Цит. соч. — С. 38–69.
(обратно)530
Мировая политика. — С. 180.
(обратно)531
Никитченко А. Н. Цит. соч. — С. 132.
(обратно)532
Барабанов О. Н. Цит. соч. — С. 39.
(обратно)533
Там же. — С. 42.
(обратно)534
Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. — М., 1999. — С. 130.
(обратно)535
Мировая политика. — С. 410.
(обратно)536
Мировая политика: теория и практика. — С. 180.
(обратно)537
Сморгунов Л. В. Изучение «третьей волны» демократизации в сравнительной политологии. — С. 29.
(обратно)538
Мировая политика. — С. 400.
(обратно)539
Кулагин В. М. Мир в XXI в.: многополюсный баланс сил или глобальный Рах Democratica. — С. 33, 34.
(обратно)540
Мировая политика. — С. 400.
(обратно)541
Nye J. The Paradox of American Power Why the World’s Only Superpower Can’t go it Alone. — Oxford, 2002. — P. 400.
(обратно)542
Барабанов О. H. Цит. соч. — С. 37.
(обратно)543
Шевчук О. Б., Голобуцький О. П. E-Ukraine: Інформаційне суспільство: бути чи не бути. — К., 2001. — 104 с.; Шевчук О. Б., Голобуцький О. П. E-Ukraine : Електронний уряд. — К., 2002. — 173 с.; Голобуцький О. П. та ін. Зелена Україна. — К., 2001. — 146 с.
(обратно)544
Шевчук О. Б. Інформаційно–глобалістичні аспекти «Філософії господарства» С. М. Булгакова // Економіка і прогнозування. — 2003. — № 2.
(обратно)545
Булгаков С. Н. Философия хозяйства. — М., 1990. — С. 39.
(обратно)546
Там же. — С. 89.
(обратно)547
Булгаков С. Н. Философия хозяйства. — М., 1990. — С. 94, 99.
(обратно)548
Бел Д. Прихід постіндустріального суспільства // Сучас. зарубіж. соціальна філософія. — К., 1996. — С. 194–251; Тапскотт Д. Электронно–цифровое общество. — К. : INT-press. — М., 1999. — С. 54–58; Кастельс М. Информационная эпоха. — М., 2000. — С. 50, 51.
(обратно)549
Булгаков С. Н. Цит. соч. — С. 256.
(обратно)550
Моисеев Н. Н. Человек и ноосфера. — М., 1990. — С. 193; Моисеев Н. Н. Информационное общество как этап новейшей истории // Свобод, мысль. — 1996. — № 1. — С. 76–82.
(обратно)551
Булатов М. Ноосфера // Філос. енциклопед. словник. — К., 2002. — С. 433.
(обратно)552
Моисеев Н. Вернадский // Рус. философия : Малый энциклопед. словарь. — М., 1995. — С. 93.
(обратно)553
Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. — М., 1988. — С. 49.
(обратно)554
Там же. — С. 40.
(обратно)555
Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. — М., 1988. — С. 30.
(обратно)556
Там же. — С. 34, 35.
(обратно)557
Там же. — С. 70, 88.
(обратно)558
Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства. — К„ 1996. — С. 119.
(обратно)559
Там же. — С. 183.
(обратно)560
Цит. по: Toffler A. and U. Creating a New Civilization. The Politics of the Third Wave. — Atlanta, 1995 //
(обратно)561
Моисеев H. H. Человек и ноосфера. — С. 193.
(обратно)562
Моисеев Н. Н. Информационное общество как этап новейшей истории. — С. 76–82.
(обратно)563
Моисеев Н. Н. Современный рационализм. — М., 1995. — С. 309.
(обратно)564
Кримський С. Запита філософських смислів. — К., 2003. — С. 170.
(обратно)565
Моисеев Н. Н. Информационное общество как этап новейшей истории. — С. 80.
(обратно)566
Шевчук О. Б., Голобуцький О. П. Цит. соч. — С. 17.
(обратно)567
Bell D. Coming of Post–Industrial Society. — N. Y., 1973.
(обратно)568
Bell D. The Framework of the Information Society. — Oxford, 1980.
(обратно)569
Леонтьев В. Экономические эссе : Теории, исследования, факты и политика. — М., 1990.
(обратно)570
Бел Д. Прихід постіндустріального суспільства // Сучас. зарубіж. соціальна філософія. — С. 194–251.
(обратно)571
Naisbitt J. Vegatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives. — N. Y., 1982.
(обратно)572
Затуливетер Ю. Компьютерная революция в социальной перспективе // Свобод, мысль. — 1996. — № 7. — С. 127.
(обратно)573
Тапскотт Д. Электронно–цифровое общество. — К.; М., 1999. — С. 54–58.
(обратно)574
Миле Г., Шнайдер Д. Метакапитализм и революция в электронном бизнесе: Какими будут компании и рынки в XXI в. — М., 2001. — С. 127–129.
(обратно)575
Звіт про світовий розвиток Світового банку реконструкції та розвитку. — К., 1994. — С. 12.
(обратно)576
Павленко Ю. В. Підсумки цивілізаційного розвитку // Соціологія. — 2000. — № 4. — С. 13–31; Павленко Ю. В. Глобалізація і її протиріччя // Наука і наукознавство. — 2000. — № 3. — С. 11–22.
(обратно)577
Звіт про світовий розвиток Світового банку реконструкції та розвитку. — С. 13.
(обратно)578
Філіпенко А. С. Економічний розвиток сучасної цивілізації. — К., 2000. — С. 88.
(обратно)579
Фшпенко А. С. Економічний розвиток сучасної цивілізації. — К., 2000 — С. 120, 121.
(обратно)580
Бел Д. Прихід постіндустріального суспільства // Сучас зарубіж. соціальна філософія. — К., 1966.
(обратно)581
Bell D. Cultural contradictions of capitalizm. — N. Y., 1975.
(обратно)582
Пахомов Ю. Н. и др. Цивилизационные модели современности и их исторические корни. — К., 2002. — С. 590.
(обратно)583
Маркузе Г. Одномерный человек. — М., 1994.
(обратно)584
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. — 1994. — № 3; Хантингтон С. Запад уникален, но не универсален // Мир. экономика и междунар. отношения. — 1997. — № 8; Huntington Р. S. The Clach of Civilizations and Remarking of World Order. — N. Y., 1996; Бжезинский З. Великая шахматная доска: Господство Америки и его геостратегические императивы.
(обратно)585
Кастельс М. Цит. соч. — М., 2000. — С. 39.
(обратно)586
Кастельс М. Цит. соч. — М., 2000. — С. 50, 51.
(обратно)587
Там же. — С. 81.
(обратно)588
Там же. — С. 21.
(обратно)589
Бекон Ф. Сочинения. В 2 т. — М. : Мысль, 1972. — Т. 2. — 487–526.
(обратно)590
Тюрго А. Р. Избранные философские произведения. — М., 1937; Кондорсе Ж. А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. — М., 1937; Конт О. Курс позитивной философии. Т. 1–4. — СПб., 1891; Конт О. Дух позитивной философии. — СПб., 1910; Конт О. Общий обзор позитивизма. Ч. 1, 2. — СПб., 1912; Спенсер Г. Основные начала. — СПб., 1897; Спенсер Г. Основания социологии. В 2 т. — СПб., 1898; Спенсер Г. Социальная статика. Изложение социальных законов, обусловливающих счастье человека. Т. 1, 2. — СПб., 1906; Спенсер Г. Синтетическая философия. В сокращенном изложении Г. Коллинза. — К., 1997; Гошовський М. Кучерявий І. Т. Ідея прогресу в соціальній філософії. — К., 1993. — С. 11–84; Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації: Соціокультур. розвиток людства. — К., 1996. — С. 30–97; Steward J. Н. Theory of culture change: the methodology of multinear evolution. — Urbana, 1955; White L. The evolution of culture. — N. Y., 1959.
(обратно)591
Rostow W. W. The process of economic growth. — N. Y., 1967; Polany К Primitive, Archaic and Modern Economics. — London, 1968.
(обратно)592
Кастельс M. Цит. соч. — С. 26.
(обратно)593
Там же. — С. 50, 51.
(обратно)594
Кастелъс М. Цит. соч. — С. 39–42.
(обратно)595
Кастелъс М. Цит. соч. — С. 26, 27.
(обратно)596
Кастельс М. Информационная эпоха. — М, 2000. — С. 69.
(обратно)597
Mokyr J. The Lover of Riches: Technological Creativity and Economic Progress. — N. Y., 1990. — P. 112.
(обратно)598
Dizard W. P. The Coming Information Age. — N. Y., 1982; Forester T. (ed.) The Information Technology Revolution. — Oxford, 1985; Hall P. and Preston P. The Carrier Wave: New Information Technology and the Geography of Innovation, 1846. — 2003. — London, 1988; Saxby S. The Age of Information. — London, 1990.
(обратно)599
Hart J. F., Reed R. R. and Bar F. The Building of Internet. — Berkeley, CA, 1992.
(обратно)600
Хайек Ф. А. Дорога к рабству. — M., 1992; Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность: ошибки социализма. — М., 1992.
(обратно)601
Фридмен М. Количественная теория денег. — М., 1996.
(обратно)602
Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2 т. — М., 1992; Поппер К. Нищета историцизма. — М., 1993. — 186 с.
(обратно)603
Кастельс М. Цит. соч. — С. 69.
(обратно)604
Forester Т. Silicon Samurai: How Japan Conquered the World Information Technologe Industry. — Oxford, 1993.
(обратно)605
Banegas J. (ed) La industria de la information. Situacion actual у perspectives. — Madrid, 1993.
(обратно)606
Кастелъс M. Цит. соч. — С. 76.
(обратно)607
Piore V. J. and Sable C. F. The Second Industrial Divide: Possibilites for Prosperity. — N. Y., 1984.
(обратно)608
Coriat В. L'Atelier et le robot. — Paris, 1990.
(обратно)609
Weiss L. Creating Capitalism: The State and Small Businessince 1945. — Oxford, 1988; Clegg S. Modem Organizations: Organization Studies in the Postmodern World. — London, 1990.
(обратно)610
Harrison В. Lean and Men: The Changing landscape of Corporate Power in the Age of Flexibility. — N. Y., 1994.
(обратно)611
Ibid.
(обратно)612
Kelly К. Out of Control: The Rise of Neo–biological Civilization. — Menlo Park, CA, 1995. — P. 25–27.
(обратно)613
Gereffi G. and Wyman D. (edc.). Manufacturing Miracles: Paths of Industrialization in Latin America and East Asia. — Princton NJ, 1990; Tetsuro K. and Staven R. (edc.) Is Japanese Management Post. Fordism? — Tokyo, 1994.
(обратно)614
Goodmen P. S., Sproull L. S. and Associates. Technology and Organization. — San Francisco, CA, 1990.
(обратно)615
Кастельс М. Цит. соч. — С. 168.
(обратно)616
Имаи К. Йохо него ваку шаки но тенбо [Информационное сетевое общество]. — Токио, 1990.
(обратно)617
Bar F. and Bonus М. The Future of Networking. — Berkeley, CA, 1993.
(обратно)618
Ernst D. Inter–Firms Netvorks ans Market Strukture: Driving Forces, Barriers and Patternsof Control. — Berkeley, CA, 1994. — P. 5, 6.
(обратно)619
Кастельс M. Цит. соч. — С. 195.
(обратно)620
Кастельс М. Цит. соч. — С. 196.
(обратно)621
Weber A. Kultuigeshichte als Kultursociologie. — Leiden, 1935; См. также: Давыдов Ю. Н. Альфред Вебер и его культурсоииологическое видение истории // Вебер А. Избранное: Кризис европейской культуры. — СПб., 1999. — С. 545–547; Павленко Ю. В. История мировой цивилизации : Философский анализ. — К., 2002. — С. 10.
(обратно)622
Зиновьев А. А. Глобальный человейник. — М., 1997.
(обратно)623
Ерасов Б. С. Социальная культурология. В 2 ч. — М., 1994; Панарин А. С. Реванш истории: российская стратегическая инициатива в XXI веке. — М., 1998; Панарин А. С. Россия в циклах мировой истории. — М., 1999; Панарин А. С. Глобальное политическое прогнозирование в условиях стратегической нестабильности. — М., 1999; Панарин А. С. Искушение глобализмом. — М., 2000. — 382 с.; Панарин А. С. Глобальное политическое прогнозирование. — М., 2000. — 352 с.; Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. — М., 1997. — 608 с.
(обратно)624
Глобалізаційні трансформації і стратегії розвитку. — К., 1998; Глобалізація і безпека розвитку. — К., 2001; Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини. — К., 1999; Пахомов Ю. Н., Крымский С. Б., Павленко Ю. В. Пути и перепутья современной цивилизации. — К., 1998; Пахомов Ю. Н., Крымский С. Б. Павленко Ю. В. и др. Цивилизационные модели современности и их исторические корни. — К., 2002; Павленко Ю. В. История мировой цивилизации : Философ, анализ; Шепелев М. А. Глобалистика. В 2 ч. — Днепропетровск, 2001; Удовик С. Л. Глобализация: семиотические подходы. — М. — К., 2002.
(обратно)625
Кастельс М. Цит. соч. — С. 43.
(обратно)626
Кастельс М. Цит. соч. — С. 218.
(обратно)627
Esping–Adams G. (ed.) Changing Classes. — London, 1993; Mishel L. and Bernstein J. The State of Worring America. — N. Y., 1994.
(обратно)628
Bull G., Barnet R. J., Mueller R. E. Global Research: The Power of Multinational Corporations. — N. Y., 1994.
(обратно)629
Маркарян К. Общая теория постиндустриального государства. — М., 2002. — С. 104, 105.
(обратно)630
Кара–Мурза С. Г. Россия, славяне, глобализация // Славянство в условиях глобализации и информационной борьбы. — М., 2002. — С. 246–249.
(обратно)631
Зиновьев А. А. Коммунизм как реальность. — М., 1994. — 495 с.
(обратно)632
Зиновьев А. А. Запад. Феномен западнизма. — М., 1995. — С. 394, 395.
(обратно)633
Зиновьев Л. Л. Запад. Феномен западнизма. — М., 1995. — С. 423, 424.
(обратно)634
Решение участников научно–практической конференции «Западная глобализация — западный сценарий». 18 марта 2001 г. — СПб. — С. 1.
(обратно)635
Цивилизация. Культура. Личность. — М„ 1999. — С. 220, 221.
(обратно)636
Неклесса А. И. Крах истории, или контуры Нового мира? // Мир. экономика и междунар. отношения. — 1995. — № 12; Неклесса А. И. Конец цивилизации, или Конфликт истории // Там же. — 1999. — № 3, 5.
(обратно)637
Глобалізація і безпека розвитку. — К., 2001; Пахомов Ю. Н., Крымский С. Б., Павленко Ю. В. Пути и перепутья современной цивилизации. — К., 1998; Цивилизационные модели современности и их исторические корни. — К., 2002; Павленко Ю. В. История мировой цивилизации : Философский анализ. — К., 2002.
(обратно)638
Глобалізація і безпека розвитку. — К., 2001.
(обратно)639
Глобалізаційні трансформації і стратегії розвитку. — К., 1998.
(обратно)640
Глобалізація і безпека розвитку. — К., 2001. — С. 14.
(обратно)641
Там же.
(обратно)642
Там же. — С. 15.
(обратно)643
Глобалізація і безпека розвитку. — К., 2001. — С. 35.
(обратно)644
Там же. — С. 25.
(обратно)645
Сіденко С. В. Соціальний вимір ринкової економіки. — К., 1998.
(обратно)646
Глобалізація і безпека розвитку. — С. 541–545.
(обратно)647
Там же. — С. 550.
(обратно)648
Там же. — С. 493.
(обратно)649
Там же. — С. 495, 496.
(обратно)650
Глобалізація і безпека розвитку. — С. 509.
(обратно)651
Там же. — С. 516.
(обратно)652
Там же. — С. 481.
(обратно)653
Глобалізація і безпека розвитку. — С. 485.
(обратно)654
Пахомов Ю. Н., Крымский С. Б., Павленко Ю. В. Пути и перепутья современной цивилизации. — С. 254.
(обратно)655
Тофлер А. Футурошок. — СПб., 1997.
(обратно)656
Пахомов Ю. Н., Крымский С. Б. Павленко Ю. В. Цит. соч. — С. 19.
(обратно)657
Цивилизационные модели современности и их исторические корни. — С. 605, 606.
(обратно)658
Цивилизационные модели современности и их исторические корни, — С. 610.
(обратно)659
Павленко Ю. В. Глобалізація і її протиріччя // Наука і наукознавство. — 2000. — № 3.
(обратно)660
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм: XV–XVIII вв. В 3 т. — М., 1986; 1988; 1992.
(обратно)661
Wallerstain/. The Modem World–System. Vol. 1. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World–economy in the XVI century. — N. Y., 1974.
(обратно)662
Павленко Ю. В. История мировой цивилизации: Философский анализ. — С. 681–683.
(обратно)663
Stallings В. The New International Context of Development. — Madison, WIS: University of Wisconsing, Working Paper Series on the New International Context of Development. — 1993. — N 1.
(обратно)664
Sasstn S. The Mobility of Labor and Capital Cambridge, 1988; Mingione E. Fragmented Societies. Oxford, 1988; In the Single Firm Vanishing? Interinterprise Netvorks, Labour and Labour Institutions. Eds. Sengenberger W. and Campbell D. — Jeneva, 1992.
(обратно)665
Ohmae К. Triad Power: The Coming Shape of Global Competition. — N. Y.: Free Press, 1985.
(обратно)666
US National Science Board. Science and Engineering Indicators: 1991. 10th edn. Washington D. C. : US Goverment Printing Office, 1991.
(обратно)667
Кастельс M. Цит. соч. — С. 119.
(обратно)668
Там же. — С. 118.
(обратно)669
Johnson С. MITI and the Japanese Miracle. — Stanford, CA, 1982; Tyson Zusman J. American Industry in International Competition. — N. Y., Sthaca, 1983; Amsdem A. Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization. — N. Y., 1989; Reish R. The Work of Nations. — N. Y., 1991; Tvans P. Embedded Autonome: States and Industrial Transformation. — Princeton, NJ, 1995; и др.
(обратно)670
Кастельс M. Цит. соч. — С. 152.
(обратно)671
Stallings В. The New International Context of Development. — Madison, WIS: University of Wisconsin, Working Paper Series on the New International Context of Development. — 1993. — N 1. — P. 21.
(обратно)672
Сушко О. В. Політичний контекст Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (НАФТА): Регіональні відносини у Західній півкулі: Автореф…. канд. політ, наук. — К., 1998. — С. 10.
(обратно)673
Князева І. В. Особливості й тенденції інтеграційного розвитку у рамках НАФТА в контексті глобалізації світової економіки : Автореф…. канд. екон. наук. — К., 2000. — С. 14.
(обратно)674
Кастельс М. Цит. соч. — С. 213.
(обратно)675
Кастельс М. Цит. соч. — С. 214, 215.
(обратно)676
Там же. — С. 291 (табл.).
(обратно)677
Mishel L., Bernstein J. The State of Working America. — N. Y., 1993.
(обратно)678
David P. A. Technical Choise Innovation and Economic Growth: Essays on American and British Experience in the Nineteenth Century. — London, 1975; Rosenberg N. Perspectives on Technology. — Cambridge, 1976; Rosenberg N. Inside the Black Box: Technology and Economics. — Cambridge, 1982; Rosenberg N. and Birdzell L. E. How the West Grew Rich : The Ekonomic Transformation of the Industrial World. — N. Y., 1986; Arthur B. Industry Location Patterns and the Importance of History. — Stanford, CA, 1986; Bassalla G. The Evolution of Technology. — Cambridge, 1988; Mokyr J. The Lover of Riches: Technological Creaytivity and Economic Progress. — N. Y., 1990.
(обратно)679
Krugman P. Pedding Prospersty: Economic Sense and Nonsense in the Age of Diminished Expectations. — N. Y., 1994.
(обратно)680
David P. Computer and Dynamo: The Modern Productivity Paradox in Historical Perspective. — Stanford, CA : Stanford University Center for Economic Policy Research, Working Paper. — 1989. — N 172.
(обратно)681
Кастельс M. Цит. соч. — С. 91.
(обратно)682
Technology and Innovation in the International Economy. Td. C. Cooper. — Aldershot, 1994. — P. 62.
(обратно)683
Council of Economic Advisers. Economic Report to the President of the United States // Transmited to the Congress. — February, 1995. — Washington D. C. — P. 108.
(обратно)684
Chesnais F. La Mondisalion du capital. — Paris, 1994.
(обратно)685
Nelson R. An Agenda for Formal Growth Theory. — N. Y. : Columbia University Department of Economics. — 1994. — P. 41.
(обратно)686
Soulier L. Especes verts et urbanisme. — Paris, 1968; Сен–Марк Ф. Социализация природы. — M., 1976; Gotdiener М. The Social Production of Urban Space. — Austin, TX, 1986; On the Labour Market Effects of Immigration and Trade. Ed. Boijas G. F., Freeman R. B. and Katz L. F. — Cambndge, MA, 1991; Divided Cities. Ed. Fainstein S., Gordon I. and Harloe M. — Oxford, 1992.
(обратно)687
Кастельс M. Цит. соч. — С. 384.
(обратно)688
Кастельс М. Цит. соч. — С. 378, 379.
(обратно)689
Power, Culture and Place: Essaus on New York City. Ed. Mollenkopf J. — N. Y., 1989; Dual City: Restructuring New York. Ed. Mollenkopf J. and Castells M. — N. Y., 1991.
(обратно)690
Gotdiener М. The Social Production of Urban Space. — Austin, TX, 1986; Garreau J. Edge City: Life on the New Frontier. — N. Y., 1991; Divided Cities. Ed. Fainstein S., Gordon I. and Harloe M. — Oxford, 1992.
(обратно)691
Cities and Regions in the New Europe: The Global–Local Interplay and Spatial Development Strategies. Ed. Dunford M. and Kafkalas G. — London, 1992; Martinotti G. Melropoli. La Nuova morfologia sociale delta cilia. — Bologna, 1993; Understanding Amsterdam: Essaus on Economic Vitality, City Life abd Urban Form. Ed. Deben et al. — Amsterdam, 1993.
(обратно)692
Rogers Е. М., Larsen J. К. Silicon Valley Fever: Grovth of High Technologi Culture. — N. Y., 1984; Malonr M. S. The Big Score: The Dillion–dollar Story of Valley. — Garden City, N. Y., 1985.
(обратно)693
Saxenian A. L. Regional Advantage: Culture and Comprtition in Silicon Valley and Route 128. — Cambridge, MA, 1994.
(обратно)694
Ernst D. Networcs in Electronics. — Berceley, CA, 1994; Cohen S., Borrus M. Networcs of American and Japenese Electronics Companies in Asia. — Berceley, CA, 1995; Cohen S., Borrus M. Networcs of Companies in Asia. — Berceley, CA, 1995.
(обратно)695
Gordon R. Internationalization, Multinalization, Globalization: Contradictiry World Economies and New Spatial Diwisions of Labor. — Santa Cruz, CA, Worcing Paper 94, 1994. — P. 46.
(обратно)696
Hong Kong — Guandong Interaction: Joint Enterprise of Market Capitalism and State Socialism. Ed. Kwok R. Y. — W. and So A. — Manoa, 1995; Hsing, You–tien. Migrant Worcers, Foreign Capital and Diversification of Labor Markets in Southern China. — Vancouver, 1995.
(обратно)697
Кастельс M. Цит. соч. — С. 379–383.
(обратно)698
Гаджиев К. С. Геополитика. Монография. — М., 1997. — С. 52, 53.
(обратно)699
Бус К. Вызов незнанию: Теория МО перед лицом будущего // Международные отношения: социологические подходы. — М., 1998. — С. 324.
(обратно)700
Лебедева М. М. Формирование новой политической структуры мира и место в ней России // Полис. — 2000. — № 6. — С. 42.
(обратно)701
Бек У. Что такое глобализация? // Пер. с нем. А. Григорьева и В. Седельника. — М., 2001. — С. 223.
(обратно)702
Бус К. Вызов незнанию: Теория МО перед лицом будущего // Международные отношения: социологические подходы. — М., 1998. — С. 320.
(обратно)703
Robertson R. Globality, global culture and images of world order // Hafercamp H., Smelser N. J. Social Change and Modernity. — Berceley, 1992. — P. 409.
(обратно)704
Robertson R. Globalisation Theory and Civilisation Analysis // Comparative Civilisations Review. — 1987. — N 17. — P. 5–24.
(обратно)705
Чешков М. А. Глобалистика: предмет, проблемы и перспективы // ОНС. — 1998. — № 2. — С. 130.
(обратно)706
Дубовский С. В. Путеводитель по глобальному моделированию // ОНС. — 1998. — № 3. — С. 164, 165.
(обратно)707
Федотов А. П. Глобалистика как новая наука о современном мире. — М., 2002. — С. 8.
(обратно)708
Василенко И. А. Политическая глобалистика. — М., 2000. — С. 19.
(обратно)709
Чешков М. А. О видении глобализирующегося мира // Мировая экономика и международные отношения. — 1999. — № 6. — С. 49.
(обратно)710
Федотов А. П. Глобалистика как новая наука о современном мире. — М., 2002. — С. 23.
(обратно)711
Там же. — С. 19.
(обратно)712
Taylor Р. J. Political geography: World–economy, nation–state and locality. — London, 1985. — P. 37.
(обратно)713
Шевелев M. A., Бариская A. T., Шмелева M. И. Цивилизационное измерение геоэкономики // Полис. — 2000. — № 3. — С. 164.
(обратно)714
Косолапов Н. Теоретические исследования международных отношений (Современное состояние науки) // Мировая экономика и международные отношения. — 1998. — № 2. — С. 74.
(обратно)715
Goodwin N. R. Introduction //World Development. — 1991. — Vol. 19. — N 1. — P. 3–7.
(обратно)716
Wallerstain I. The Modern World–System. — Vol. 1. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World–economy in the XVI century. — N. Y., 1974. — P. 289.
(обратно)717
Зарин В. А. Запад и Восток в мировой истории XIV–XIX вв.: (Основные концепции общественного развития и становление мирового рынка). — М., 1991. — С. 81.
(обратно)718
Wilkinson D. Cities, Civilizations and Oikumenos // Comparative Civilizations Review. — 1992. — N 28; 1993. — N 29.
(обратно)719
Четкое M. А. Глобалистика как отрасль научного знания // Глобалистика как отрасль научного знания. Материалы постоянно действующего междисциплинарного семинара Клуба ученых «Глобальный мир». — М., 2001. — С. 18.
(обратно)720
Там же. — С. 16.
(обратно)721
Косолапов Н. А. Глобализация: сущностные и международно–политические аспекты // Мировая экономика и международные отношения. — 2001. — № 3. — С. 72.
(обратно)722
Франк С. Л. Реальность и человек. — М., 1997. — С. 261.
(обратно)723
Там же.
(обратно)724
Там же. — С. 262.
(обратно)725
Там же.
(обратно)726
Schmitt К. Der Begriff des Politischen, Text von 1963 mit einem Vorwort und drei Corollarien. — Berlin, 1963. — S. 38.
(обратно)727
Фигал Г. Степень интенсивности «политического» (размышления по поводу концепции Карла Шмитта) // Вести. Моек, ун–та. — Серия 12. — 1994. — № 6. — С. 44.
(обратно)728
Денкэн Ж. — М. Политическая наука. — М., 1993. — С. 11.
(обратно)729
Там же. — С. 22.
(обратно)730
Косолапов Н. Теоретические исследования международных отношений (Современное состояние науки) // Мировая экономика и международные отношения. — 1998. — № 2. — С. 75.
(обратно)731
Ушков А. М. Современная геополитика // Вестн. Моек, ун–та. Серия 18. — 1997. — № 3. — С. 148.
(обратно)732
Пахомов Ю. Н., Крымский С. Б., Павленко Ю. В. Пути и перепутья современной цивилизации. — К., 1998. — С. 64.
(обратно)733
Несбитт Д., Эбурдин П. Что нас ждет в 90‑е годы. Мегатенденции: Год 2000. Десять новых направлений на 90‑е годы. — М., 1992. — С. 11.
(обратно)734
Лоуи Т. Глобализация, государство, демократия: образ новой политической науки // Полис. — 1999. — № 5. — С. 116.
(обратно)735
Карсавин Л. П. Основы политики // Мир России. — Евразия. — М., 1995. — С. 113.
(обратно)736
Там же.
(обратно)737
Хаттами М. Надеюсь, что закончилась эра злобы и насилия // Дипкурьер НГ. — 2001. — № 1.
(обратно)738
Вендт А. Четыре социологии международной политики // Международные отношения: социологические подходы. — М., 1998. — С. 66.
(обратно)739
Niciforo A. Les indices de la civilisation et du progres. — Paris, 1922. — P. 114.
(обратно)740
Яковец Ю. В. Диалог цивилизаций // Безопасность Евразии. — 2001. — № 1. — С. 28. 29.
(обратно)741
Гадамер X-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. — М., 1988. — С 321.
(обратно)742
Rusen J. Some Theoretical Approaches to Intercultural Comparative istoriography // History and Theory. — 1996. — Vol. 35. — N 4. — P. 22.
(обратно)743
Хаттами M. Надеюсь, что закончилась эра злобы и насилия // Дипкурьер НГ. — 2001. — № 1.
(обратно)744
Гадамер Х. — Г. Истина и метол: Основы философской герменевтики. — М., 1998. — С. 431.
(обратно)745
Хаттами М. Надеюсь, что закончилась эра злобы и насилия // Дипкурьер НГ. — 2001. — № 1.
(обратно)746
Shayegan D. The Challenges of Today and Cultural Identity // East Asian Cultural Studies. — Tokyo, 1977. — Vol. 6. — N 4. — P. 31–44.
(обратно)747
Радьяр Д. Планетаризация сознания. От индивидуального к целому. — М. — К., 1995. — С. 107.
(обратно)748
Там же. — С. 108.
(обратно)749
Варзар I. М. Політична етнологія як наука: теоретико–методологічні і наукознавчо–праксеологічні аспекти. Автореф. дис…. д. політ, н. — К., 1995. — С. 19.
(обратно)750
Morgentau Н. Politics among nations. The struggle for Power and Peace. — N. Y., 1961. — P. 14.
(обратно)751
Колесникова М. И., Борзунов В. Ф. Глобалистское сознание и концепция «планетарного человека». — Вести. Моек, ун–та. Серия 12. Социально–полит. исследования. — 1992. — № 2. — С. 51.
(обратно)752
Erickson Т. Н. Identity. Youth and crisis. — London, 1968.
(обратно)753
Гнатенко П. И., Павленко В. Н. Идентичность: философский и психологический анализ. — К., 1999. — С. 100.
(обратно)754
Радьяр Д. Планетаризация сознания. От индивидуального к целому. — М. — К., 1995. — С. 18.
(обратно)755
Радьяр Д. Планетаризация сознания. От индивидуального к целому. — М. — К., 1995. — С. 106.
(обратно)756
Решетніченко А. В. Соціальні механізми формування гуманістичного світогляду. Автореф…. дис. д. філос. н. — К., 2000.
(обратно)757
Радьяр Д. Планетаризация сознания. От индивидуального к целому. — М. — К., 1995. — С. 80.
(обратно)758
Токовенко А. С. Политическая наука и культурно–эволюционная эпистемология // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціологія. Філософія. Політологія. — Вип. 6. — Дніпропетровськ, 2000. — С. 194.
(обратно)759
Гесиод. Теогония // Антология мировой философии. В 4 т. — М., 1969. — Т. 1. — 1. — С. 264.
(обратно)760
Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. — М., 1993. — С. 46.
(обратно)761
Вико Дж. Основания Новой науки. — М. — К., 1994. — С. 326.
(обратно)762
Ахундов М. Д. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы. — М., 1982. — С. 63.
(обратно)763
Фихте И. — Г. Замкнутое торговое государство // Соч. в 2 т. — Т. 2. — СПб., 1993. — С. 249.
(обратно)764
Данилевский Н. Я. Россия и Европа. — М., 1991. — С. 264.
(обратно)765
Панарин А. С. Стиль «ретро» в идеологии и политике: (Критические очерки французского неоконсерватизма). — М., 1989. — С. 213.
(обратно)766
Там же.
(обратно)767
Киркпатрик Дж., Уине А., Бартли Р. и др. Ответ С. Хантингтону // США: эпи. — № 3. — С. 42–47; Самуилов С. М. Неизбежно ли столкновение цивилизаций? // США: эпи. — 1995. — № 1. — С. 57–66; № 2. — С. 52–62; Цивилизационная модель международных отношений и ее импликации // Полис. — 1995. — № 1. — С. 23–46; Дискуссия вокруг цивилизационной модели // Полис. — 1994. — № 1. — С. 49–63; Василенко И. А. Диалог культур, диалог цивилизаций // Вестник РАН. — 1996. — Т. 66. — № 5. — С. 34–37; Неклесса А. И. Конец цивилизации, или Конфликт истории // Мировая экономика и международные отношения. — 1999. — № 3. — С. 32–38.
(обратно)768
Кузнецов А. О новой модели локальных цивилизаций // Междунар. жизнь. — 1995. — № 4. — С. 103–108.
(обратно)769
Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. Гешталь и действительность. — М., 1993. — С. 273.
(обратно)770
Ильин М. В. Слова и смыслы: Опыт описания ключевых политических понятий — М., 1997.
(обратно)771
Дугин А. Г. Тамплиеры Пролетариата (национал–большевизм и инициация). — М., 1997. — С. 32.
(обратно)772
Дугин А. Г. Тамплиеры Пролетариата (национал–большевизм и инициация). — М., 1997. — С. 32.
(обратно)773
Дугин А. Консервативная революция. — М., 1994. — С. 129.
(обратно)774
Бердяев Н. А. Судьба России. — М., 1990. — С. 19.
(обратно)775
Бердяев Н. А. Русская идея // О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. — М., 1990. — С. 48.
(обратно)776
Шубарт В. Европа и душа Востока. Пер. с нем. — М.: Русская идея, 1997. — С. 183, 184.
(обратно)777
Там же. — С. 29.
(обратно)778
Шмитт К. Планетарная напряженность между Востоком и Западом и противостояние Земли и Моря // Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России — М., 1997. — С. 529.
(обратно)779
Архиепископ Кирилл (Гундяев). Русская Церковь — русская культура — политическое мышление // Русское зарубежье в год тысячелетия крещения Руси. — М., 1991. — С. 43.
(обратно)780
Послание старца Филофея великому князю Василию // Памятники литературы Древней Руси. Конец XV — первая половина XVI века. Сб. / Сост. и общ. ред. Л. А. Дмитриева, Д. С. Лихачева. — М., 1984. — С. 441.
(обратно)781
Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире. — М., 2002. — С. 179.
(обратно)782
Леонтьев К. Н. Византизм и славянство // Россия глазами русского. — СПб., 1991. — С. 199.
(обратно)783
Леонтьев К. Н. Византизм и славянство // Россия глазами русского. — СПб., 1991. — С. 193.
(обратно)784
Там же. — С. 198.
(обратно)785
Там же. — С. 200.
(обратно)786
Тютчев Ф. И. Россия и Запад // Россия и Европа: опыт соборного анализа: Сб. — М, 1992. — С. 103.
(обратно)787
Достоевский Ф. М. О русской литературе. — М., 1987. — С. 117.
(обратно)788
Дугин А. Г. Тамплиеры Пролетариата (национал–большевизм и инициация). — М., 1997. — С. 298.
(обратно)789
Соловьев В. С. Русская идея // Россия глазами русского. — СПб., 1991. — С. 312.
(обратно)790
Трубецкой Е. Н. Избранные произведения. — Ростов–на–Дону, 1998. — С. 338, 339.
(обратно)791
Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. — М., 1990. — С. 118.
(обратно)792
Генон Р. Царство количества и знамения времени. — М., 1994. — С. 43.
(обратно)793
Панарин А. С. Глобальное политическое прогнозирование в эпоху стратегической нестабильности. — М., 1999. — С. 205.
(обратно)794
Михеев В. В. Глобализация и азиатский регионализм: вызовы для России. — М., 2001. — С. 161.
(обратно)795
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. — М, 1979. — VI, 12.
(обратно)796
Там же. — VI, 72.
(обратно)797
Рассел П. «Мировой мозг» — следующая ступень нашего развития // Один мир для всех. Контуры глобального сознания. — М., 1990. — С. 21.
(обратно)798
Лукреций Кар Т. О природе вещей. — М., 1983. — С. 964, 965.
(обратно)799
Плутарх. Сочинения. — М., 1983. — С. 416.
(обратно)800
Боголюбов Н. Тайные общества XX века. — СПб., 1997. — С. 23.
(обратно)801
Боголюбов Н. Тайные общества XX века. — СПб., 1997. — С. 24.
(обратно)802
Окружное послание собора архиереев РПЦ за границей «Священнику и мирянину о масонстве». — Изд–во Православно–монархического центра «Христианская взаимопомощь», 1995. — С. 5.
(обратно)803
Балабаева З. В. Идеология социального глобализма (Критический анализ доктрины Римского клуба). — К., 1989. — С. 5.
(обратно)804
Эпперсон Р. Невидимая рука: введение во взгляд на историю как на заговор. — СПб., 1999. — С. 420.
(обратно)805
Friedrich С. Panhumanism: World unity in Divercity // The Humanist. — N. Y., 1946. — Vol. 6. — N 1. — P. 9.
(обратно)806
Тинберген Я. Пересмотр международного порядка. — М., 1980. — С. 70.
(обратно)807
Reiser О., Davies В. Planetary democdacy. An introduction to scientific humanism and applied semantics. — N. Y. : Creative age press, 1944. — P. 10.
(обратно)808
Reiser О. The promice of scientific humanism. Toward a unification of scientific, religious, social and economic thought. — N. Y., 1940. — P. 244.
(обратно)809
Балабаєва З. В. Идеология социального глобализма (Критический анализ доктрины Римского клуба). — К., 1989. — С. 138, 139.
(обратно)810
Шахназаров Г. X. Цена свободы. Реформация Горбачева глазами его помощника. — М., 1993. — С. 608.
(обратно)811
Хартия Земли (Текст) // Безопасность Евразии. — 2001. — № 2. — С. 400.
(обратно)812
Фукуяма Ф. Конец истории // Вопр. философии. — 1990. — № 3. — С. 134–148.
(обратно)813
Attali J. Lignes d’horizon. — Paris, 1990. — 228 p.
(обратно)814
Ясперс К. Смысл и назначение истории. — М., 1991. — С. 258.
(обратно)815
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. — М., 2000. — С. 198.
(обратно)816
Моль А. Социодинамика культуры. — М., 1973. — С. 45.
(обратно)817
Ясперс К. Смысл и назначение истории. — М, 1991. — С. 336.
(обратно)818
Моисеев Н. Н. Общественная эволюция // Человек. — 1992. — № 1. — С. 119.
(обратно)819
Несбитт Д., Эбурдин П. Что нас ждет в 90‑е годы. Мегатенденции: Год 2000. Десять новых направлений на 90‑е годы. — М., 1992.
(обратно)820
Четкое М. А. Глобалистика: предмет, проблемы и перспективы // ОНС. — 1998. — № 2. — С. 138.
(обратно)821
Ласло Э. Век бифуркации. Постижение изменяющегося мира // Путь. — 1996. — № 7. — С. 5–18.
(обратно)822
Чешков М. А. Синергетика: за и против хаоса // ОНС. — 1999. — № 6. — С. 138.
(обратно)823
Там же. — С. 132.
(обратно)824
Чешков М. А. Синергетика: за и против хаоса // ОНС. — 1999. — № 6. — С. 129.
(обратно)825
Генон Р. Царство количества и знамения времени. — М., 1994. — С. 164.
(обратно)826
Алтухов В. Смена парадигм и формирование новой методологии (попытка обзора дискуссии) // ОНС. — 1993. — № 1. — С. 95.
(обратно)827
Ионов И. Н. Теория цивилизаций на рубеже XXI века // ОНС. — 1999. — № 2. — С. 132.
(обратно)828
Окружное послание Evangelium Vitae папы Иоанна Павла II. О ценности и нерушимости человеческой жизни. — П.~М., 1997.
(обратно)829
Сорос Дж. Свобода и ее границы // Моек, новости. — 1997. — № 8.
(обратно)830
Хаттами М. Надеюсь, что закончилась эра злобы и насилия // Дипкурьер НГ. — 2001. — № 1.
(обратно)831
Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире. — М., 2002. — С. 73.
(обратно)832
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. — М., 2000. — XVI. 3.
(обратно)833
Хаттами М. Надеюсь, что закончилась эра злобы и насилия // Дипкурьер НГ. — 2001. — № 1.
(обратно)834
Го Юй (Речи царств). — М., 1987. — С. 241.
(обратно)835
Азроянц Э. А. Глобализация как процесс // Глобализация как процесс. Материалы постоянно действующего междисциплинарного семинара Клуба ученых «Глобальный мир». — М., 2001. — С. 18.
(обратно)836
Ахундов М. Д. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы. — М„ 1982. — С. 21.
(обратно)837
Ананьев Б. Г., Рыбалко Е. Ф. Особенности восприятия пространства у детей. — М., 1964. — С. 46.
(обратно)838
Платон. Сочинения. В 3‑х т. — Т. 1. — М., 1968. — С. 208.
(обратно)839
Панарин А. С. Глобальное политическое прогнозирование в эпоху стратегической нестабильности. — М., 1999. — С. 262.
(обратно)840
Панарин А. С. Перспективы возрождения «Третьего Рима» // Москва. — 1999. — № 6. — С. 147.
(обратно)841
Азроянц Э. А. Глобализация как процесс // Глобализация как процесс. Материалы постоянно действующего междисциплинарного семинара Клуба ученых «Глобальный мир». — М., 2001. — С. 32.
(обратно)842
Кавелин К. Д. Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. — М., 1989. — С. 441.
(обратно)843
Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире. — М., 2002. — С. 485.
(обратно)844
Кожинов В. В. Судьба России: вчера, сегодня, завтра. — М., 1990.
(обратно)845
Хаттами М. Надеюсь, что закончилась эра злобы и насилия // Дипкурьер НГ — 2001. — № 1.
(обратно)846
Brzezinski Z. Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the 21st Century. — N. Y., Maxwell Macmillan lnt„ 1993; Huntington S. The Clash of Civilizations // Foreign Affairs. — 1993. — N 72; The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. — N. Y., Simon & Schuster, 1996; Santoro C. Progetto di ricarsa multi funzionale 1994–1995 // I nuovi poli geopolitici. — Milano, 1994; Окружное послание «Evangelium Vitae» папы Иоанна Павла II о ценности и нерушимости человеческой жизни. — Париж–Москва, 1997; Wallerstein I. After Liberalism. — N. Y.: New Press, 1995; Soros G. The Crisis of Global Capitalism: Open Society Endangered. — N. Y. : Public Affairs, 1998.
(обратно)847
Vellinga M. The Dialectics of Globalization. — Boulder, Col. (USA), Oxford (UK); Westview Press, 2000.
(обратно)848
Мегатренды мирового развития. — M., 2001. — С. 156.
(обратно)849
Rowley Ch., Benson J. (tds). Globalisation and Labour in the Asia Pacific Region. — London, 2000. — P. 3.
(обратно)850
Стиглиц Д. Глобализация: тревожные тенденции. — М., 2003. — С. 3.
(обратно)851
Мегатренды мирового развития. — М., 2001.
(обратно)852
«Полис». — 1999, № 5. — С. 36.
(обратно)853
Глобализация и Россия. — М., 2001. — С. 366.
(обратно)854
Сорос Дж. Криза глобального капіталізму. Відкрите суспільство під загрозою. — К., Основи, 1999. — С. 126, 127.
(обратно)855
Мегатренды мирового развития. — М., 2001. — С. 8, 9.
(обратно)856
Мицик С. Следует ли России опасаться глобализации? // Вопросы экономики. — 2002. — № 8.
(обратно)857
Шишков Ю. О гетерогенности глобалистики и стадиях ее развития // Мировая экономика и международные отношения. — 2001. — № 2. — С. 57.
(обратно)858
Синцеров А. В. Длинные волны глобальной интеграции // Мировая экономика и международные отношения. — 2000. — № 5.
(обратно)859
The Economist. — 2000. — January 8. — Р. 87.
(обратно)860
O’Rourke К., Williamson J. Globalization and History. — Cambrige, Mass., L., 1999. — P. 39.
(обратно)861
Делягин M. Практика глобализации: игры и правила Новой эпохи. — М., 2000.
(обратно)862
Грани глобализации. Трудные вопросы современного развития. — М., 2003. — С. 32.
(обратно)863
Долгов С. И. Глобализация экономики: новое слово или новое явление. — М, 1998.
(обратно)864
Грани глобализации. Трудные вопросы современного развития. — М., 2003. — С. 54, 104.
(обратно)865
UNDP. Human Development Report 2004. — N. Y. — Oxford, 2004.
(обратно)866
Vellinga М. The Dialectics of Globalization. — Boulder, Col. (USA). — Oxford (UK), 2000. — P. 3.
(обратно)867
Постиндустриальный мир и Россия. — М., 2001. — С. 67.
(обратно)868
Мегатренды мирового развития. — М., 2001. — С. 43.
(обратно)869
Сорос Дж. Криза глобального капіталізму. Відкрите суспільство під загрозою. — К., 1999. — С. 123.
(обратно)870
Мицик С. Следует ли России опасаться глобализации? // Вопросы экономики. — 2002. — № 8. — С. 22.
(обратно)871
Сорос Дж. Криза глобального капіталізму. Відкрите суспільство під загрозою — К., 1999. — С. 129.
(обратно)872
Грани глобализации. Трудные вопросы современного развития. — М., 2003. — С. 53.
(обратно)873
Кастельс А. Информационная эпоха. — М., 2000. — С. 104.
(обратно)874
UNDP. Human Development Report 2002. — N. Y. — Oxford, 2002. — P. 10.
(обратно)875
Грани глобализации. Трудные вопросы современного развития. — М., 2003. — С. 105.
(обратно)876
Россия и Запад в новом тысячелетии. Между глобализацией и внутренней политикой. — М., 2002. — С. 29.
(обратно)877
Кастельс М. Информационная эпоха. — М., 2000. — С. 104.
(обратно)878
Nandi P. К., Shahid M. Shahidullan (eds). Globalization and the evolving World Society. — Leiden; Boston; Koln: brill, 1998. — P. 17.
(обратно)879
Грани глобализации. Трудные вопросы современного развития. — М., 2003. — С. 37.
(обратно)880
Иноземцев В. Пределы «догоняющего» развития. — М., 2000. — С. 75.
(обратно)881
Сакайя Т. Стоимость, создаваемая знанием, или История будущего. Новая постиндустриальная волна на Западе. — М., 1999.
(обратно)882
Грани глобализации. Трудные вопросы современного развития. — М., 2003. — С. 155.
(обратно)883
Stewart Т. A. Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. — N. Y., 1997.
(обратно)884
Эдвинсон М., Мэлоун М. Интеллектуальный капитал. Определение стоимости компании. Новая постиндустриальная волна на Западе. — М., 1999.
(обратно)885
Мегатренды мирового развития. — М., 2001. — С. 30.
(обратно)886
The Economist. — 1997. — February 8. — Р. 57.
(обратно)887
Мегатренды мирового развития. — М., 2001. — С. 31.
(обратно)888
UNDP. Human Development Report 2004. — N. Y. — Oxford, 2004.
(обратно)889
Мегатренды мирового развития. — M., 2001. — С. 33.
(обратно)890
UNDP. Human Development Report 2004. — N. Y. — Oxford, 2004.
(обратно)891
Мегатренды мирового развития. — М., 2001. — С. 33.
(обратно)892
UNDP. Human Development Report 2004. — N. Y. — Oxford, 2004.
(обратно)893
Мегатренды мирового развития. — M., 2001. — С. 33.
(обратно)894
Там же. — С. 33.
(обратно)895
The Economist. — 1999. — October 16. — Р. 107.
(обратно)896
Грани глобализации. Трудные вопросы современного развития. — М., 2003. — С. 72.
(обратно)897
UNDP. Human Development Report 2004. — N. Y. — Oxford, 2004. — P. 202.
(обратно)898
Ibid.
(обратно)899
Ibid.
(обратно)900
Ibid.
(обратно)901
Постиндустриальный мир и Россия. — М., 2001. — С. 69.
(обратно)902
Мегатренды мирового развития. — М., 2001. — С. 33.
(обратно)903
Ушкалов И., Малаха И. Утечка умов. Масштабы, причины, последствия. — М., 1999. — С. 86, 87.
(обратно)904
The Economist. — 2000. — June 24.
(обратно)905
Стиглиц Д. Глобализация: тревожные тенденции. — М., 2003. — С. 22.
(обратно)906
Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. — М., 1995. — С. 52–68.
(обратно)907
Кастельс М. Информационная эпоха. — М., 2000. — С. 117.
(обратно)908
Мельянцев В. Информационная революция — феномен «новой экономики» // Мировая экономика и международные отношения. — 2001. — № 2. — С. 6.
(обратно)909
Мегатренды мирового развития. — М., 2001. — С. 34.
(обратно)910
Дипкурьер НГ. — № 5, 22. 03. 2001. — С. 62.
(обратно)911
UNDP. Human Development Report 2002. — N. Y. — Oxford, 2002. — C. 33.
(обратно)912
Мицик С. Следует ли России опасаться глобализации? // Вопросы экономики. — 2002. — № 8. — С. 27.
(обратно)913
Стиглиц Д. Глобализация: тревожные тенденции. — М., 2003. — С. 7.
(обратно)914
Грани глобализации Трудные вопросы современного развития. — М., 2003. — С. 57.
(обратно)915
Стиглиц Д. Глобализация: тревожные тенденции. — М., 2003. — С. 23.
(обратно)916
Мегатренды мирового развития. — М., 2001. — С. 34.
(обратно)917
Там же. — С. 200.
(обратно)918
Hirst Р.,Thompson G. Globalization and Future of the Nation State Economy and Society. — 1995. — Vol. 24. — N 3–13.
(обратно)919
Мегатренды мирового развития. — M., 2001. — С. 47.
(обратно)920
Мегатренды мирового развития. — М., 2001. — С. 89–93.
(обратно)921
Там же. — С. 200.
(обратно)922
Мегатренды мирового развития. — М., 2001. — С. 89–93.
(обратно)923
Грани глобализации. Трудные вопросы современного развития. — М., 2003. — С. 36.
(обратно)924
Hirst Р. Thompson G. Globalization and Future of the Nation State Economy and Society. — 1995. — Vol. 24, N 3. — P. 429, 430.
(обратно)925
Сорос Дж. Криза глобального капіталізму. Відкрите суспільство під загрозою. — К., 1999. — С. 17.
(обратно)926
UNDP. Human Development Report 2002. — N. Y. — Oxford, 2002. — P. 16, 17.
(обратно)927
Стиглиц Д. Глобализация: тревожные тенденции. — М., 2003. — С. 41.
(обратно)928
Грани глобализации. Трудные вопросы современного развития. — М., 2003. — С. 41.
(обратно)929
Сорос Дж. Криза глобального капіталізму. Відкрите суспільство під загрозою. — К., 1999. — С. 19.
(обратно)930
Четкое М. Взгляд на глобализацию через призму глобалистики // Мировая экономика и международные отношения. — 2001. — № 2. — С. 52.
(обратно)931
Плотніков О. В. Ultima ratio економічних реформ. — К., 2003. — С. 212–225.
(обратно)932
Hanson J. A., Honohan Р., Majnoni G. Globalization and National Financial Systems: Issues of Integration and Size // Globalization and National Financial Systems. Edited by Hanson J. A., Honohan P., Majnoni G. — Washington D. C., N. Y., 2003. — P. 3.
(обратно)933
Galbraith J. K. Why the Right is wrong//The Cuardian. — 1990. — January 26. — P. 3.
(обратно)934
Здесь и ниже см: What Can Transition Economies Learn From First 10 Year? A New World Bank Report // Transition. — 2002. — Vol. 13. — N 1. — P. 12.
(обратно)935
В середине 90‑х гг. XX в. была легализована система международных расчетов среди граждан армянской национальности «Анелик», которая сейчас фактически ничем не отличается от таких систем расчетов, как, например, «Western Union». Хотя первоначально она иллюстрировала именно специфическую систему работы с наличными, которая не имела ничего общего с международными банковскими расчетами.
(обратно)936
В специальной литературе, посвященной международным валютно–финансовым отношениям, можно встретить такие категории, как «исламское банковское дело», которые обычно характеризуют сохранение цивилизационных особенностей в условиях финансовой глобализации, однако это скорее исключение, подтверждающее правило, чем иллюстрация нормального пути развития.
(обратно)937
Кстати, долларизация мировой экономики выступает как один из ключевых элементов финансовой глобализации. См.: Honohan Shi A. Deposit Dollarization and Financial Sector // Globalization and National Financial Systems. Edited by Hanson J. A., Honohan P., Majnoni G. — Washington D. C., N. Y.: The World Bank, 2003. — P. 35–64.
(обратно)938
Здесь и далее см.: Global Economic Prospects 2004. — Washington D. C.: The World Bank. — 2003. —
(обратно)939
Плотніков О. Тероризм економічний // Економічна енциклопедія: У трьох томах. — Т. 3. — К., 2002. — С. 615, 616.
(обратно)940
Плотшков О. Інтеграція в кризу. Україна закріплюється на узбіччі світових економічних процесів // Політика і культура. — 2001. — № 15. — С. 20–23.
(обратно)941
Jack A. Putin in push for a fully convertible rouble // Financial Times. — 2003. — May 17, 18. — P. 2.
(обратно)942
FT500 // Financial Times. — 2003. — May 19. —
(обратно)943
Башляр Г. Новый рационализм. — М., 1987. — С. 36.
(обратно)944
Кантор К. Два проекта всемирной истории // Вопросы философии. — 1990. — № 2; Сидоренко В. Генезис проектной культуры // Вопросы философии. — 1984. — № 10.
(обратно)945
Кантор К. Опыт социально–философского объяснения проектных возможностей дизайна // Вопросы философии. — 1981. — № 11.
(обратно)946
Саймон Г. Наука об искусственном. — М., 1972.
(обратно)947
Розин В. Проектирование как объект исследования // Вопросы философии. — 1984. — № 10.
(обратно)948
Симоненко О. Методологические особенности теоретического технического знания // Вопросы философии. — 1988. — № 5.
(обратно)949
См.: Костюк В. Н. Изменяющиеся системы. — М., Наука, 1993.
(обратно)950
См.: Утопия и утопическое мышление. — М., 1991.
(обратно)951
Генис А. Границы и метаморфозы // Знамя. — 1996. — № 12. — С. 211.
(обратно)952
Кантор К. Два проекта всемирной истории // Вопросы философии. — 1990. — № 2. — С. 85.
(обратно)953
Аквинский Ф. Сумма теологии // Антология мировой философии. — М., 1969. — Т. 1. — Ч. 2. — С. 839.
(обратно)954
Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. — М., 1956. — С. 306.
(обратно)955
Пас О. Эссе // Иностранная литература. — 1991. — № 1. — С. 226.
(обратно)956
Сент–Экзюпери А. Южный почтовый. Ночной полёт. Планета людей. — М., 1993. — С. 239.
(обратно)957
Новгородцев П. Об общественном идеале. — М., 1991. — С. 548.
(обратно)958
См.: Ордещук П. Эволюция политической теории Запада и проблема институционного дизайна // Вопросы философии. — 1994. — № 4.
(обратно)959
См.: Гусаненко В. В. Трансгрессии модерна. — X., 2002.
(обратно)960
См.: Крымский С. Б. Философия как путь человечности и надежды. — К. : Курс, 2000. — С. 178–189.
(обратно)961
См.: Штомпка П. Социология социальных измерений. — М., 1966.
(обратно)962
Это разделение было введено Ю. Н. Пахомовым. См.: Пахомов Ю. Я, Крымский С. Я, Павленко Ю. В. Пути и перепутья современной цивилизации. — К., 1998.
(обратно)963
Крымский С. Б. Научное знание и принципы его трансформации. — К., 1974.
(обратно)964
См.: Пахомов Ю., Крымский С., Павленко Ю. Пути и перепутья современной цивилизации. — К., 1998; Пахомов Ю., Крымский С., Павленко Ю. Цивилизационные модели современности и их исторические корни. — К., 2002.
(обратно)965
Цит. по: Андронов А. А. Й. Мандельштам и теория нелинейных колебаний // Известия АН СССР. Серия физическая. — Т. IX. — 1945, № 1, 2. — С. 52.
(обратно)966
Штомпка П. Социология социальных измерений. — М., 1966. — С. 266.
(обратно)967
Буртин Д. Американцы: национальный опыт. — М., 1993. — С. 285.
(обратно)968
Цит. по: Оршанський Д. Архітектурно–філософська утопія Райта // Человек. — 1993, № 1.
(обратно)969
Неклесса А. Паке экономикана или эпилог истории // Новый мир. — 1999. — № 8.
(обратно)970
В Украине это особенно очевидно. Ведь каждый, кто осмысливал развращающее влияние реформ, проводимых по рецептам глобальных игроков (МВФ, ТНК и т. п.), на рядовых граждан, согласится с выводом о производном (от двух полюсов) характере тех трансформаций, которые претерпели и государство, и коллективы, и региональные сообщества.
(обратно)971
О монопольном владении высокоразвитыми странами новейшим инструментарием, обеспечивающим беспроблемную перекачку планетарного богатства в страны мирового авангарда, свидетельствует хотя бы тот факт, что в 90‑е годы страны Большой семерки производили 90% высокотехнологичной продукции и владели 80,4% всех мировых вычислительных мощностей.
(обратно)972
Human Development Report, 1999, UNDP; N. Y. — P. 2.
(обратно)973
Исключения имеются, например Китай. Однако это то исключение, которое лишь подтверждает правило.
(обратно)974
Хорошо известный у нас американский ученый Джеффри Сакс выделяет 15% населения планеты как наиболее благополучный «золотой миллиард»; 50% относит к тем, кто способен подняться при условии использования достижений мировых лидеров; а оставшуюся треть населения планеты (более 2 млрд человек) считает бесперспективной вследствие потери возможности развиваться как за счет собственных, так и внешних ресурсов. Эта часть, по Саксу, отторгаема от остального мира, т. е. брошена на произвол судьбы (The Economist, june 24 th 2000. — P. 99).
(обратно)975
В этом отношении показательно следующее высказывание Ф. Фукуямы: «Непонимание того, что основы экономического поведения лежат в области сознания и культуры, приводит к тому распространенному заблуждению, при котором материальные причины приписывают тем явлениям в обществе, которое по своей природе в основном принадлежат к области духа».
(обратно)976
Следует отдавать себе отчет в тщетности и неоправданности попыток перенесения внутристрановых институциональных (в том числе макроэкономических) регулятивных подходов на глобальный уровень. Оправданными могут быть лишь подходы, обеспечивающие адекватность регуляторов иному масштабу и иному качеству сложившейся на мировом пространстве глобальной среды.
(обратно)977
Общественно–необходимые затраты трактуются в данном случае в широком контексте, с учетом факторов «предельности».
(обратно)978
Сорос Дж. Тезисы о глобализации // Вестник Европы. — Т. 2. — 2001 г. — С. 30, 31.
(обратно)979
Сорос Дж. Тезисы о глобализации // Вестник Европы. — Т. 2. — 2001 г. — С. 35, 36.
(обратно)980
The Size and Development of the Shadow Economies and Shadow Economy Labor Force of 22 Transition and 21 OECD Countries: What do we really know? // Invited paper prepared for the Round Table Conference: «On the formal Economy». — Sofia, Bulgaria, April 18–20, 2002. — P. 20.
(обратно)981
Ibid. — P. 43.
(обратно)982
Удовик С. Л. Глобализация: Семиотические подходы. — К. — М, 2002.
(обратно)983
Орлова И. Б. Евразийская цивилизация: Социально–историческая ретроспектива и перспектива. — М., 1998.
(обратно)984
Пахомов Ю. Н., Крымский С. Б., Павленко Ю. В. Пути и перепутья современной цивилизации. — К., 1998. — С. 185–222.
(обратно)
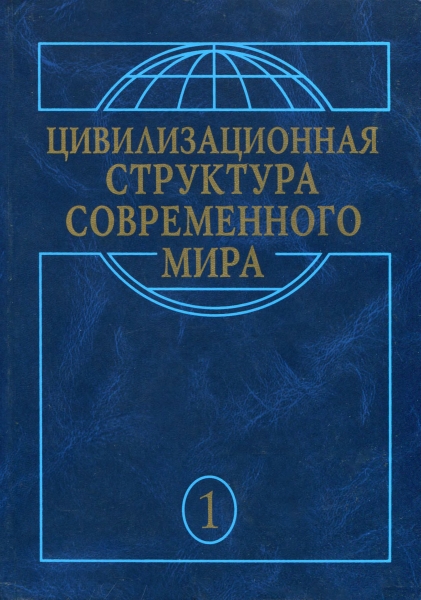





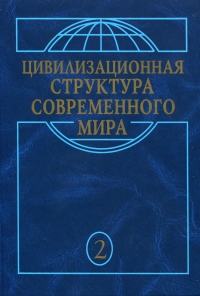
Комментарии к книге «Глобальные трансформации современности», Юрий Николаевич Пахомов
Всего 0 комментариев